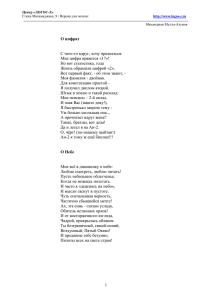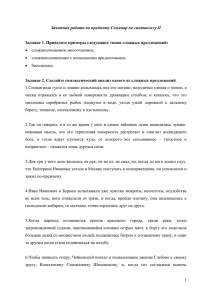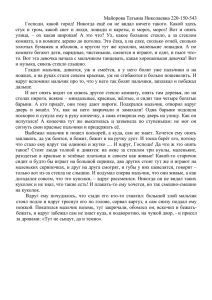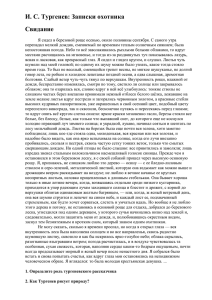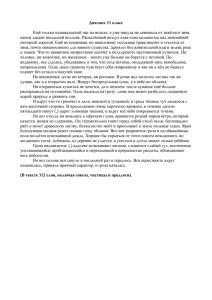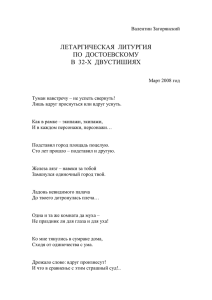Тень от шпаги - Илья Франк. Культурология
advertisement

Илья Франк. Тень от шпаги Морфология литературного произведения Аннотация В этой книге идет разговор о ряде существенных линий в текстах русской, а также западноевропейской литературы (о «линии» зеркала, о «линии» страха падения, о «линии» кружения или кольца, о «линии» восточного чужеземца…). Кроме того, вы увидите, как эти «линии», сопрягаясь между собой, образуют единую и динамическую картину. Гоголь и бесчисленноглазый Кришна Синхроническое и диахроническое Дао у Льва Толстого Териоморфный двойник в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» Удивительные приключения Портрет дамы, или Лошадиный глаз Тень от шпаги Двойник подмигивает Тень от шпаги Очки Гумберта Гумберта Негр попадает под трамвай Будем товарищами Некоторый третий Русская игрушка Чернобыльник Озерный старец Глиняный монгол Падение в хрусталь Бездны мрачной на краю Я подошел к краю площадки Падение в хрусталь www.franklang.ru 1 Играет на лице еще багровый цвет Перешагни, перескачи Снежный король Старая сказка Высоко на башне с венком в руках Ну так как, есть Бог — или нет? Серебряное озеро Маракулин и пожарный Машина Офелия На качелях В моем камине я жгу угли, которые из-за их круглой и однородной формы называют головами монахов. Когда однажды огонь почти угас, я достаю из камина угольную штуку фантастического вида. Петушья голова с роскошным гребешком на почти человеческом туловище с перекрученными членами. Это было похоже на демона из средневекового шабаша ведьм. На другой день я вынимаю из камина великолепную группу из двух пьяных карликов, которые обнимаются, в то время как их одеяния раздуваются на ветру. Это шедевр примитивного ваяния. На третий день у меня в руках Мадонна с ребенком в византийском стиле, несравненная по красоте линий. Знакомый художник заходит ко мне в гости; он рассматривает три статуэтки с возрастающим любопытством и спрашивает, кто их создал. Август Стриндберг. Inferno Гоголь и бесчисленноглазый Кришна Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего www.franklang.ru 2 В гоголевской повести «Портрет» (1833—1842) художник Чартков случайно находит и покупает портрет старика, который словно приковал его к себе своим жутко живым взглядом. С самого начала очевидно, что герой в этом портрете встретил своего злого ангела, своего двойника-антипода, смотрящего на него так, словно в магическом зеркале отразилась сама черная сторона его души. Подобное еще более определенно позже выразится в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890), где рассказывается, как молодой человек хранит у себя портрет старика — постепенно стареющее изображение самого себя. Но вот что у Гоголя: «"Что, батюшка, выбрали что-нибудь?" Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: "Глядит, глядит", — и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю». www.franklang.ru 3 Здесь мы видим три признака двойника-антипода. Во-первых, он находится на портрете, на картине, которую рассматривает герой. Картина здесь является ипостасью злого зеркала: герой смотрится в него и видит искаженного себя. Важно тут и «судорожное движенье», столь свойственное всем дьявольским двойникам, а также самим героям, повстречавшимся с двойниками, — в различных литературных произведениях (например, Метьюрина, Гофмана, Достоевского). Во-вторых, сам пристальный и страшный взгляд (взгляд двойника — то ли взгляд со стороны, то ли отражение собственного взгляда героя, напряженно вглядывающегося в зеркало). В-третьих, азиатское одеяние изображенного на портрете старика. Двойник-антипод должен предстать необычным, экзотическим, потусторонним человеком. Поэтому он часто предстает чужаком, иностранцем, нередко азиатом. Не случайно в повести Гоголя «Невский проспект» художник Пискарев приходит за помощью к «персиянину» (и персиянин дает Пискареву опиум). Довольно часто теневой аспект двойника-антипода бывает подчеркнут его высоким ростом или его смуглостью. Таков и гоголевский двойник-Тень. Вот как описан в конце повести персонаж, послуживший натурой для данного портрета: «Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы». Художник Чартков встретил своего личного черта, своего чертовского двойника (о чем, конечно, говорит и сама фамилия художника). Он приносит купленный портрет домой — и ужасается глазам своей Тени: www.franklang.ru 4 «Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: "Глядит, глядит человеческими глазами!" <…> Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство». Затем Чартков засыпает — и видит сон, в котором старик выходит из портрета и соблазняет его золотом: «Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный www.franklang.ru 5 простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: "1000 червонных". Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь». Обратите внимание на взгляд двойника, проникающий прямо в душу героя: «глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь...» www.franklang.ru 6 Чем все это кончилось, вы знаете. Деньги призраком действительно были выданы (они нашлись в раме картины), Чартков не стал служить истинному искусству, стал модным художником, погубил свой талант и утратил разум: «Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз». Сюжет дьявольского двойника-антипода, выходящего из портрета, перешел в гоголевскую повесть из необыкновенно популярного тогда романа Чарльза Роберта Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820). (Пушкин, например, назвал этот роман гениальным.) В начале романа Джон Мельмот приезжает к больному (находящемуся при смерти) дяде, чтобы за ним ухаживать. Джон должен получить после смерти дяди большое наследство. Несомненно, что этот сюжет затем перешел и в роман Пушкина «Евгений Онегин». Дядя — феноменальный скупец, скупость его красочно описана. Это перешло как в пушкинского «Скупого рыцаря», так и (в большей степени) в гоголевские «Мертвые души» (Плюшкин). И вот дядя дает Джону ключ и посылает его за мадерой в свой кабинет. Там-то Джон и видит портрет своего предка, тоже Джона Мельмота (и тут двойничество, может быть, не столь очевидное у Гоголя, обнаруживает себя окончательно), с удивительно живыми глазами, в которых светится дьявольский огонь. А вернувшись, узнает от дяди странную вещь: человек этот все еще жив: www.franklang.ru 7 «— Возьми вот этот ключ, — сказал старый Мельмот после нового жестокого приступа икоты, — возьми этот ключ, там в кабинете у меня есть вино. Мадера. Я им всегда говорил, что там ничего нет, только они (слуги. — И.Ф.) мне не верили, иначе бы они так не обнаглели и меня не ограбили. Раз как-то я им, правда, сказал, что там виски, и это было хуже всего — они стали пить вдвое больше. Джон взял ключ из рук дяди; в это мгновение старик пожал его руку, и Джон, видя в этом проявление любви, ответил ему таким же пожатием. Но последовавший за этим шепот сразу охладил его порыв: — Джон, мальчик мой, только смотри не пей этого вина, пока ты будешь там. — Боже ты мой! — вскричал Джон и в негодовании швырнул ключ на кровать; потом, однако, вспомнив, что на этого несчастного не следует обижаться, он дал старику обещание, на котором тот настаивал, и вошел в кабинет, порога которого, кроме самого владельца дома, по меньшей мере лет шестьдесят никто не переступал. Он не сразу отыскал там вино, и ему пришлось пробыть в комнате достаточно долго, чем он возбудил новые подозрения дяди. Но он был сам не свой, руки его дрожали. Он не мог не заметить необычного взгляда дяди, когда тот позволил ему пойти в эту комнату: к страху смерти примешивался еще ужас перед чем-то другим. Не укрылось от него также и выражение испуга на лицах женщин, когда он туда пошел. И к тому же, когда он очутился там, коварная память повела его по едва заметному следу и в глубинах ее ожила связанная с этой комнатой быль, полная несказанного ужаса. Он вдруг со всей ясностью осознал, что, кроме его дяди, ни один человек ни разу не заходил туда в течение долгих лет. Прежде чем покинуть кабинет, он поднял тускло горевшую свечу и оглядел все вокруг со страхом и любопытством. Там было много всякой ломаной мебели и разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко бывают свалены и гниют в комнатах старых скряг. Но глаза Джона www.franklang.ru 8 словно по какому-то волшебству остановились в эту минуту на висевшем на стене портрете, и даже его неискушенному взгляду показалось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные портреты, что истлевают на стенах родовых замков. Портрет этот изображал мужчину средних лет. Ни в костюме, ни в наружности его не было ничего особенно примечательного, но в глазах у него Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть. Знай он стихи Саути, он бы потом не раз повторял эти вот строки: Глаза лишь жили в нем, Светившиеся дьявольским огнем. Повинуясь какому-то порыву чувства, мучительного и неодолимого, он приблизился к портрету, поднес к нему свечу и смог прочесть подпись внизу: "Дж. Мельмот, anno 1646". Джон был по натуре человеком неробким, уравновешенным и отнюдь не склонным к суевериям, но он не в силах был оторвать глаз от этого странного портрета, сам не свой от охватившего его ужаса, пока, наконец, кашель умирающего не вывел его из этого состояния и не заставил поспешно вернуться. Старик залпом выпил вино. Он как будто немного оживился: давно уже он не пробовал ничего горячительного, и на какое-то мгновение его потянуло к откровенности. — Джон, ну что ты там видел в комнате? — Ничего, сэр. — Врешь! Каждый старается обмануть или обобрать меня. — Я не собираюсь делать ни того ни другого, сэр. — Ну так что же ты все-таки там видел, на что обратил внимание? — Только на портрет, сэр. — Портрет, сэр! Оригинал до сих пор еще жив. Несмотря на то что Джон был весь еще под действием только что испытанных чувств, он отказывался этому верить и не мог скрыть своего сомнения. www.franklang.ru 9 — Джон, — прошептал дядя, — говорят, что я умираю то ли от того, то ли от другого; кто уверяет, что я ничего не ем, кто — что не принимаю лекарств, но знай, Джон, — и тут черты лица старика чудовищно перекосились, — я умираю от страха. Этот человек, — он протянул свою исхудавшую руку в сторону кабинета, как будто показывая на живое существо, — я знаю, что говорю, этот человек до сих пор жив. — Быть не может! — вырвалось у Джона. — Портрет помечен 1646 годом. — Ты это видел, заметил, — сказал дядя, — ну так вот, — он весь затрясся, на мгновение облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него посмотрев, воскликнул: — Ты еще увидишь его, он жив». Затем портрет действительно оживает: «В эту минуту Джон увидел, как дверь вдруг открылась и на пороге появилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокойными, мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его лицо и убедиться, что это не кто иной, как живой оригинал виденного им портрета. Ужас его был так велик, что он порывался вскрикнуть, но у него перехватило дыхание. Тогда он вскочил, чтобы кинуться вслед за пришельцем, но одумался и не сделал ни шагу вперед. Можно ли было вообразить большую нелепость, чем приходить в волнение или смущаться от обнаруженного сходства между живым человеком и портретом давно умершего! Сходство, разумеется, было бесспорным, если оно поразило его даже в этой полутемной комнате, но все же это было не больше, чем сходство; и пусть оно могло привести в ужас мрачного и привыкшего жить в одиночестве старика, здоровье которого подорвано, Джон решил, что уж он-то ни за что не даст себя вывести из состояния равновесия. Но в то время, как в душе он уже гордился принятым решением, дверь вдруг открылась и фигура появилась снова: она, казалось, манила его с какой-то устрашающей фамильярностью». www.franklang.ru 10 Дальше в романе мы читаем разные истории о встречах с тем дьявольским Мельмотом, рассказываемые людьми из разных стран и эпох. Один из них, Стентон, человек 17-го века, разыскал (на свою голову) Мельмота — и тот предстает ему в виде Тени: «После окончания спектакля Стентон простоял еще несколько минут на пустынной улице. Ярко светила луна, и неподалеку от себя он увидел фигуру, тень от которой, достигавшая середины улицы <…>, показалась ему невероятно длинной. Он так давно уже привык бороться с порожденными воображением призраками, что победа над ними всякий раз наполняла его какой-то упрямой радостью. Он подошел к поразившей его фигуре и увидел, что гигантских размеров достигала только тень, тогда как стоявший перед ним был не выше среднего человеческого роста; подойдя еще ближе, он убедился, что перед ним именно тот, кого он все это время искал…» После смерти дяди молодой Джон Мельмот сжигает страшный портрет предка — но это не помогает: «Очнувшись словно от толчка и подняв голову, он увидел глядевшие на него с холста глаза; отделенные от него какими-нибудь десятью дюймами, они показались ему еще ближе от осветившего их внезапно яркого света и оттого, что это было единственное в комнате человеческое лицо. На какоето мгновение Мельмоту даже почудилось, что губы его предка зашевелились, словно тот собирался что-то ему сказать. Он посмотрел ему прямо в глаза: в доме все было тихо, они остались теперь вдвоем. Наконец иллюзия эта рассеялась, а так как человеку свойственно бросаться из одной крайности в другую, Джон вспомнил вдруг о том, что дядя приказал ему уничтожить портрет. Он впился в него, рука его сначала дрожала, но пришедший в ветхость холст не стал ей противиться. Он выдрал его из рамы с криком, в котором слышались и ужас и торжество. Портрет упал к его ногам, и Мельмот содрогнулся от этого едва слышного звука. Он ждал, что совершенное им святотатство — сорвать портрет предка, более века провисевший в родовом доме, — исторгнет из этой www.franklang.ru 11 тишины зловещие замогильные вздохи. Он прислушался: не было ни отклика, ни ответа, но когда измятый и разорванный холст упал на пол, то черты лица странно искривились и на губах как будто заиграла усмешка. Лицо это на мгновение словно ожило, и тут Мельмот ощутил неописуемый ужас. Подняв измятый холст с полу, он кинулся с ним в соседнюю комнату и там принялся рвать и кромсать его на мелкие куски: бросив их в камин, где все еще горел торф, он стал смотреть, каким ярким пламенем они вспыхнули. Когда последний клочок догорел, он кинулся в постель в надежде забыться крепким сном. Он исполнил то, чего от него требовали, и теперь чувствовал сильнейшее изнеможение, как физическое, так и душевное. Однако сон его оказался далеко не таким спокойным, как ему хотелось. Он ворочался с боку на бок, но ему никак не давал покоя все тот же красный свет, слепивший глаза и вместе с тем оставлявший всю обстановку комнаты в темноте. В эту ночь был сильный ветер, и всякий раз, когда от его порывов скрипели двери, казалось, что кто-то ломает замок, что чья-то нога уже на пороге. Но во сне или наяву (определить это Мельмот так и не мог) увидел он в дверях фигуру своего предка? Все было так же смутно, как и тогда, когда он видел ее в первый раз — в ночь, когда умер дядя; так и теперь он увидел, как человек этот вошел в комнату, подкрался к его кровати, и услышал, как он прошептал: — Что же, ты меня сжег, только такой огонь не властен меня уничтожить. Я жив; я здесь, возле тебя. Вздрогнув, Мельмот вскочил с кровати — было уже совсем светло. Он осмотрелся: в комнате, кроме него, не было ни одной живой души. Он почувствовал легкую боль в правом запястье. Он посмотрел на руку: место это посинело, как будто только что его с силой кто-то сжимал». Здесь интересно отметить игру света (у Метьюрина — отблеск каминного огня, у Гоголя это будет лунный свет), оживляющую портрет, а также и другие приемы оживления. Так, кажется, что портрет усмехается, а на самом деле он просто измят и разорван. Сравните в «Портрете» (первой редакции): www.franklang.ru 12 «…при этом лицо его странно исковеркалось и какой-то неподвижный смех выразился на всех его морщинах…» Важным признаком дьявольского двойника является и сжатие им героя. А ветер, стучащийся в дом, готовый вот-вот вступить на порог, напоминает нам строки Пушкина: Уж с утра погода злится, Ночью буря настает, И утопленник стучится Под окном и у ворот. Да, и это перешло к Пушкину из Метьюрина, как и столь частая у Александра Сергеевича тема оживающих картин, статуй, игральных карт... Перешло, конечно, не как поверхностное заимствование приема, а потому, что нашло коренное соответствие в душе нашего поэта. Но почему глаза двойника-черта у Гоголя бесконечно множатся? «Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз». Чтобы это выяснить, обратимся к еще одному очень популярному в те времена произведению — к «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» Томаса Де Квинси (1821). Опять, как видите, англичанин. (Хотя Метьюрин на самом деле ирландец.) Помните, кстати, у Лермонтова в романе «Герой нашего времени»: «— А всё, чай, французы ввели моду скучать? — Нет, англичане. — А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!» www.franklang.ru 13 Англичане, курящие опиум. Английская гравюра 1874 года Автобиографический герой повести Томаса Де Квинси, употребляющий опиум, в какой-то момент видит следующее: «К моим архитектурным построениям прибавились и призрачные озера — серебристые пространства воды. Эти образы постоянно наполняли мою голову <…>. Воды преобразили свой лик, превратясь из прозрачных озер, светящихся подобно зеркалам, в моря и океаны. Наступившая великая перемена, разворачиваясь медленно, как свиток, долгие месяцы, сулила непрерывные муки <…>. Лица людей, часто являвшихся мне в видениях, поначалу не имели надо мной деспотической власти. Теперь же во мне утвердилось то, что я назвал бы тиранией человеческого лица. <…> …ныне случалось наблюдать мне, как на волнующихся водах океана начинали появляться лица и вслед за тем уж вся поверхность его оказывалась вымощена теми лицами, обращенными к небу; лица молящие, гневные, безнадежные вздымались тысячами, мириадами, поколеньями, веками — смятенье мое все росло, а разум — колебался вместе с Океаном». www.franklang.ru 14 Сразу после этого видения герой повести Де Квинси, кстати сказать, встречается в реальной жизни со своим двойником-антиподом, предстающим в виде преследующего его азиата: «Однажды некий малаец постучался в мою дверь; что за дело замышлял он средь скал английских — было мне неведомо, хотя, возможно, влек его портовый город, лежащий в сорока милях отсюда. <…> …ужасная наружность малайца, чья смуглая желчная кожа была обветрена и походила на красное дерево, мелкие глаза были свирепы и беспокойны, губы — едва заметны, а жесты выдавали рабское подобострастие. <…> Малаец ужасным врагом следовал за мной месяцами. Всякую ночь его волею переносился я в Азию». Так что же означает эта устрашающая, чудовищная множественность лиц — или множественность глаз? Герой, склоняясь над миром, как над зеркалом, как над водным простором, видит себя как умноженного двойника, видит свою собственную многоочитую Тень. Он отражается в каждой вещи (сравните с «великим изречением» индуистов: tat tvam asi — «то ты еси», это есть ты). Словно зеркало раскалывается — и каждый осколок сам становится зеркалом, отражая героя. Герой проходит обряд посвящения, в ходе которого ему предстоит раздробиться, соединиться с миром, а затем восстановиться, собраться заново. То есть ему приходится умереть, чтобы родиться повторно. После успешного прохождения этого обряда герой будет един с миром и сможет принять свою судьбу. Но никакой гарантии успешного прохождения не существует. Множественность лиц в зеркале (или голов, или глаз, или уст, или рук, или крыльев, или змеиных волос) означает встречу с живым богом. Такое умножение глаз мы видим, например, в «Бхагавадгите», где Кришна по просьбе Арджуны показывает ему свой истинный облик: Глаз бессчетных зрачками глядел Он, www.franklang.ru 15 уст бессчетных губами шептал Он, форм невиданных и украшений и оружий бессчетность являл Он. <…> Как бы собранный вдруг воедино целый мир, всех существ бесконечность пред собою тогда увидел в теле бога богов сын Панду. <…> Образ ужасен Твой тысячеликий, тысячерукий, бесчисленноглазый; страшно сверкают клыки в Твоей пасти. Видя Тебя, все трепещет; я тоже. Явление Кришны Арджуне www.franklang.ru 16 Герой фильма «Метрополис» (1927, режиссер Фриц Ланг) смотрит на дьявольскую богиню — Лже-Марию, выступающую в театре, вот она (обратите внимание на ее множественность, проявляющуюся в множественности драконов, ее везущих): А вот что в результате этого смотрения случается с глазами героя: www.franklang.ru 17 В рассказе Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек» (1817) к герою рассказа приходит его человек-тень — торговец барометрами и очками. Он раскладывает очки, предлагая их купить, — казалось бы, что тут такого. Но вот как это воспринимает герой рассказа: «И вот однажды, когда он писал письмо Кларе, к нему тихо постучали; на его приглашение войти дверь отворилась и отвратительная голова Коппелиуса просунулась вперед. Натанаэль содрогнулся в сердце своем, но, вспомнив, что говорил ему Спаланцани о своем земляке Копполе и что он сам свято обещал возлюбленной относительно Песочника Коппелиуса, он устыдился своего ребяческого страха перед привидениями, с усилием поборол себя и сказал с возможной кротостью и спокойствием: — Я не покупаю барометров, любезный, оставьте меня! Но тут Коппола совсем вошел в комнату и, скривив огромный рот в мерзкую улыбку, сверкая маленькими колючими глазками из-под длинных седых ресниц, хриплым голосом сказал: — Э, не барометр, не барометр! — есть хороши глаз — хороши глаз! Натанаэль вскричал в ужасе: www.franklang.ru 18 — Безумец, как можешь ты продавать глаза? Глаза! Глаза! Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и очки и стал раскладывать их на столе. — Ну вот, ну вот, — очки, очки надевать на нос, — вот мой глаз, — хороши глаз! И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и таращились; и он уже сам не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал: — Остановись, остановись, ужасный человек!» Человек, увидевший Кришну, должен либо погибнуть, либо изменить свою жизнь, переродиться. В стихотворении «Архаический торс Аполлона» Райнер Мария Рильке говорит о взгляде, идущем не из головы, не из глаз (голова статуи не сохранилась), а исходящем из самого тела, из сохранившегося торса. Тело каждым своим местом смотрит на человека и видит его. Хотите — верьте, хотите — думайте, что это сказано просто «ради красного словца»: «Нам осталась неведомой его невероятная глава с зреющими в ней глазными яблоками. Но его торс еще раскален, подобно канделябру, и его зрение, лишь подвернутое, держится и сияет в нем. Иначе бы тебя не могла ослепить его грудь, подобная носу корабля, и в легком повороте чресел улыбка не могла бы сойти к той середине, что дарила зачатие. Иначе бы этот камень стоял безобразным обрубком под прозрачной перемычкой плеч и не сверкал бы, как шкуры хищников; и не вырывался бы из всех своих граней, как звезда: ведь здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело. Ты должен изменить свою жизнь». Я-то сам верю в то, что как ужасное, так и прекрасное видит нас первым. www.franklang.ru 19 Синхроническое и диахроническое Дао у Льва Толстого Ах поехал Ванька в Питер Иногда мы слышим какую-то фразу, сказанную не для нас и к нам не относящуюся, — и вдруг понимаем, что она имеет смысл как раз в отношении к нам. Интересен в этой связи пример русского философа В. В. Бибихина (1938— 2004), который он приводит в одной из лекций (о Людвиге Витгенштейне). Бибихин вспоминает случай, как ему пришлось упражнять какие-то моменты английского произношения на фразе “We are wasting our time” («Мы тратим наше время впустую»). И как он вдруг почувствовал, что это не просто случайная фраза, а сообщение ему. Он действительно в данный момент тратил свое время впустую. И философ спрашивает: «Откуда пришло это сообщение, кто его послал?» Тут надо поставить вопрос ребром: это случайность, которая оказалась вдруг кстати — и потому мы ее заметили, или на самом деле с нами кто-то общается? Я, честно говоря, думаю, что второе. И я не одинок в своем сумасшествии. Вот три примера подобного «инопланетного сигнала», взятые из произведений литературы. Пример из романа Толстого «Анна Каренина». Анна сидит в поезде и невольно слышит то, что говорят соседи по вагону: «Анна забыла о своих соседях в вагоне и, на легкой качке езды вдыхая в себя свежий воздух, опять стала думать. «Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мученьем, что все мы созданы затем, чтобы www.franklang.ru 20 мучаться, и что мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать?» — На то дан человеку разум, чтобы избавиться оттого, что его беспокоит, — сказала по-французски дама, очевидно довольная своею фразой и гримасничая языком. Эти слова как будто ответили на мысль Анны. «Избавиться от того, что беспокоит», — повторяла Анна. И, взглянув на краснощекого мужа и худую жену, она поняла, что болезненная жена считает себя непонятою женщиной и муж обманывает ее и поддерживает в ней это мнение о себе. Анна как будто видела их историю и все закоулки их души, перенеся свет на них. Но интересного тут ничего не было, и она продолжала свою мысль. «Да, очень беспокоит меня, и на то дан разум, чтоб избавиться; стало быть, надо избавиться. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это? Но как? Зачем этот кондуктор пробежал по жердочке, зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? Зачем они говорят, зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло!..»» Пример из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Когда Иван идет в избу к Смердякову, на пути он встречает знак: мужичонку, поющего песню. Песня как бы ничего не значит. Но затем, в разговоре со Смердяковым, Иван понимает, что песня была про него, про Ивана, про его поступок: «Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню: Ах поехал Ванька в Питер, Я не буду его ждать! www.franklang.ru 21 Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонко, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонко отлетел и шлепнулся, как колода, об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет!» — подумал Иван и зашагал опять к Смердякову. <…> — Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, чего бы, кажется, другто друга морочить, комедь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил. — Совершил? Да разве ты убил? — похолодел Иван. Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него: вероятно, его, наконец, поразил своею искренностью испуг Ивана. — Да неужто ж вы вправду ничего не знали? — пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза. Иван все глядел на него, у него как бы отнялся язык. Ах поехал Ванька в Питер, Я не буду его ждать, — прозвенело вдруг в его голове». То есть Иван вдруг понимает, что песня рассказывает о нем самом — о том, как он уехал в Чермашню и тем самым дал Смердякову возможность убить www.franklang.ru 22 отца. Пример из романа Диккенса «Давид Копперфилд». Давид влюблен в Дору и делится со своей бабушкой: «Когда я потянулся к ней, она уперлась стаканом мне в колено, чтобы удержать меня, и сказала: — О Трот, Трот! Так, значит, ты воображаешь, что влюблен? — Воображаю, бабушка! Я обожаю ее всей душой! — воскликнул я, так покраснев, что дальше уж некуда было краснеть. — Ну, разумеется! Дора! Так, что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна? — О бабушка! Никто не может даже представить себе, какова она! — А! И не глупенькая? — осведомилась бабушка. — Глупенькая?! Бабушка! Я решительно уверен, что ни разу, ни на один момент мне и в голову не приходило задуматься, глупенькая она или нет. Конечно, я отбросил эту мысль с возмущением. Тем не менее она поразила меня своей неожиданностью и новизной. — Не легкомысленная? — спросила бабушка. — Легкомысленная?! Бабушка! Я мог только повторить это дерзкое предположение с тем же чувством, что и предыдущее. — Ну, хорошо, хорошо... я ведь только спрашиваю, — сказала бабушка. — Я о ней плохо не отзываюсь. Бедные дети! И вы, конечно, уверены, что созданы друг для друга и собираетесь пройти по жизни так, словно жизнь — пиршественный стол, а вы — две фигурки из леденца? Верно, Трот? Она задала мне этот вопрос так ласково и с таким видом, шутливым и вместе с тем печальным, что я был растроган. — Бабушка! Я знаю, мы еще молоды и у нас нет опыта, — сказал я. — Я не сомневаюсь, что мы, может быть, говорим и думаем о разных глупостях. Но мы любим друг друга по-настоящему, в этом я уверен. Если бы я мог www.franklang.ru 23 предположить, что Дора полюбит другого или разлюбит меня, или я когонибудь полюблю или разлюблю ее — я не знаю, что бы я стал делать... должно быть, сошел бы с ума! — Ох, Трот! Слепой, слепой, слепой! — мрачно сказала бабушка, покачивая головой и задумчиво улыбаясь. — Один мой знакомый, — продолжала она, помолчав, — несмотря на мягкий свой характер, способен на глубокое, серьезное чувство, напоминая этим свою покойную мать. Серьезность — вот что этот человек должен искать, — чтобы она служила ему опорой и помогала совершенствоваться, Трот. Глубокий, прямой, правдивый, серьезный характер! — О, если бы вы только знали, как Дора серьезна! — воскликнул я. — Ах, Трот! Слепой, слепой! — повторила она. Сам не знаю почему, но мне почудилось, будто надо мной нависло облако, словно я что-то утратил или чего-то мне не хватает». Давиду не хватает того, что ему суждено судьбой, но чего он пока не видит: другой любви, Агнес, к которой он относится сейчас как к сестре. После разговора с бабушкой Давид встречается с Агнес и говорит с ней о своей любви к Доре: «А как она говорила со мной о Доре, когда мы сидели в сумерках у окна! Как она слушала мои похвалы ей и как хвалила ее сама! Маленькую волшебную фигурку она одарила собственным своим чистым светом, благодаря чему Дора становилась еще более целомудренной, еще более драгоценной для меня. О Агнес, сестра моего детства, если бы я тогда знал то, что узнал много лет спустя!.. Когда я вышел на улицу, повстречался мне нищий. И когда я поднял голову к ее окну, думая о спокойных, ангельских глазах Агнес, нищий заставил меня вздрогнуть, повторяя, как эхо, слово, слышанное мною утром, — Слепой! Слепой! Слепой!» Что здесь происходит? Сначала бабушка говорит Давиду: «Слепой!» Потом он слышит, как это же слово повторяет на улице нищий — и вздрагивает. www.franklang.ru 24 Почему вздрагивает? Видимо, потому, что в этом случайном повторе чувствует обращение к себе, чей-то зов, чье-то предупреждение. И обращение это ненавязчиво. Хочешь — получи его, не хочешь — не получай. Старая шляпа, поломанный ящик, ботинок, мертвая рыба Бывает так, что совершенно не связанные между собой, случайные по отношению друг к другу вещи в наших глазах соединяются в некую единую картину, которая вселяет в нас ничем не объяснимое чувство счастья. Так, например, это происходит с влюбленным Левиным в романе Льва Толстого «Анна Каренина»: «Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам. И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного www.franklang.ru 25 хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости». Для Левина подбегающий к голубю и улыбающийся Левину мальчик, отпархивающий голубь, дрожащие в воздухе пылинки снега, дух печеного хлеба из окошка и выставленные сайки — «все это вместе» на мгновение складывается в нечто неделимое, в индивидуум, словно к рассыпанным по бумаге стружкам снизу поднесли магнит. То, что очевидно не имеет друг к другу никакого отношения, становится вдруг (именно вдруг) каким-то единым сообщением, посланием Левину (именно Левину). Словно кто-то играет с Левиным, подает ему знак. И обычные вещи неожиданно становятся «неземными существами» — становятся проводниками неземного смысла, вестниками-ангелами. Китайцы такое неожиданно осмысленное сочетание случайных вещей называют Дао. Вот что говорит об этом Карл Густав Юнг (в «Тавистокских лекциях»): «Китайская философия не была заблуждением. Это мы считаем, что древние просто заблуждались, но они были ничем не хуже нас. Это были чрезвычайно мудрые люди, и психологии следует неустанно учиться у древних цивилизаций, особенно у Индии и Китая. Бывший президент Британского антропологического общества как-то спросил меня: «Как понять, что такие высокоразвитые люди, как китайцы, не имеют своей науки?» Я ответил: «У них есть наука, но вы не понимаете ее. Она не основывается на принципе причинности. Причинность не единственный принцип; это только условность». Кто-то может сказать: «Что за глупость считать причинность условностью!» Однако взгляните на современную физику! Восток строит свое мышление и систему оценки фактов, исходя из иного принципа. У нас для него даже нет названия. На Востоке, естественно, есть обозначающее его слово, но мы его не понимаем. Таким восточным словом является Дао. У моего друга МакДугалла был китайский студент, которому он задал вопрос: www.franklang.ru 26 «Что именно ты понимаешь под Дао?» Как это типично для Запада! Китаец объяснил, что такое Дао, но тот этим не удовлетворился: «Мне пока не понятно». Тогда китаец вышел на балкон и сказал: «Что вы видите?» — «Я вижу улицу, дома, людей, прогуливающихся или едущих в трамваях». — «Что еще?» — «Я вижу гору». — «А еще?» — «Деревья». — «А еще?» — «Дует ветер». Китаец воздел руки и сказал: «Это Дао». В этом все дело. Дао может быть в чем угодно. Для его обозначения я пользуюсь иным, достаточно узким термином. Я называю его синхроничностью. Когда восточный разум наблюдает целостную совокупность фактов, он воспринимает ее как таковую, а западный разум разделяет ее на нечто меньшее — на отдельные сущности. Например, вы смотрите на некоторое скопление людей и говорите: «Откуда они все пришли?» или «Зачем они собрались вместе?» Восточный разум это абсолютно не интересует. Он говорит: «Что означает, что эти люди находятся вместе?» Для западного разума нет такой проблемы. Вас интересует, зачем вы сюда пришли и что вы здесь собираетесь делать. Для восточного разума все не так: его интересует то, что вы вместе. Вот как это выглядит: вы стоите на берегу моря, и волной выбрасывает старую шляпу, поломанный ящик, ботинок, мертвую рыбу, и они остаются лежать на берегу. Вы говорите: «Случай, бессмыслица!» А китайский разум задает вопрос: «Что означает, что эти вещи находятся вместе?» Китайский разум экспериментирует с этим «быть вместе», «явиться вместе и одновременно»; у него есть свой, неизвестный на Западе, но играющий значительную роль в восточной философии, экспериментальный метод. Это метод предвосхищения возможностей, которым японское правительство пользуется и по сей день при решении политических вопросов — так было, например, во время Мировой войны. Этот метод был сформулирован еще в 1143 г. до Р.Х. (И-цзин — Книга перемен)». По какому же принципу соединяется случайное? На каком основании случайное становится неслучайным? В романе Набокова «Подвиг» герой www.franklang.ru 27 романа размышляет над тем, насколько слова некролога способны передать образ умершего человека: «Но, когда, в июльский день, от разрыва сердца умер на улице, охнув и грузно упав ничком, старый Иоголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате и подлинном труженике, и Михаил Платонович, с портфелем под мышкой, шел один из первых за гробом, среди роз и черного мрамора еврейских могил, Мартыну казалось, что слова некролога “пламенел любовью к России” или “всегда держал высоко перо” — как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова, могли быть применены и к Зиланову, и к самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, — его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде чем ее налепить на конверт да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик…» В сочетании индивидуальных черт Иоголевича мы видим то же Дао, что в мальчике, голубе, сайках у Толстого, что в выброшенных на берег волной старой шляпе, поломанном ящике, ботинке, мертвой рыбе в примере Юнга. Вряд ли Мартын мог бы рассказать, чем пиджачная пуговица, висевшая на нитке, связана с манерой всем языком лизнуть марку или с неожиданной застенчивой улыбкой. Но он понимает, что все эти бессвязные приметы на самом деле связаны. А на вопрос: «Как именно?» — он может сказать только одно: «Иоголевич», то есть может лишь назвать имя. За вещами стоит объединяющая их личность. А что стоит за мальчиком, голубем, сайками? Что делает случайное неслучайным — и при этом не порабощает случайное, оставляет случайное случайным? Точнее: не что, а кто там стоит? Я думаю, там стоит Левин, точнее: преображенный Левин, двойник-антипод Левина. www.franklang.ru 28 В сочинении Григория Сковороды (1722—1794) «Нарцисс. Рассуждение о том: узнай себя» человек наклоняется над водой (которая символизирует мир в целом — в его противопоставленности глядящему на него человеку) — и видит себя как «истинного человека», «точного человека», по отношению к которому сам он — лишь сон и тень. Видит себя, так сказать, по другую сторону водной поверхности. Скажем так: видит себя в мальчике, голубе и сайках. И ощущает беспричинное счастье: «Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости». Вот ваш скарабей Говоря о «попытках перебраться за известные пределы познания», Лев Шестов в книге «Апофеоз беспочвенности» приводит такое сравнение: «Какой-то естествоиспытатель произвел следующий опыт: в стеклянный сосуд, разделенный на две половины стеклянной же, совершенно прозрачной перегородкой, поместил по одну сторону щуку, а по другую разную мелкую рыбу, которая обыкновенно служит щуке добычей. Щука не заметила прозрачной перегородки и бросилась на добычу, но, разумеется, только зашибла пасть. Много раз проделывала она свой опыт — и все с теми же результатами. Под конец, видя, что все ее попытки так печально кончаются, щука уже больше не пробовала охотиться, так что даже когда через несколько дней перегородку вынули, она продолжала спокойно плавать между мелкой рыбой и уже боялась нападать на нее... Не происходит ли то же и с людьми? Может быть, их предположения о границах, отделяющих "посюсторонний" мир от "потустороннего", тоже в сущности опытного происхождения и вовсе не коренятся ни в природе вещей, как думали до Канта, ни в природе нашего разума, как стали утверждать после Канта. Может быть, перегородка действительно существует и делает www.franklang.ru 29 тщетными обычные попытки перебраться за известные пределы познания, но вместе с тем, может быть, в нашей жизни наступает момент, когда перегородка уже вынута». Рассмотрим пример из жизни. Я смотрю на фотографию в одном из журналов: мальчик из колумбийских рудников, глядящий прямо на зрителя. У него в руках — большой металлический бак, наполненный углем. Один из многих снимков, цель которых — вызвать сочувствие к этим детям и негодование по отношению к владельцам рудников и правительству страны. Однако именно в этом снимке есть что-то особенное, есть еще что-то. Если бы, например, бак был окрашен в зеленую или красную краску, фотография потеряла бы силу. Своим холодным металлическим отливом бак контрастирует с теплым цветом кожи мальчика. Если бы бак имел другую форму, фотография также бы не состоялась, потому что прямые углы и плоская стенка бака контрастируют с округлыми формами тела. Но это еще не все. Если бак контрастно повторяет тело мальчика, то переполняющий бак уголь повторяет его волосы. Волнистая шевелюра с мягким отливом — и корявый, холодно поблескивающий уголь. И бак, и тело одинаково покрыты угольной пылью, что усиливает композиционный повтор. Бак и тело окончательно соединяются в небольшой детали — в блестящих металлических часах на руке мальчика. На нас смотрит человек, держащий перед собой свою нечеловеческую, железную и каменную судьбу. Фотограф не строил эту композицию специально. Он запечатлел ее, потому что почувствовал ее скрытую силу. Мальчика тем более нельзя заподозрить в сознательном построении этой композиции. Тем более нельзя в этом заподозрить бак или yгoль. А между тем в снимке содержится сообщение. Оно не исходит ни от сделавшего снимок, ни от запечатленного на снимке. Предположить, что все элементы фотографии совершенно случайно вступили в ритмическое взаимодействие и образовали точные и многочисленные повторы и контрасты, будет столь же странно, как предположить, что если вы побросаете на стол вырезанные из газеты слова, www.franklang.ru 30 они сами сложатся в стихотворение. Вот тот момент, когда «перегородка уже вынута». Так действительно бывает. Интересно посмотреть, как это осуществляется, так сказать, технически. Поль Клодель в статье «Поэтическое искусство» пишет: «Как-то раз в Японии, по дороге из Никко к озеру Тюзенци, мне попались на глаза два дерева: сосна и клен, они росли довольно далеко друг от друга, но так, что с того места, где я был, кленовые листья точно заполняли промежутки между ветвями сосны». Сосна и клен удивительным образом сочетаются — причем не сами по себе, а только если смотреть из той точки, в которой случайно очутился Поль Клодель. Из этого он заключает, что в самой жизни может мгновенно возникнуть произведение искусства, обращенное к конкретному зрителю, являющееся тайным сообщением этому зрителю от невидимого «гранильщика»: «Эти страницы — как бы комментарий к тому лесному тексту, к новому Поэтическому (пойэйн — делать) Искусству Мироздания, к той новой Логике, которую июнь вложил в древесные письмена. Основой старой логики был силлогизм, нынешняя же — и в этом ее новизна — основана на метафоре, которая есть нечто, происходящее из одновременного и согласного существования двух разнородных вещей. Старая исходит из общих и абсолютных утверждений, приписывает субъекту некое непреложное качество или признак. Независимо от времени и места солнце светит, а сумма углов треугольника равна 180 градусам. Самим актом определения логика создает абстрактные понятия и строго распределяет их по классам. Ставит имя как клеймо. Выделив и перебрав все эти понятия по одному, составив их перечень по родам и видам, она применяет их к любому предложенному предмету. Я бы сравнил ее с первой частью грамматики, которая перечисляет свойства и функции отдельных слов. Другая же Логика подобна синтаксису, изучающему искусство сочетания www.franklang.ru 31 слов, это логика, которую являет нам сама природа. Наука жива обобщениями, творчество — индивидуальностью. Метафора (и ее соответствия в других искусствах: «оттенки», «гармония», «пропорции»), этот извечный ямб, сопряжение двух слогов — долгого и краткого, претворяется не только на страницах наших книг — это исконное искусство всего живого. И не говорите мне о случайности! Расположение этой сосновой рощи, контур этой горы не более случайны, чем Парфенон или вот этот бриллиант, стоивший годы труда гранильщику, нет, это плоды высокой стихии, куда более мудрой и щедрой, чем случай». Мы уже говорили, что китайцы обозначают «это исконное искусство всего живого» словом «Дао». Дао может быть пространственным, как в приведенных выше примерах с фотографией, с кленом и сосной, а может быть временным. Тогда два события во времени должны вдруг, неожиданно сочетаться так, как сосна и клен для глядящего на них Поля Клоделя. О таких сочетаниях во времени, например, мечтает герой Набокова в романе «Приглашение на казнь»: «Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем». И в своих произведениях Набоков как раз только тем и занимается, что ищет «этот извечный ямб, сопряжение двух слогов». Дао во времени упорно искал и Хлебников, называя его «метабиозом» (в отличие от «симбиоза» — Дао в пространстве). Он высчитывал «уравнения рока», «закон поколений», выводил «колебательный закон времени». Моего образования не хватает, чтобы вникнуть в его расчеты. Очевидно то, что он чувствовал Дао во времени, раз написал в произведении 1912 года «Учитель и ученик»: «…не следует ли ждать в 1917 году падения государства?» Вот пример Дао во времени, который приводит Юнг в статье «О cинхронистичности»: www.franklang.ru 32 «Героиней этой истории является молодая пациентка, которая, несмотря на обоюдные усилия, оказалась психологически закрытой. Трудность заключалась в том, что она считала себя самой сведущей по любому вопросу. Ее великолепное образование дало ей в руки идеально подходящее для этой цели «оружие», а именно слегка облагороженный картезианский рационализм с его безупречно «геометрической» идеей реальности. После нескольких бесплодных попыток «разбавить» ее рационализм несколько более человечным мышлением я был вынужден ограничиться надеждой на какое-нибудь неожиданное и иррациональное событие, на что-то, что разнесет интеллектуальную реторту, в которой она себя запечатала. И вот, однажды, я сидел напротив нее, спиной к окну, слушая поток ее риторики. Этой ночью ее посетило впечатляющее сновидение, в котором кто-то дал ей золотого скарабея — ценное произведение ювелирного искусства. Она все еще рассказывала мне этот сон, когда я услышал тихий стук в окно. Я обернулся и увидел довольно большое насекомое, которое билось о стекло, явно пытаясь проникнуть с улицы в темную комнату. Мне это показалось очень странным. Я тут же открыл окно и поймал насекомое, как только оно залетело в комнату. Это был скарабеевидный жук или хрущ обыкновенный (Cetonia aurata), желто-зеленая окраска которого очень сильно напоминала цвет золотого скарабея. Я протянул жука моей пациентке со словами: «Вот ваш скарабей». Это событие пробило желаемую брешь в ее рационализме и сломало лед ее интеллектуального сопротивления. Теперь лечение могло принести удовлетворительные результаты». Между прочим, подобные вещи нередко случаются с героями Льва Толстого. Например, с Пьером Безуховым в романе «Война и мир»: «Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто-то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли. www.franklang.ru 33 «Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога, — говорил голос. — Простота есть покорность Богу; от него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? — сказал себе Пьер. — Нет, не соединить. — Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли — вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!» — с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос. — Да, сопрягать надо, пора сопрягать. — Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, — повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать… Это был голос берейтора, будившего Пьера». Помимо совпадения мыслей Пьера с криком берейтора, напоминающего прилет жука из истории, рассказанной Юнгом, тут примечательно и то, что слова «сопрягать надо, пора сопрягать» как раз и выражают «новую логику» Клоделя, синхроничность Юнга… Еще пример из романа «Война и мир». Князь Андрей видит дуб — сначала лишенный листвы, а затем покрытый листвою («этот извечный ямб, сопряжение двух слогов» — только теперь не в пространстве, а во времени): «На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между www.franklang.ru 34 улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. "Весна, и любовь, и счастие! — как будто говорил этот дуб. — И как не надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам". Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их. "Да, он прав, тысячу раз прав, этот дуб, — думал князь Андрей, — пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена!" Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустноприятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному, заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая». После поездки князя Андрея в Отрадное и его встречи с Наташей диалог с дубом возобновляется: «Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем месяц тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами. Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая, мокрая, глянцевитая, блестела на солнце, чуть www.franklang.ru 35 колыхаясь от ветра. Все было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко. "Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, — подумал князь Андрей. — Да где он?» — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия, — ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. "Да это тот самый дуб", — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему. "Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. — Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!"» Дуб здесь — двойник князя Андрея. И язык, на котором дерево обращается к герою, — двойнический. Сообщение передается при помощи знака, который сам по себе является двойником-антиподом: дуб с листвой — дуб без листвы. Дуб словно подмигивает князю Андрею. Дао во времени хорошо чувствовал Гёте. Вот что записывает Эккерман в книге «Разговоры с Гёте»: «Обедал с Гете. <…> Гете сказал мне, что его "Метаморфоза растений" хорошо продвигается благодаря переводу Сорэ и что теперь при www.franklang.ru 36 дополнительной обработке предмета, прежде всего спиральной тенденции растений, ему неожиданно пришли на помощь новые труды некоторых ученых. — Мы, как вам известно, — продолжал он, — занимаемся этим переводом уже больше года, тысячи препятствий вставали на нашем пути, временами вся эта затея казалась безнадежной, и я в душе не раз проклинал ее. Но теперь я благодарю Бога за эти препятствия, ибо, покуда мы медлили, другие достойные люди сделали интереснейшие открытия, которые не только льют воду на мою мельницу, но дают мне возможность неимоверно продвинуться вперед и завершить мой труд так, как год назад я еще и мечтать не смел. Подобное уже не раз со мной случалось, так что поневоле начинаешь верить во вмешательство высших сил, демонического начала, перед коим ты благоговеешь, не дерзая даже пытаться его себе объяснить». Териоморфный двойник в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»1 Детективная история в два шага, не содержащая ни одной мысли, а только ряд картинок и происшествий Шаг первый. Хозяйка зверей Когда поэт говорит, что ему явилась Муза, что это, просто образное выражение, означающее, что он пришел в особое настроение, способствующее написанию стихов? Или же ему на самом деле явилось некое живое существо? Например, Пушкин в романе «Евгений Онегин» рассказывает: 1 Доклад, сделанный в Доме-музее Бориса Пастернака в Переделкине в октябре 2014 года. www.franklang.ru 37 В те дни в таинственных долинах, Весной, при кликах лебединых, Близ вод, сиявших в тишине, Являться Муза стала мне. Мы привыкли думать, что это просто образность, что это говорится для красоты. «Являться Муза стала мне», конечно, красивее, чем, например, «Стихи писаться стали мне» или что-нибудь подобное. Но что если Муза действительно существует? Как существо, связанное с поэтом, но не совпадающее с ним полностью, существо отдельное, являющееся поэту не только изнутри, но и извне? И еще один важный вопрос: является Муза именно тому, кто пишет стихи, или же она может явиться и человеку, который стихов не пишет и никогда не будет писать, но который художественно воспринимает и проживает свою жизнь? Чтобы на эти вопросы ответить, нужно найти такие описания появления Музы, из которых будет ясно, что она упомянута не «ради красного словца». Нужно найти настоящие признания о встрече с ней. Предлагаю вам посмотреть на два таких описания: первое — из повести Джеймса Джойса «Портрет художника в юности», второе — из романа «Доктор Живаго». Стивен, герой автобиографической повести Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» (опубликована в 1914 году), видит как-то на берегу моря девушку. Это реальная девушка, не сновидение. Но вдруг он начинает грезить наяву и сквозь эту девушку прозревает нечто иное. Некая «волшебная сила» превращает девушку «в существо, подобное невиданной прекрасной морской птице». И это существо изменяет, как бы деформирует весь мир, который видит Стивен. Он падает «в этот новый мир, мир фантастический, туманный, неясный, словно мир подводных глубин». www.franklang.ru 38 Стивен узнает в девушке «кликнувшую его жизнь». Коротко говоря, в ее образе Стивену является сама жизнь — как глядящее на него, окликающее его живое существо. Вот этот отрывок полностью: «Он был один. Отрешенный, счастливый, коснувшийся пьяного средоточия жизни. Один — юный, дерзновенный, неистовый, один среди пустыни пьянящего воздуха, соленых волн, выброшенных морем раковин и водорослей, и дымчато-серого солнечного света, и весело и радостно одетых фигур детей и девушек, и звучащих в воздухе детских и девичьих голосов. Перед ним посреди ручья стояла девушка, она стояла одна, не двигаясь, глядела на море. Казалось, какая-то волшебная сила превратила ее в существо, подобное невиданной прекрасной морской птице. Ее длинные, стройные, обнаженные ноги, точеные, словно ноги цапли — белее белого, только прилипшая к ним изумрудная полоска водорослей метила их как знак. Ноги повыше колен чуть полнее, мягкого оттенка слоновой кости, обнажены почти до бедер, где белые оборки панталон белели, как пушистое оперение. Подол серо-синего платья, подобранный без стеснения спереди до талии, спускался сзади голубиным хвостом. Грудь — как у птицы, мягкая и нежная, нежная и мягкая, как грудь темнокрылой голубки. Но ее длинные светлые волосы были девичьи, и девичьим, осененным чудом смертной красы, было ее лицо. Девушка стояла одна, не двигаясь, и глядела на море, но когда она почувствовала его присутствие и благоговение его взгляда, глаза ее обратились к нему спокойно и встретили его взгляд без смущения и вызова. Долго, долго выдерживала она этот взгляд, а потом спокойно отвела глаза и стала смотреть вниз на ручей, тихо плеская воду ногой — туда, сюда. Первый легкий звук тихо плещущейся воды разбудил тишину, чуть слышный, легкий, шепчущий, легкий, как звон во сне, — туда, сюда, туда, сюда, — и легкий румянец задрожал на ее щеках. «Боже милосердный!» — воскликнула душа Стивена в порыве земной радости. www.franklang.ru 39 Он вдруг отвернулся от нее и быстро пошел по отмели. Щеки его горели, тело пылало, ноги дрожали. Вперед, вперед, вперед уходил он, неистово распевая гимн морю, радостными криками приветствуя кликнувшую его жизнь. Образ ее навеки вошел в его душу, но ни одно слово не нарушало священной тишины восторга. Ее глаза позвали его, и сердце рванулось навстречу этому призыву. Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни. Огненный ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланец царств пьянящей жизни, чтобы в единый миг восторга открыть перед ним врата всех путей заблуждения и славы. Вперед, все вперед, вперед, вперед! Он внезапно остановился и услышал в тишине стук собственного сердца. Куда он забрел? Который теперь час? Вокруг него ни души, не слышно ни звука. Но прилив уже возвращался, и день был на исходе. Он повернул к берегу и побежал вверх по отлогой отмели, не обращая внимания на острую гальку; в укромной ложбинке, среди песчаных холмов, поросших пучками травы, он лег, чтобы тишина и покой сумерек утихомирили бушующую кровь. Он чувствовал над собой огромный равнодушный купол неба и спокойное шествие небесных тел; чувствовал под собой ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь. В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его вздрагивали, словно чувствуя высшую упорядоченную энергию земли и ее стражей, словно ощущая странное сияние какого-то нового, неведомого мира. Душа его замирала, падала в этот новый мир, мир фантастический, туманный, неясный, словно мир подводных глубин, где двигались смутные существа и тени. Мир — мерцание или цветок? Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении, то вспыхивая ярко-алым цветком, то угасая до белейшей розы, лепесток за лепестком, волна света за волной света, затопляя все небо www.franklang.ru 40 мягкими вспышками одна ярче другой. Уже стемнело, когда он проснулся, песок и чахлая трава его ложа теперь не переливались красками. Он медленно встал и, вспомнив восторг, который пережил во сне, восхищенно и радостно вздохнул». Таково явление Музы у Джойса. Это не просто какая-то фантазия или так называемая дневная греза (daydreaming), это невероятно сильное видéние, которое воспринимается как более реальное, чем обычная действительность, и которое переворачивает всю жизнь человека. После встречи с Музой он видит жизнь иначе и живет по-другому. «Образ ее навеки вошел в его душу». www.franklang.ru 41 Рене Магритт (1898—1967). Шехерезада Выделим некоторые аспекты, ипостаси этой явившейся Стивену Музы. Она является, во-первых, как женщина. Во-вторых, как птица. В-третьих, как стихия (как представительница моря, мира «подводных глубин»). Вчетвертых, как растение (цветок). Нам это скоро пригодится. www.franklang.ru 42 Вернемся к Пушкину. Может быть, и с Пушкиным в какой-то момент случилось то же, что с героем повести Джойса (и, очевидно, с самим Джойсом)? Может быть, и «Он имел одно виденье, / Непостижное уму, / И глубоко впечатленье / В сердце врезалось ему»? Обратимся к уже процитированным строкам из «Евгения Онегина» и расширим цитату: В те дни, когда в садах Лицея Я безмятежно расцветал, Читал охотно Апулея, А Цицерона не читал, В те дни в таинственных долинах, Весной, при кликах лебединых, Близ вод, сиявших в тишине, Являться Муза стала мне. Моя студенческая келья Вдруг озарилась: Муза в ней Открыла пир младых затей, Воспела детские веселья, И славу нашей старины, И сердца трепетные сны. Здесь мы видим, что Муза связана с водой и с птицами, как и у Джойса. А в словах «вдруг озарилась» спрятан цветок. В них уложено то, о чем у Джойса сказано следующее: «Мир — мерцание или цветок? Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении, то вспыхивая ярко-алым цветком, то угасая до белейшей розы, лепесток за лепестком, волна света за волной света, затопляя все небо мягкими вспышками одна ярче другой». Но самое интересное то, что прямо перед рассказом о Музе у Пушкина www.franklang.ru 43 говорится: «Читал охотно Апулея». Это намек, своего рода закладка. Пушкин здесь шифрует информацию и подмигивает тому потенциальному читателю, который сможет ее расшифровать. Впрочем, может быть, он делает это не для читателя, а для самого себя. Что же тут спрятано? При чем тут Апулей? Дело в том, что в «Метаморфозах» героя повествования Луция спасает явившаяся ему Изида. Богиня является из воды — «из пучины морской». Для ее облика характерны цветы и яркий свет, а также некий животный элемент — пусть не птичий, а змеиный. И если Стивену Муза явилась не сама по себе, а сквозь реальную девушку, то здесь богиня вполне самостоятельна (так что бывает и так, и так). Вот небольшой отрывок из роскошного описания явления Изиды Луцию: «Излив таким образом душу в молитве, сопровождаемой жалобными воплями, снова опускаюсь я на прежнее место, и утомленную душу мою обнимает сон. Но не успел я окончательно сомкнуть глаза, как вдруг из средины моря медленно поднимается божественный лик, самим богам внушающий почтение. А затем, выйдя мало-помалу из пучины морской, лучезарное изображение всего тела предстало моим взорам. Попытаюсь передать и вам дивное это явленье, если позволит мне рассказать бедность слов человеческих или если само божество ниспошлет мне богатый и изобильный дар могучего красноречья. Прежде всего густые длинные волосы, незаметно на пряди разобранные, свободно и мягко рассыпались по божественной шее; самую макушку окружал венок из всевозможных пестрых цветов, а как раз посредине, надо лбом, круглая пластинка излучала яркий свет, словно зеркало или, скорее, верный признак богини Луны. Слева и справа круг завершали извивающиеся, тянущиеся вверх змеи, а также хлебные колосья, надо всем приподнимавшиеся… многоцветная, из тонкого виссона, то белизной сверкающая, то, как шафран, золотисто-желтая, то пылающая, как алая роза. <…> www.franklang.ru 44 Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшее из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, мановению которой подвластны небес лазурный свод, моря целительные дуновенья, преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная. <…> Вот я пред тобою, твоим бедам сострадая, вот я, благожелательная и милосердная. Оставь плач и жалобы, гони прочь тоску — по моему промыслу уже занимается для тебя день спасения. Слушай же со всем вниманием мои наказы». Изида. Расписанный рельеф из гробницы Сети I в Долине царей. XIX династия. Около 1360 года до н. э. Действительно ли имел в виду Пушкин Изиду, говоря о своей Музе? Являлась ли она ему, подобно «шестикрылому серафиму»? Подобно тому, www.franklang.ru 45 как герою Джойса сквозь облик девушки явился ангел: «Огненный ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланец царств пьянящей жизни…»? Или поэт упомянул Апулея, потому что ему действительно было в отрочестве интересно читать веселую и глубокую книгу латинского автора? Посмотрите, однако, на такую вот картинку: В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива: За морем царевна есть, Что не можно глаз отвесть: Днем свет Божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величава, Выплывает, будто пава; А как речь-то говорит, Словно реченька журчит. Это Царевна Лебедь из «Сказки о царе Салтане». Изида в ней явственно узнается, равно как и девушка, увиденная Стивеном. www.franklang.ru 46 Михаил Врубель. Царевна Лебедь. 1900 год www.franklang.ru 47 Посмотрим теперь, как эта Муза, эта Изида является Юрию Живаго: «Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и всё видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. "Лара!" — закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству». www.franklang.ru 48 «Женщина-птица». Неолитическая египетская керамика. 3500—3400 годы до н.э. Все видимое Юрием Живаго пространство становится личностью, обретает вид женщины. Образ птицы («пара крыльев») здесь также есть: в птицу превращается сам герой. Место «подводных глубин» здесь занимает другая стихия — лес. И он озаряется: «сквозящий огнем зари». Сравните с тем, что мы наблюдали у Джойса: «Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении». Вроде как и цветок здесь имеется. www.franklang.ru 49 А далее в романе это ощущаемое Юрием Живаго «первоначальное и всеохватывающее подобие девочки» предстает пред ним «рыжелистой рябиной»: «У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь, к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых разордевшихся ягод. Зимние пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали. Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина всё это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка младенцу. "Что, мол, с вами поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь". И усмехалась». www.franklang.ru 50 Мировое Древо. Русская народная вышивка Что это? Или, точнее, кто это? Разумеется, это так называемое Мировое Древо, протягивающее свои ягоды «к самому небу». Но вместе с тем и богиня, которую условно называют «Хозяйкой зверей»: «Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом». Рябина дает грудь птичкам, «как мамка младенцу»: «Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь». Чуть позже мы увидим эту рябину, покрытую снегом. И это будет наряду с лесом проявлением стихии, играющей в романе важную роль. www.franklang.ru 51 Древоподобное изображение Изиды с рукой и грудью и Тутмозиса III, настенная живопись. Фивы, гробница Тутмозиса III «Рыжелистая рябина» в романе «Доктор Живаго» — это источник жизни. Так, пожалуй, можно выразить одним словом все ипостаси этого явления: и образ растения, и женственный образ, и звериный образ (в который входят и птицы), и образ стихии (в широком смысле, в смысле некоей однородной основы жизни: воды, леса, снега и тому подобного). В какой момент и почему перед Юрием Живаго появляется вдруг эта, говоря словами Джойса, «кликнувшая его жизнь»? Очевидно в тот момент, когда ему надо свою жизнь изменить. На самом деле «рыжелистая рябина» появляется, когда герою нужно вырваться на свободу из партизанского лагеря, в котором его насильно удерживают. Рябина и растет на самой границе лагеря. На границе между миром несвободы (необходимости) и миром свободы. И вот Живаго слышит возле рябины песню: www.franklang.ru 52 «Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной задорный голос Кубарихи, своей соперницы, как он в шутку звал лекарихузнахарку. Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное, какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом всё смолкло. Все, наверное, разошлись. Тогда Кубариха запела по-другому, про себя и вполголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную русскую песню. Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, это была ее импровизация? <…> Кубариха наполовину пела, наполовину говорила: Что бежал заюшка по белу́ свету́, По белу́ свету да по белу́ снегу́. Он бежал косой мимо рябины дерева, Он бежал косой, рябине плакался. У меня ль у зайца сердце робкое, Сердце робкое, захолончивое, Я робею, заяц, следу зверьего, Следу зверьего, несыта волчья черева. Пожалей меня, рябинов куст, Что рябинов куст, краса рябина дерево. Ты не дай красы своей злому ворогу, Злому ворогу, злому ворону. Ты рассыпь красны ягоды горстью пó ветру, Горстью по ветру, по белу́ свету, по белу́ снегу́. Закати, закинь их на родиму сторону, www.franklang.ru 53 В тот ли крайний дом с околицы. В то ли крайнее окно да в ту ли горницу, Там затворница укрывается, Милая моя, желанная. Ты скажи на ушко моей жалёнушке Слово жаркое, горячее. Я томлюсь во плену, солдат ратничек, Скучно мне солдату на чужбинушке. А и вырвусь я из плена горького, Вырвусь к ягодке моей красавице». Юрий Живаго воспринимает эту песню, которую Кубариха пела вовсе не для него, а для себя («считая себя в полном одиночестве»), как обращенную именно к нему. Кем обращенную? Очевидно, Хозяйкой зверей. И он слушается ее, сам как бы превращается в «заюшку» песни (то есть как бы оказывается внутри песни) и бежит «из плена горького»: «Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запасено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевою чертою лагеря, под большою пихтою, которую для верности еще отметил особою зарубкою. Туда, по проторенной среди сугробов пешеходной стежке он и направился. Была ясная ночь. Светила полная луна. Доктор знал, где расставлены на ночь караулы, и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелою рябиной часовой издали окликнул его и, стоя прямо на сильно разогнанных лыжах, скользком подъехал к нему. — Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори порядок. — Да что ты, братец, очумел? Свой. Аль не узнал? Доктор ваш Живаго. — Виноват! Не серчай, товарищ Желвак. Не признал. А хоша и Желвак, дале не пущу. Надо всё следом правилом. — Ну, изволь. Пароль — «Красная Сибирь», отзыв — «Долой интервентов». — Это другой разговор. Ступай куда хошь. За каким шайтаном ночебродишь? Больные? www.franklang.ru 54 — Не спится и жажда одолела. Думал, пройдусь, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженых, хочу пойти, пожевать. — Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. Три года колотим, колотим, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный. Аль мне жалко? И так же разгоняясь все скорее и скорее, часовой с сильно взятого разбега, стоя отъехал в сторону на длинных свистящих лыжах и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше за тощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. А тропинка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине. Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня: — Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка. Ночь была ясная. Светила луна. Он пробрался дальше в тайгу к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря». Мы видим, как Юрий Живаго молится Хозяйке зверей и как ее образ совпадает для него с Ларой (две заснеженные ветки рябины — большие белые руки Лары). (Существует, кстати сказать, много изображений неолитических богинь, а также богинь Древнего мира с поднятыми руками. И часто возле этих рук мы видим двух зверей или птиц. Но и сами эти поднятые руки уже символизируют некую звериную или птичью пару. Таким образом, мы видим в этих изображениях богиню и по ее бокам разнонаправленных зверей-двойников, как бы отражающихся друг в друге.) www.franklang.ru 55 Неолитическая богиня И луна тут недаром светит, это принадлежность богини. И еще: «Увидел рябину в ягодах мороженых, хочу пойти, пожевать». Разве это не осел-Луций из Апулея, спасение которого состояло в том, чтобы пожевать розы? www.franklang.ru 56 Примечательны также слова: «Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы». Рябина, с одной стороны, просто часть природного мира, с другой стороны, живая личность, в которой воплощен весь этот мир. Или так скажем: рябина одновременно и живая (в смысле личности, в человеческом смысле), и неживая. Но, будучи неживой, она все равно может подать знак. И тут опять будет нелишне вспомнить Пушкина со всеми его русалками, мертвыми возлюбленными, подающими знак мертвецами — статуями — изображениями. Но в это мы сейчас углубляться не будем, а помянем лучше Бабу-ягу. Как показал Владимир Яковлевич Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» (1946), герой сказки, попадая в лес (ипостась стихии), должен войти в «избушку на курьих ножках» (звериная ипостась) и встретить там Бабу-ягу (женственная ипостась). (Про ипостаси, конечно, это моя отсебятина.) Герой не может просто обойти эту избушку и отправиться дальше. Избушка стоит на границе царства жизни и царства смерти. Или скажем так: царства повседневности и царства волшебного, потустороннего. Баба-яга, несмотря на свой ужасный внешний вид, обычно помогает герою. Она — хозяйка леса и хозяйка зверей. Она дарует жизнь и смерть, она одновременно и богиня смерти, и богиня жизни. В сказках о переходе в иное царство с помощью Бабы-яги кроется первобытный обряд посвящения. Смысл обряда был в том, что посвящаемый подросток или юноша должен был умереть, а затем родиться заново. Подобно герою сказки, спрыснутому сначала мертвой, а затем живой водой. Юноша должен был раствориться в стихии, в некоей основе жизни, а затем заново из нее собраться, составиться. Он должен был быть поглощен, съеден неким мифическим зверем, а затем ожить, став в результате этого сам зверем. Так, например, в «Сказке о царе Салтане» Гвидон при рождении получает ипостась «неведомой зверушки» (в сказке это предстает просто как клевета недругов родившей Гвидона царицы, но на самом деле здесь отражение древнего мифа), затем попадает внутрь бочки, плавающей по морю (что www.franklang.ru 57 символизирует, конечно, пожирание мифическим зверем — морским чудищем), а в дальнейшем получает умение превращаться в разных насекомых. И еще: герой должен был войти в женщину как мужчина и от нее же родиться как ее дитя. (Отчего и возникла, видимо, идея Фрейда об «эдиповом комплексе».) Первобытные обряды (которые реконструируются как по фольклорным текстам, так и по обрядам племен, которые продолжали и продолжают вести первобытный образ жизни в уже историческое время) отражают все эти аспекты. После прохождения обряда подросток превращается во взрослого мужчинуохотника. Он был похоронен в природе и был заново рожден из нее, поэтому он может читать «книгу жизни»: распознавать приметы, понимать следы. (Тут, кстати, стоит вспомнить интерес Пушкина к приметам — как в его литературных произведениях, так и в жизни.) Человек, прошедший обряд, знает звериный и птичий язык. (Так, Зигфрид в «Кольце нибелунга» Рихарда Вагнера убивает Фафнера-дракона, кровь которого случайно попадает на язык героя. После чего Зигфрид вдруг начинает понимать, что ему говорит птичка. И она предупреждает его об опасности, исходящей от карлика Миме, и ведет его к Брюнхильде.) Прошедший обряд может охотиться. Он может жениться. Он обрел власть над миром (так, Зигфрид, убив дракона, получает золотое кольцо, дающее эту власть), а это и есть свобода. Говоря о власти над миром, я имею в виду не такую власть, к которой стремился, скажем, Александр Македонский, а такую, какую ощутил, например, Петя Ростов в романе Толстого «Война и мир», когда весь внешний мир вдруг вошел в его внутреннюю музыку: «Петя стал закрывать глаза и покачиваться. Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел ктото. — Ожиг, жиг, ожиг, жиг... — свистела натачиваемая сабля. www.franklang.ru 58 И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное. «Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись вперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!..» Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов. «Ну, тише, тише, замирайте теперь. — И звуки слушались его. — Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще, радостнее. — И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. — Ну, голоса, приставайте!» — приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него». www.franklang.ru 59 «Не нарушая хора, а входя в него». Если вдуматься, такого не может быть. Не могут капать капли, свистеть сабля и ржать лошади так, чтобы получилась музыка. Не может внешний мир совпадать с внутренним. И, однако, так бывает. Но это значит одну удивительную вещь: Муза — не только внутри человека, но и приходит к нему извне. То есть существует и сама по себе. Сравните текст Толстого с первым предложением романа «Доктора Живаго»: «Шли и шли и пели "Вечную память", и когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра». Таков камертон этого романа. То, что происходит с Юрием Живаго или со Стивеном, не является подспудно сохранившимся отголоском древнего обряда посвящения. Фокус в том, что сам обряд посвящения был лишь закреплением духовного опыта, доступного каждому человеку и не зависящего от эпохи, в которую человек живет. Человек может узнать об Изиде из энциклопедии, но может и просто увидеть ее сам. Шаг второй. Звериный двойник Хочу обратить ваше внимание на одно интересное явление: человек, встретившийся с Хозяйкой зверей (или с Изидой, или с Музой, или назовите это еще как-нибудь), неизбежно видит и своего двойника. Вот как описывается явление Изиды, а затем двойника в повести «Аврелия, или Сновидение и жизнь» (1855) полусумасшедшего французского романтика Жерара де Нерваля: «Распростертый на походной кровати, я верил, что вижу, как с неба совлекаются покровы, и оно распускается тысячью неслыханных великолепий. Судьба освобожденной Души, казалось, открывается передо мной, будто для того, чтобы внушить мне сожаление о том, что всеми силами моего духа я пожелал вновь ступать по земле, которую должен был покинуть... Огромные круги прорисовывались в бесконечности, подобные www.franklang.ru 60 кругам, образующимся на воде, взволнованной падением тела; каждая область, населенная лучезарными фигурами, окрашивалась, колебалась и таяла в свой черед, и божество, всегда одно и то же, сбрасывало с улыбкой летучие маски своих разнообразных воплощений и скрывалось наконец, неуловимое, в мистическом сиянии неба Азии. Это небесное видение, в силу одного из тех феноменов, что каждый мог испытывать иногда в дреме, не исключало полностью сознания того, что творилось вокруг. Лежа на походной кровати, я слышал, что солдаты рассуждают о некоем неизвестном, задержанном подобно мне, голос которого раздавался тут же в комнате. По особому чувству вибрации мне казалось, что этот голос звучал у меня в груди и что моя душа, так сказать, раздваивалась — поделенная отчетливо между видением и реальностью. На мгновение мне пришла в голову идея повернуться с усилием к тому, о ком шла речь, но затем я задрожал от ужаса, вспомнив предание, хорошо известное в Германии, которое говорит, что у каждого человека есть двойник и что, если его видишь, смерть близка. — Я закрыл глаза и пришел в смутное состояние духа, в котором фантастические или реальные фигуры, которые меня окружали, дробились в тысяче ускользающих видений. Одно мгновение я видел рядом двух моих друзей, которые требовали выдать меня, солдаты на меня указывали; затем открылась дверь, и некто моего роста, чьего лица я не видел, вышел вместе с моими друзьями, которых я звал понапрасну. "Но это ошибка! — вскричал я про себя, — за мной они пришли, а другой уходит!" Я производил столько шума, что меня поместили в карцер». Все это Нерваль переживал на самом деле, он испытывал приступы сумасшествия, действительно попадал в сумасшедший дом. (Вспомним тут и страх Пушкина перед безумием, выраженный в стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума».) Как возникает двойник? Герой, словно Нарцисс, склоняется над миром, как над большим зеркалом, — и видит себя отраженным в нем. Двойник — это www.franklang.ru 61 то, во что герой должен превратиться, родившись второй раз. Это он же, но слитый с миром. Это он же, но после того, как его поглотит и затем изрыгнет мифический зверь. И поэтому двойник — не копия героя, он — двойникантипод. Герой видит себя как другого, как чужого. Как изменившегося, преображенного. Такой двойник часто предстает как териоморфный (звероподобный) двойник героя. (Я для простоты буду далее называть его звериным двойником.) Двойник-антипод обладает некоторым набором неизменных (хотя и варьирующихся, «пульсирующих») признаков и «аксессуаров», таких как косматость (либо собственная, либо шкуры или тулупа), экзотическая смуглость или темные волосы, зеркало, неподвижный (или сверкающий) взгляд, нож (или меч, или топор), отрезанная голова или маска, мяч и игра в него, подмигивание, подающая признаки жизни статуя или оживающий портрет, дружеское объятие или объятие-схватка, умение говорить на особом языке или на множестве языков, связь со стихией (морем, лесом, снегом…), безумие или просто необычность поведения, решающее влияние (пагубное или благотворное) на судьбу героя… Примеров можно привести очень много (и я привожу их много в книге «Прыжок через быка»), здесь же назову Гильгамеша и его напарникапобратима Энкиду из шумеро-аккадского эпоса, Мцыри и барса из поэмы Лермонтова «Мцыри», героя-рассказчика Измаила и туземца Квикега из романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит», Петра Гринёва и Пугачева из повести Пушкина «Капитанская дочка», князя Мышкина и Рогожина из романа Достоевского «Идиот», а также Иисуса Христа и Иоанна Крестителя (который чем-то напоминает Энкиду: носит грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывается кожаным ремнем, питается диким медом и акридами, не стрижет волос. Не случайно он часто на иконах изображается косматым и в шкуре, а в некоторых народных традициях почитается как покровитель животных). www.franklang.ru 62 В повести Джойса сразу после описания видéния Стивена мы читаем про то, как он видит и воспринимает своего товарища Крэнли. Вот это описание: «Почему, думая о Крэнли, он никогда не может вызвать в своем воображении всю его фигуру, а только голову и лицо? Вот и теперь, на фоне серого утра, он видел перед собой — словно призрак во сне — отсеченную голову, маску мертвеца с прямыми жесткими черными волосами, торчащими надо лбом, как железный венец, лицо священника, аскетическибледное, с широкими крыльями носа, с темной тенью под глазами и у рта, лицо священника с тонкими, бескровными, чуть усмехающимися губами, — и вспомнил, как день за днем, ночь за ночью он рассказывал Крэнли о всех своих душевных невзгодах, метаниях и стремлениях, а ответом друга было только внимающее молчание. Стивен уже было решил, что лицо это — лицо чувствующего свою вину священника, который выслушивает исповеди тех, кому он не властен отпускать грехи, и вдруг словно почувствовал на себе взгляд темных женственных глаз. Это видение как бы приоткрыло вход в странный и темный лабиринт мыслей, но Стивен тотчас же отогнал его, чувствуя, что еще не настал час вступить туда. <…> Значит, он — Предтеча. Итак, питается преимущественно копченой грудинкой и сушеными фигами. Понимай: акридами и диким медом. Еще — когда думаю о нем, всегда вижу суровую отсеченную голову или мертвую маску, словно выступающую на сером занавесе или на плащанице». Комментарии, как говорится, излишни. Вот и Юрию Живаго является его двойник — его «сводный брат Евграф, в оленьей дохе». («Евграф» — «хорошо пишущий», «благописец».) Причем появляется сразу после того, как стихия снежной бури (проникшая в роман из пушкинской «Капитанской дочки») вкладывает в руки Юрия «первые декреты новой власти»: www.franklang.ru 63 «Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотам, как вдруг снег повалил густо-густо и стала разыгрываться метель, та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившаяся. Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе. Где-то, островками, раздавались последние залпы сломленного сопротивления. Где-то на горизонте пузырями вскакивали и лопались слабые зарева залитых пожаров. И такие же кольца и воронки гнала и завивала метель, дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях. На одном из перекрестков с криком "Последние известия!" его обогнал пробегавший мимо мальчишка-газетчик с большой кипой свежеотпечатанных оттисков под мышкой. — Не надо сдачи, — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул. Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же, не откладывая, пробежать главное. Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета Народных Комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата. Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону. Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но не это мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться. Чтобы все же дочитать сообщения, он стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь освещенного места, защищенного от снега. Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке и www.franklang.ru 64 стоит на углу Серебряного и Молчановки, у подъезда высокого пятиэтажного дома со стеклянным входом и просторным, освещенным электричеством, парадным. Доктор вошел в него и в глубине сеней под электрической лампочкой углубился в телеграммы. Наверху над его головой послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице <…>. Глаза Юрия Андреевича, с головой ушедшего в чтение, были опущены в газету. Он не собирался подымать их и разглядывать постороннего. Но, добежав донизу, тот с разбега остановился. Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел на спускавшегося. Перед ним стоял подросток лет восемнадцати в негнущейся оленьей дохе, мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое, та беглая искорка, та прячущаяся тонкость, которая кажется занесенной издалека и бывает у людей со сложной, смешанной кровью. Мальчик находился в явном заблуждении, принимая Юрия Андреевича за кого-то другого. Он с дичливою растерянностью смотрел на доктора, как бы зная, кто он, и только не решаясь заговорить. Чтобы положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению. Мальчик смешался и, не сказав ни слова, направился к выходу. Здесь, оглянувшись еще раз, он отворил тяжелую, расшатанную дверь и, с лязгом ее захлопнув, вышел на улицу». Возникнув из снежной бури, этот «чудной, загадочный» Евграф играет в романе роль сказочного помощника героя (примечательно, что следующий раз Юрий видит его сквозь бред болезни, то есть двойник как бы снится герою). Двойник не только помогает Юрию Живаго, но и направляет его судьбу: www.franklang.ru 65 «Он (Юрий. — И.Ф.) стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказке, законным и полагающимся при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену: — Откуда это у тебя? — Да всё твой Граня. — Какой Граня? — Граня Живаго. — Граня Живаго? Ну да, твой омский брат Евграф. Сводный брат твой. Ты без сознания лежал, он нас всё навещал. — В оленьей дохе? — Да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал? Он в каком-то доме на лестнице с тобой столкнулся, я знаю, он рассказывал. Он знал, что это ты, и хотел представиться, но ты на него такого страху напустил! Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает! Рис, изюм, сахар. Он уехал опять к себе. И нас зовет. Он такой чудной, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, "на земле посидеть". Я с ним советовалась насчет Крюгеровских мест. Он очень рекомендует. Чтобы можно было огород развести, и чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по-бараньи. В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение Варыкино, близ города Юрятина». И в дальнейшем течении романа этот двойник олицетворяет собой Провидение: www.franklang.ru 66 «Удивительное дело! Это мой сводный брат. Он носит одну со мною фамилию. А знаю я его, собственно говоря, меньше всех. Вот уже второй раз вторгается он в мою жизнь добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав каждой биографии наряду со встречающимися в ней действующими лицами требует еще и участия тайной неведомой силы, лица почти символического, являющегося на помощь без зова, и роль этой благодетельной и скрытой пружины играет в моей жизни мой брат Евграф?» А вот самое первое упоминание о Евграфе в романе: «Есть дело о Живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да еще грязь, которая при этом всплывает. <…> Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой-Энрици. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь десять лет, его зовут Евграф. Княгиня — затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографию особняка. Красивый пятиоконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты». Угрожающий образ дома как будто вполне объясняется запутанным отцовым наследством. На самом же деле в нем узнается один из видов двойника. Герой, склоняясь над миром, как над зеркалом, как над водным простором, подчас видит себя как умноженного двойника, видит свою собственную www.franklang.ru 67 многоочитую Тень. Например, так происходит в гоголевской повести «Портрет»: «Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз». Или в уже прочитанном нами отрывке повести Нерваля: «Я закрыл глаза и пришел в смутное состояние духа, в котором фантастические или реальные фигуры, которые меня окружали, дробились в тысяче ускользающих видений». Или в романтической повести «Исповедь англичанина, употребляющего опиум» (1821) Томаса Де Квинси: «... ныне случалось наблюдать мне, как на волнующихся водах океана начинали появляться лица и вслед за тем уж вся поверхность его оказывалась вымощена теми лицами, обращенными к небу; лица молящие, гневные, безнадежные вздымались тысячами, мириадами, поколеньями, веками — смятенье мое все росло, а разум — колебался вместе с Океаном». Интересно, что и в «Сказке о царе Салтане» мы видим появление лиц из «Окияна»: Окиян, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы молодые, Великаны удалые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает: Вот что, князь, тебя смущает? www.franklang.ru 68 Не тужи, душа моя, Это чудо знаю я. Эти витязи морские Мне ведь братья все родные. Царевна Лебедь — «Прекрасная Дама», Изида, дядька Черномор — двойникантипод Гвидона (героя сказки), тридцать три богатыря (братья Лебеди, то есть коренным образом с ней связанные) — умноженный двойник. Однако тридцать три богатыря — это еще и юноши, проходящие обряд посвящения вместе с героем, его «лесные (а здесь морские) братья». А Черномор, кстати сказать, — это сказочный «змей черноморский», то есть мифический зверь, внутри которого происходит посвящение юношей. Сразу после видения лиц «на волнующихся водах океана» герой повести Де Квинси встречается и со своим двойником-антиподом: «Однажды некий малаец постучался в мою дверь; что за дело замышлял он средь скал английских — было мне неведомо, хотя, возможно, влек его портовый город, лежащий в сорока милях отсюда. <…> …ужасная наружность малайца, чья смуглая желчная кожа была обветрена и походила на красное дерево, мелкие глаза были свирепы и беспокойны, губы — едва заметны, а жесты выдавали рабское подобострастие. <…> Малаец ужасным врагом следовал за мной месяцами. Всякую ночь его волею переносился я в Азию». Дальше следует рассказ о различных видениях, в том числе о встрече с Озирисом и Изидой. Примечательно, что и в гоголевском «Портрете» двойник-антипод (запечатленный на оживающей картине) имеет угрожающий восточный вид: «Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти www.franklang.ru 69 необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы». Двойник как Тень есть и у Пушкина. Это «черный человек» в «Моцарте и Сальери»: Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек. За мною всюду Как тень он гонится. Похож на Тень и Рогожин в романе Достоевского «Идиот». Князь Мышкин то и дело ощущает на себе чей-то страшный взгляд. Потом оказывается, что это взгляд выслеживающего его Рогожина, его двойника-Тени. (Не случайно и то, что князь — «очень белокур», а Рогожин — «почти черноволосый». А то, что Рогожин — звериный двойник, мы видим по его тулупу, оттеняющему нечто звериное в его облике: «Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый тулуп».) Рогожинский взгляд как бы отделен от конкретного человека, словно смотрит в романе не только на князя Мышкина, но и сквозь роман прямо на читателя. Интересен и нож Рогожина. Поскольку переход от двойника к двойнику происходит через смерть (жертвоприношение), очень часто при этом возникает и образ орудия умерщвления — ритуальный (или жертвенный) нож. Когда автор в своем повествовании доходит до образа двойников, он подспудно ощущает, что должен появиться, условно говоря, нож. Это может быть действительно нож, это может быть и гарпун, и томагавк, и деревянный меч — как в «Моби Дике», и топор — как в «Капитанской дочке» Пушкина (во сне Петра Гринёва: «Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор изза спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах...»), и «рогатый сук» — как в «Мцыри» Лермонтова). Вот как, www.franklang.ru 70 например, появляется нож в романе Германа Гессе «Степной волк» (1927), причем явно сопровождаясь появлением звериного двойника главного героя (Гарри Галлера): «Тяжелая волна страха и мрака захлестнула мне сердце, все снова вдруг встало передо мной, я снова почувствовал вдруг в глубинах души беду и судьбу. В отчаянии я полез в карман, чтобы достать оттуда фигуры, чтобы немного поколдовать и изменить весь ход моей партии. Фигур там уже не было. Вместо фигур я вынул из кармана нож. Испугавшись до смерти, я побежал по коридору, мимо дверей, потом вдруг остановился у огромного зеркала и взглянул в него. В зеркале стоял, с меня высотой, огромный прекрасный волк, стоял тихо, боязливо сверкая беспокойными глазами. Он нет-нет да подмигивал мне…» В романе Гессе двойником Гарри выступает, во-первых, он сам — в своей ипостаси степного волка, во-вторых, музыкант Пабло — «экзотический красавец-полубог», с которым его знакомит Гермина — его «Прекрасная Дама» (можно сказать, его Муза): «…познакомила меня с саксофонистом, смуглым, красивым молодым человеком испанского или южноамериканского происхождения, который, как она сказала, умел играть на всех инструментах и говорить на всех языках мира». Потом Гарри замечает и «его сияющий, его прекрасный звериный взгляд». Двойничество в романе подчеркивается и тем, что Гермина напоминает главному герою его друга детства — Германа (между прочим, так зовут и автора). Такой вот переплет: внутренний двойник (волк) — внешний двойник (Пабло) — двойник в «Прекрасной Даме» (и он же — автор). Появляется нож и в романе Пастернака. Кубариха говорит, что может поразить им снеговую стихию, потому что та — живая: «Думаешь, хвастаю, вру? А вот и не вру. Ну, смотри, слушай. Придет зима, пойдет метелица в поле вихри толпить, кружить столбунки. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залукну, вгоню нож в снег по самый черенок, и весь красный в крови из снега выну». www.franklang.ru 71 Владычица Озера (при содействии волшебника Мерлина) вручает королю Артуру меч Экскалибур www.franklang.ru 72 Двойник у героя может быть и не один, может быть даже целая система двойников, как мы это видим в романе Германа Гессе и как легко можно увидеть, внимательно читая роман Мелвилла. Помимо Евграфа, двойникомантиподом Живаго является Паша Антипов, в дальнейшем превратившийся в Стрельникова. Есть несколько интересных моментов, которые об этом свидетельствуют. Например, Живаго говорит, что он испытывает к Стрельникову не ревность, не соперничество, а «чувство печального братства с ним». Кроме того, примечательна первая встреча героев. Встречи, собственно говоря, не было, а был странный, оторванный от кого-либо, неживой взгляд оттаявшего кружка в окне. В комнате за окном находились Лара с Пашей, а Юра проезжал мимо дома и видел этот кружок — и в нем свечу. То есть здесь такой же пристальный взгляд неживого мира еще до всякой встречи с двойником, какой мы видели при, так сказать, правстрече с Евграфом (я имею в виду дом с «недобрым взглядом»): «Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и когото поджидало. "Свеча горела на столе. Свеча горела..." — шептал Юра про себя начало чего-то смутного неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило». А в конце романа из разговора Лары и Евграфа сразу после смерти Живаго выясняется, что последняя квартира, которую достал Юре Евграф, как раз и была той квартирой Паши Антипова, из которой когда-то за Юрой подсматривало пламя: «— Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного? Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения, иду по старой Москве, половины не узнаю, — забыла. Иду и иду, спускаюсь по Кузнецкому, подымаюсь по Кузнецкому переулку, и вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое, — www.franklang.ru 73 Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов, покойный муж мой, студентом комнату снимал, именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Дай, думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье живы старые хозяева. Что их и в помине нет и тут все по-другому, это ведь я потом узнала, на другой день и сегодня, постепенно из опросов, но ведь вы были при этом, зачем я рассказываю? Я была как громом сражена, дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу, я думала, — с ума сошла, грежу, но ведь вы были всему свидетелем, не правда ли, зачем я вам это рассказываю? — Погодите, Лариса Федоровна, я перебью вас. Я уже говорил вам, что я и брат и не подозревали того, сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов». И еще: «И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечи, горевшей на подоконнике, и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла. Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу внимание? Что с этого, увиденного снаружи, пламени, — "Свеча горела на столе, свеча горела" — пошло в его жизни его предназначение?» Двойник вообще часто погибает. Это, видимо, отражает тот аспект обряда посвящения, что герой проходит через смерть. Стрельников погибает, а Живаго оказывается в его квартире. В романе Германа Мелвилла «Моби Дик» (1851) туземец Квикег погибает, а Измаил выплывает и спасается в очень специфической лодке, изготовленной по просьбе Квикега. Дело в том, что, заболев, Квикег поручает корабельному плотнику сделать для себя нетонущий гроб, гроб-челнок. Квикег выздоравливает, но гроб пригождается Измаилу: когда Белый кит топит www.franklang.ru 74 судно, Измаила спасает этот гроб-челнок Квикега, что и дает возможность нам услышать от него историю о неудавшейся попытке убить Белого кита. Стрельников застрелился, Живаго находит его и видит следующее: «Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, вкось поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины». Это страшный привет от «рыжелистой рябины», от Хозяйки зверей — дарительницы и жизни, и смерти. Двойное имя (как здесь — Павел Павлович), кстати сказать, нередко подчеркивает двойничество. В «Сказке о царе Салтане» двойником-антиподом героя является не только Черномор, но и коршун-чародей (которого герой также, как и Черномора, встречает благодаря Царевне, видит через Царевну): К морю лишь подходит он, Вот и слышит будто стон... Видно на море не тихо; Смотрит — видит дело лихо: Бьется лебедь средь зыбей, Коршун носится над ней; Та бедняжка так и плещет, Воду вкруг мутит и хлещет... Тот уж когти распустил, Клёв кровавый навострил... Но как раз стрела запела, В шею коршуна задела — Коршун в море кровь пролил, www.franklang.ru 75 Лук царевич опустил; Смотрит: коршун в море тонет И не птичьим криком стонет, Лебедь около плывет, Злого коршуна клюет, Гибель близкую торопит, Бьет крылом и в море топит — И царевичу потом Молвит русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель, Мой могучий избавитель, Не тужи, что за меня Есть не будешь ты три дня, Что стрела пропала в море; Это горе — всё не горе. Отплачу тебе добром, Сослужу тебе потом: Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в живых оставил; Ты не коршуна убил, Чародея подстрелил. Примечательно, что двойник часто поражается в голову (или в шею). В результате этого он может представать либо человеком со шрамом, либо «всадником без головы», либо мертвой головой, которая так или иначе оживает и взаимодействует с героем. Роль двойника не только в том, чтобы помочь герою в его судьбе. Двойникантипод может быть даже враждебен герою. Но после встречи с ним герой начинает ощущать «его предназначение», то есть получает умение читать книгу жизни, начинает постигать свою линию своей судьбы в сочетании с www.franklang.ru 76 линиями судеб других людей. Так, например, Генрих, герой романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1800), спустившись в пещеру, встречает там неожиданно отшельника, сидящего над книгой, которая написана на незнакомом Генриху языке. Перелистывая затем эту книгу и рассматривая картинки, Генрих находит «свое собственное изображение среди других фигур». И, видимо, рассказ о своей жизни, как уже прожитой, так и еще предстоящей ему. А до этого Генриху снится, что он, пройдя через ход в скале, встречает голубой цветок: «Но то, что его полновластно притягивало, было высоким светло-голубым цветком, стоявшим у самого источника и прикасавшимся к нему своими широкими блестящими листьями. Кругом росли бесчисленные и разнообразные цветы, удивительный аромат наполнял воздух. Он не видел ничего, кроме голубого цветка, и рассматривал его долго, с несказанной нежностью. Наконец он захотел к нему приблизиться, и тогда цветок вдруг начал двигаться и изменяться, листья заблестели сильнее и прижались к растущему стеблю, цветок склонился к нему навстречу, и лепестки раскрылись широким воротником, в котором светилось нежное лицо». В «свое собственное изображение среди других фигур» вглядывается и Юрий Живаго. Этого много в романе Пастернака. Вот, например, Юрий Живаго перед самой смертью: «Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разною скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло, и, не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления. Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чьянибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище www.franklang.ru 77 представилось ему, но, окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения». Сравните это с началом повести Новалиса «Ученики в Саисе», посвященной Изиде: «Причудливы стези людские. Кто наблюдает их в поисках сходства, тот распознает, как образуются странные начертания, принадлежащие, судя по всему, к неисчислимым, загадочным письменам, приметным повсюду: на крыльях, на яичной скорлупе, в тучках, в снежинках, в кристаллах, в камнях различной формы, на замерзших водах, в недрах и на поверхности гор, в растительном и животном царстве, в человеке, в небесных огнях, в расположении смоляных и стеклянных шариков, чувствительных к прикосновению, в металлических опилках вокруг магнита и в необычных стечениях обстоятельств. Кажется, вот-вот обретешь ключ к чарующим письменам, постигнешь этот язык, однако смутное чаянье избегает четких схем, как бы отказывается отлиться в ключ более совершенный. Наши чувства как бы пропитаны всеобщим растворителем. Лишь на мгновение твердеют наши влечения и помыслы. Таково происхождение чаяний, однако слишком быстро все тает вновь, как прежде, перед взором». Задумывается над линиями судьбы, над «странным сцеплением обстоятельств» и Петр Гринёв из повести Пушкина «Капитанская дочка»: «Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли…» «Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что Провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение». ««Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить»». Примечательно, что в конце повести мы видим отрезанную голову, которая успевает кивнуть нашему герою: «он присутствовал при казни Пугачева, www.franklang.ru 78 который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу». Пушкина интересовали подобные штуки. Мертвого двойника, который вдруг оживает и подает знак герою, мы встречаем и в других произведениях Пушкина («Каменный гость», «Медный всадник», «Утопленник»). В «Медном всаднике» и «Утопленнике» этот живой мертвец возникает из водной стихии, из бури (как возникает из снежной бури и Пугачев в «Капитанской дочке», помогая довести кибитку Гринёва до жилья, до постоялого двора. Кстати сказать, на постоялом дворе Гринёв становится невольным свидетелем «воровского разговора» между мужиком-вожатым и хозяином двора. В этом непонятном для героя жаргоне проявляется особый язык, язык мифический, птичий, звериный. Из такого обрядового языка, как известно, и происходит поэзия). Вот, например, медный всадник: ……………… Показалось Ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось... В «Утопленнике»: Долго мертвый меж волнами Плыл качаясь, как живой; Проводив его глазами, Наш мужик пошел домой. <…> Уж с утра погода злится, Ночью буря настает, www.franklang.ru 79 И утопленник стучится Под окном и у ворот. Да и пушкинская «Песнь о вещем Олеге» о том же — о роковом мертвеце, в котором пробуждается жизнь: Из мертвой главы гробовая змия, Шипя, между тем выползала… В. М. Васнецов. Олег у костей коня. 1899 год У Квикега из романа Мелвилла тоже странный вид, особенно вид головы. Она похожа на голову идола или мертвеца. Измаил в ужасе, увидав «нечеловеческий цвет его лица», а также его бритую голову: «лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп». www.franklang.ru 80 В дальнейшем Измаил и Квикег братаются (как братаются Рогожин и князь Мышкин, обменявшись крестами, как братаются Гринёв и Пугачев, обменявшись тулупами, — звериный аспект Пугачева, кстати сказать, состоит не только в его «заячьем тулупе», он неоднократно и многообразно подчеркивается в повести), нанимаются вместе на китобойное судно, становятся, по ощущению Измаила, как бы «сиамскими близнецами»: «Поскольку я сидел с моим дикарем в одном вельботе, работая позади него вторым от носа веслом, в мои веселые обязанности входило также помогать ему теперь, когда он выполняет свой замысловатый танец на спине кита. Все, наверное, видели, как итальянец-шарманщик водит на длинном поводке пляшущую мартышку. Точно так же и я с крутого корабельного борта водил Квикега среди волн на так называемом «обезьяньем поводке», который прикреплен был к его тугому парусиновому поясу. Это было опасное дельце для нас обоих! Ибо — это необходимо заметить, прежде чем мы пойдем дальше, — «обезьяний поводок» был прикреплен с обоих концов: к широкому парусиновому поясу Квикега и к моему узкому кожаному. Так что мы с ним были повенчаны на это время и неразлучны, что бы там ни случилось; и если бы бедняга Квикег утонул, обычай и честь требовали, чтобы я не перерезал веревку, а позволил бы ей увлечь меня за ним в морскую глубь. Словом, мы с ним были точно сиамские близнецы на расстоянии. Квикег был мне кровным, неотторжимым братом, и мне уж никак было не отделаться от опасных родственных обязанностей, порожденных наличием пеньковых братских уз». Обратите внимание, что Квикег здесь получает ипостась обезьяны. И сравните с обезьяной из стихотворения Владислава Ходасевича «Обезьяна», где звериный двойник-антипод, заглянув в глаза поэта, вызывает в нем видение, похожее на то, что сопровождало Изиду у Нерваля или девушку у Джойса: www.franklang.ru 81 Была жара. Леса горели. Нудно Тянулось время. На соседней даче Кричал петух. Я вышел за калитку. Там, прислонясь к забору, на скамейке Дремал бродячий серб, худой и черный. Серебряный тяжелый крест висел На груди полуголой. Капли пота По ней катились. Выше, на заборе, Сидела обезьяна в красной юбке И пыльные листы сирени Жевала жадно. Кожаный ошейник, Оттянутый назад тяжелой цепью, Давил ей горло. Серб, меня заслышав, Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я Воды ему. Но чуть ее пригубив, — Не холодна ли, — блюдце на скамейку Поставил он, и тотчас обезьяна, Макая пальцы в воду, ухватила Двумя руками блюдце. Она пила, на четвереньках стоя, Локтями опираясь на скамью. Досок почти касался подбородок, Над теменем лысеющим спина Высоко выгибалась. Так, должно быть, Стоял когда-то Дарий, припадая К дорожной луже, в день, когда бежал он Пред мощною фалангой Александра. Всю воду выпив, обезьяна блюдце Долой смахнула со скамьи, привстала И — этот миг забуду ли когда? — www.franklang.ru 82 Мне черную, мозолистую руку, Еще прохладную от влаги, протянула... Я руки жал красавицам, поэтам, Вождям народа — ни одна рука Такого благородства очертаний Не заключала! Ни одна рука Моей руки так братски не коснулась! И видит Бог, никто в мои глаза Не заглянул так мудро и глубоко, Воистину — до дна души моей. Глубокой древности сладчайшие преданья Тот нищий зверь мне в сердце оживил, И в этот миг мне жизнь явилась полной, И мнилось — хор светил и волн морских, Ветров и сфер мне музыкой органной Ворвался в уши, загремел, как прежде, В иные, незапамятные дни. И серб ушел, постукивая в бубен. Присев ему на левое плечо, Покачивалась мерно обезьяна, Как на слоне индийский магараджа. Огромное малиновое солнце, Лишенное лучей, В опаловом дыму висело. Изливался Безгромный зной на чахлую пшеницу. В тот день была объявлена война. www.franklang.ru 83 Здесь не только обезьяна является двойником-антиподом, но и Дарий (сравните с «персиянином» из гоголевского «Портрета» или «Невского проспекта»), и «бродячий серб, худой и черный». Это все один и тот же двойник — троящийся, пульсирующий. Териоморфный двойник-антипод. По поводу серба. В заключительной повести романа Лермонтова «Герой нашего времени», в «Фаталисте», появляется серб Вулич («высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы»). Это — двойник Печорина. Сорвавшийся выстрел Вулича в собственную голову отражается в выстреле казака в Печорина, когда Печорин хочет его захватить: «…я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет». Кроме того, в последней главе романа Лермонтова рассказывается об игре Вулича и Печорина — сначала карточной, а затем переходящей в своего рода «русскую рулетку», — то есть об игре, переходящей в жизнь и становящейся при этом смертельной. (Игра с героем — одно из типичных действий двойника. Особенно игра со смертельным исходом. Вспомните и шахматные фигуры, которые Гарри пытается достать из кармана, «чтобы немного поколдовать и изменить весь ход <…> партии», но достает вместо них нож.) И, конечно, речь в главе «Фаталист» идет о возможности или невозможности обретения власти над судьбой. www.franklang.ru 84 Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать» (1957). Рыцарь играет в шахматы с ангелом смерти, на фоне моря. Этому предшествовала картина: два коня на фоне моря А вот как Измаил и Квикег, оказавшись уже на корабле, ткут судьбу, соединяя свободу и необходимость: «День был пасмурный и душный, матросы лениво слонялись по палубе или, перегнувшись через борт, бездумно следили за свинцовыми волнами. Мы с Квикегом мирно ткали мат для нашего вельбота. Так тихо было все кругом, в воздухе словно притаилось какое-то волшебство, какое-то обещание радости, и каждый примолкший матрос был словно невидим, растворившись в самом себе. За тканьем мата я играл роль помощника или пажа при Квикеге. И в то время как я пропускал уток — марлинь между длинными прядями основы, пользуясь вместо челнока своей собственной рукою, а стоящий сбоку Квикег подсовывал время от времени между нитями свой тяжелый дубовый мечбёрдо и, рассеянно вперившись в морскую даль, не глядя, не думая, подгонял www.franklang.ru 85 вплотную поперечные волокна, над кораблем и над всем морем царила такая странная дремотная тишина, нарушаемая по временам лишь глухими ударами деревянного меча, что мне стало казаться, будто передо мною — Ткацкий Станок Времени, а сам я — только челнок, безвольно снующий взад и вперед и плетущий ткань Судьбы». В романе Томаса Манна «Волшебная гора» (1924) главный герой Ганс Касторп, попав на «волшебную гору» (в швейцарский горный туберкулезный санаторий), встречает там как бы свою Музу (однако, поскольку он не поэт, а инженер, назовем ее «Прекрасной Дамой») — русскую пациентку (с французской фамилией) Клавдию Шоша. Она ему кого-то напоминает. И вот в какой-то момент Ганс Касторп идет в горы и впадает там в сон — и видит свое школьное детство. И понимает, что Клавдия Шоша напоминает ему мальчика, Пшибыслава Хиппе, с которым он учился в школе, к которому его непреодолимо, настойчиво тянуло, но с которым он заговорил только один раз. Мальчик был, как и Клавдия, экзотического происхождения и соответствующей внешности: «Он родился в Мекленбурге и, видимо, унаследовал от предков смешанную кровь — германскую и вендо-славянскую, или наоборот. Его коротко остриженные волосы на круглой голове были белокурыми, а глаза, голубовато-серые или серо-голубые, подобно изменчивому и неопределенному цвету далеких гор, имели необычную форму: они были узкие и даже чуть раскосые, а под ними резко выступали широкие скулы — склад лица, отнюдь не уродовавший мальчика и делавший его даже привлекательным, но послуживший достаточным основанием для того, чтобы товарищи прозвали его "Киргизом"». Дальше происходят события, которые еще больше объединяют для героя эти два образа (Клавдии как Хозяйки зверей и Пшибыслава как звериного двойника). Ганс ощущает встречу с Клавдией как судьбоносную: «Но особенно примечательны были глаза — узкие, с каким-то пленительным киргизским разрезом (таким его находил Ганс Касторп), серовато-голубые www.franklang.ru 86 или голубовато-серые, цвета далеких гор, глаза, которые при взгляде в сторону, — но не для того, чтобы увидеть что-нибудь, — как будто томно затуманивались ночной дымкой. И эти глаза Клавдии беззастенчиво и несколько угрюмо рассматривали его совсем близко и своим разрезом, цветом и выражением жутко и ошеломляюще напоминали глаза Пшибыслава Хиппе! Впрочем, "напоминали" совсем не то слово, — это были те же глаза, и той же была широкая верхняя часть лица, чуть вдавленный нос, — все, вплоть до яркого румянца на белой коже, — у мадам Шоша, да и у всех обитателей санатория он отнюдь не служил признаком здоровья, ибо являлся только результатом продолжительного лежания на свежем воздухе, — словом, все было такое же, как у Пшибыслава, и тот совершенно так же глядел на Ганса Касторпа, когда они встречались мимоходом на школьном дворе. Ганс Касторп был потрясен. Но, несмотря на восторг, вызванный этой встречей, в него начал закрадываться страх, ощущение такой же стесненности, какую вызывала замкнутость в ограниченном пространстве вместе с ожидавшими его благоприятными возможностями. И если давно забытый Пшибыслав снова встретил его здесь наверху в образе Клавдии Шоша и посмотрел на него теми же киргизскими глазами, это тоже было какой-то замкнутостью наедине с неизбежным и неотвратимым, — неизбежным в жутком и счастливом смысле этого слова, оно было богато надеждами и вместе с тем от него веяло чем-то пугающим, даже грозным...» Слова «замкнутость в ограниченном пространстве вместе с ожидавшими его благоприятными возможностями» означают, между прочим, что герой попал в «избушку на курьих ножках», которую никак нельзя обойти, если хочешь обрести власть над судьбой. Он попал в ограниченное, но художественное пространство. Ограниченное так, как картина ограничена рамой. Это особое, волшебное место, в котором возможна фуга, соединяющая человека с миром. www.franklang.ru 87 Мне было бы приятно считать, что киргизские глаза двойника в романах «Доктор Живаго» и «Волшебная гора» — результат совпадения. Но в такие совпадения не верю даже я. Борис Пастернак явно «списал» эту деталь у Томаса Манна (как, собственно, и Герман Гессе с его Герминой-Германом). Но сделал это творчески. Надо сказать, что оба романа при всех отличиях имеют много общего, причем коренного общего: герой, попадающий в особый мир (связанный со снежной стихией), встречает Хозяйку зверей (богиню жизни и смерти), видит сквозь нее двойника-антипода, изменяет свою жизнь. Простой парень становится чем-то, чем он не мог бы стать, не попав на «волшебную гору». Удивительные приключения В романе Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) Робинзон встречается со своим двойником-антиподом, являющимся ему в двух ипостасях: в виде звериного двойника (огромного страшного козла со сверкающими в темноте глазами) и в виде Тени (смуглого туземца Пятницы). Примечательна последовательность появления этого двуипостасного двойника. Сначала двойник присутствует невидимо (что с двойником-антиподом вообще бывает довольно часто) — и вызывает у Робинзона чувство, похожее на чувство священного ужаса: «Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился, как громом пораженный или как если бы я увидел привидение». Затем Робинзон встречает козла, точнее, некий дьявольский взгляд (такой взгляд — как бы существующий сам по себе, отделенный от конкретного тела — типичная особенность двойника-антипода): www.franklang.ru 88 «Так вот в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход; я пролез в него, хоть и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в два человеческих роста. Но сознаюсь, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И немудрено: всматриваясь в темноту (так как в глубине пещеры было совершенно темно), я увидал два горящих глаза какого-то существа — человека или дьявола, не знаю, — они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникавший в пещеру снаружи и падавший на них. Немного погодя я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил двадцать лет один-одинешенек среди океана, тому не стать бояться чёрта, сказал я себе. Наверное уж в этой пещере нет никого страшнее меня! И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего: я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли, затем какие-то прерывистые звуки вроде бормотанья и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса; холодный пот проступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом, так что, будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы... Тем не менее я не потерял присутствия духа: стараясь ободрить себя тою мыслью, что всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии; по-видимому, он околевал от старости». Интересно, что не только взгляд сначала отделен от тела звериного двойника, но и его голос. www.franklang.ru 89 Робинзон Крузо, напуганный козлом в пещере. Иллюстрация. 1865 год Раздумывая над этим случаем, Робинзон (одетый, кстати, в козлиную шкуру) сравнивает свою судьбу с козлиной, как бы идентифицирует себя с тем козлом: www.franklang.ru 90 «Шел уже двадцать третий год моего житья на острове, и я успел до такой степени освоиться с этой жизнью, что если бы не страх дикарей, которые могли потревожить меня, я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа, когда я лег бы и умер, как старый козел в пещере». И сама встреча — не где-нибудь, а именно в пещере — подтверждает двойничество Робинзона и козла. Пещера — обычное место для проведения обряда посвящения, так как посвящаемый, чтобы родиться во второй раз (и тем самым превратиться в своего собственного двойника), должен погрузиться в землю. Итак, сначала след человека (привидение), затем «два горящих глаза» (и вздох) козла в пещере. А затем Робинзон Крузо видит сон: «Мне снилось, будто, выйдя как обыкновенно поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги и подле них одиннадцать человек дикарей. С ними был еще двенадцатый — пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал что есть мочи. И я подумал во сне, что он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Увидя, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить, а он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой». Двойник довольно часто является герою сначала именно во сне. Здесь же примечательно и то, что двойник является как жертва — как объект ритуального убийства. Интересно, что сам Робинзон за много лет до встречи с приснившимся ему двойником также плыл к необитаемому острову на лодке — и из одиннадцати человек в конце концов спасся он один: «В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт; мы все, одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию www.franklang.ru 91 Божию, отдались на волю бушующих волн; хотя шторм значительно поулегся, все-таки на берег набегали страшные валы, и море могло быть по справедливости названо den vild Zee (дикое море), — как выражаются голландцы. <…> Когда мы отошли или, вернее, нас отнесло, по моему расчету, мили на четыре от того места, где застрял наш корабль, вдруг огромный вал, величиной с гору, набежал с кормы на нашу шлюпку, как бы собираясь похоронить нас в морской пучине. В один миг опрокинул он нашу шлюпку. Мы не успели крикнуть: «Боже!», как очутились под водой, далеко и от шлюпки, и друг от друга». Стихия здесь, кажется, живая, она — дикий зверь, готовая поглотить героя. Герой был поглощен — и «выплюнут» на берег. Робинзон был одиннадцатым — и бежал на остров от страшной стихии, а приснившийся ему спустя много лет двойник был следующим по счету, двенадцатым, — и бежал от намеревающихся растерзать его и съесть людоедов. А затем сон сбывается — и появляется тот, кого Робинзон затем назовет Пятницей: «Вдруг несколько человек отделились от танцующих и побежали в ту сторону, где стояли лодки, и вслед за тем я увидел, что они тащат к костру двух несчастных, очевидно, предназначенных на убой, которые, должно быть, лежали связанные в лодках. Одного из них сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжелым (дубиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари), и тащившие его люди немедленно принялись за работу: распороли ему живот и начали его потрошить. Другой пленник стоял тут же, ожидая своей очереди. В этот момент несчастный, почувствовав себя на свободе, очевидно, исполнился надеждой на спасение: он вдруг ринулся вперед и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу прямо ко мне, то есть в ту сторону, где было мое жилье. www.franklang.ru 92 Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит ко мне, тем более, что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Итак, первая половина моего сна сбывалась наяву: преследуемый дикарь будет искать убежища в моей роще; но я не мог рассчитывать, чтобы сбылась и другая половина моего сна, то есть чтобы остальные дикари не стали преследовать свою жертву и не нашли бы ее там». www.franklang.ru 93 Робинзон Крузо, спасающий Пятницу от дикарей. Иллюстрация. 1865 год Робинзон и Пятница убивают обоих преследователей (причем второму из них Пятница отсекает голову), Робинзон отводит Пятницу в свою пещеру. www.franklang.ru 94 Робинзон Крузо, оказавшись на своем острове в результате того, что жил бездумно, своевольно, а именно гонясь за приключениями и прибылью, попадает впросак, оказывается у разбитого корыта. Поймет ли он что-то новое в жизни? Сможет ли продолжать жить? (Вот о чем этот первый европейский роман Нового — буржуазного — времени!) Наш герой кое-что понял в жизни, об этом в романе говорится неоднократно. Что именно он понял? Он понял, как работает чудо, скажем, в современных условиях: «Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил. Я давно забыл про это, не помнил даже, на каком месте; я вытряхнул мешок. Но вот прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь невиданное мной растение. Но каково ж было мое изумление, когда, спустя еще несколько недель, зеленые стебельки (их было всего штук десять-двенадцать) выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого, который растет в Европе и у нас в Англии. Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие! До тех пор мной никогда не руководили религиозные мотивы. Религиозных понятий у меня было очень немного, и все события моей жизни — крупные и мелкие — я приписывал простому случаю, или, как все мы говорим легкомысленно, воле Божьей. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует Провидение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший, как я знал, в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно как попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком безотрадном острове. Мысль эта немного растрогала меня и вызвала на глаза мои слезы; я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление www.franklang.ru 95 мое этим не кончилось: вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса; я их легко распознал, так как во время пребывания в Африке часто видел рис на полях. Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим Провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда то, наконец, я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это самая естественная вещь, я должен сознаться, значительно поостыла и моя горячая благодарность к Промыслу. А между тем то, что случилось со мной, было почти так же непредвиденно, как чудо, и уж во всяком случае заслуживало не меньшей признательности. В самом деле: не перст ли Провидения виден был в том, что из многих тысяч ячменных зерен, попорченных крысами, десять или двенадцать зернышек уцелели и, стало быть, все равно что упали мне с неба. Надо же было мне вытряхнуть мешок на этой лужайке, куда падала тень от скалы и где семена могли сразу же взойти. Ведь стоило мне бросить их немного подальше, и они были бы выжжены солнцем». А ближе к концу романа, научившись — в результате своего необычного и трагического опыта — читать «книгу жизни», Робинзон замечает: «Что такие намеки и предупреждения (hints and notices2. — И.Ф.) даны нам, — этого, я думаю, не станет отрицать ни один мало-мальски наблюдательный человек. Не можем мы сомневаться и в том, что они являются некими откровениями невидимого мира…» Пришлось подправить перевод, так как советский редактор (видимо, борясь с религией) «сгладил» текст, вместо «намеков и предупреждений» (то есть знаков, поступающих извне) поставил «предчувствия». 2 www.franklang.ru 96 Портрет дамы, или Лошадиный глаз «Он слышал, что есть средство восстановить сон – для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги. — На что тебе опиум? — спросил он его. Пискарев рассказал ему про свою бессонницу. — Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу». Н. В. Гоголь «Невский проспект» У Льва Николаевича Толстого и Федора Михайловича Достоевского есть один общий любопытный элемент сюжета, напоминающий элемент сюжета волшебной сказки. Герой сначала видит изображение женщины на картине, а затем встречает эту женщину в действительной жизни. Вот как это происходит с Левиным в романе Толстого «Анна Каренина»: «Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампарефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьич заходил за трельяж и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет, в блестящем освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него www.franklang.ru 97 смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. — Я очень рада, — услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трельяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветно-синем платье…» Левин на миг влюбляется в Анну: «Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею — и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее». Между прочим, эти слова вполне можно отнести и к самому автору (тем более что Левин — alter ego самого Толстого). Это Толстой все время думает об Анне, стараясь угадать ее чувства, это он оправдывает ее и жалеет, это он со страхом и тоской наблюдает непонимание Анны Вронским. Анна — Муза Толстого, его Прекрасная Дама. В романе говорится о трех портретах Анны. Первый висит в доме Карениных, то есть принадлежит ее мужу: «Над креслом висел овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. Алексей Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись и произвели звук «брр», и отвернулся». www.franklang.ru 98 Портрет Анны и на Каренина смотрит как живой. Портрет был написан, естественно, до объяснения с Анной, а смотрит так, словно был создан непосредственно во время объяснения и даже продолжает это объяснение. Портрет будто меняется со временем, а значит, живет. Второй портрет Анны — тот, что пишет Вронский: «И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины. Так как смолоду у него была способность к живописи и так как он, не зная, куда тратить свои деньги, начал собирать гравюры, он остановился на живописи, стал заниматься ею и в нее положил тот незанятый запас желаний, который требовал удовлетворения. У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: — религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно, жизнью, уже воплощенною искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать. Более всех других родов ему нравился французский, грациозный и эффектный, и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным». www.franklang.ru 99 Третий портрет Анны — портрет, который Вронский заказывает художнику Михайлову (и который потом оказывает столь сильное воздействие на Левина): «Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение», — думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его. — Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал, — говорил он про свой портрет, — а он посмотрел и написал. Вот что значит техника. — Это придет, — утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство». Вронский не дописывает портрета: «Портрет Анны, — одно и то же и писанное с натуры им и Михайловым, должно бы было показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайловым; но он не видал ее. Он только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было излишне». И Михайлов, настоящий художник, действительно видящий и понимающий Анну, — alter ego Толстого. Михайлов пишет портрет Анны — Толстой пишет роман об Анне. Вронский же представляет собой все то, от чего Толстой отталкивается. И то, что он не оканчивает портрета, очень важно. У Вронского портрет Анны не выходит. Не выходит портрет — погибает та, которая должна была быть на нем изображена. Потому что мы здесь имеем дело с волшебной сказкой. Точнее сказать, с мифом. www.franklang.ru 100 Рене Магритт. Попытка невозможного Вот как Толстой окончательно сводит счеты с соперником Михайлова в искусстве (а заодно и со своим): www.franklang.ru 101 «Михайлов между тем, несмотря на то, что портрет Анны очень увлек его, был еще более рад, чем они, когда сеансы кончились и ему не надо было больше слушать толки Голенищева об искусстве и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя запретить Вронскому баловать живописью; он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать, что им угодно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно». Анне Вронского — не жить. Это кукла. Толстой помещает себя в свой роман и в качестве художника, пишущего портрет героини (Михайлов), и в качестве мужчины, восхищающегося героиней и жалеющего ее (Левин). И все же примечательно, что есть вещи, которые объединяют Левина с Вронским. Одной из них является любовь Кити сначала к Вронскому, а потом к Левину. Да и Анна, познакомившись с Левиным, видит в Левине нечто общее с Вронским: «несмотря на резкое различие, с точки зрения мужчин, между Вронским и Левиным, она, как женщина, видела в них то самое общее, за что и Кити полюбила и Вронского и Левина». У Михайлова живо выходит Анна на портрете, Левин на короткое время влюбляется в Анну и сострадает ей, однако с живой Анной, с Анной как женщиной имеет дело все же Вронский. И в то же время она — Муза и Прекрасная Дама самого писателя. Вронский — это тоже Толстой, и он тоже. Вронский — это мечта подростка о ладном и удачливом мужчине, которым он хотел бы быть. И Левин, далеко не всегда ловко вписывающийся в жизненные повороты, действительно www.franklang.ru 102 завидует Вронскому. Если Анна — женщина мечты, то Вронский — мужчина мечты. А потому соперник, с которым надо расправиться. Прекрасная Дама — воплощение самой жизни, сама «живая жизнь» — не только прекрасна, но и вызывает страх. Может быть, потому, что ее так легко погубить неосторожным движением. Вронский — тот двойник автора, которому суждено совершить это неосторожное движение. Вронский (не от английского ли слова ‘wrong’ его фамилия, особенно если принять во внимание, сколько всего английского в романе, вплоть до английских вариантов имен персонажей и массы английских фраз) ломает хребет лошади во время скачки — и ломает жизнь Анны Карениной. Как заметил Набоков, и в сцене «падения» Анны, и в сцене скачек у Вронского дрожит нижняя челюсть: «То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, — это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем. — Анна! Анна! — говорил он дрожащим голосом. — Анна, ради Бога!.. Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее». И этот момент романа повторится (с вариацией) в сцене самоубийства Анны, аукнется настоящим спинным переломом: «Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю? www.franklang.ru 103 Зачем?» Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину». А вот как подобное происходит с лошадью (Фру-Фру): «Канавку она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица; но в это самое время Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог еще дать себе отчет о том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и, делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после. Теперь же он видел только то, что Махотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а пред ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом». Сама «живая жизнь», которую так легко сломать, которую так жалко, смотрит тут «своим говорящим взглядом». Этот странный взгляд, словно отделенный от конкретного тела и смотрящий сквозь роман на читателя, проявляется в сквозном образе романа — блестящих глазах, в частности, глазах Анны, ощущающих самих себя, собственное вúдение: www.franklang.ru 104 «Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела». А вот глаза Анны в тот момент, когда Вронский встречает ее впервые: «Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке». Загубленная Вронским лошадь — «двойница» Анны. Вот Фру-Фру перед скачкой: «Фру-Фру продолжала дрожать, как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского». А потом будет то, что мы уже прочли: «пред ним, тяжело дыша, лежала ФруФру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом». И это, при всех лошадиных отличиях, та же самая лошадь, которую бьют по глазам (вот-вот!) и убивают (переламывая ей хребет) в «Преступлении и наказании» Достоевского. Та лошадь — «двойница» старухи-процентщицы, что во сне Раскольникова совершенно очевидно. Но она же — «двойница» Лизаветы и Сони, которые между собой сами суть «двойницы». Поскольку мы говорим о мифе, то старуха-процентщица — это Баба-яга, Соня — это София, премудрость Божья, а Лиза — это архетипическая «бедная Лиза» русской литературы3. И все это — ипостаси одного существа. Лизой зовут не только героиню сентиментальной повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) — повести, с которой началась русская проза, но и, например, героиню «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского (1864). 3 www.franklang.ru 105 О. А. Кипренский. Бедная Лиза. 1827 год И у Лермонтова в романе «Герой нашего времени» — тот же миф: в конце повести «Княжна Мери» Печорин пытается догнать на лошади уехавшую любимую женщину (Веру) — и загоняет лошадь. В этом образе загнанной и погибшей лошади — и брошенная Печориным незадолго до этого княжна www.franklang.ru 106 Мери4, и убитый им только что Грушницкий, и умирающая от болезни и несчастная в своей любви к Печорину Вера, да и сам Печорин, лежащий и плачущий в степи: «Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду, попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал». Потом он видит своего коня еще раз: «Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...» 4 «— Эта княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза — именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу. — Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади, — сказал Грушницкий с негодованием». И тут глаза, и тут лошадь. www.franklang.ru 107 Голова лошади. Рисунок А. О. Орловского. 1807 год Князь Мышкин в романе Достоевского «Идиот» сначала видит фотографический портрет Настасьи Филипповны и только потом встречается с ней действительно: «Но не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем, осмотрелся кругом, подошел к окну, ближе к свету, и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны. Ему как бы хотелось разгадать что-то, скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по www.franklang.ru 108 своей красоте и еще по чему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его». Князь целует портрет, для него он — живой. Настасья Филипповна, как и Анна Каренина, является прекрасной, страшной, непредсказуемой Прекрасной Дамой, самой жизнью в целом, и она тоже в конце концов гибнет. Скажем несколько слов о том, откуда пришел этот элемент сюжета (появление сначала изображения, а затем живой дамы) и что за ним стоит. Оживающими статуями, портретами, куклами просто кишит немецкая романтическая литература, особенно подробно и интересно эта тема разработана в произведениях Э.Т.А. Гофмана. Монаху Медарду, герою романа «Эликсиры дьявола» (1815), его Прекрасная Дама является сначала как Аврелия (однако он не видит ее лица), потом как святая Розалия, изображенная на картине (и он отождествляет ее с Аврелией), а затем — как Аврелия с уже открытым лицом — и он действительно узнает в ней святую Розалию с картины: «Утренний свет пробивался многоцветными лучами сквозь витражи монастырской церкви; одинокий, в глубоком раздумье сидел я в исповедальне; только шаги прибиравшего церковь послушника гулко отдавались под высокими сводами. Вдруг невдалеке от меня зашелестело, и я увидел высокую стройную женщину, судя по одежде, не из наших мест, с опущенной на лицо вуалью; войдя в боковую дверь, она приближалась ко мне, намереваясь исповедоваться. Она подошла с неописуемой грацией, опустилась на колени, глубокий вздох вырвался у нее из груди — я www.franklang.ru 109 почувствовал ее жгучее дыхание и еще прежде, чем она заговорила, был во власти ошеломляющего очарования. <…> Мне не пришлось увидеть лица Незнакомки, и все же она жила у меня в душе, смотрела на меня чарующими темно-синими глазами… <…> В церкви нашей был придел во имя святой Розалии с дивной иконой, изображавшей праведницу в час ее мученической кончины. В ней я узнал свою возлюбленную, и даже платье на святой было точь-вточь такое же, как странный костюм Незнакомки. Здесь-то, простершись на ступенях алтаря, я, словно охваченный безумием, испускал страшные вопли, от которых монахи приходили в ужас и разбегались, объятые страхом. В минуты более спокойные я метался по всему монастырскому парку и видел — вот она скользит вдалеке по благоухающим равнинам, мерцает в кустах, реет над потоком, витает над цветущими лугами, повсюду она, только она!» «Но вот двери распахнулись, вошел барон с Аврелией. Едва я взглянул на Аврелию, как душу мою пронзил яркий луч, который воскресил и мои самые сокровенные чувства, и томление, исполненное блаженства, и восторги исступленной любви — словом, все, что звучало во мне далеким и смутным предчувствием; казалось, жизнь моя только теперь занимается, сияя и переливаясь красками, как ранняя заря, а прошлое, оцепеневшее, ледяное, осталось позади в кромешной тьме пустыни... Да, это была она, мое чудное видение в исповедальне! Печальный, детски чистый взгляд темно-синих глаз, мягко очерченные губы, чело, кротко склоненное будто в молитвенном умилении, высокая и стройная фигура — да нет же, это была вовсе не Аврелия, а сама святая Розалия!.. Лазоревая шаль ложилась прихотливыми складками на темно-красное платье Аврелии — совершенное подобие одеяния святой на иконе и Незнакомки в моем видении!.. Что значила пышная красота баронессы перед неземной www.franklang.ru 110 прелестью Аврелии! Я видел только ее одну, все вокруг померкло для меня. Присутствующие заметили мое смятение». Гофман, создавал свой роман «Эликсиры дьявола» по следам и под влиянием готического романа Льюиса «Монах» (1796): «— Матильда! — сказал он взволнованным голосом. — О моя Матильда! Она вздрогнула и быстро обернулась к нему. Это внезапное движение сбросило капюшон с ее головы, и ее лицо открылось вопрошающему взгляду монаха. С каким же изумлением он узрел точное подобие своей Мадонны! Те же безупречные черты, та же пышность золотых волос, те же алые губы, небесные глаза и то же величие — вот каким было дивное лицо Матильды. Вскрикнув от удивления, Амбросио вновь упал на подушки, не зная, видит ли он перед собой смертную или небожительницу». «Видит ли он перед собой смертную или небожительницу» — ключевой вопрос. Небожительницу, видимо, можно увидеть только в виде изображения. А тут изображение словно оживает. Человек эпохи Просвещения был уверен в рациональности и познаваемости мира. Так сказать, нужно лишь добавлять новые материалы в Энциклопедию — и все будет хорошо. Однако пришел Иммануил Кант и объяснил, что познавать мы можем только то, что нам позволяет наша, так сказать, «познавалка». И нам никогда не добраться до «вещей в себе». Такой подход необыкновенно удобен для научных занятий, но человек как художник им удовлетвориться не может. И вот он (художник) говорит: «Ну хорошо, мы не можем добраться до «вещей в себе», но что если природа — живая? И не в смысле органической жизни растений и животных, а в широком смысле: за миром, как за занавесом или покрывалом, находится живое существо, которое видит конкретного человека и может обращаться к нему при помощи знаков?» И тогда «вещи в себе» могут стать «знаками для нас». Сами мы не можем до них добраться, но они могут быть нам подарены, если мы согласимся с Тютчевым: www.franklang.ru 111 Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык... Романтики (немецкие, английские, французские) условно отождествили это живое существо, находящееся за покрывалом мира, с египетской богиней Изидой — и неоднократно описывали ее им явление. Именно в этом смысл оживающей картины или статуи. Примечательно, что у романтиков подчеркнута такая черта Изиды, как ее особый взгляд. Богиня не видна, однако присутствует ее взгляд. Например, в повести Гофмана «Стихийный дух» мы читаем: «— <…> Как вдруг в глубину души моей проник, точно молния, чей-то взгляд... — Как, — вскричал Альберт, — взгляд без каких-либо глаз? И ты ничего не видел при этом? Это опять нечто вроде видéния без образа! — Ты можешь считать это непостижимым, — продолжал Виктор, — что делать? Но никакого видéния, ничего я не видел и, однако, почувствовал, что на меня устремлен взгляд…» Изида — великая богиня-мать, хранительница всего живого. Потому не случайно ее явление в животной (например, лошадиной) ипостаси у русских писателей и поэтов. И в Древнем Египте она и ее сестра Нефтида могли представать в облике двух газелей, хранящих горизонт. В дальнейшем Изида становится «Прекрасной Дамой» русского символизма, блоковской незнакомкой, которая одновременно есть и женщина мечты, и богиня, и Муза, и Россия. И даже может обернуться «степной кобылицей». И может быть погублена, как, например, в стихотворении «На железной дороге»: www.franklang.ru 112 Под насыпью, во рву некошеном Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая. Да, это все та же Анна Каренина, все та же Настасья Филипповна. «Смотрит, как живая». «Это была не картина, а живая прелестная женщина…» Кадр из фильма «Анна Каренина». 1914 год Примечателен и взгляд Прекрасной Дамы (например, в стихотворении «Незнакомка») — словно оторванный от тела5: И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу. Сравните с глазами куклы Олимпии в рассказе Гофмана «Песочный человек»: «И тут Натанаэль увидел на полу кровавые глаза, устремившие на него неподвижный взор…» 5 www.franklang.ru 113 Любопытно прослеживать, что откуда и куда перешло. Однако, как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой, художник может «вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе». И тогда невольно и неизбежно оживает древний миф. Брюнхильда со своим конем Гране. Рихард Вагнер. Кольцо нибелунга (1848— 1874 годы). В роли Брюнхильды — австрийская певица Амалия Матерна (первая исполнительница этой роли) www.franklang.ru 114 Приведу еще один пример этого оживающего мифа. В повести Михаила Пришвина «Корень жизни» (1933) рассказчику является «олень-цветок Хуалу, воплощенная в женщине»: «Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза — не глаза, а совсем как цветок,— и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит — олень-цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась. Трудно сказать, сколько времени мы смотрели друг другу в глаза,— кажется, очень долго!» «Во мне боролись два человека. Один говорил: «Упустишь мгновенье, никогда оно тебе не возвратится, и ты вечно будешь о нем тосковать. Скорей же хватай, держи, и у тебя будет самка Хуа-лу, самого красивого в мире животного». Другой голос говорил: «Сиди смирно! Прекрасное мгновенье можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками». Это было точно как в сказке, когда охотник прицелился в лебедя — и вдруг слышит мольбу не стрелять ее, подождать. И потом оказывается, что в лебеди была царевна, охотник удержался, и вместо мертвого лебедя потом перед ним явилась живая прекрасная царевна. Так я боролся с собой и не дышал. Но какой ценой мне то давалось, чего мне стоила эта борьба!» «У самого моря из песка, будто спина окаменелого чудовища, виднелось полузанесенное песком огромное дерево; от вершины его остались два громадных сука, и они торчали черные, узловатые, рассекая до горизонта голубое небо. На малых ветвях этого дерева висели белые круглые хорошенькие коробочки, — это были выброшенные тайфунами скелеты морских ежей. Какая-то женщина сидела спиной ко мне и собирала себе в www.franklang.ru 115 баульчик эти подарки моря. Вероятно, я был еще под сильным влиянием грациозного животного возле дерева, опутанного виноградом, что-то в этой незнакомой мне женщине напомнило мне Хуа-лу, и я был уверен, что вот сейчас, как только она обернется, я увижу те прекрасные глаза на лице человека. Я и сейчас не могу понять, из чего это выходило и складывалось, ведь если мерить, рисовать, то будет совсем не похоже, но мне было так, что вот, как только она обернется, непременно явится передо мной оленьцветок Хуа-лу, воплощенная в женщине. И дальше, как бы в ответ моему предчувствию, как в сказке о царевне-лебеди, началось превращение. Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуа-лу, что все остальное оленье — шерсть, черные губы, сторожкие уши — переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды и красоты. Она глядела на меня настороженная, удивленная, казалось — вот-вот топнет на меня, как олень, и убежит. Сколько разных чувств проходит во мне, сколько мыслей туманом проносится, и в них как будто каких-то решений в мире неясного и непонятного, но слов, совершенно правдивых и верных, я и сейчас не найду и не знаю, придет ли в этом когда-нибудь час моего освобождения. Да, я так бы и сказал, что скорей всего слово свобода будет самое близкое название тому особенному состоянию, когда, поняв красоту необыкновенного зверя, я вдруг получил возможность продолжать это бесконечно далеко в человеке. Было — как будто я из тесного распадка вышел на долину Зусухэ, покрытую цветами, с бесконечным продолжением ее в голубой океан. И вот еще самое главное: было два человека. Когда Хуа-лу просунула мне копытца через виноградные сплетения, один был охотник, назначенный схватить ее сильными руками повыше копыт, и другой — неизвестный еще мне человек, сохраняющий мгновение в замирающем сердце на веки веков». www.franklang.ru 116 Тень от шпаги Двойник-убийца и двойник-спаситель в литературном произведении Главы Двойник подмигивает Тень от шпаги Очки Гумберта Гумберта Негр попадает под трамвай Будем товарищами Некоторый третий Русская игрушка Чернобыльник Озерный старец Глиняный монгол Faust. … Eile und morde. Sei der Pfeil meiner Rache!... Teufel. Faust, ich gehorche… Friedrich Maximilian Klinger, Faust's Leben, Thaten und Höllenfahrt6 Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: 6 Из романа Фридриха Максимилиана Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад»: Фауст. Поспеши и убей. Будь стрелой моей мести!.. Черт. Фауст, я повинуюсь… www.franklang.ru 117 любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну. Михаил Лермонтов. Штосс Легкомысленно играл я тайными силами, и вот теперь моя дурная воля, направленная невидимой рукой, достигла своей цели и поразила меня прямо в сердце. Август Стриндберг. Inferno Двойник подмигивает Речь пойдет о литературе, но не только. Поэтому расскажу вам сначала одну реальную историю. Сразу после первого издания моей книги «Прыжок через быка», посвященной «Хозяйке зверей» (она же Муза, она же Прекрасная Дама, она же Изида) и териоморфному, то есть звероподобному, звериному двойнику в литературе (двойнику-антиподу, помогающему герою либо губящему его), я встретился с одним философом и писателем (который также написал книгу о двойниках), чтобы подарить ему экземпляр. Он пригласил меня в кафе, мы обменялись книжками и добрыми словами (на меня произвел сильное впечатление один его рассказ, который я прочел перед нашей встречей, а он оказался давним поклонником книг по моему методу чтения на иностранных языках, особенно гётевского «Фауста»). www.franklang.ru 118 Фауст. Гравюра Рембрандта Мы стали говорить о двойниках, и я высказал две свои мысли. Во-первых, двойник-антипод может представлять собой не только злое начало (как двойник Христа Антихрист), но и доброе (как двойник Христа Иоанн Креститель). Во-вторых, двойник не есть воспринимающееся как нечто реальное и потому влияющее на дальнейший ход событий порождение нашего сознания, но есть реальное, отдельное от человека, хотя и связанное с ним существо. С первым философ согласился, а со вторым нет. www.franklang.ru 119 Когда мы встали из-за стола и собирались уже уходить, философа поманил один пожилой человек, сидевший за другим столиком. Я подумал, что это кто-то из его знакомых. Философ подошел к нему и некоторое время разговаривал. Когда мы вышли из кафе, он сказал: «Очень странная вещь. Этот господин спросил меня: — Вы Михаил Илларионович? — Да. — Мы с вами где-то встречались, только не помню, где именно. — И я не помню. Мне кажется, мы незнакомы. — А я вас знаю, как видите. Может быть, мы виделись в милиции? — Нет-нет, это совершенно невозможно! Я не бываю в милиции! И так далее. Очень странная вещь». На что я сказал: «Ну, вот видите, у вас есть двойник. Вполне реальный». (На самом деле философа зовут не Михаил Илларионович, но и не, скажем, Николай Васильевич или Александр Сергеевич. У него довольно нетипичное отчество.) Я не стал говорить философу, что эта странная история произошла по моему заказу. Если отбросить мысль о моем безумии как непродуктивную, то возникает вопрос: как я смог все это устроить? Сразу приходят на ум два варианта: гипноз или розыгрыш. Я мог телепатировать господину за другим столиком имя философа и далее с помощью гипноза направить его действия. Или же я мог нанять актера. Есть даже фирмы, организующие подобные розыгрыши. В них иногда участвует множество статистов, например, весь персонал кафе и все люди, там находящиеся. Понятно, сколько такое может стоить. Я не потяну даже одного актера. Что касается телепатии и гипноза, то у меня нет таких способностей (никогда за собой ничего подобного не замечал). Но у меня есть другая способность: способность влиять на какую-либо ситуацию подспудно, одним своим желанием, без своего непосредственного участия. Влиять благодаря моей связи с моим двойником. Потому что с www.franklang.ru 120 помощью двойника иногда получается сделать так, чтобы внешний мир совпал с твоим внутренним миром, получается осуществить tat tvam asi7. Я на самом деле могу вызвать из себя, из своего внутреннего мира какуюлибо внешнюю ситуацию. Однако при этом я не знаю, как именно все будет организовано. Про человека за другим столиком я ничего не знал. И не знал, о чем с ним говорил философ, пока мне об этом не было рассказано на улице. Я просто захотел, чтобы двойник дал о себе знать, чтобы он подмигнул. Я словно бы передал свой заказ в некую невидимую фирму, которая занимается организацией розыгрышей. И которую, видимо, возглавляет некто по имени Мефистофель. (Это шутка, хотя интересно по ходу разговора отметить, что Мефистофель — типичный звериный двойник. Он появляется из пуделя и устраивает судьбу героя.) Самое же интересное в подобном влиянии на судьбу вот что. Господин за другим столиком пришел в кафе не по моей воле, а сам по себе. Мы сидели за разными столиками, пили, ели, разговаривали. А потом у меня вдруг возникает желание проиллюстрировать философу реальность двойничества. И господин за другим столиком оказывается орудием выполнения моего желания. Как такое может быть? Словно этого господина произвели в нужный мне момент — будто документ, написанный задним числом. Это, конечно, странно, даже жутко. Однако не так ли вообще происходит творчество? Не так ли, например, Микеланджело ваял статую? Статуя уже была готова, существовала до того, как он начинал работу: ему оставалось лишь ее освободить. Не верите? Вот и Вагнер не верил Фаусту (и имел на то, конечно, полное право, потому что берег свою психику): Фауст Заметил, черный пес бежит по пашне? tat tvam asi — «то ты еси», это есть ты — «великое изречение» индуистов, смысл которого: все, что ты видишь и чувствуешь в мире, — это ты. Ты и есть этот мир. 7 www.franklang.ru 121 Вагнер Давно заметил. Что же из того? Фауст Кто он? Ты в нем не видишь ничего? Вагнер Обыкновенный пудель, пес лохматый, Своих хозяев ищет по следам. Фауст Кругами, сокращая их охваты, Все ближе подбирается он к нам. И, если я не ошибаюсь, пламя За ним змеится по земле полян. Вагнер Не вижу. Просто пудель перед нами, А этот след — оптический обман. Фауст Как он плетет вкруг нас свои извивы! Магический их смысл не так-то прост. Вагнер Не замечаю. Просто пес трусливый, Чужих завидев, поджимает хвост8. Тень от шпаги Как богиня Луны является Маргарита в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: 8 Перевод Бориса Пастернака. www.franklang.ru 122 «Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это — номер сто восемнадцатый, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает: — Так, стало быть, этим и кончилось? — Этим и кончилось, мой ученик, — отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит: — Конечно, этим. Все кончилось и все кончается... И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо. Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне». Не случайно Маргарита бездетна, как Диана. Роман вообще пронизан лунным светом. И даже цвет цветов, с которыми Маргариту впервые видит мастер, — лунный. Они выделяются на фоне ее пальто, как луна на ночном небе: «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто». Луна отражает свет Солнца. Мифически, художественно Луна является двойником-антиподом Солнца. Двойниками-антиподами являются и сами глаза Маргариты: «Что же нужно было этой женщине?! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно». www.franklang.ru 123 Интересно, что даже очки, появляющиеся в первых же строках романа, подчеркивают роковое двойничество, являются как бы «пустыми двойниками», то есть воплощенным образом самого литературного приема: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках». А затем эти «сверхъестественные» очки «отражаются» в пенсне Коровьева: «Теперь регент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло». Но это все цветочки, перейдем к ягодкам. В начале романа происходит «отвратительное, тревожное» событие — отрезают голову литератору Берлиозу («Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала»). А читателю хоть и жутко, но как-то весело. Разберемся в этом несчастном случае, который в то же время является убийством. Как был убит Берлиоз? 1) Его столкнули под трамвай? 2) Он был загипнотизирован, то есть «запрограммирован» так, что свалился под трамвай? 3) Или его, что называется, «сглазили»? Представим себе: идет по дороге человек. Некий злодей стоит чуть поодаль и хочет убить идущего. Он может сделать это тремя основными способами. Во-первых, прямым насилием (которое, конечно, включает в себя множество вариантов). Например, подбежать к идущему человеку и пырнуть его ножом. В романе Булгакова такое прямое насилие выражено в версии, что Берлиоза толкнули под трамвай. Версия эта сразу разоблачается как несостоятельная: www.franklang.ru 124 «Рюхину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснить. — Секретаря МАССОЛИТа Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарших. — Не ври ты, чего не знаешь! — рассердился на Рюхина Иван, — я, а не ты был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил! — Толкнул? — Да при чем здесь "толкнул"? — сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван, — такому и толкать не надо! Он такие штуки может выделывать, что только держись! Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай!» Во-вторых, убийство может быть совершено неким духовным воздействием, бесконтактным насилием. Например, злодей на расстоянии, усилием воли, заставляет идущего упасть и разбить голову. В романе этому второму способу соответствует версия о гипнозе: «Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до того истока, от которого пошли все события. Следователь не сомневался в том, что эти события начались с убийства на Патриарших. Конечно, ни Иванушка, ни этот клетчатый не толкали под трамвай несчастного председателя МАССОЛИТа, физически, так сказать, его падению под колеса не способствовал никто. Но следователь был уверен в том, что Берлиоз бросился под трамвай (или свалился под него), будучи загипнотизированным». Такова версия милиции, но она отвергается мастером (и, конечно, читатель с самого начала понимает, что гипноз тут ни при чем): «От этого самого коньяку у мастера зашумело в голове, и он стал думать: "Нет, Маргарита права! Конечно, передо мной сидит посланник дьявола. Ведь я же сам не далее как ночью позавчера доказывал Ивану о том, что тот встретил на Патриарших именно сатану, а теперь почему-то www.franklang.ru 125 испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях. Какие тут к черту гипнотизеры!"» Итак, помимо двух вышеназванных, есть третий способ (как злодею, стоящему на обочине, убить человека, идущего по дороге). И для него не надо быть гипнотизером или экстрасенсом. Нужно быть всего-навсего волшебником, если хотите, колдуном. Колдун провожает человека взглядом, загадывает желание о его гибели — и вдруг видит, как из-за поворота вылетает автомобиль и сбивает идущего. (Волшебник может оказаться и добрым. Тогда, например, из-за поворота выйдет друг идущего, которого тот не видел сто лет. Или идущий нагнется и поднимет с дороги сто евро.) Возможен ли третий способ воздействия вообще? Возможен — с помощью двойника. Кадр из фильма Стеллана Рийе и Пауля Вегенера «Пражский студент» (1913). Студент Балдуин видит своего двойника. Этот двойник был www.franklang.ru 126 простым отражением в зеркале, но таинственный итальянец Скапинелли (этакое перерождение гофмановского Копполы) — в черном плаще, цилиндре, с палочкой и, конечно, в очках — вывел его из зеркала и забрал с собой. В дальнейшем двойник убивает соперника Балдуина (но против воли — сознательной воли! — самого студента) на дуэли (зарубив саблей). Примечательна сцена, где мы видим Балдуина и его двойника играющими в карты. А также сцена, где Прекрасная Дама (Маргит) и ее зеркало оказываются между студентом и его двойником В романе Михаила Булгакова целая система двойников, мы рассмотрим лишь ту линию, что связана с убийством литературного босса. Это именно линия, потому что и Берлиоз, и Воланд — двойники-антиподы как мастера, так и самого Михаила Булгакова. (И в этом ключе становится не случаен номер мастера в клинике: «номер сто восемнадцатый», 118, в котором мы видим двойников и знак бесконечности, сам также двойственный.) Посмотрим на Берлиоза. Михаил Булгаков ↔ Михаил Берлиоз. Совпадают инициалы, совпадают имена. Кроме того, у Берлиоза — артистическая фамилия (фамилия французского композитора Эктора Берлиоза, автора «Фантастической симфонии»). Фамилия подлинного художника, каковым является, конечно, и Булгаков. Потому двойники. Но и антиподы, так как фамилия истинного художника как раз подчеркивает бездарность Михаила Берлиоза и кричит о том, что тот занимает не свое место. О том, что его надо убрать. Посмотрим на Воланда. Мастер ↔ Воланд. Не помню кем, но было справедливо замечено, что латинская буква W в имени Woland есть перевернутая русская буква М, вышитая Маргаритой на шапочке мастера: «поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово "профессор" и начальную букву фамилии — двойное "В"». Да и само начертание как латинской буквы W, так и русской буквы М выражает www.franklang.ru 127 двойничество. Воланд — Тень мастера («Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ».) Подобный переход мастера в свою Тень есть и в «Театральном романе». Писателю Максудову снится, что он в XV веке — и при этом подозрительно похож на оперного Мефистофеля: «Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое. Громадный зал во дворце, и будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико, словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям. Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время». Тут стоит обратить внимание и на смех, который может быть одной из примет беса, и на кинжал (жертвенный нож — одна из примет двойника). Воланд вызван к жизни мастером, которому до чертиков надоела советская действительность. (Воланд в наличии, а где же тут Фауст? Как ни странно, этот мастер-писатель, столь, казалось бы, безобидный, и есть тутошний Фауст9.) Мастер хочет, чтобы можно было воздействовать на действительность так же, как он может воздействовать на обстоятельства и персонажей текста, который он пишет и перекраивает в соответствии с художественной правдой. Мастер желает получить возможность воздействовать художественно на саму жизнь. Для этого ему нужен Воланд. И это, конечно, составляет главный смысл, основной интерес, причину Интересное совпадение «Мастера и Маргариты» с романом Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (1790): Фауст поручает черту одного негодяя убить, а другого забросить подальше (правда, не в Ялту, а в пески Ливии). 9 www.franklang.ru 128 привлекательности романа для читателя. Читатель сорадуется автору, когда действительность удается чудесным образом менять. И первым делом, в самом начале романа, мастер убивает своего двойникаантипода литератора Берлиоза при помощи своего двойника-антипода Воланда. Сам мастер, видимо, мало думает о Берлиозе. Однако Михаил Берлиоз является неким воплощением узурпатора литературы, неким сборным лицом (кто бы ни был его прототипом) — вот по нему и шарахнуло. Берлиоз словно убит подспудной творческой волей. Он как будто оказался в зоне высокого напряжения — и оттого погиб. Тут есть один момент, на котором остановимся подробнее. Как вы хорошо помните, Берлиоз встречает Воланда на Патриарших прудах. Между ними возникает спор о том, «кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле». И Воланд предсказывает литератору его судьбу: «Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец: — Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. "Какая-то нелепая постановка вопроса..." — помыслил Берлиоз и возразил: — Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич... — Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью. — Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор, — и скажете мне? — Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то www.franklang.ru 129 вроде: "Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семь..." — и громко и радостно объявил: — Вам отрежут голову! Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись: — А кто именно? Враги? Интервенты? — Нет, — ответил собеседник, — русская женщина, комсомолка. — Гм... — промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, — ну, это, извините, маловероятно. — Прошу и меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет? — Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать. — Нет, этого быть никак не может, — твердо возразил иностранец. — Это почему? — Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится. Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание». Воланд сначала не знает, какой именно смертью умрет Берлиоз. Но так как Берлиоз со своим насмешливым предположением о кирпиче ему противен, он (неожиданно сам для себя — так сказать, лишь бы возразить) решает, что пусть литератор умрет какой-либо совершенно оригинальной смертью. А иначе зачем бы он «смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм», и занялся сопоставлениями и вычислениями? До этого Воланд, угадав желание Берлиоза (прочитав мысли литератора — здесь «обычная» телепатия, экстрасенсорика) съездить в Кисловодск отдохнуть, для примера www.franklang.ru 130 уже говорил о смерти от трамвая, оттого и «подогнал» затем всё под этот художественно удачный пример (да еще усилил художественность образом отрезанной головы): «Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? — Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос. — Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? <…> А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет — поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком». Обратите внимание на этот смех. Помните: «Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям». Желание «иностранца» в самом скором времени, как мы знаем, исполняется: Берлиоз поскальзывается на разлитом Аннушкой масле, попадает под трамвай и лишается головы. Фокус же в том, что желание Воланда «управиться» с литератором возникает уже после разлития масла Аннушкой. Масло оказывается разлитым по желанию Воланда, однако до самого желания. Воплощение желаемого до самого желания, конечно, странно, даже жутко. Однако не так ли, например, пишется стихотворение? Жизнь словно www.franklang.ru 131 надевает костюм, сшитый ей Воландом по заказу мастера-автора. Мастер — вдохновенный поэт (и в данном случае вдохновение это — темное), Воланд — его Муза. Мастер лишь «заказал» Берлиоза Воланду, и подробностей выполнения заказа он не знает. Воланд — сатана. Но кто такой сатана? Может быть, это всего-навсего злой двойник? Черт — частный случай злого двойника: в таком виде злой двойник-антипод является христианскому сознанию10. При этом примечательно, что рога черта подчеркивают двойничество, а его козлиный вид говорит о том, что он — звериный двойник. Вернемся к нашему примеру с идущим по дороге человеком. Его сбивает вынырнувшая из-за угла машина. Допустим, водителю машины утром позвонили и сообщили, что его бабушке очень плохо. Он мчится ее проведать. Допустим, колдун увидал идущего по дороге человека только сейчас. И пожелал его гибели. Он еще не знает, как будет осуществлена гибель. Но он ощущает, что — как бы с обратной стороны жизни, с другой стороны мира — на него пристально смотрят глаза Воланда, готового принять заказ. И он пристально смотрит через идущего человека прямо в глаза своего двойника-антипода. И идущий человек, попав на линию между глядящими друг другу в глаза двойниками, гибнет. (Это, кстати сказать, и есть то, что называют «сглазом». И для данной процедуры совсем не обязательно видеть жертву или находиться близко к ней, достаточно ее себе представить.) И заказ выполняется — благодаря обстоятельствам, которые сложились до того, как заказ был сделан! Чтобы оказывать решающее подспудное воздействие на мир, на судьбу, нужно иметь помощника, действующего с другой стороны. Сравним это с кистью руки, которая может что-то схватить благодаря противопоставленности большого пальца остальным. Человек — большой Так Иван Карамазов говорит черту: «…ты — я, сам я, только с другою рожей». Иными словами: ты двойник, хотя и антипод. 10 www.franklang.ru 132 палец, а с другой стороны действует, помогая ему, двойник, который сам при этом двоится и множится, постепенно охватывая всё. Интересна в смысле двойничества и жуткая сцена, в которой Воланд разговаривает с ожившей головой Берлиоза, лежащей на блюде (и двойник, которому отрезают голову, и оживающий мертвец — типичные двойникиантиподы11): «Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее. Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами. <…> — Михаил Александрович, — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. — Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы, — голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие. — Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и Примечательно, что в «Трагической истории доктора Фауста» Кристофера Марло (1589) Фаусту отрезают голову и отрывают ногу (но он остается при этом невредим, так как голова и нога были ненастоящие). 11 www.franklang.ru 133 жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка черепа откинулась на шарнире». Очки Гумберта Гумберта В рассказе Пушкина «Гробовщик» к гробовщику Адрияну Прохорову приходят (в сновидении) его клиенты-мертвецы, приглашенные им на новоселье. Один из них — оставной сержант Курилкин: «В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адрияну. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия — но Адриян, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адрияну с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств». Двойника-антипода, пытающегося обняться (то есть как-то совпасть с героем, что ему и удается в конечном счете) зовут Петр Петрович. Само имя может отражать двойничество: Антон Антонович СквозникДмухановский — городничий из «Ревизора» Гоголя (двойническое имя здесь подчеркивается и тавтологической фамилией), Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели», Максим Максимыч из «Героя нашего времени» www.franklang.ru 134 Лермонтова (так сказать, крестный отец всего повествования), Антон Антонович (столоначальник раздвоившегося Голядкина) из повести Достоевского «Двойник», Павел Павлович из повести Достоевского «Вечный муж», Аполлон Аполлонович из романа «Петербург» Андрея Белого12, Арчибальд Арчибальдович из романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. (Вспомним также Филиппа Филипповича Преображенского и Полиграфа Полиграфовича Шарикова из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».) Некоторые пары людей, удивительно похожих друг на друга, могут подчеркивать центральное двойничество произведения (как бы пересекая под прямым углом его основную линию), то есть представлять собой «пустых двойников». Таковы, например, помещики Бобчинский и Добчинский в «Ревизоре»13, двое писаришек в «Преступлении и наказании», явившиеся Свидригайлову перед его самоубийством14, помощники К. из романа Кафки «Замок»15 и т.п.). Иногда двойников не отличить, но подчас они обладают некоторой противоположностью на фоне общей похожести — чтобы подчеркнуть, что речь идет не просто о двойниках, а о двойникахантиподах16. А также Павел Павлович Тодрабе-Граабен из романа Андрея Белого «Серебряный голубь» — один из двойников Петра Петровича Дарьяльского. Тут, помимо тавтологического имени, примечательна и фамилия, две части которой не идентичны, но перекликаются, являясь тем самым двойниками-антиподами. 13 «Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского». 14 «С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами: у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконец, в какойто увеселительный сад, где он заплатил за них и за вход». 15 «По дороге от Замка шли два молодых человека среднего роста, оба очень стройные, в облегающих костюмах и даже лицом очень похожие. Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки такой черноты, что выделялись даже на смуглых лицах. Несмотря на трудную дорогу, они шли удивительно быстро, выбрасывая в такт стройные ноги». 16 В этом смысле интересны «два русские мужика», повстречавшиеся Чичикову в начале поэмы «Мертвые души». То, что они не просто двойники, а двойники-антиподы, явлено не в их внешности, а в содержании их разговора по поводу брички Чичикова (доедет — не доедет): «Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. "Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" — "Доедет", — отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" — "В Казань не доедет", — отвечал другой. Этим разговор и кончился». 12 www.franklang.ru 135 Однако «пустыми двойниками» могут выступать и парные вещи (очки, рога и т. д.), и двойное имя героя. Особенно забавно, когда двойное имя сочетается в тексте с двойными вещами — как бы порождает их из себя. Так, например, происходит в начале «Ревизора», когда Антон Антонович рассказывает свой сон: «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь». Павел Павлович из повести «Вечный муж» — двойник главного героя, Вельчанинова. Это основная линия двойничества в повести. А вот отрывок, в котором удачно (для нашего рассказа) встречаются две пары «пустых двойников» — имя героя и рога: «И Павел Павлович вдруг, совсем неожиданно, сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел как бы при виде какого-то призрака». Вот отрывок из романа «Петербург», в котором сразу после двойного имени появляются две детские головки: «Аполлон Аполлонович подошел к окну: две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка. И головки там в окнах пропали». Здесь двойничество подчеркивается также тем, что Аполлон Аполлонович смотрит в окно — и вместо того, чтобы сказать, что он увидел детские головки, автор говорит, что две детские головки увидели его. Потому что эти две детские головки — это он сам, Аполлон Аполлонович. Это он сам себя, старика, видит с их помощью. Недаром головки затем пропадают. Двойник сделал свое дело — и исчез. И недаром повторяются дважды слова «там стоящего дома», сказанные о разных, противопоставленных друг другу www.franklang.ru 136 домах. Из-за этого повтора как раз получается, что дом — один. (У вас голова не кружится? Должна кружиться.) Кроме того, хотя у Аполлона Аполлоновича нет ни очков, ни явных рогов, у него есть «два разительных уха» (недаром его фамилия — Аблеухов). Возьмем теперь для примера Арчибальда Арчибальдовича, заведующего рестораном в «доме Грибоедова», «флибустьера». Когда в «Грибоедов» приходит «неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот» и он приказывает их пропустить, обслуживает их, а затем покидает «Грибоедов» с двумя балыками под мышкой, связь его с «пустыми двойниками» выходит на поверхность. Двойничество же тех двух шутов подчеркивает их перекрестная запись в книге посетителей «дома Грибоедова»: «И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки: — Пропустите, Софья Павловна. Гражданка с книгой изумилась; в зелени трельяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флибустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и, даже более того, делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью, серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева: — Как ваша фамилия? — Панаев, — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на Бегемота. — Скабичевский, — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против Панаева написал "Скабичевский", а Бегемот против Скабичевского написал "Панаев". Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в www.franklang.ru 137 одном из прорезов трельяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге. <…> Передний крикнул звонко и страшно: — Ни с места! — и тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. <…> Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке, с двумя балыковыми бревнами под мышкой». Любопытно (в смысле «пустого двойничества») и имя Гумберт Гумберт в романе Владимира Набокова «Лолита». Автор сам раскрывает его неслучайность: «Причудливый псевдоним их автора (то есть автора «этих примечательных записок». — И.Ф.) — его собственное измышление; и само собой разумеется, что эта маска — сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза — должна была остаться на месте согласно желанию ее носителя». Мы видим здесь маску и горящий взгляд — существенные признаки двойника. Затем маска и взгляд обретают самостоятельность, превратившись, например, в темные очки, лежащие на пляже: «Фотография была снята в последний день нашего рокового лета, всего за несколько минут до нашей второй и последней попытки обмануть судьбу. Под каким-то крайне прозрачным предлогом (другого шанса не предвиделось, и уже ничто не имело значения) мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные www.franklang.ru 138 очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков — морской дед и его братец — вышли из воды с возгласами непристойного ободрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу». Темный горящий взгляд отделяется от героя, становится взглядом, живущим в тексте самостоятельно, становится взглядом текста. Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари» (1920 года), режиссер Роберт Вине. Вы видите доктора Калигари и сомнамбулу Чезаре. Чезаре, находясь постоянно в бессознательном состоянии, по воле доктора совершает убийства (закалывая свои жертвы длинным ножом). Обратите внимание на очки доктора и на его имя, указывающее на двойничество — на наличие двойника-антипода, двойника-Тени (Кали — Гари). Примечателен также www.franklang.ru 139 одноглазый (однооконный) — как бы подмигивающий — фургон доктора. Причем за этим окном как раз и расположен ящик с Чезаре Отдельно существующий взгляд становится взглядом «Мак-Фатума» (определение Набокова), помогающего герою. Сначала помогает ему, но затем все у него отнимет, превратившись в «Мак-Ку», в Клэра Куильти, в К.К., в «братца», то есть в воплотившегося двойника. Вот, кстати, последняя схватка Г.Г. с К.К. — «в обнимку», столь типичная для двойников (как типична и гибель второго из них): «Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру, в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя». www.franklang.ru 140 Похожее «перекатывание» мы уже наблюдали, когда вместе с Аполлоном Аполлоновичем смотрели на две детские головки в противоположном окне. Обратите внимание и на козла — признак звериного двойника-антипода, двойника-чёрта. Важным признаком двойничества является и вращениекружение. Очки неоднократно всплывают в «Лолите», например: «Решил, что буду разговаривать только с ней, но в благоприятную минуту скажу, что оставил часики или темные очки вон там в перелеске — и немедленно углублюсь в чащу с моей нимфеткой. Тут явь стушевалась, и поход за очками на Очковом озере превратился в тихую маленькую оргию…» Очки — символ вообще всяческих двойственностей, двоек и дублей, включая и набоковские каламбуры. Вот в чем их смысл, кстати! «Откуда, из каких глубин этот вздор-повтор?» И в повести Достоевского «Вечный муж» нашлось место каламбурам. Их любит как Вельчанинов, так и Павел Павлович: «Кончилось тем, что Павел Павлович наконец не выдержал: увлекшись соревнованием, он вдруг задумал тоже сказать какой-нибудь каламбур и сказал: на конце стола, где он сидел подле m-me Захлебининой, послышался вдруг громкий смех обрадовавшихся девиц. — Папаша, папаша! Павел Павлович тоже каламбур сказал, — кричали две средние Захлебинины в один голос, — он говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться…». — А, и он каламбурит! Ну, какой же он сказал каламбур? — степенным голосом отозвался старик, покровительственно обращаясь к Павлу Павловичу и заранее улыбаясь ожидаемому каламбуру. — Да вот же он и говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться». — Д-да! Ну так что ж? — старик все еще не понимал и еще добродушнее улыбался в ожидании. — Ах, папаша, какой вы, не понимаете! Ну девицы и потом дивиться; девицы похоже на дивиться, девицы, на которых нужно дивиться… www.franklang.ru 141 — А-а-а! — озадаченно протянул старик. — Гм! Ну, — он в другой раз получше скажет! — и старик весело рассмеялся». Гумберт Гумберт каламбурит, Павел Павлович каламбурит, не отстает от них и Аполлон Аполлонович. Видимо, таково вообще свойство человека с именем-двойником: «Аполлон Аполлонович потер себе переносицу: лицо его просветилось улыбкой и стало вдруг старческим: — "Вы из крестьян?" — "Точно так-с!" — "Ну, так вы — знаете ли — барон". — "Борона у вас есть?" — "Борона была-с у родителя". — "Ну, вот видите, а еще говорите..." Аполлон Аполлонович, взяв цилиндр, прошел в открытую дверь». Или вот еще, совсем набоковское: «Кучка бумаг выскочила на поверхность: Аполлон Аполлонович, прицелившись к текущему деловому дню, обратился к чиновнику: — "Потрудитесь, Герман Германович, приготовить мне дело — то самое, как его..." — "Дело дьякона Зракова с приложением вещественных доказательств в виде клока бороды?" — "Нет, не это..." — "Помещика Пузова, за номером?.." — "Нет: дело об Ухтомских Ухабах..."» Возьмем роман Гончарова: каламбурит ли Илья Ильич Обломов? Еще как! Он каламбурит поневоле, причем не в речи, а в самой жизни, и каламбур этот решает его судьбу: «Обломов прослужил кое-как года два; может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина, но особенный случай заставил его ранее покинуть службу. www.franklang.ru 142 Он отправил однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск. Дело объяснилось; стали отыскивать виноватого…». А пошла вся эта каламбурная мистика с того момента, как Печорин из романа «Герой нашего времени» начал вести свои записки непосредственно после «дурного каламбура» — и начал их с записывания рассказа Максима Максимыча: «Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо "оказия" из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое "оказия"? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград». Каламбур, как и двойники вообще, связан с головокружением17: «Все падало на Сатурн; атмосфера за окнами темнела, чернела; все пришло в старинное, раскаленное состояние, расширяясь без меры, все тела не стали телами; все вертелось обратно — вертелось ужасно. — "Cela... tourne..."18 — в совершеннейшем ужасе заревел Николай Аполлонович, окончательно лишившийся тела, но этого не заметивший... — "Нет, Sa... tourne..."19» Сатурном своему сыну в данный момент представился Аполлон Аполлонович — его двойник (отец и сын в романе самим автором обозначены как двойники). А непосредственно перед этим Аполлон 17 И по той же причине закручиваются парадоксы в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (в романе о двойничестве). Они, как и каламбуры, сами суть двойники и нужны как качели — чтобы закружилась голова, чтобы изменилось сознание, чтобы можно было проникнуть (упасть) в глубины: «Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней». 18 Это... вертится... (фр.). 19 Игра слов: Сатурн / Это... вертится... (правильное написание: Çа... tourne...). www.franklang.ru 143 Аполлонович, заглянувший в кабинет сына, кажется тому каким-то сибирским богом-идолом: «Николаю Аполлоновичу чудилось, что из двери, стоя в безмерности, на него поглядели, что какая-то там просовывалась голова (стоило на нее поглядеть, как она исчезала): голова какого-то бога (Николай Аполлонович эту голову отнес бы к головам деревянных божков, каких встретите вы и поныне у северо-восточных народностей, искони населяющих тусклые тундры России)». После чего сын понимает, что они с отцом — оба «туранцы». Два одинаковых черных кружочка. Благодаря очкам Гумберта Гумберта роман «Лолита» двоится чуть ли не в каждом своем высказывании, это прямо какой-то гимн двойке! Дубли и близнецы бьют ключом, множась и разрастаясь: «Красный билетик, означающий штраф за незаконное паркование, был засунут полицейским под одну из лапок на ветровом стекле. Билетик этот я тщательно разорвал на две, четыре, восемь частей». И вы, конечно, заметили, как очки, оброненные на пляже, превратились в двух бородатых купальщиков, вышедших из воды. То есть как пассивное наблюдение за сценой сменилось активным вмешательством. Когда Шарлотта, жена Гумберта Гумберта, попадает под машину, он, подойдя к месту происшествия, видит, в частности, «двух полицейских и коренастого господина в роговых очках». «Господин в роговых очках» — водитель машины, сбившей Шарлотту. Г. Г. сразу понимает, что тут не несчастный случай, что Шарлотта «оказалась ликвидированной» по его заказу, который принял «Мак-Фатум» (тоже своего рода Сатурн, божок из тундры) — «помощник палача», явившийся герою в образе звероподобного автомобилиста в роговых очках: «Кстати, о навязчивых людях: ко мне явился еще один посетитель, любезный Биэль (тот самый, который ликвидировал мою жену). Солидный и серьезный, похожий как-то на помощника палача, своими бульдожьими www.franklang.ru 144 брылами, черными глазками, очками в тяжелой оправе и вывернутыми ноздрями. <…> Гладко начав с того, что у него двойня в одном классе с моей падчерицей, мой карикатурный гость развернул, как свиток, большую диаграмму, на которой им были нанесены все подробности катастрофы. Это был "восторг", как выразилась бы моя падчерица, со множеством внушительных стрелок и пунктирных линий, проведенных разного цвета чернилами. Траекторию г-жи Г. Г. он иллюстрировал серией маленьких силуэтов, вроде символических фигурок, кадровых участниц женского военно-подсобного корпуса, которыми пользуются для наглядности в статистике. Очень ясно и убедительно этот путь приходил в соприкосновение со смело начертанной извилиной, изображавшей два следующих друг за другом поворота, из которых один был совершен биэлевской машиной, чтобы избежать старьевщикова сеттера (не показанного на диаграмме), а второй, в преувеличенном виде повторяющий первый, имел целью предотвратить несчастие. Внушительный черный крестик отмечал место, где аккуратный маленький силуэт наконец лег на панель. <…> Карандаш Фредерика с точностью и легкостью колибри перелетал с одного пункта в другой, по мере того как он демонстрировал свою совершенную неповинность и безрассудную неосторожность моей жены: в ту секунду, когда он объехал собаку, Шарлотта поскользнулась на свежеполитом асфальте и упала вперед, меж тем как ей следовало бы отпрянуть назад (Фред показал, как именно, сильно дернув своим подбитым ватой плечом). Я сказал, что он, конечно, не виноват, и следствие подкрепило мое мнение. <…> В результате этого жутковатого свидания мое душевное онемение нашло на минуту некоторое разрешение. И немудрено! Я воочию увидел маклера судьбы. Я ощупал самую плоть судьбы — и ее бутафорское плечо. Произошла блистательная и чудовищная мутация, и вот что было ее www.franklang.ru 145 орудием. Среди сложных подробностей узора (спешащая домохозяйка, скользкая мостовая, вздорный пес, крутой спуск, большая машина, болван за рулем) я смутно различал собственный гнусный вклад. Кабы не глупость (или интуитивная гениальность!), по которой я сберег свой дневник, глазная влага, выделенная вследствие мстительного гнева и воспаленного самолюбия, не ослепила бы Шарлотту, когда она бросилась к почтовому ящику. Но даже и так ничего бы, может быть, не случилось, если бы безошибочный рок, синхронизатор-призрак, не смешал бы в своей реторте автомобиль, собаку, солнце, тень, влажность, слабость, силу, камень. Прощай, Марлена! Рукопожатие судьбы (увесисто воспроизведенное Биэлем при прощании) вывело меня из оцепенения. И тут я зарыдал. Господа и госпожи присяжные, я зарыдал!» Вот знаменитый кадр из фильма Хичкока «Незнакомцы в поезде» (Strangers on a train, 1951): Удушение женщины отражается в ее очках, упавших в траву. Они представляют собой воплощение бестелесного взгляда двойника-свидетеля. Потом они еще раз видны в фильме отдельно: их предъявляет главному герою фильма его двойник-антипод, убийца той женщины — жены героя. www.franklang.ru 146 В фильме имеет место невольный «заказ» убийства: герою была бы выгодна смерть жены, он, возможно, даже подспудно желает этого, а двойник — возьми да осуществи. И роковое двойничество подчеркнуто самой двойной формой очков. Негр попадает под трамвай Двойник-антипод — не только литературный прием, его вполне можно повстречать in real life. (И в этом-то все дело!) В очерке «Муни» (из книги «Некрополь», 1939) Ходасевич рассказывает о друге своей молодости, литераторе Самуиле Киссине (по прозвищу «Муни»). Муни покончил с собой. Из очерка мы понимаем, что самоубийство Муни было самоубийством двойническим, самоубийством по схеме «двойникантипод». Покончить с собой хотел Ходасевич, когда случайно обнаружил в письменном столе у брата револьвер, но приехал Муни и тем самым спас Ходасевича. А потом Муни обнаружил револьвер в письменном столе у своего сослуживца, но Ходасевич был далеко и не спас. Ходасевич сознает связь между этими случаями и сознает, что ее сознавал и Муни: «Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола и первое, что мне попалось на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону: — Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу. Муни приехал. В одном из писем с войны он писал мне: “Я слишком часто чувствую себя так, как — помнишь? — ты в пустой квартире у Михаила”. www.franklang.ru 147 Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: “наше” не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок». Стоит обратить внимание на подчеркивание двойничества ситуации «братом» (для Ходасевича) и «сослуживцем» (для Муни). А ведь это так было на самом деле! Что такое “наше”, о котором говорит Ходасевич, что именно «не забывалось»? Не забывалось двойническое восприятие жизни этими молодыми двойниками-антиподами. Любое явление превращалось для них в видéние, любое явление подлежало расшифровке. Все воспринималось по формуле символизма: A = B. А это и есть формула двойника-анипода. Наличие двойника-антипода порождает символическое вúдение мира (и наоборот). Ходасевич пишет: «Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно “открыли” друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною. <…> Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже не легко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет (непосредственно перед 1914 годом. — И.Ф.) было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначущим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, распыляясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире — и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было “то, да не то”. Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, www.franklang.ru 148 сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он не легко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий. Таким образом, жили мы в двух мирах. Но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, — мы только томились в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали как предвестия. Чего?» Далее в очерке мы читаем, как подобное мировосприятие порождает и натуральных двойников-антиподов: «Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В “лесу символов” мы терялись, на “качелях соответствий” нас укачивало. “Символический быт”, который мы создали, т. е. символизм, ставший для нас не только методом, но и просто (хоть это вовсе не просто!) образом жизни, — играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них, ради образчика. Мы с Муни сидели в ресторане “Прага”, зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубахе и в белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т. д. Казалось, это стоит один человек — перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись: — А вот и отражение пришло. www.franklang.ru 149 Мы стали следить. Стоящий спиною к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение — второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев, как мел. Потом успокоился и сказал: — Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается». И тут же мы читаем о двух случаях управления действительностью при помощи “заказа”: «В другой раз мы шли по Тверской. Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий. — Да, что там! Видишь, вон та коляска; У нее сейчас сломается задняя ось. Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такою же дамой. — Ну, что же? — сказал я. — Что-то не ломается. Коляска проехала еще сажен десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посредине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я насилу отговорил его. В тот же день, поздно вечером, мы шли по Неглинному проезду. С нами был В. Ф. Ахрамович, тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович шутя спросил Муни: — А заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде? — Попробуйте. www.franklang.ru 150 — Ну, так нельзя ли нам встретить Антика? (В. М. Антик был издателем желтых книжек “Универсальной Библиотеки”. Все трое мы в ней работали). — Что ж, пожалуйста, — сказал Муни. Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал извозчик. Поравнявшись с нами, седок снял шляпу и поклонился. Это был Антик. Муни сказал Ахрамовичу с укором: — Эх, вы! Не могли пожелать Мессию. Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, в неврастению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял: — Предвестия упраздняются. Он надевал синие очки, “чтобы не видеть лишнего”, и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развевающимся рецептом...» Муни сам себя воспринимал как двойника-антипода (хотя и не употреблял этого обозначения), как Тень: «А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпиграф: Другие дым, я тень от дыма, Я всем завидую, кто дым». Поставить к самому себе эпиграф из Бальмонта значит ощущать себя не человеком, а литературным персонажем. Что тоже говорит о двойничестве. Муни и в самом деле в какой-то момент создает себе двойника и старается перейти в него, видя в этом свое спасение. То есть Тень создает Тень Тени — в надежде тем самым (минус на минус дает плюс) пробиться в действительность, перестать быть двойником и стать героем: «В одном из его рассказов главный герой, Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает “довоплотиться” в спокойного и благополучного Перееславцева. Сперва это www.franklang.ru 151 ему удается, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Перееславцев убивает его. После одной тяжелой любовной истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича20 Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот — больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни “по причинам полицейского, паспортного порядка”. Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше». Но минус на минус почему-то не дает плюса, минусы множатся (двоятся, четверятся…): «Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши “смыслы” становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т. д.21 Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье». Заметьте также двойническое имя. В набоковской «Лолите»: «Красный билетик, означающий штраф за незаконное паркование, был засунут полицейским под одну из лапок на ветровом стекле. Билетик этот я тщательно разорвал на две, четыре, восемь частей». 20 21 www.franklang.ru 152 Самуил Киссин (Муни) (1885—1916) Выглядел Муни как типичный двойник-антипод (во всяком случае, в восприятии Ходасевича): «Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец». Здесь мы видим териоморфность двойника и даже, пожалуй, его связь с загробным миром (что-то в нем есть от Кащея Бессмертного). А вот Муни в виде негра (то есть в виде «восточного чужеземца», в котором совмещаются ипостаси «Чужой» и «Тень»): www.franklang.ru 153 «Муни написал две маленькие “трагедии” довольно дикого содержания. Одна называлась “Обуреваемый негр”. Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга: на Зимней Канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк-уок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же: “Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я обуреваем”. И еще: “Это-го ни-че-го не бу-дет”. В последнем действии на сцене изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине, за стеклом виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск, вагон останавливается. За сценою замешательство. Затем выходить театральный механик и заявляет: — Случилось несчастие. По ходу действия негр попадает под трамвай22. Но в нашем театре вce декораций устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно. В этой “трагедии” Муни предсказал собственную судьбу. Когда “события”, которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их “слишком реальными” декорациями». Двойник-антипод обычно погибает, это одна из его черт. Герой же ощущает свою вину: «…мы жили в такой внутренней близости, и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти». Будем товарищами Сравните: в стихотворении «Берлинское» Ходасевич, «проникая в жизнь чужую», видит в оконных стеклах «многоочитых трамваев» собственную отрубленную голову. 22 www.franklang.ru 154 В конце романа Владимира Набокова «Лолита» Гумберт Гумберт (Г. Г.) убивает своего двойника — Клэра Куильти (К. К.). Гумберт хотел просто застрелить Куильти, но не тут-то было. Убийство растягивается на целую главу, превращается в невероятный спектакль. Сначала мы наблюдаем, как Гумберт готовится к своей роли: «Меня преследовала мысль, что палач я неопытный и могу дать маху. Мне, например, подумалось, что, может быть, патроны в обойме выдохлись за неделю бездеятельности; я заменил их новенькими. Дружка я так основательно выкупал в масле, что теперь не мог избавиться от черной гадости. Я забинтовал его в тряпку, как искалеченный член, и употребил другую тряпку на то, чтобы запаковать горсть запасных пуль». Тут примечательно, что пистолет приравнивается к пенису. Затем Гумберт входит в дом Куильти: «Звонку моему ответствовала настороженная ироническая тишина. В открытом гараже, однако, по-хозяйски стоял автомобиль — на этот раз черная машина, похожая на лимузин гробовщика. <…> С нетерпеливым рычанием я толкнул дверь — и о, чудо! Она подалась, как в средневековой сказке». Тут мы видим, как Гумберт превращается в героя сказки. В сказке все идет по ее собственному волшебному плану. Все подготовлено, все подыгрывает убийце (и дверь гостеприимна, и гроб вроде уже подвезли). www.franklang.ru 155 Паоло Уччелло (1397—1475). Святой Георгий с драконом. А слева, кажется, Лолита. Дракон, между прочим, поражен в глаз (косоглазие или одноглазие — признак двойника-антипода). Заметьте, что и крылья дракона являются на картине двойниками-антиподами. Нижняя сторона крыла слева — с узором, отражающим цвета одежды Лолиты, верхняя сторона крыла справа — с узором, отражающим цвет брони и цвет коня героя. Дракон выступает здесь как звериный двойник героя. При этом он соединяет в себе черты как героя, так и Хозяйки зверей Далее какое-то время Гумберт бродит по дому, ища хозяина и попутно запирая все комнаты, чтобы лишить Куильти возможности в них укрыться: «Посему, в продолжение пяти минут по крайней мере, я ходил — в ясном помешательстве, безумно-спокойный, зачарованный и вдрызг пьяный www.franklang.ru 156 охотник, — и поворачивал ключи в замках, свободной рукой суя их в левый карман». «В ясном помешательстве» — хорошая, кстати, формула для художественного творчества. Затем двойники встречаются. Если Гумберт сильно пьян, то Куильти накачан наркотиками. В общем, он не очень замечает Гумберта: «Я собрался запереть третью спальню, когда хозяин вышел из соседнего клозета, оставив за собой шум краткого каскада. Загиб коридора не мог скрыть меня полностью. С серым лицом, с мешками под глазами, с растрепанным пухом вокруг плеши, но все же вполне узнаваемый кузен дантиста проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на один из моих. Он меня либо не заметил, либо принял за недостойную внимания, безвредную галлюцинацию и, показывая свои волосатые икры, прошествовал сомнамбулической походкой вниз по лестнице. Я последовал за ним в вестибюль. Полуоткрыв и рот и входную дверь, он посмотрел в солнечную щель, как человек, которому показалось, что он слышал неуверенного гостя, позвонившего и потом удалившегося. Засим, продолжая игнорировать привидение в дождевике, остановившееся посреди лестницы, милый хозяин вошел в уютный будуар через холл по другую сторону гостиной». Вы заметили, конечно, как двойничество подчеркнуто сходством халатов. Интересно, что сначала один двойник никак не может обнаружить другого, а затем второй воспринимает первого как «привидение», как «безвредную галлюцинацию». Далее Гумберт не спешит, идет на кухню, разматывает и приводит в порядок своего «дружка», после чего идет к Куильти: «Милый хозяин встретил меня в турецком будуарчике. "А я все думаю, кто вы такой?" — заявил он высоким хриплым голосом, глубоко засунув руки в карманы халата и уставясь в какой-то пункт на северо-восток от моей головы. — "Вы случайно не Брюстер?" www.franklang.ru 157 Теперь было ясно, что он витает в каком-то тумане и находится всецело в моей власти. Я мог позволить себе поиграть этой мышкой. "Правильно", — отвечал я учтиво. — "Je suis Monsieur Brustere. Давайте-ка поболтаем до того, как начать". Это ему понравилось. Его черные, как клякса, усики дрогнули. Я скинул макинтош. Был я весь в черном — черный костюм, черная рубашка, без галстука. Мы опустились друг против друга в глубокие кресла. "Знаете", — сказал он, громко скребя мясистую, шершавую, серую щеку и показывая в кривой усмешке свои мелкие жемчужные зубы, — "вы не так уж похожи на Джека Брюстера. Я хочу сказать, что сходство отнюдь не разительное. Кто-то мне говорил, что у него есть брат, который служит в той же телефонной компании". Затравить его наконец, после всех этих лет раскаяния и ярости... Видеть черные волоски на его пухлых руках... Скользить всею сотней глаз по его лиловым шелкам и косматой груди, предвкушая пробоины и руду, и музыку мук... Знать, что держу его, этого полуодушевленного, получеловеческого шута, этого злодея, содомским способом насладившегося моей душенькой — о, моя душенька, это было нестерпимой отрадой! "Нет, к сожалению, я не брат Брюстера, — и даже не сам Брюстер". Он наклонил набок голову с еще более довольным видом. "Ну-ка, гадай дальше, шут". "Прекрасно", — сказал шут, — "значит, вы не пришли от телефонной компании надоедать мне этими неоплаченными фантастическими разговорами?"» Вы заметили, конечно, «пустых двойников» — то есть подчеркивание основной линии двойничества некими братьями Брюстерами. Куильти не узнает Гумберта (то ли из-за действия наркотиков, то ли притворяясь, то ли подчиняясь логике волшебной сказки). И дальше еще некоторое время тянется этот странный разговор между палачом и жертвой, сидящими друг против друга в глубоких креслах. Гумберт хочет, чтобы Куильти очнулся и www.franklang.ru 158 осознал, кто перед ним, что именно сейчас произойдет и почему. Но тот продолжает валять дурака: «Он потянулся за кольтом. Я пихнул шута обратно в кресло. Густая отрада редела. Пора, пора было уничтожить его, но я хотел, чтобы он предварительно понял, почему подвергается уничтожению. Я заразился его состоянием. Оружие в моей руке казалось вялым и неуклюжим». Потом, в результате потасовки, пистолет оказывается под комодом: «Я наклонился. Он не двинулся. Я наклонился ниже. "Дорогой сэр", — сказал он, — "перестаньте жонглировать жизнью и смертью. Я драматург. Я написал много трагедий, комедий, фантазий. <…> Я автор пятидесяти двух удачных сценариев. Я знаю все ходы и выходы. Дайте мне взяться за это. В другой комнате есть, кажется, кочерга, позвольте мне ее принести, и с ее помощью мы добудем ваше имущество". Суетливо, деловито, лукаво, он встал снова, пока говорил. Я пошарил под комодом, стараясь одновременно не спускать с него глаз. Вдруг я заметил, что дружок торчит из-под радиатора близ комода. Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру, в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя». Примечательно, что Куильти — драматург. Он написал «много трагедий, комедий, фантазий». Двойник вообще бывает связан с судьбой. С сюжетом, с сюжетами. (Сравните с автомобилистом, сбившим Шарлотту: «мой карикатурный гость развернул, как свиток, большую диаграмму, на которой им были нанесены все подробности катастрофы».) www.franklang.ru 159 Этрусская бронзовая модель печени овцы с обозначением гадательного значения ее областей И двойник-антипод нередко многогранен (или говорит на всех или многих языках, или играет на всех инструментах…). И кто, собственно говоря, сочинил то, что происходит в «турецком будуарчике»? Гумберт действует по своей воле, или же он лишь исполняет роль в сказке-спектакле Мак-Ку (как он сам называет Куильти, приравнивая своего двойника к Мак-Фатуму)? Похоже, что второе (если только спектакль этот подспудно не заказан самим Гумбертом — своему двойнику): «Он и я были двумя крупными куклами, набитыми грязной ватой и тряпками. Все сводилось к безмолвной, бесформенной возне двух литераторов, из которых один разваливался от наркотиков, а другой страдал неврозом сердца и к тому же был пьян». Потом Гумберт завладевает пистолетом, потом они еще беседуют, даже читаются стихи. Куильти предлагает Гумберту поселиться в его доме, www.franklang.ru 160 одеваться в его одежду и тому подобное (вполне понятное предложение со стороны двойника): «…я предлагаю вам поселиться тут. Дом — ваш, бесплатно. При условии, что вы перестанете направлять на меня этот (он отвратительно выругался) пистолет. <…> Обещаю вам, Брюстер, что вы заживете здесь счастливо, пользуясь великолепным погребом и всем доходом с моей следующей пьесы. <…> Весь мой гардероб в вашем распоряжении. Ах, еще кое-что. Это вам понравится. У меня есть наверху исключительно ценная коллекция эротики». Затем Гумберт наконец-то стреляет: «Я выстрелил. На этот раз пуля попала во что-то твердое, а именно в спинку черной качалки, стоявшей в углу <…>, причем она тотчас пришла в действие, закачавшись так шибко и бодро, что человек, который вошел бы в комнату, был бы изумлен двойным чудом: движением одинокой качалки, ходуном ходящей в углу, и зияющей пустотой кресла, в котором только что находилась моя фиолетовая мишень. Перебирая пальцами поднятых рук, молниеносно крутя крупом, он мелькнул в соседнее зальце, и в следующее мгновение мы с двух сторон тянули друг у друга, тяжело дыша, дверь, ключ от которой я проглядел. Я опять победил, и с еще большей прытью Кларий Новус сел за рояль и взял несколько уродливо-сильных, в сущности истерических, громовых аккордов: его брыла вздрагивали, его растопыренные руки напряженно ухали, а ноздри испускали тот судорожный храп, которого не было на звуковой дорожке нашей кинодраки. Продолжая мучительно напевать в нос, он сделал тщетную попытку открыть ногой морского вида сундучок, подле рояля. Следующая моя пуля угодила ему в бок…» Отметим «двойное чудо»: живое движение мертвого предмета (качалки) и «зияющую пустоту кресла». (Двойник — это призрак, он мертв заранее, что не мешает ему двигаться, как живому.) А также то, что Куильти www.franklang.ru 161 осуществляет музыкальное сопровождение происходящего фильма. И Гумберт действительно смотрит этот фильм: «Вижу, как я последовал за ним через холл, где с каким-то двойным, тройным, кенгуровым прыжком, оставаясь стойком на прямых ногах при каждом скачке, сперва за ним следом, потом между ним и парадной дверью, я исполнил напряженно-упругий танец, чтобы помешать ему выйти, ибо дверь, как во сне, была неплотно затворена». Гумберт продолжает преследование и стрельбу. И мы видим, как убийство все больше начинает напоминать сексуальную игру: «Опять преобразившись, став теперь величественным и несколько мрачным, он начал подниматься по широкой лестнице — и, переменив позицию, но не подступая близко, я произвел один за другим три-четыре выстрела, нанося ему каждым рану, и всякий раз, что я это с ним делал, делал эти ужасные вещи, его лицо нелепо дергалось, словно он клоунской ужимкой преувеличивал боль; он замедлял шаг, он закатывал полузакрытые глаза, он испускал женское "ах" и отзывался вздрагиванием на каждое попадание, как если бы я щекотал его, и, пока мои неуклюжие, слепые пули проникали в него, культурный Ку говорил вполголоса, с нарочито британским произношением, — все время ужасно дергаясь, дрожа, ухмыляясь, но вместе с тем как бы с отвлеченным, и даже любезным, видом: "Ах, это очень больно, сэр, не надо больше... Ах, это просто невыносимо больно, мой дорогой сэр. Прошу вас, воздержитесь. Ах, до чего больно... Боже мой! Ух! Отвратительно... Знаете, вы не должны были бы..." Его голос замер, когда он долез до площадки, но он продолжал идти необыкновенно уверенным шагом, несмотря на количество свинца, всаженное в его пухлое тело, и я вдруг понял, с чувством безнадежной растерянности, что не только мне не удалось прикончить его, но что я заряжал беднягу новой энергией, точно эти пули были капсюлями, в которых играл эликсир молодости». www.franklang.ru 162 Это, кстати сказать, несколько напоминает другое произведение, а именно «Преступление и наказание» Достоевского, где старуха-процентщица словно подыгрывает убивающему ее Раскольникову23 (и во время действительного убийства, и — особенно явно — во сне Раскольникова): «В самую эту минуту в углу, между маленьким шкафом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. «Зачем тут салоп? — подумал он, — ведь его прежде не было…» Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: «боится!» — подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, — так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота24. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей, двери на лестнице отворены настежь, и на площадке, на лестнице и туда вниз — всё люди, голова с головой, все смотрят, — но все И вообще «Алена Ивановна, старая ведьма», — самая настоящая чертова бабушка. А ее взгляд из темноты, который встречает Раскольников, похож на тот отделенный от тела взгляд, которым встречает Робинзона Крузо в пещере умирающий старый козел: «Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки». А у Дефо было: «…я увидал два горящих глаза какого-то существа — человека или дьявола, не знаю, — они сверкали, как звезды…» 24 Сравните со смехом булгаковского Воланда: «Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком». 23 www.franklang.ru 163 притаились и ждут, молчат!.. Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли… Он хотел вскрикнуть и — проснулся». Нечто подобное сквозит и в повести Достоевского «Вечный муж», вообще в ряде своих моментов схожей с «Лолитой». Например: «— Что с вами, — закричал Вельчанинов, — зачем вы не пришли? как вы здесь? — Долг отдаю-с, — не кричите, не кричите, — долг отдаю, — захихикал Павел Павлович, весело прищуриваясь, — бренные останки истинного друга провожаю, Степана Михайловича. — Нелепость это все, пьяный вы, безумный человек! — еще сильнее прокричал озадаченный было на миг Вельчанинов. — Выходите сейчас и садитесь со мной; сейчас! — Не могу-с, долг-с… — Я вас вытащу! — вопил Вельчанинов. — А я закричу-с! А я закричу-с! — все так же весело подхихикивал Павел Павлович — точно с ним играют, — прячась, впрочем, в задний угол кареты». Не могу не привести тут еще два отрывка из повести, в одном из которых Вельчанинов и Павел Павлович целуются, а в другом — борются, причем в ход пущен нож (бритва): «— Поцелуйте меня, Алексей Иванович, — предложил он вдруг. — Вы пьяны? — закричал тот и отшатнулся. — Пьян-с, а вы все-таки поцелуйте меня, Алексей Иванович, эй, поцелуйте! Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку! Алексей Иванович несколько мгновений молчал, как будто от удару дубиной по лбу. Но вдруг он наклонился к бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцеловал его в губы, от которых очень пахло вином. Он не совсем, впрочем, был уверен, что поцеловал его». «Он закричал и проснулся. www.franklang.ru 164 Но он не бросился, как тогда, бежать к дверям. Какая мысль направила его первое движение и была ли у него в то мгновение хоть какая-нибудь мысль, — но как будто кто-то подсказал ему, что надо делать: он схватился с постели, бросился с простертыми вперед руками, как бы обороняясь и останавливая нападение, прямо в ту сторону, где спал Павел Павлович. Руки его разом столкнулись с другими, уже распростертыми над ним руками, и он крепко схватил их; кто-то, стало быть, уже стоял над ним, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что из другой комнаты, в которой не было таких гардин, уже проходил слабый свет. Вдруг что-то ужасно больно обрезало ему ладонь и пальцы левой руки, и он мгновенно понял, что схватился за лезвие ножа или бритвы и крепко сжал его рукой…» Вернемся к набоковским симпатичным двойникам: «Я снова зарядил пустой кольт — черными и обагренными руками, — тронул что-то, умащенное его густой кровью. Затем я поспешил присоединиться к нему на верхнем этаже. Он шагал по галерее, окровавленный и важный, выискивая открытое окно, качал головой и все еще старался уговорить меня не совершать убийства. Я попытался попасть ему в висок. Он отступил в свою спальню с пурпурным месивом вместо уха. "Вон, вон отсюда", — проговорил он, кашляя и плюя; и с бредовым изумлением я увидел, как этот забрызганный кровью, но все еще подвижный человек влезает в постель и заворачивается в хаос простынь и одеял. Я выстрелил в него почти в упор, и тогда он откинулся назад, и большой розовый пузырь, чем-то напоминавший детство, образовался на его губах, дорос до величины игрушечного воздушного шара и лопнул. <…> Вся эта грустная история заняла больше часа. Он наконец затих. Никакого облегчения я не испытывал; наоборот, меня тяготило еще более томительное бремя, чем то, от которого я надеялся избавиться. Я не мог заставить себя путем прикосновения убедиться в его смерти. Во всяком www.franklang.ru 165 случае, на вид он был мертв: недоставало доброй четверти его лица, и уже спустились с потолка две мухи, едва веря своему небывалому счастью. Руки у меня были не в лучшем виде, чем у него. Я умылся кое-как в смежной ванной. Теперь мне можно было отбыть. Когда я вышел на площадку лестницы, меня ожидал сюрприз: живое жужжание, которое я уже и прежде слышал и принимал за звон в ушах, оказалось смесью голосов и граммофонной музыки, исходившей из нижней гостиной. Я нашел там группу только что, видимо, прибывших людей, которые беззаботно распивали хозяйскую водку. В кресле развалился огромный толстяк; две черноволосых, бледных молодых красотки, несомненно сестры, одна побольше, другая (почти ребенок) поменьше, скромно сидели рядышком на краю тахты. Краснощекий тип с ярко-голубыми глазами как раз принес им два стакана с чем-то из кухни-бара, где две-три женщины болтали меж собой и звякали кусочками льда. Я остановился в дверях и сказал: "Господа, я только что убил Клэра Куильти". "И отлично сделали", — проговорил краснощекий тип, предлагая при этом напиток старшей из двух красоток. "Кто-нибудь давно бы должен был его укокошить", — заметил толстяк. "Что он говорит, Тони?", — спросила увядшая блондинка из-под арки бара. "Он говорит, — ответил ей краснощекий, — что он убил Ку". "Что ж, — произнес еще другой господин, приподнявшись с корточек в углу гостиной, где он перебирал граммофонные пластинки. — Что ж, мы все в один прекрасный день должны бы собраться и это сделать". "Как бы то ни было, — сказал Тони, — ему пора бы спуститься. Мы не можем долго ждать, если хотим попасть к началу игры". "Дайте этому человеку чего-нибудь выпить", — сказал толстяк. "Хотите пива?" — спросила женщина в штанах, показывая мне издали кружку. Только красотки на тахте, обе в черном, молчали; младшая все потрагивала медальон на белой шейке, но обе молчали, такие молоденькие, такие www.franklang.ru 166 доступные. Музыка на мгновение остановилась для перемены пластинки, и тут донесся глухой шум со стороны лестницы. Тони и я поспешили в холл. Куильти, которого я совершенно не ждал, выполз каким-то образом на верхнюю площадку и там тяжело возился, хлопая плавниками; но вскоре, упав фиолетовой кучей, застыл — теперь уже навсегда. "Поторопись, Ку", — смеясь крикнул Тони, и со словами: "По-видимому, после вчерашнего — не так-то скоро..." — он вернулся в гостиную, где музыка заглушила остальную часть его фразы. Вот это (подумал я) — конец хитроумного спектакля, поставленного для меня Клэром Куильти. С тяжелым сердцем я покинул этот деревянный замок и пошел сквозь петлистый огонь солнца к своему Икару. Две другие машины были тесно запаркованы с обеих сторон от него, и мне не сразу удалось выбраться». Вы могли заметить целый ряд «пустых двойников»: двух мух, двух красоток («несомненно сестры»), две машины. И удивиться тому, что Куильти все еще был жив и выполз — как некий зверь, как некое морское чудище. Это нормально, ведь он — не человек, а звериный двойник. А еще вы могли заметить, как он постепенно лишается разных кусков тела. Рассказанная Набоковым история не столь ужасна из-за изображенного растянутого убийства, сколь жутка из-за ощущаемого в ней дыхания ирреального. Мы чувствуем: то, что описывается, на самом деле происходить не может. И данная история действительно ирреальна: она представляет собой, как это ни странно, миф о сотворении мира. Потому все и происходит долго и постепенно. Мирча Элиаде в книге «Мефистофель и андрогин» приводит две любопытные легенды о сотворении мира (финскую и мордовскую). В финской легенде Бог смотрится в воду и, заметив отражение своего лица, вопрошает у него, как можно создать Мир. В мордовской легенде Бог стоит в одиночестве на скале. «Если бы у меня был брат, я бы создал Мир!» — говорит он и плюет в Воды. Из его плевка www.franklang.ru 167 рождается Гора. Бог пронзает ее своим мечом, и из горы выходит Дьявол (Сатана). Едва появившись, Дьявол предлагает Богу побрататься и вместе сотворить Мир. «Братьями мы не будем, — отвечает Бог, — а будем товарищами». И вместе они приступают к сотворению Мира. Элиаде не говорит о двойниках, но мы-то с вами уже понимаем, что к чему. И видим двойников («товарищей»), видим жертвенный нож (в данном случае меч) между ними. А также Хозяйку зверей, которая здесь предстает Водами и Горой (то есть в ипостаси стихии и, видимо, мифического зверя). Аккадский бог Мардук поражает Тиамат — мировой океан-хаос, чтобы затем создать из нее небо и землю Похожая история о сотворении мира рассказывается во многих мифах, в мифах разных народов. Бог света поражает бога тьмы — и творит мир, расчленяя поверженное тело. И не ясно: то ли это убийство, то ли секс. То ли www.franklang.ru 168 уничтожение жизни, то ли ее возобновление, возрождение. Очень похоже на китайский символ Дао — в виде сплетенных ян и инь25. В угаритском мифе сражаются Баал (бог жизни) и Мот (бог смерти): Они сплелись, как гиппопотамы, Мот силен, и Баал силен. Они бодаются, как быки, Мот силен, и Баал силен. Они кусают друг друга, как змеи, Мот силен, и Баал силен. Они лягаются, как жеребцы, Мот падает, и Баал падает. Подробнее о том, как такое сражение, скажем, между Индрой и Вритрой, Перуном и Велесом выражается в художественном произведении, я рассказал в книге «Портрет слова». 25 www.franklang.ru 169 Статуэтка Баала из Угарита (14-12 века до н.э.) Это двойники-антиподы. Мы, конечно, болеем за Баала («Хозяина»). Зачем вообще нужен этот Мот («Смерть»)? Однако из рассказа о победе над Мотом союзницы Баала — Анат (богини охоты и битвы) — мы понимаем, зачем он нужен: Она хватает бога Мота, Мечом она его рассекает, Веялом его развевает, www.franklang.ru 170 Пламенем его сожигает, На жерновах его мелет, Сеет его в поле. Статуэтка Анат из Угарита (14-12 века до н.э.) Баал, Анат, Мот. Герой, Прекрасная дама, двойник-антипод. Вот и Гумберт Гумберт пытается создать (или воссоздать) свой мир, убивая и расчленяя Клэра Куильти. Некоторый третий www.franklang.ru 171 В романе Достоевского «Братья Карамазовы» Смердяков по отношению к Ивану Карамазову выступает как двойник-антипод. Он его брат (признак двойника), но от другой матери и, более того, незаконнорожденный (побочный сын Федора Павловича), и более того, «братство» его вообще под сомнением (признаки антипода). Этого, конечно, совершенно недостаточно для того, чтобы определить Смердякова как двойника-антипода. Надо бы найти и другие признаки. Проследим тот небольшой отрывок романа, в котором Иван, расставшись с Алешей после их важного разговора-«знакомства», идет в дом отца и по дороге встречается со Смердяковым: «Иван вдруг повернулся и пошел своею дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечаньице промелькнуло, как стрелка, в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно; что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа». Еще нет разговора со Смердяковым, он вот-вот произойдет, но двойникантипод уже появился в тексте. Во-первых, Алеша замечает, что уход брата Ивана похож на уход брата Дмитрия (вот вам двойник), хотя и «совсем в другом роде» (вот вам антипод). Это замечание Алеши как бы ничего не значит, оно странное, вроде бы просто игра усталого ума, однако подчеркнута его пронзительность: «промелькнуло, как стрелка». Во-вторых, двойника-антипода изображают походка и плечи Ивана: «Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что www.franklang.ru 172 у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде». В духовном мире Алеши появилось что-то новое, что-то грозное. И как-то все потемнело: «Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно; что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа». И то же происходит и в духовном мире Ивана: «А Иван Федорович, расставшись с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая и, главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла». И слова употреблены те же для Алеши и для Ивана: «нарастало», «нараставшая». Можно сказать так: нечто страшное и тоскливое нарастает в духовном мире вообще. Если два человека видят один и тот же сон, то этот сон, пожалуй, есть реальность26. Дальше Иван пытается нащупать, что же его так беспокоит, так тяготит. Он перебирает разные неприятные впечатления последнего времени — все не то, причина тоски — в чем-то одном и, как ни странно, в чем-то совершенно внешнем, как бы случайном: «Иван Федорович попробовал было «не думать», но и тем не мог пособить. Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид; это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет, вроде как торчит чтонибудь иногда пред глазом, и долго, за делом или в горячем разговоре, не замечаешь его, а между тем видимо раздражаешься, почти мучаешься, и наконец-то догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой и смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своем месте, платок, Сравните: «— И у меня бывал этот самый сон, — вдруг сказал Алеша. — Неужто? — вскрикнула Лиза в удивлении. — Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно: разве можно, чтоб у двух разных был один и тот же сон? — Верно, можно». 26 www.franklang.ru 173 упавший на пол, книгу, не убранную в шкаф, и проч., и проч. Наконец Иван Федорович в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома и вдруг, примерно шагов за пятнадцать от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило». Этим «внешним», тревожным «существом», этим досадным, раздражающим «негодным предметом» оказывается Смердяков: «На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Давеча, еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым, что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом, за разговором, Смердяков на время позабылся, но, однако же, остался в его душе, и только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. «Да неужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить!» — подумалось ему с нестерпимою злобой». Вы видите, что лакей Смердяков одновременно сидит и «на скамейке у ворот», и в душе Ивана. Так же потом и явившийся Ивану черт будет одновременно и внутри («Нет, ты не сам по себе, ты — я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!»), и вовне Ивана («Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду, и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто…»). И черт — тоже лакей, потому что он тень человека, слуга его, «приживальщик»: «Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты?» Примечательно также, что появлению черта предшествует то же ощущение какого-то незримо присутствующего предмета — лишнего, беспокоящего, что и перед встречей со Смердяковым (после разговора с Алешей): www.franklang.ru 174 «Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему; старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противоположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило». Как видите, предмет находится одновременно и в сердце, и «у противоположной стены». Так и положено, конечно, двойнику. Вернемся к Ивану, повстречавшему по дороге домой Смердякова. Итак, Смердяков встречался с Алешей — а теперь встречается с Иваном (и опять неровный повтор, снова двойник-антипод!). В промежутке Алеша рассказал Ивану о своей встрече со Смердяковым. Вот потому это «существо» «стояло и торчало где-то <…> вроде как торчит что-нибудь иногда пред глазом». Одно из типичных свойств двойника — невидимо присутствовать и беспокоить. Он видит героя, а герой его нет. Здесь ничего не говорится о взгляде, но все же имеется в виду именно взгляд. Раз «существо», значит, оно смотрит. Герой чувствует на себе взгляд, но не понимает, кто же глядит. (Может быть, он сам?) Так князь Мышкин ощущает на себе взгляд Рогожина. Поэтому-то тоска и имеет «какой-то случайный, совершенно внешний вид». А затем герой вдруг видит двойника, призрак обретает плоть. www.franklang.ru 175 Иван понимает, что ненавидит Смердякова, и вместе с тем осознает, что ненависть эта иррациональна. Видимо, ее причина заключена в том страхе, с которым Иван ощущает свою внутреннюю, глубокую связь со Смердяковым. Но интересно, как Иван сам себе это поначалу объясняет: «Дело в том, что Иван Федорович действительно очень невзлюбил этого человека в последнее время и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти ненависть к этому существу. Может быть, процесс ненависти так обострился именно потому, что вначале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда, однако, дивясь некоторой бестолковости или, лучше сказать, некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое «этого созерцателя» могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить». То есть ненависть к Смердякову нарастает (опять это слово!) потому, что вначале был интерес к Смердякову и участие в нем. Странное на первый взгляд объяснение. Это никакое не объяснение, это двойник-антипод (сначала интерес, потом ненависть — к одному и тому же лицу), маскирующийся под мысль. Иван попался в ловушку, он уже заражен болезнью двойничества. Впрочем, дальше приводится причина столь беспричинной ненависти: Ивана, оказывается, стала раздражать смердяковская фамильярность: «Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, — была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтоб он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков видимо стал считать себя Бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и www.franklang.ru 176 как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное». Иван чувствует, что Смердяков — это он сам, что Смердяков — не только вне его, но уже и внутри. Эту-то расположенность Смердякова внутри себя он и ощущает как «отвратительную и особую фамильярность»27. Иван лишается своей воли, теперь все решает сидящий в нем червь-солитер: «С брезгливым и раздражительным ощущением хотел было он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую испитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: «Чего идешь, не пройдешь, видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего». Иван Федорович затрясся: «Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» — полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое: — Что батюшка, спит или проснулся? — тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел с уверенностью, почти строго». Обратите внимание, что Ивану страшно. Это иррациональное в данном случае чувство. С чего бы ему стало вдруг страшно? Страшно оттого, что Смердяков — не человек. И голова у Смердякова оформлена, как голова 27 Сравните с явлением двойника-антипода в романе Метьюрина «Мельмот Скиталец»: «…дверь вдруг открылась и фигура появилась снова: она, казалось, манила его с какой-то устрашающей фамильярностью». www.franklang.ru 177 куклы или маски. А тут еще подмигивание — типичный знак двойника, выражение схемы «двойник-антипод» в самой картине лица (где сами глаза делаются в момент подмигивания двойниками-антиподами): «Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался». А еще Смердяков во время разговора с Иваном будет выставлять то «правую ножку», «поигрывая носочком лакированной ботинки», то левую («Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую…»). Такое вот подмигивание ногами. Иван не смог пройти мимо Смердякова потому, что двойника вообще нельзя обойти сбоку, — так же, как герою сказки невозможно миновать избушку на курьих ножках. Потом, уже после убийства Федора Павловича, Иван придет к Смердякову и встретится с той же трудностью передвижения: «— Ну… ну, тебе, значит, сам черт помогал! — воскликнул опять Иван Федорович. — Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал… Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его…» Во время того, позднейшего, визита, кстати сказать, разговору между Иваном и Смердяковым предшествует целый ряд «пустых двойников»: предметы по две штуки, а затем и очки Смердякова: «Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел прямо налево в «белую избу», занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная: две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был www.franklang.ru 178 накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с геранями. В углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас… Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновою, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: «Этакая тварь, да еще в очках!» Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего…». Тут важны также и тараканы «в страшном количестве» — как признак Вельзевула («повелителя мух»), и халат Смердякова. Этот халат, «затасканный и порядочно истрепанный», аукнется затем в одеянии черта: «Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды…» Но и вообще халат у Достоевского подчас выступает как один из признаков двойника, например, в «Преступлении и наказании»: «Вдруг он остановился и увидел, что на другой стороне улицы, на тротуаре, стоит человек и машет ему рукой. Он пошел к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел как ни в чем не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. «Да полно, звал ли он?» — подумал Раскольников, однако ж стал догонять. Не доходя шагов десяти, он вдруг узнал его и — испугался: это был давешний мещанин, в таком же халате и так же сгорбленный». Сравните также с халатом Клэра Куильти (двойника Гумберта Гумберта) в «Лолите» Набокова: www.franklang.ru 179 «С серым лицом, с мешками под глазами, с растрепанным пухом вокруг плеши, но все же вполне узнаваемый кузен дантиста проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на один из моих». Вернемся к Ивану, севшему («совсем неожиданно») на скамейку. Далее Смердяков ведет уклончивый разговор, давая все время понять, что Иван сам все знает и понимает (и как же иначе, если они двойники): «— Зачем вы, сударь, в Чермашню не едете-с? — вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся. «А чему я улыбался, сам, дескать, должен понять, если умный человек», — как бы говорил его прищуренный левый глазок. — Зачем я в Чермашню поеду? — удивился Иван Федорович. Смердяков опять помолчал. — Сами даже Федор Павлович так вас об том умоляли-с, — проговорил он наконец, не спеша и как бы сам не ценя своего ответа: третьестепенною, дескать, причиной отделываюсь, только чтобы что-нибудь сказать. — Э, черт, говори ясней, чего тебе надобно? — вскричал наконец гневливо Иван Федорович, со смирения переходя на грубость. Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с тою же улыбочкой. — Существенного ничего нет-с… а так-с, к разговору…» «Существенное», однако, совершенно ясно: Иван должен уехать в Чермашню, чтобы в его отсутствие озверевший, обезумевший от ревности Дмитрий убил отца. Но одного отъезда Ивана для совершения убийства недостаточно, необходимо, чтобы совпали разные обстоятельства. (Вспомним еще раз «Лолиту»: «мой карикатурный гость развернул, как свиток, большую диаграмму, на которой им были нанесены все подробности катастрофы».) И Смердяков удивительным и страшным для Ивана образом начинает эти обстоятельства предсказывать. И то, что будет с ним (со Смердяковым) («завтра длинная падучая приключится»), и то, что будет с другими слугами, и то, что будет делать брат Дмитрий. Иван не верит в то, www.franklang.ru 180 что так все само собой может сойтись, обвиняет Смердякова в том, что это он сам хочет так все подстроить: «— Что за ахинея! И все это как нарочно так сразу и сойдется: и у тебя падучая, и те оба без памяти! — прокричал Иван Федорович, — да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? — вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови. — Как же бы я так подвел-с… и для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит-с, и от одних его мыслей-с… Захотят они что учинить — учинят-с, а нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть». Кто может «так подвести, чтобы сошлось»? Лакей Смердяков сам по себе все же вряд ли, какой бы он ни был хитрый. Тут он прав, защищаясь от обвинения Ивана. Тут нужна нечеловеческая сила. И Дмитрий то же самое скажет потом на допросе: «— Не подозреваете ли вы в таком случае и еще какое другое лицо? — осторожно спросил было Николай Парфенович. — Не знаю, кто или какое лицо, рука небес или сатана, но… не Смердяков! — решительно отрезал Митя. — Но почему же вы так твердо и с такою настойчивостью утверждаете, что не он? — По убеждению. По впечатлению. Потому что Смердяков человек нижайшей натуры и трус. Это не трус, это совокупление всех трусостей в мире вместе взятых, ходящее на двух ногах. Он родился от курицы». Вот окончание разговора между сидящим на скамейке Иваном и стоящим перед ним Смердяковым: «— Так зачем же ты, — перебил он вдруг Смердякова, — после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. — Иван Федорович с трудом переводил дух. — Совершенно верно-с, — тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем. www.franklang.ru 181 — Как совершенно верно? — переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами. — Я говорил, вас жалеючи. На вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил… чем у такого дела сидеть-с… — ответил Смердяков, с самым открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали. — Ты, кажется, большой идиот и уж конечно… страшный мерзавец! — встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное: Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и — еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот по крайней мере это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку. — Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать, — завтра рано утром — вот и все! — с злобою, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову. — Самое это лучшее-с, — подхватил тот, точно и ждал того, — только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда обеспокоить-с, в каком-либо таком случае-с. Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. Но и с тем точно что случилось. Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно; все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное: «Не скажешь ли, дескать, еще чего, не прибавишь ли», — так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Ивана Федоровича взгляде. www.franklang.ru 182 — А из Чермашни разве не вызвали бы тоже… в каком-нибудь таком случае? — завопил вдруг Иван Федорович, не известно для чего вдруг ужасно возвысив голос. — Тоже-с и из Чермашни-с… обеспокоят-с… — пробормотал Смердяков почти шепотом, точно как бы потерявшись, но пристально, пристально продолжая смотреть Ивану Федоровичу прямо в глаза. — Только Москва дальше, а Чермашня ближе, так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в Чермашню, аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю? — Совершенно верно-с… — пробормотал уже пресекшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись вовремя отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело28. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой». Обратите внимание на типичный для двойника взгляд, теперь уже материализовавшийся: «пристальный, так и впившийся в Ивана Федоровича». И на типичную для двойников схватку, здесь лишь намеченную: «Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и — еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова». И на окончательное порабощение Ивана внешней силой — червем, проникшим внутрь него: «Двигался и шел он точно судорогой». И рационального объяснения происходящему с ним у Ивана нет: «Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту». И опять сравните со смехом булгаковского Воланда: «Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком». Вот и Ставрогин из «Бесов» говорил о себе: «Знаете, мне со вчерашней ночи ужасно хочется смеяться, всё смеяться, беспрерывно, долго, много. Я точно заряжен смехом…» Причем в той же ситуации, что Иван Карамазов, — в ситуации возможного предоставления двойнику-антиподу права на убийство (в случае Ставрогина двойником-антиподом выступает Федька Каторжный). 28 www.franklang.ru 183 Коппо ди Марковальдо (XIII век). Страшный суд. Обратите здесь внимание на парность деталей. Здесь тот же гимн двойке, о котором я говорил применительно к набоковской «Лолите» Как лакейство Смердякова, так и его поварское искусство являются чертами двойника-антипода. Лакейство означает то, что двойник служит герою (как Мефистофель — Фаусту)29, а поварское искусство означает то, что он складывает обстоятельства в единую, нужную ему, картину (или «диаграмму»), — подобно тому, как повар соединяет различные ингредиенты в своем блюде. Еще один признак: Смердяков — словно бы иностранец: «Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться Так, в пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» (1967) у Вити Зилова (главного героя, «Виктор» — «победитель») есть двойник— официант Дима (с которым он ходит на охоту). Это именно двойник-антипод, звериный двойник, своего рода Мефистофель: САЯПИН (об официанте). Смотри, какой стал. А в школе робкий был парнишка. Кто бы мог подумать, что из него получится официант. ЗИЛОВ. Э, видел бы ты его с ружьем. Зверь. В какой-то момент пьяный Зилов обзывает Диму «лакеем», за что получает удар по лицу и «вырубается». 29 www.franklang.ru 184 во француза». «Французские вокабулы наизусть учит». Смердяков и выглядеть старается как нерусский, чем и добивается, например, успеха у девушки (Марьи Кондратьевны): «А вы и сами точно иностранец, точно благородный самый иностранец, уж это я вам чрез стыд говорю». Я думаю, что Иван убивает отца при помощи своего двойника. Подобно тому как в романе «Лолита» Гумберт Гумберт убивает Шарлотту при помощи «Мак-Фатума». Как в набоковском романе, так и в романе Достоевского все удивительным образом «сошлось», стоило только заказать жертву двойникуантиподу30. Все три брата Карамазовы понимают, что убил, по большому счету, не Смердяков. Кто такой Смердяков? Никто. Он лишь лакей, лишь тень. Он мог лишь прислужить. Поэтому сам Смердяков вполне резонно возражает Ивану во время их разговора в избе: «— Это ты его убил! — воскликнул он вдруг. Смердяков презрительно усмехнулся. — Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего». Смердяков, конечно, есть воплощение черта в действительной жизни (и так был задуман автором). Вот что восклицает Дмитрий: «— Ну, в таком случае отца черт убил! — сорвалось вдруг у Мити, как будто он даже до сей минуты спрашивал все себя: «Смердяков или не Смердяков?»» Так же чувствует и Алеша: «Иван Федорович вдруг остановился. — Кто же убийца, по-вашему, — как-то холодно по-видимому спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса. — Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил Алеша. «Подлинно есть фатум на свете!» — восклицает главный герой романа Достоевского «Подросток», двойничество в котором является основной темой. 30 www.franklang.ru 185 — Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове? Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит. — Ты сам знаешь кто, — бессильно вырвалось у него. Он задыхался. — Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла. — Я одно только знаю, — все так же почти шепотом проговорил Алеша. — Убил отца не ты. — «Не ты»! Что такое не ты? — остолбенел Иван. — Не ты убил отца, не ты! — твердо повторил Алеша. С полминуты длилось молчание. — Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? — бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря. — Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты. — Когда я говорил?.. Я в Москве был… Когда я говорил? — совсем потерянно пролепетал Иван. — Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца, — по-прежнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. — Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня Бог послал тебе это сказать. Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и все смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо. — Ты был у меня! — скрежущим шепотом проговорил он. — Ты был у меня ночью, когда он приходил… Признавайся… ты его видел, видел? — Про кого ты говоришь… про Митю? — в недоумении спросил Алеша. www.franklang.ru 186 — Не про него, к черту изверга! — исступленно завопил Иван. — Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори! — Кто он? Я не знаю, про кого ты говоришь, — пролепетал Алеша уже в испуге. — Нет, ты знаешь… иначе как же бы ты… не может быть, чтобы ты не знал…» Алеша хочет сказать, что убил черт (и Иван понимает его именно так). А Смердяков (в разговоре в избе) настаивает, что убил Иван: «Иван вскочил и схватил его за плечо: — Говори все, гадина! Говори все! Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумною ненавистью приковался к нему глазами. — Ан вот вы-то и убили, коль так, — яростно прошептал он ему». Убил Иван, которого попутал черт. Убил черт, попутав Ивана. Похожая история вышла и с Раскольниковым в «Преступлении и наказании»: «я ведь и сам знаю, что меня черт тащил», «слишком уж все удачно сошлось… и сплелось… точно как на театре». Между героем-заказчиком убийства и двойником-исполнителем возникает соединительная линия, проходящая через жертву. Вокруг этой линии обстоятельства группируются так, как определит двойник. Герой может только пожелать, только сделать заказ, сложить же обстоятельства нужным образом не в человеческих силах. В следующей после разговора у скамейки главе романа, ночью того же дня, Иван продолжает мучиться и недоумевать: «Сам он чувствовал, что потерял все свои концы. Мучили его тоже разные странные и почти неожиданные совсем желания, например: уж после полночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и избить Смердякова, но спросили бы вы за что, и сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в www.franklang.ru 187 точности, кроме той разве, что стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обидчик, какого только можно приискать на свете». А дальше мы читаем, как Иван ночью прислушивается к движениям отца: «Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, — слушал подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал — конечно, и сам не знал. Этот «поступок» он всю жизнь свою потом называл «мерзким» и всю жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком изо всей своей жизни. К самому же Федору Павловичу он не чувствовал в те минуты никакой даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то изо всех сил: как он там внизу ходит, что он примерно там у себя теперь должен делать, предугадывал и соображал, как он должен был там внизу заглядывать в темные окна и вдруг останавливаться среди комнаты и ждать, ждать — не стучит ли кто. Выходил Иван Федорович для этого занятия на лестницу раза два. Когда все затихло и уже улегся и Федор Павлович, часов около двух, улегся и Иван Федорович с твердым желанием поскорее заснуть, так как чувствовал себя страшно измученным». Почему Иван потом считал это «самым подлым поступком изо всей своей жизни»? Ну да, потому что он прислушивался к своему живому отцу, уже зная, что предаст его на убийство. И ничего при этом не чувствовал, а только «любопытствовал». Но у действия Ивана есть и другая сторона. Чтобы совершить убийство при помощи двойника (или, скажем, убийство при помощи «сглаза», что одно и то же), нужно поместить жертву на линию между собой и двойником. Для этого важно, во-первых, не испытывать к жертве ненависти. (Тут, как при создании художественного произведения, www.franklang.ru 188 аффект все проваливает31.) Во-вторых, важно своим вниманием, своим любопытством как бы слиться, совпасть с жертвой, сделать и ее своим двойником (именно тогда она окажется на нужной линии). Ивану, надо заметить, нетрудно совпасть с отцом, так как он исходно уже является потенциальным двойником Федора Павловича, о чем ему, например, говорит Смердяков (в разговоре в избе): «— Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с. — Ты не глуп, — проговорил Иван, как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо, — я прежде думал, что ты глуп». И вот Иван вживается в жертву, прислушиваясь к движениям старика, не понимая при этом, зачем он ведет себя подобным образом: «никакой даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то изо всех сил». На самом деле он как раз в этот момент и совершает убийство. Он отдает заказ черту. Происходит «сглаз». Иван тратит на это, кстати, огромную энергию («изо всех сил») и чувствует себя затем «страшно измученным». Иван как-то сказал Алеше: «Знай, — говорит он Алеше, — что я его (отца. — И.Ф.) всегда защищу. Но в желаниях моих я оставляю за собой в данном случае полный простор». Ну-ну. Ему еще не открылось, что за своими помыслами человек должен следить ничуть не менее, чем за своими поступками. Так, в пьесе «Утиная охота» официант Дима поучает Зилова: ЗИЛОВ. Дима, ну сколько я могу мазать? Неужели и в этот раз? ОФИЦИАНТ. Витя, я тебе сто раз объясняю: будешь мазать до тех пор, пока не успокоишься. (Что можно и так понять: не сможешь убить, пока сам не станешь мертвым.) 31 www.franklang.ru 189 Убийство с помощью двойника в фильме Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» (1982). Разговор Александра с Измаилом (вспоминающим при знакомстве библейского Измаила — «дикого осла», старшего брата Исаака), в результате которого (или параллельно которому, именно в это же самое время) погибает отчим Александра32. Наутро Иван уезжает — в Москву (в Чермашню ехать передумал): «В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. «Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!» Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь; вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся. — Я подлец! — прошептал он про себя». «Может, мы с тобой одно лицо? Может, между нами нет границ? И мы течем сквозь друг друга … У тебя страшные мысли. Находиться рядом с тобой — почти мучение. Вместе с тем это привлекательно. Знаешь почему? — Я не знаю, хочу ли я знать. — Ты ведь слыхал, как делают идолов врагов и втыкают в них иголки? Довольно топорный способ, если вспомнить, как стремительно доходят до цели злые мысли. Ты удивительная маленькая личность, Александр. Ты не хочешь говорить о том, о чем все время думаешь. В тебе — смерть человека. Постой! Я знаю, о ком ты думаешь! …» 32 www.franklang.ru 190 Одним из признаков черта является и быстрый полет. Особенно полет прочь, но и полет над миром. Видимо, это связано с отпадением сатаны от Бога, со стремительным падением Люцифера. Так и тут: «Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву». Мефистофель пролетает над Виттенбергом. Литография Эжена Делакруа (1798—1863) Обратите также внимание на удивительный, космический образ жертвенного ножа (здесь — жертвенного топора), связанного с полетом черта-двойника: «…предстояло еще перелететь пространство… конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж www.franklang.ru 191 когда воплотился, то… словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердию, — ведь это такой мороз… то есть какое мороз — это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы… только там мог случиться топор… — А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно. — Топор? — переспросил гость в удивлении. — Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович. — Что станется в пространстве с топором? Quelle idée!33 Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора...» Когда Иван идет в избу к Смердякову, на пути он встречает знак: мужичонку, поющего песню. Песня как бы ничего не значит. Но затем, в разговоре со Смердяковым, Иван понимает, что песня была про него, про Ивана, про его поступок: «Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню: Ах поехал Ванька в Питер, 33 «Что за мысль!» (франц.) www.franklang.ru 192 Я не буду его ждать! Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонко, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонко отлетел и шлепнулся, как колода, об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет!» — подумал Иван и зашагал опять к Смердякову. <…> — Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, чего бы, кажется, другто друга морочить, комедь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил. — Совершил? Да разве ты убил? — похолодел Иван. Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него: вероятно, его, наконец, поразил своею искренностью испуг Ивана. — Да неужто ж вы вправду ничего не знали? — пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза. Иван все глядел на него, у него как бы отнялся язык. Ах поехал Ванька в Питер, Я не буду его ждать, — прозвенело вдруг в его голове. www.franklang.ru 193 — Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь? — пролепетал он. — Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего». В песне Ванька поехал в Питер, в действительности же Иван уехал в Москву. Кто, используя слова песни, подмигивает здесь Ивану, кто подает знак? Кто этот «некоторый третий»? Черт? Бог? Но кто-то точно есть, это не призрак, не галлюцинация. Что и хотел, конечно, показать Достоевский. Однако двойничество может быть не только отрицательным, «бесовским». Оно может быть и положительным, «ангельским». Непосредственно после рассказа об отъезде Ивана в тексте следует признание старца Зосимы в том, что в Алеше Карамазове он видел своего «старшего брата, умершего юношей»: «На заре дней моих, еще малым ребенком, имел я старшего брата, умершего юношей, на глазах моих, всего только семнадцати лет. И потом, проходя жизнь мою, убедился я постепенно, что был этот брат мой в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше, ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть, я так мыслю, не принял бы я иноческого сана и не вступил на драгоценный путь сей. То первое явление было еще в детстве моем, и вот уже на склоне пути моего явилось мне воочию как бы повторение его. Чудно это, отцы и учители, что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения, так что даже удивлялся себе самому и таковой странной мечте моей». Русская игрушка www.franklang.ru 194 В романе Достоевского «Подросток» главный герой, Аркадий Макарович Долгорукий (то есть сам Подросток), рассказывает отцу об одном товарище, Ламберте, с которым учился ранее в пансионе Тушара: «Когда у него умер отец, он вышел (из пансиона. — И.Ф.), и я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии <…>. Он пришел поутру, показал мне пятьсот рублей и велел с собой ехать. Хоть он и бил меня два года назад, а всегда во мне нуждался <…>. Он сказал, что деньги утащил сегодня у матери из шкатулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его, по закону, и что она не смеет не давать, а что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать — вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать руки к небу, «а я вынул нож и сказал, что я его зарежу» (он выговаривал: загхэжу). Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на все плюет, и что все, что они говорят про причастие, — вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил двухствольное ружье, ягдташ, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогою встретили птицелова с клетками; Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки, и стал стрелять в нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружье мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из двух стволов, в упор, на вершок расстояния, дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама… Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я все это и увидел… про что вам говорил… www.franklang.ru 195 Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать; она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы, и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготе; поверьте, была красавица». Потом Подросток рассказывает о Ламберте еще и следующее (в собрании прогрессивных молодых людей): «Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» Видите ли-с, есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-с: у меня был товарищ, Ламберт, который говорил мне еще шестнадцати лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду; а когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувства! Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос: «Почему он непременно должен быть благородным?» И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, — никогда не бывало. В нашем обществе совсем неясно, господа. Ведь вы Бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе?» Ламберт для Долгорукого — двойник-антипод. Ламберт — человек, переставший быть человеком, ставший бесом. Он «чистокровный подлец», творящий зло не только ради добывания себе денег и получения грязных www.franklang.ru 196 удовольствий, но и из эстетического (или даже сладострастного) наслаждения злыми поступками. Он «право имеет» («Преступление и наказание»), ему «все дозволено» («Братья Карамазовы»). Только он уже не ищет и не мучается идеей, как Иван Карамазов или Раскольников, он уже все нашел — как Смердяков. Здесь легко заметить и ряд признаков двойника-антипода. Таким признаком, например, является его иностранность (он француз и потому картавит). И ритуальный (жертвенный) нож («я его зарежу»), превращающийся затем в расчленяющее канарейку двуствольное ружье («дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков»), а затем и в вилку, которую Ламберт втыкает в Подростка («Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку»). И встреча через два года, и два залпа не случайны, это «пустые двойники», подчеркивающие основную линию двойничества. Примечательно и то, что между двойниками (Подростком и Ламбертом) происходит схватка. Позже случается новая встреча с Ламбертом. Подросток оказывается сидящим в беспамятстве на улице, ему снится детство, пансион Тушара, снится, что его толкает Ламберт, он от этого просыпается — и видит, что его и на самом деле расталкивает Ламберт. Двойник-антипод часто является таким образом: как бы из сна героя. Обратите внимание и на подчеркиваемую Подростком «необычайность» Ламберта и его судьбоносность: «— Ах черт… Чего он! — ворчит с своей кровати Ламберт, — постой, я тебе! Спать не дает… — Он вскакивает наконец с постели, подбегает ко мне и начинает рвать с меня одеяло, но я крепко-крепко держусь за одеяло, в которое укутался с головой. — Хнычешь, чего ты хнычешь, дурак, духгак! Вот тебе! — и он бьет меня, он больно ударяет меня кулаком в спину, в бок, все больней и больней, и… и я вдруг открываю глаза… Уже сильно рассветает, иглистый мороз сверкает на снегу, на стене… Я сижу, скорчившись, еле живой, окоченев в моей шубе, а кто-то стоит надо www.franklang.ru 197 мной, будит меня, громко ругая и больно ударяя меня в бок носком правой ноги. Приподымаюсь, смотрю: человек в богатой медвежьей шубе, в собольей шапке, с черными глазами, с черными как смоль щегольскими бакенами, с горбатым носом, с белыми оскаленными на меня зубами, белый, румяный, лицо как маска… Он очень близко наклонился ко мне, и морозный пар вылетает из его рта с каждым его дыханием: — Замерзла, пьяная харя, духгак! Как собака замерзнешь, вставай! Вставай! — Ламберт! — кричу я. — Кто ты такой? — Долгорукий! — Какой такой черт Долгорукий? — Просто Долгорукий!.. Тушар… Вот тот, которому ты вилку в бок в трактире всадил!.. — Га-а-а! — вскрикивает он, улыбаясь какой-то длинной, вспоминающей улыбкой (да неужто же он позабыл меня!). — Га! Так это ты, ты! Он поднимает меня, ставит на ноги; я еле стою, еле двигаюсь, он ведет меня, придерживая рукой. Он заглядывает мне в глаза, как бы соображая и припоминая и слушая меня изо всех сил, а я лепечу тоже изо всех сил, беспрерывно, без умолку, и так рад, так рад, что говорю, и рад тому, что это — Ламберт. Показался ли он почему-нибудь мне «спасением» моим, или потому я бросился к нему в ту минуту, что принял его за человека совсем из другого мира, — не знаю, — не рассуждал я тогда, — но я бросился к нему не рассуждая. Что говорил я тогда, я совсем не помню, и вряд ли складно хоть сколько-нибудь, вряд ли даже слова выговаривал ясно; но он очень слушал. Он схватил первого попавшегося извозчика, и через несколько минут я сидел уже в тепле, в его комнате. У всякого человека, кто бы он ни был, наверно, сохраняется какое-нибудь воспоминание о чем-нибудь таком, с ним случившемся, на что он смотрит или наклонен смотреть, как на нечто фантастическое, необычайное, выходящее из ряда, почти чудесное, будет ли то — сон, встреча, гадание, www.franklang.ru 198 предчувствие или что-нибудь в этом роде. Я до сих пор наклонен смотреть на эту встречу мою с Ламбертом как на нечто даже пророческое… судя по крайней мере по обстоятельствам и последствиям встречи. Все это произошло, впрочем, по крайней мере с одной стороны, в высшей степени натурально: он просто возвращался с одного ночного своего занятия (какого — объяснится потом), полупьяный, и в переулке, остановясь у ворот на одну минуту, увидел меня». Позже Долгорукий, когда этот эпизод как бы повторится (но не буквально, а как «двойник-антипод»), вспомнит и пристальный взгляд Ламберта — также признак двойника: «Мы вышли из лавки, и Ламберт меня поддерживал, слегка обнявши рукой. Вдруг я посмотрел на него и увидел почти то же самое выражение его пристального, разглядывающего, страшно внимательного и в высшей степени трезвого взгляда, как и тогда, в то утро, когда я замерзал и когда он вел меня, точно так же обняв рукой, к извозчику и вслушивался, и ушами и глазами, в мой бессвязный лепет. У пьянеющих людей, но еще не опьяневших совсем, бывают вдруг мгновения самого полного отрезвления». Признаком двойника является и то, что Ламберт обнимает Подростка. Наиважнейший же признак двойника-антипода — лицо-маска Ламберта: «Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные». Читаешь это — и тут же узнаешь, конечно, как Свидригайлова («Преступление и наказание»), так и Ставрогина («Бесы»). Вот Свидригайлов (причем Раскольникову сначала кажется, что этот посетитель ему лишь снится): «Раскольников опустил правый локоть на стол, подпер пальцами правой руки снизу свой подбородок и пристально уставился на Свидригайлова. Он рассматривал с минуту его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с www.franklang.ru 199 довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен». Вот Ставрогин: «Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску…» По большому счету, все один и тот же герой. Что объединяет Свидригайлова и Ставрогина? Конечно, преступление, причем одно и то же: и тот и другой соблазнили несовершеннолетнюю девочку (но вполне можно сказать: надругались над ней), что затем привело к самоубийству девочки. Ламберт же обижает «даму»: дразнит и ругает ее, отнимает платье, бьет ее по нагому телу. Что является основанием нравственности? Как справедливо говорит и показывает Подросток в самом начале романа, никакого рационального основания у нравственности нет и быть не может. Интересно отвечает на вопрос об основании нравственности Конфуций: Вы видите ребенка, который упал в реку. Вы бросаетесь и вытаскиваете ребенка на берег. Вот и вся нравственность. Она просто в вас заложена — Небом. В примере Конфуция очевидно, что основанием нравственности является сострадание. Вот и в романе «Идиот» сказано: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества». У Достоевского-писателя сострадание выражается особым образом: ключевой момент практически всех его произведений — «обиженная девочка». Эта девочка либо подверглась надругательству, либо находится под угрозой оного, либо же она просто побита, раздета (или одежда ее разорвана, или скудна), промокла, замерзла и т. п. www.franklang.ru 200 Вот, например, какая сцена в черновом варианте «Подростка» предшествовала той, в которой Долгорукий засыпает на улице, чтобы быть затем разбуженным Ламбертом: «Присматриваясь, как мне влезть по воротам, я вдруг в правом углу ворот, в глубине выступа заметил какую-то темную массу: что-то лежало или сидело скорчившись, «меньше человека, больше собаки», — мелькнуло во мне. Я нагнулся и дотронулся рукой. Это был ребенок, девочка, лет девяти или десяти, она сидела сжавшись и скорчившись. Глаза были закрыты. «Замерзла!» — проговорил я и, схватив ее обеими руками за плечи, стал подымать. Я приподнял ее, но не удержал, и она, как деревянная колода, шлепнулась опять в снег, но от сотрясения, должно быть, открыла глаза. «А, не успела заснуть!» — вскричал я. Она глядела на меня прямо, большими глазами, но, кажется, ничего не понимала. Это было худенькое, стянутое холодом, посиневшее личико ребенка с странно большими, как показалось мне тогда, глазами, с сплюснутым носом и с чрезвычайно большим ртом, при очень маленьком подбородке. В лице ее были пятна, вроде болячек. Всё это я мельком запомнил. Она видимо ничего не понимала и вдруг опять закрыла глаза. Я схватил ее опять за руки и изо всех сил стал подымать, наконец поставил и начал трясти за плечи: несколько раз она обнаруживала стремление опять присесть и скорчиться, но наконец вдруг сама стала на ноги, и любопытство сверкнуло в ее взгляде. Она проснулась. Я не ошибся: ей было не более десяти лет, но она была очень дурно и мало одета, в каком-то стареньком, изорванном нанковом в полоску капотишке, с торчавшей клочьями из дыр ватой, служившем, может быть, третий год, судя по коротким рукавам, даже не прикрывавшим маленьких, сине-багряных от холода рук. На ногах ее, впрочем, были толстые башмаки сверх толстых шерстяных чулков. И я помню, что я нарочно оглядел ее ноги и ее всю: не отморозила ли чегонибудь? <…> Она долго ничего не понимала на мои вопросы: где она живет и куда ее доставить, и только всё глядела на меня своими большими www.franklang.ru 201 черными глазенками, но взгляд ее становился всё вострее и вострее. Наконец вдруг шевельнулись ее губы, и она прошептала: — Озябла! — выговорила она быстро и, не то что жалуясь, а как-то бессмысленно, точно выпалила, и не «озябла», а как-то: «аззьябла!», резко ударяя на я и при этом ни на миг не переставая смотреть мне в глаза. — Ты замерзнешь, — повторил я, — где ты живешь? Пойдем я доведу, пойдем! — повторял я всё настойчивее. — Аззьябла! — выпалила она вдруг опять. Я взял ее за руку и потащил, она пошла. <…> — Да кто такой, да кто вы такой, эй, кто такой? — закричала женщина, заметив меня. — Я девочку вашу привел, она замерзла! — прокричал я. — Где она, шельма, — ухватила ее женщина, и я слышал в темноте, как начала ее таскать за волосы. <…> Баба перестала бить, <…> девочка вскочила, выпрямилась и как зверек, дико оглядываясь, вдруг проговорила опять, как давеча: — Аз-зьябла! В это мгновение сполз с лавки какой-то парень, очень пьяный и хромой. Он был в одном белье и босой. Подковыляв прямо к девочке, он молча поднял руку и изо всей силы и стремительно, не крикнув, опустил на нее кулак. Девочка свалилась как подрезанная, а обидчик покачнулся, замычал и сам упал на пол. Он был очень пьян. <…> — <…> Мать померла, ничья она теперь, да хоть бы сдохла проклятая, на руках сидит. — Так у ней и матери нет, одна она, сирота, — завопил я и вдруг, не знаю, что со мной сделалось, но весь в слезах, я припал к Арише, обхватил ее и стал целовать ее». Вот умирает Мармеладов («Преступление и наказание»): www.franklang.ru 202 «Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь; произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а детей поставила на колени перед собой. Девочка только дрожала; мальчик же, стоя на голых коленочках, размеренно подымал ручонку, крестился полным крестом и кланялся в землю, стукаясь лбом, что, по-видимому, доставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала слезы; она тоже молилась, изредка оправляя рубашечку на ребенке и успев набросить на слишком обнаженные плечи девочки косынку, которую достала с комода, не вставая с колен и молясь. Между тем двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными. В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты. Один только огарок освещал всю сцену». А вот девочка из сна Свидригайлова: Он долго ходил по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, и хотел уже громко кликнуть, как вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка — девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем нет-нет и вдруг опять всхлипнут. Личико девочки было бледное и изнуренное; она окостенела от холода, но «как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь». Он стал ее расспрашивать. Девочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. Тут было что-то про «мамасю» и что «мамася плибьет», про какую-то чашку, которую «лязбиля» (разбила). Девочка говорила не умолкая; кое-как можно было угадать из всех этих www.franklang.ru 203 рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого мать, какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно из здешней же гостиницы, заколотила и запугала; что девочка разбила мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала еще с вечера; долго, вероятно, скрывалась где-нибудь на дворе, под дождем, наконец пробралась сюда, спряталась за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха, что ее теперь больно за все это прибьют. Он взял ее на руки, пошел к себе в нумер, посадил на кровать и стал раздевать. Дырявые башмачонки ее, на босу ногу, были так мокры, как будто всю ночь пролежали в луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал совсем с головой в одеяло. Она тотчас заснула. Кончив все, он опять угрюмо задумался. «Вот еще вздумал связаться! — решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. — Какой вздор!» В досаде взял он свечу, чтоб идти и отыскать во что бы то ни стало оборванца и поскорее уйти отсюда. «Эх, девчонка!» — подумал он с проклятием, уже растворяя дверь, но вернулся еще раз посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит? Он осторожно приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно: эта краска обозначалась как бы ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. «Это лихорадочный румянец», — подумал Свидригайлов, это — точно румянец от вина, точно как будто ей дали выпить целый стакан. Алые губки точно горят, пышут, но что это? Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетски подмигивающий глазок, точно девочка не спит и притворяется. Да, так и есть: ее губки раздвигаются в улыбку; кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться; это уже смех, явный смех; что-то нахальное, вызывающее светится в этом www.franklang.ru 204 совсем не детском лице; это разврат, это лицо камелии34, нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот, уже совсем не таясь, открываются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются… Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. «Как! пятилетняя! — прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, — это… что ж это такое?» Но вот она уже совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки… «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку… Но в ту же минуту проснулся». До этой пятилетней девочки Свидригайлову приснилась и настоящая его жертва: «Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца — утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое детское сознание, залившею незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер…» Камелия — здесь: женщина сомнительного поведения (от названия романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями»). 34 www.franklang.ru 205 Эдвард Мунк. Созревание. 1894 год. Обратите внимание на тень А вот как появляется девочка в жизни Ставрогина (ненапечатанная глава «У Тихона» из романа «Бесы») — та, которую он потом совращает: «Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая, что она высечет дочь. Но та только что кричала на девчонку за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила на куклы, и отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек, что напрасно наказали, и смотрела молча. Я это www.franklang.ru 206 заметил, она нарочно не хотела, и запомнил, потому что в первый раз разглядел лицо девочки, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но в нем много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула, а тут как раз подоспел мой ножик. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, нарвала из веника прутьев и высекла девчонку до рубцов, на моих глазах, несмотря на то, что той уже был двенадцатый год. Матреша от розог не кричала, конечно потому, что я тут стоял, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе и потом очень всхлипывала, целый час. Когда кончилась экзекуция, я вдруг нашел ножик на постеле, в одеяле, и молча положил его в жилетный карман, а выйдя из дому, выбросил на улицу далеко от дому, с тем чтобы никто не узнал. Я тотчас же почувствовал, что сделал подлость, и при этом некоторое удовольствие, потому что меня вдруг точно железом прожгло одно чувство, и я стал им заниматься. Здесь замечу, что часто разные скверные чувства овладевали мною даже до безрассудства или лучше сказать до чрезвычайного упрямства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совершенно одолеть его, даже остановить в верхней точке, только редко хотел останавливать. При этом объявляю, что ни средою, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу». Созерцание мук «неоперившейся девочки» (как сказано в «Подростке»)35, сопровождаемое «некоторым удовольствием». И ножик (как признак двойника-антипода) вы, наверное, заметили. Часто обиженной у Достоевского оказывается и взрослая девушка. Впрочем, иногда и в такой взрослой девушке подчеркнуты именно детские ее черты. Девушка может быть взрослой, но все же еще очень юной, гораздо моложе О Версилове, в начале романа: «— Ну и что ж, — изменилось вдруг все лицо князя, — проповедует Бога по-прежнему, и, и… пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам? Хе-хе!» 35 www.franklang.ru 207 интересующегося ею мужчины. Так, например, в рассказе «Кроткая» мы читаем: «…именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать». «О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные мысли, например, что мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно36». Девушка может безумна, или почти безумна, или временно безумна. Видимо, по той логике, что безумная взрослая девушка равна девочке-ребенку. Наконец, вместо девочки может быть вообще мальчик, но при этом он часто похож на девочку (или с ним обращаются, как с девочкой). Таков, например, страдающий, обиженный мальчик в романе «Подросток»: «Слабенький был и нежный и личиком миловидный, как девочка». Или вот, посмотрите, как обращаются в рассказе «Слабое сердце» с мальчиком Петей, братом Лизы («Прекрасной Дамы»), влюбленные в Лизу «сожители» (прямо скажем: двойники-антиподы) Аркадий и Вася: «— Здравствуйте, с Новым годом вас честь имею поздравить, Василий Петрович, — сказал хорошенький черноволосый мальчик лет десяти, в кудряшках, — сестрица вам кланяется, и маменька тоже, а сестрица велела вас поцеловать от себя… Вася вскинул на воздух посланника и влепил в его губки, которые ужасно походили на Лизанькины, медовый, длинный, восторженный поцелуй. Примечательна и тема Мефистофеля (а для нас с вами, соответственно, также тема «Мастера и Маргариты»), возникающая в разговоре героя этого рассказа с его юной избранницей: «— Вы мстите обществу? Да? — перебила она меня вдруг с довольно едкой насмешкой». <…> — Видите, — заметил я тотчас же полушутливо-полутаинственно. — «Я — я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро…» Она быстро и с большим любопытством, в котором, впрочем, было много детского, посмотрела на меня: — Постойте… Что это за мысль? Откуда это? Я где-то слышала…» 36 www.franklang.ru 208 — Целуй, Аркадий! — говорил он, передав ему Петю, и Петя, не касаясь земли, тотчас же перешел в мощные и жадные в полном смысле слова объятия Аркадия Ивановича». В «Преступлении и наказании» и Соня, и сестра Раскольникова Дуня — вполне взрослые девушки. Они обе обижены — как жизнью (нищетой), так и сильным полом. Причем мужчин привлекает, видимо, сама униженность девушек. Так, Свидригайлов сначала унижает Дуню37, а затем пристает к ней, служащей в его семье гувернанткой, а жениху Дуни, Петру Петровичу Лужину, кажется, «сладостно» вытащить невесту «из грязи». (Петр Петрович — имя, которое само по себе является «пустым двойником».) А вот Дуня, прогнанная женой Свидригайлова: «А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в некрытой телеге». Здесь мы видим и проблему с одеждой (в данном случае — промокшей), столь характерную для детей и девушек Достоевского38. В самом начале романа «Преступление и наказание» Раскольников (только еще обдумывающий свое преступление) случайно видит идущую перед ним девушку, которую, видимо, напоив, «обманули»: «Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось «Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом…» 38 Интересно, что ту же проблему мы встречаем и у Андрея Платонова — например, в рассказе «Река Потудань»: «Никита оглянулся, — большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему. Никита подошел к ней и бережно оглядел ее — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала, — и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело». Этот рассказ заканчивается словами: «— Растопи печку посильней, а то я продрогла, — попросила Люба. Она была сейчас в одной заношенной ночной рубашке, и похудевшее тело ее озябло в прохладном сумраке позднего времени». 37 www.franklang.ru 209 проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шел, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и с первого же взгляда бросающееся в глаза, что малопомалу внимание его начало к ней приковываться, — сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи («матерчатое») платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клок отставал и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны». И тут же Раскольников встречает своего двойника-антипода (мужчину, также присматривающегося к девушке — но в нехороших целях) — и обзывает его Свидригайловым, хотя Свидригайлова он еще ни разу не видал, а только слышал о нем. Однако внешность Свидригайлова (кукольная, маскарадная) и его суть (тайная эротическая страсть — то ли к телу «неоперившейся девочки», то ли сугубо к ее страданию) угадывается Раскольниковым в незнакомом господине абсолютно точно: «Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И, однако ж, в стороне, шагах в пятнадцати, на краю бульвара, остановился один господин, которому, по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил, и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное. Господин этот был лет тридцати, www.franklang.ru 210 плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился; ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину. — Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? — крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами. — Это что значит? — строго спросил господин, нахмурив брови и свысока удивившись. — Убирайтесь, вот что! — Как ты смеешь, каналья!.. И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади, между ними стал городовой. <…> Городовой мигом все понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен, оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах. — Ax, жаль-то как! — сказал он, качая головой, — совсем еще как ребенок. Обманули, это как раз». Заметьте, что сострадание городового — обычное (нормальное), а не специфическое «достоевское». Скажем так: сострадание городового — это некрасовское сострадание, каким мы его находим, например, в стихотворении «Орина, мать солдатская». Мне оно по-человечески ближе. Зато у Достоевского сострадание предполагает двойника — а эта тема, как ты, любезный читатель, уже, наверное, успел заметить, меня занимает. И Свидригайлов, и Ставрогин — двойники-антиподы не только героев Достоевского, но прежде всего самого Достоевского. Они причиняют страдания юному существу, а он сострадает этому существу. Они — его личный ужас, от которого он отталкивается. Тем, что пишет свои произведения. www.franklang.ru 211 А Иван Карамазов? У него другая проблема, другое преступление. Но есть в романе один момент, который, кажется, ничем не мотивирован и не получает дальнейшего развития: «— А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо, — робко проговорил Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку. — А, это от того бесенка! — рассмеялся он злобно и, не распечатав конверта, вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер. Клочья разлетелись. — Шестнадцати лет еще нет, кажется, и уж предлагается! — презрительно проговорил он, опять зашагав по улице. — Как предлагается? — воскликнул Алеша. — Известно, как развратные женщины предлагаются. — Что ты, Иван, что ты? — горестно и горячо заступился Алеша. — Это ребенок, ты обижаешь ребенка! Она больна, она сама очень больна, она тоже, может быть, с ума сходит…» Обратите внимание на разрывание в клочки. Мы уже видели, как канарейка «разлетелась на сто перушков». А вот знаменитый рассказ Ивана — с раздеванием и разрыванием ребенка: «Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть… «Гони его!» — командует генерал. «Беги, беги!» — кричат ему псари, мальчик бежит… «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!..» Какое преступление происходит в романе «Преступление и наказание»? И какое наказание? Да, конечно, убийство старухи. Но ведь она подыгрывала Раскольникову (мы уже приводили тому примеры), это никакая не www.franklang.ru 212 процентщица, а «чертова бабушка», фольклорный и мифический персонаж. Раскольникова ведет черт («я ведь и сам знаю, что меня черт тащил»). И не случайно Раскольникову в начале романа встречается «обманутая» девочка, не случайно перед ним проходят «обманутые» Дуня и Соня, не случайно происходит встреча со Свидригайловым, то есть с двойником-антиподом. Другое (коренное!) преступление в романе — именно преступление Свидригайлова. И наказание (коренное, настоящее) — тоже его. И преступление Свидригайлова не таково, чтобы можно было выйти на перекресток и заявить о нем. Да и девочка ведь покончила с собой, а в этом Свидригайлов формально не был виноват. Я не хочу сказать, что линия Раскольникова вообще ведется «для отвода глаз». Тут именно интересно двойничество: герой-идеолог зла (то есть герой, находящийся на пути ко злу) — и его двойник, представляющий героя, уже дошедшего до зла, приобщившегося ко злу — так сказать, достигшего «конечной остановки». Двойник-маска, двойник-кукла, двойник-мертвец. Вот и наказание. Попытка осуществить свободу, добиться власти над миром не удалась — и герой оказывается в жестоком плену у того самого мира, который собирался покорить. Кого вам больше жалко — Раскольникова или Свидригайлова? Мне — почему-то Свидригайлова (как, кажется, и Достоевскому). И еще жалко Прекрасную Даму («поверьте, была красавица»), у которой отнимают ее зеленое шелковое платье и начинают «ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом». Человек испытывает страх перед Прекрасной Дамой — и стремится ее унизить. В рассказе Достоевского «Кроткая» есть такая мысль: «Говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами книзу, в бездну». В «Подростке» Версилов приходит к Софье39, приносит ей букет цветов. Вот что он хочет сделать с цветами и что делает с чудотворной иконой, на 39 Имя, конечно, значимо. София — премудрость Божья, преображенная тварь. www.franklang.ru 213 которой изображено двое святых (то есть положительное, благотворное двойничество): «Но одну подробность я слишком запомнил: мама (Софья. — И.Ф.) сидела на диване, а влево от дивана, на особом круглом столике, лежал как бы приготовленный к чему-то образ — древняя икона, без ризы, но лишь с венчиками на главах святых, которых изображено было двое. <…> (Приходит Версилов с букетом. — И.Ф.) — <…> Но я лучше буду про букет: как я его донес — не понимаю. Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой. Мама вздрогнула. — Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Наш мороз и цветы — какая противоположность! Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош. <…> Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — оглядел он нас всех с ужасно серьезным лицом и с самою искреннею сообщительностью. — Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и Бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца, в церкви, вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу40, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил… И, право, не знаю, почему мне все припоминается сегодня этот доктор; до того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вот я взял опять образ (он взял его и вертел в 40 В этом мы узнаем и Свидригайлова, и Ставрогина, и Ивана Карамазова. www.franklang.ru 214 руках), и знаешь, мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины — ни больше ни меньше. <…> Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, как уже несколько раз от тебя отправлялся… Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять — в этом смысле ты неминуема. К кому же мне и прийти, когда все кончится? Верь, Соня, что я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу: какой ты мне враг, какой ты мне враг! Не подумай, что с тем, чтоб разбить этот образ, потому что, знаешь ли что, Соня, мне все-таки ведь хочется разбить… <…> Вдруг он, с последним словом своим, стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись, из всех сил ударил его об угол изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска…» Приведем в этой связи отрывок из романа «Эликсиры дьявола» Э.Т.А. Гофмана. Любопытно, что Гофман, как и Достоевский, видел двойников на самом деле. Например, он как-то записывает в дневнике: «Накатывает предчувствие смерти. Двойники». В конце романа «Эликсиры дьявола» происходит убийство Прекрасной Дамы — ее закалывает двойник героя (как в романе Достоевского «Идиот» Настасью Филипповну закалывает двойник князя Мышкина — Рогожин): «— Что с тобой, Медард? — шепотом спросил меня приор. — Ты странно ведешь себя, восстань на брань с Искусителем, Врагом рода человеческого. Собрав все свои силы, я поднял глаза и увидел Аврелию, стоявшую на коленях у врат алтаря. О Господи, она сияла несказанной прелестью и красотой. Была она в белом брачном уборе, — ах, как в тот роковой день, когда ей предстояло стать моей. Живые розы и мирты украшали ее искусно заплетенные волосы. Щеки ее алели от жарких молитв и сознания торжественности минуты, а устремленный в небо взор светился неземным восторгом. www.franklang.ru 215 <…> С небывалой силой пылала у меня в сердце страсть... бушевало дикое вожделение... "О Боже!.. о святые заступники! Не дайте мне обезуметь, только бы не обезуметь!.. спасите меня, спасите от этой адской муки... не допустите меня обезуметь... ибо я совершу тогда самое ужасное на свете и навлеку на себя вечное проклятие!" Так я молился в душе, чувствуя, как надо мной все больше и больше власти забирает сатана. Мне чудилось, что Аврелия — соучастница преступления, задуманного мной, а обеты, которые она готова была дать, в действительности торжественная клятва у престола Небесного Царя — стать моей. <…> Обет был произнесен; во время пения антифонов, в котором принимали участие монахини двух орденов, Аврелию собирались облечь в иноческие одежды. Вот уже вынули розы и мирты у нее из волос, вот поднесли ножницы к ее ниспадающим волнами локонам, как вдруг в церкви началось смятение... я увидал, что люди сбились в кучи, а некоторые падали на пол... Все ближе и явственней становился шум... Бешено размахивая кулаками, бросая вокруг приводившие в трепет взгляды, сбивая всех с ног на своем пути, остервенело рвался сквозь толпу полунагой человек, — с тела у него свисала клочьями сутана капуцина. Я узнал в нем моего омерзительного двойника, но в тот самый миг, когда я, почуяв недоброе, рванулся ему наперерез, безумное чудовище перепрыгнуло низкую решетку перед иконостасом. Монахини, завопив, бросились врассыпную, аббатиса крепко обхватила Аврелию. — Ха-ха-ха41! — пронзительно закричал безумец. — Вам вздумалось похитить у меня принцессу?.. Ха-ха-ха!.. Принцесса — моя невеста, моя невеста... 41 Опять этот смех. www.franklang.ru 216 С этими словами он рывком приподнял Аврелию, взмахнул ножом и по самую рукоятку вонзил ей в грудь, — струя крови фонтаном брызнула вверх! — Ура!.. ура... я таки не упустил мою невесту... мою принцессу!..» Кадр из фильма «Кабинет доктора Калигари» Я думаю, что каковы бы ни были особенности личной фантазии автора, в произведении важно одно: страдающий или погибающий женский образ (Лолита Набокова, Лиза Достоевского, Настя из повести Андрея Платонова «Котлован»42) — это, с одной стороны, «Анима» писателя и его Муза (и одновременно София — «преображенная тварь»), с другой стороны — это его родина и будущее этой родины (Настя, например, это Анастасия — «воскресение»). Скажем несколько слов о двойничестве у Андрея Платонова. Платонов, как Гофман и Достоевский, двойника видел воочию, вот известный рассказ из его письма жене: 42 Или девочка Айдым из повести Андрея Платонова «Джан». www.franklang.ru 217 «Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью (у меня неудобная жесткая кровать) — ночь слабо светилась поздней луной, — я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, самого себя. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тоже я, и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то я, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих слез. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил. В первый раз я посмотрел на себя живого — с неясной и двусмысленной улыбкой, в бесцветном ночном сумраке. До сих пор я не могу отделаться от этого видения и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это — больше всякого чуда». О двойничестве и связанном с ним ужасе мы читаем и в «Записных книжках» писателя: «Когда я вижу в трамвае человека, похожего на меня, я выхожу вон»; «Я не смотрюсь никогда в зеркало, и у меня нет фотографий»; «Если я замечу, что человек говорит те же слова, что и я, или у него интонация в голосе похожа на мою, у меня начинается тошнота». В повести «Котлован» мы видим медведя-молотобойца — звериного двойника43 землекопа Никиты Чиклина: «Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне. <…> Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую, на одних задних лапах». А вот звериный двойник из рассказа Платонова «Река Потудань»: «Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжко, испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи». 43 www.franklang.ru 218 Кузнецы. Богородская игрушка. XIX век Явление звериного двойника в облике медведя — вещь очень частая. Вспомним, к примеру, пушкинских медведей: в «Евгении Онегине», в «Дубровском», в «Цыганах». В «Цыганах» Алеко хочет изменить свою жизнь (так сказать, повернуть ее на сто восемьдесят градусов) — стать своим двойником-антиподом. Оттого и водит медведя: А завтра с утренней зарей В одной телеге мы поедем; Примись за промысел любой: Железо куй — иль песни пой И селы обходи с медведем. Не случаен эпизод с переодеванием разбойника в медведицу и в романе Апулея «Метаморфозы»: «Пока кожа дубится от пламени небесного светила, мы тем временем до отвалу насыщаемся мясом и так распределяем обязанности в предстоящем деле, чтобы один из нас, превосходящий других не столько телесною силой, сколько мужеством духа, к тому же совершенно по доброй воле, www.franklang.ru 219 покрывшись этой шкурой, уподобился медведице и, будучи нами принесен в дом к Демохару, открыл нам, при благоприятном ночном безмолвии, свободный доступ через двери дома». Этого переодетого в медведицу разбойника затем, как Актеона, разрывают собаки. В фильме «Метрополис» Фрица Ланга для Фредерсена, правителя Метрополиса, звериным двойником является мастер Грот. Он хранитель генератора — «сердца» Метрополиса. (Собственно, это благодаря ему вся волнительная история кончается хорошо.) Грот зарос бородой, лохмат, одет в темный свободный рабочий костюм, на ногах у него туфли, напоминающие лапы, да и просто он выглядит и движется как медведь в любительском спектакле, разве что без маски. В решающий для судьбы Метрополиса момент мы видим Фредерсена и Грота, разговаривающих по видеотелефону. Мы видим Фредерсена перед экраном с трубкой в руке, а на экране — Грота с трубкой в руке. Причем так, что получается зеркальное отображение, экран превращается в зеркало. Последний же кадр фильма — рукопожатие между правителем Фредерсеном и мастером Гротом. В повести-сказке Михаила Пришвина «Корабельная чаща» (1953) у Василия Веселкина есть двойник — Мануйло. Мануйло — звериный двойник («Ты у нас, Мануйло, похож на медведя»), умеющий, например, разбирать «грамоту птички» на песчаном берегу — «по следам трясогузки <…> понимать движение прибывающей и убывающей воды на Двине». Примечательно, что в конце повести Мануйло убивает медведя44. Василий встречается с этим «большим человеком»-Тенью («человек этот был такой большой, что длины койки ему не хватало») в военном госпитале (Мануйло попал под упавшее дерево). Примечательно, что раненый Василий сначала не видит соседа по койке (не может повернуть шеи), а слышит лишь 44 Так и Пятница в романе Дефо убивает медведя, предварительно как следует поиграв с ним. www.franklang.ru 220 его голос. Имя Мануйло говорит о его «сказочности», точнее, о его связи с «чудесным миром»45 — более истинным, чем обыденный: «— Вот оно что, — подивился Веселкин, — значит, ты сказочник? — Нет, — ответил сосед, — сказками у нас заманивают в небывалое, а я говорю только то, что между нами самими: я только правду говорю и никуда не заманиваю. Я говорю: нет на свете краше того места, где реки текут Кода и Лода. — А как тебя зовут? — Меня зовут Мануйло, и они все думают: за то меня назвали Мануйло, что я умею манить. А я говорю только правду, они же до того врут, что мою правду считают за сказку и ходят ко мне слушать. Я же так люблю сказывать правду!» 45 «…такой чудесный мир у нас так близко, прямо же тут, за околицей…» www.franklang.ru 221 М. В. Нестеров. Юность преподобного Сергия. 1897 год Мануйло в судьбе Василия и детей Василия играет роль волшебного помощника («Настя умным сердцем своим почуяла что-то в Мануйле такое хорошее, будто он им был тоже отец, только не свой родной, а какой-то общий: всем детям отец»). Интересны и «пустые двойники» повести (то есть двойники, подчеркивающие основную линию двойничества, как бы перпендикулярные к этой линии). Вы уже, наверное, обратили внимание на www.franklang.ru 222 две реки с созвучными названиями. А вот два охотника, которые могут охотиться только вместе, из одного ружья, держась друг за друга: «…первые охотники, спорить об этом никто не станет, это, конечно, братки, два одинаковых брата — Петр и Павел. До того братки друг на друга похожи, что узнать верно, кто у них Петр и кто Павел, можно только, когда они рядом. Но хорошо, что никогда и нельзя увидеть их отдельно. От рождения Петр был совершенно глухой, а Павел слепой, но зато глухой Петр имел такое острое зрение, что видел, говорят все, вдвое дальше среднего человека, а слепой Павел слышал вдвое против среднего человека. Вот почему всегда так бывало, что когда слепой Павел издали услышит такое, чего средний человек еще слышать не может, то, почуяв движение брата, глухой Петр повертывает туда голову и видит такое, что для среднего человека еще совершенно невидимо. А еще у братков то замечательно и всем тоже известно в Вологде, что они могут говорить только правду и ни разу никого в жизни своей не обманывали». Вернемся к медведю в «Котловане». Чиклин с Мишей отправляются раскулачивать: «Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче, — какой-то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную секущую частоту прямым уличным порядком, потому что Чиклину невозможно было считаться с настроением природы; только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху, оставив снаружи лишь ее голову, чтоб она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем, ей было хорошо, что животные тоже есть рабочий класс, а молотобоец глядел на нее как на забытую сестру, с которой он жировал у материнского живота в летнем лесу своего детства». www.franklang.ru 223 Мы видим здесь героя, «Прекрасную Даму», звериного двойника-антипода. Все мифические фигуры в сборе. А заодно видим и снежную вьюгу, в которой к «белым мухам» примешаны черные живые мухи, означающие смерть (они появились от забитой скотины, уничтожение которой приведет в ближайшем будущем к голоду): «Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел вокруг — чего бы это схватить или выломать ей для подарка? Но никакого мало-мальски счастливого предмета не было вблизи, кроме глиносоломенных жилищ и плетней. Тогда молотобоец вгляделся в снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь тоже нету — они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице, — мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом. — Отчего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя. — От кулаков, дочка! — сказал Чиклин». Мы чувствуем, что где-то здесь недалеко и сам «Повелитель мух». Еще раз заглянем к Пришвину. В повести «Мирская чаша» (192246), в главе «Мистерия», больной учитель Алпатов в бреду видит снежную стихию и вышедшего из снежного столба-смерча оратора с ледяным голосом, провозглашающего смерть. Этот «молодой человек с пепельным лицом» превращается затем в говорящего белого медведя («очень высокого»!) и отнимает у мужика топор: «С той стороны огромной площади, где барышники, не обращая внимания на похороны, торговали у мужика сивую клячу, смерч завернулся огромным столбом и, набежав сюда, к Карлу Марксу, выбросил из себя автомобиль, в нем стоял молодой человек с пепельным лицом и всеми кривыми чертами лица. Ледяным голосом крикнул молодой человек: — Смерть! Ни «Мирская чаша», ни «Котлован» не были напечатаны при жизни авторов. Тем примечательнее совпадения. 46 www.franklang.ru 224 Все в страхе примолкли. <…> Белый пар изо рта страшного оратора начинает падать снежинками, скажет: смерть! — и густеет снег, и падает, и сам он все растет и белеет, и вдруг, выходит, это не человек, а очень высокий белый медведь показывает на стройного блондина, стоит на задних лапах, а передними все машет и машет, разбрасывая снег во все стороны. В ужасе все жмутся к мужику с топором. — Нехай, нехай, — говорит он. — Вали его, бей! — Нехай, нехай подходит! — Ну, бей же! — Нехай, нехай! — Дай-ка свой топор посмотреть, — говорит спокойно белый медведь. И тот отдает, а сам видит смерть в лицо и все-таки повторяет: — Нехай, нехай! — Шубу, шубу! — кричит в ужасном ознобе Алпатов. <…> Шубой белой всю ночь садится снег, белеет сначала на крышах, потом и озими, зеленея, сереют и к утру тоже белеют ровно, и даже высокое жнивье и полынки, все закрылось, только чернела середина живой еще речки, принимая в себя белый снег». В повести «Мирская чаша» есть и двойник-убийца: «Раз налетел вдруг на музей самый страшный из всех комиссаров Персюк, Фомкин брат: в сумерках на выжженных лядах из пней и коряг складываются иногда такие рожи, а тут еще фуражка матросская, из-под нее казацкий чуб — знак русской вольности, а на френче все карманы — знак европейского порядка, и в каждом кармане, кажется, сидит по эсеру, меньшевику, кооператору, купцу, схваченных где-нибудь на ходу под пьяную www.franklang.ru 225 руку, давно забытых, еле живых там в махорке, с оторванными пуговицами, окурками и всякой дрянью». Это прямо-таки образ монстра из фильма ужасов. Так, впрочем, и сказано: «это чудище — Персюк». В главе «Мистерия» Персюк выходит, как и белый медведь, из вихря: «Темный вихрь явился навстречу отцу Афанасию, вышел из вихря Персюк с конным отрядом и реквизировал тело Алпатова». Фамилия «Персюк» напоминает и о череде двойников-персов в русской литературе, и о Басаврюке — «бесовском человеке» из рассказа Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» (1830). Помимо множества разных людей, оказавшихся в карманах этого бога смерти, Персюк убивает и родного брата Фомку (а «Фома» означает «близнец»). Алпатов в своем бреду видит: «И вдруг это Фомка. — Ай, ты жив? — Жив. И поднимает рубашку, а там против сердца рубец вершок шириной. — Кто же это тебя так чкнул? — Персюк, родной брат». И еще один важный признак двойничества Персюка явлен в том, что он — оживающая статуя (или человек, замирающий в статую47), — и когда Алпатов вырезает подстав для лучины в виде Персюка, и когда Персюк изображает собой Медного всадника: «…в одну минуту из липы, как живой, вышел Фомкин брат, в темя ему три гвоздя, и получается прекрасный подстав для лучины: светец. <…> …и вот — бездомный в вечном движении, с горящим факелом на голове из разбитого казенного сундука, неколебимо стоит Персюк-болван, Фомкин брат...» Так, например, ведет себя и гоголевский Басаврюк: «Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот вполовину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!..» 47 www.franklang.ru 226 «Музыка затихла, гроб поставили у края могилы. Красная армия выстроилась вокруг Карла Маркса, и впереди всех Персюк на коне грозно сидит, как Петр Великий при казни стрельцов». Вернемся в «Котлован». Чиклину автор в первоначальном варианте повести дал фамилию Климентов — то есть свою собственную («Платонов» — это псевдоним писателя). Землекоп Чиклин — двойник-антипод автора. Чиклин и сам лично, помимо сопутствующего ему медведя, обладает некоторыми признаками звериного двойника: «Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал...» Чиклин, кстати сказать, убийца. Однако у автора есть в повести не только двойник-антипод, но и просто двойник — искатель истины и смысла жизни Вощев, с которого и начинается повесть: «В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». Соответственно, у Вощева двойник-антипод — Чиклин (с медведем). Так сказать, двойной двойник. Вот отрывок, где это хорошо видно: «Члены колхоза сожгли весь уголь в кузне, истратили все наличное железо на полезные изделия, починили всякий мертвый инвентарь и с тоскою, что кончился труд и как бы теперь колхоз не пошел в убыток, оставили заведение. Молотобоец утомился еще раньше — он вылез недавно поесть снегу от жажды, и пока снег таял у него во рту, медведь задремал и свалился всем туловищем вниз, на покой. Вышедши наружу, колхоз сел у плетня и стал сидеть, озирая всю деревню, снег же таял под неподвижными мужиками. Прекратив трудиться, Вощев опять вдруг задумался на одном месте. www.franklang.ru 227 — Очнись! — сказал ему Чиклин. — Ляжь с медведем и забудься. — Истина, товарищ Чиклин, забыться не может… Чиклин обхватил Вощева поперек и сложил его к спящему молотобойцу. — Лежи молча, — сказал он над ним, — медведь дышит, а ты не можешь! Пролетариат терпит, а ты боишься! Ишь ты, сволочь какая! Вощев приник к молотобойцу, согрелся и заснул. «Или я хуже рабочего зверя, что он живет и чует, а я мучаюсь, — подумал Вощев накануне сна. — Отчего я забыл смысл, ведь я его, кажется, знал?»» Когда Настя умирает, Вощев чувствует, что умерла сама жизнь, что нет будущего ни у него, ни у его страны, ни вообще у всего мира: «Настя хотя и глядела на Вощева, но ничему не обрадовалась, и Вощев прикоснулся к ней, видя ее открытый смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем? Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Вощев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал». «Распавшиеся губы» умершей девочки соответствуют в повести распавшемуся рту умирающей лошади, которую заморил хозяин, чтобы не отдавать ее в колхоз: «Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте. — Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо. Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба www.franklang.ru 228 глаза лошади забелели в темноте, она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить. — Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду, — сказал хозяин двора. Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог». Тут приходит на ум соответствие между Анной Карениной и лошадью ФруФру у Толстого. На самом деле мне и в образе привидевшегося Анне Карениной во сне мужичка, что-то делающего с железом и бормочущего по-французски, чудится платоновский говорящий медведь-молотобоец48: «Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок с взлохмаченной бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею». И потом, в момент самоубийства: «Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — проговорила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом». Тот же сон снится и Вронскому, причем в связи с медвежьей охотой: «Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. «Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова»». 48 www.franklang.ru 229 Любопытно, что в пьесе Платонова «Шарманка» есть «Кузьма — железный человек, аттракцион группы Алеша-Мюд». Алеша (пеший большевик) — герой, Мюд — «девушка-подросток», подобная гётевской Миньоне (поет, например, песню: «В страну далекую / Собрались пешеходы, / Ушли от родины / В безвестную свободу…»), Кузьма — двойник-антипод, аналог медведя из «Котлована», предстающий здесь в ипостаси ожившей статуи49, но и сохраняющий некоторые медвежьи черты (его, словно медведя, водят бродячие артисты): «На сцену выявляется механическая личность — Железный человек, в дальнейшем называемая Кузьмой. Это металлическое заводное устройство в форме низкого, широкого человека, важно вышагивающего вперед и хлопающего все время ртом, как бы совершая дыхание. Кузьму ведет за руку, вращая ее вокруг оси, как руль или регулятор, молодой человек в соломенной шляпе, с лицом странника — Алеша. Вместе с ним появляется Мюд — девушка-подросток. Она держит себя и говорит — доверчиво и ясно: она не знала угнетения. За спиной у Алеши шарманка. Вся группа дает впечатление, что это пешие музыканты, а Кузьма их аттракцион». В дальнейшем Кузьма лишается головы, что для двойника-антипода отнюдь не редкий случай: «Алеша выводит Кузьму из собрания наперед. Вынимает из кармана разводной ключ, отвертку и прочие инструменты. Отвинчивает Кузьме голову и швыряет ее прочь». Вернемся к «Котловану». Чиклин и медведь прощаются с Настей — и опять все мифические фигуры оказываются в сборе: «Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье». Есть такой искусственный человек и в пьесе Платонова «14 Красных избушек, или Герой нашего времени», причем с жестом, обнаруживающим в нем ипостась оживающей статуи: «В средней части сцены стоит чучело, устроенное из глины, соломы и различной ветоши. Чучело похоже на сурового человека, ростом в полтора человека. Правая рука чучела высоко поднята в неопределенной угрозе». 49 www.franklang.ru 230 Чернобыльник По народному поверью, человек может перед смертью увидеть своего двойника. Так, например, в рассказе Ивана Бунина «Господин из СанФранциско» главный герой, прибыв на остров Капри, видит непосредственно перед смертью двойника — правда, не своего, а двойника некоего приснившегося ему накануне джентльмена: «Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из СанФранциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...» Примечательно, что двойник как бы выходит из сна, — так часто бывает. Роковой двойник-тень является Моцарту в пушкинском «Моцарте и Сальери» — и заказывает композитору Requiem: Сальери Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, А ты молчишь и хмуришься. www.franklang.ru 231 Моцарт Признаться, Мой Requiem меня тревожит. Сальери А! Ты сочиняешь Requiem? Давно ли? Моцарт Давно, недели три. Но странный случай... Не сказывал тебе я? Сальери Нет. Моцарт Так слушай. Недели три тому, пришел я поздно Домой. Сказали мне, что заходил За мною кто-то. Отчего — не знаю, Всю ночь я думал: кто бы это был? И что ему во мне? Назавтра тот же Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу С моим мальчишкой. Кликнули меня; Я вышел. Человек, одетый в черном, Учтиво поклонившись, заказал Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас И стал писать — и с той поры за мною Не приходил мой черный человек; А я и рад: мне было б жаль расстаться С моей работой, хоть совсем готов Уж Requiem. Но между тем я... Сальери www.franklang.ru 232 Что? Моцарт Мне совестно признаться в этом... Сальери В чем же? Моцарт Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек. За мною всюду Как тень он гонится. Вот и теперь Мне кажется, он с нами сам-третей Сидит. Более того, Пушкин ощущает, что двойник сидит не просто рядом, а прямотаки внутри него, что он сам — свой собственный двойник-антипод. И тут ему приходит на помощь его «африканское» происхождение50: А я, повеса вечно-праздный, Потомок негров безобразный, Взращенный в дикой простоте, Любви не ведая страданий, Я нравлюсь юной красоте Бесстыдным бешенством желаний; С невольным пламенем ланит Украдкой нимфа молодая, Сама себя не понимая, На фавна иногда глядит. И в этом смысле любопытно предсказание гадалки юному Пушкину о том, что его ждет гибель от «белого человека». Двойник-антипод («черный человек») должен погибнуть. 50 www.franklang.ru 233 В рассказе Льва Толстого «Хозяин и работник» главному герою перед смертью также является двойник — в виде мятущегося под ветром черного куста чернобыльника на белом снегу. Хозяин, Василий Андреич Брехунов, поехал, захватив работника Никиту, торговать по дешевке рощу. «Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку», поехал поэтому в плохую погоду, попал в метель и заблудился. Устроились было ночевать в поле, но Василий Андреич не выдержал холода и бездействия, отвязал лошадь и попытался найти дорогу к жилью. Вот тут-то и является ему чернобыльник: «Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево. Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепыхался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, — подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» — www.franklang.ru 234 подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них. <…> Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув набок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более двадцати шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, — подумал он, — как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!» — мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли все это?» — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительно пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти». В последних строках становится очевидным, что чернобыльник — двойник, да еще предвещающий смерть. И он наводит на Василия Андреича ужас. И действительность похожа на сон, отличается от сна лишь тем, что «просыпаться некуда». И двойника невозможно обойти — подобно тому, как герой сказки не может обойти избушку на курьих ножках. Вот и кружится www.franklang.ru 235 Василий Андреич, возвращаясь на свой же след, проезжая два раза мимо все того же чернобыльника. Лев Толстой умом, кажется, был далек от всякого мистицизма, но в своем художестве он мистик. И его чернобыльник занимает достойное место в ряду принимающих человеческий облик, обращающихся с явной или тайной речью (то есть подающих знаки) деревьев мировой литературы — от неопалимой купины Библии до жестикулирующих деревьев Пруста. Вот один пример — из рассказа Андрея Платонова «Мусорный ветер»: «Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданьем прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании. — Кто ты? — спросил Лихтенберг. Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна». Вот еще один пример. В повести-сказке Михаила Пришвина «Корабельная чаща» главный герой — Василий Веселкин — в детстве воспринимает одну елочку («деревце бледное, высотой не больше, как в рост человека с поднятой вверх рукой») как своего двойника («Нам за то, может быть, и приглянулось Васино дерево, что захотелось ближе самого Васю понять»), спасает эту елочку от порубки, заходит, став уже взрослым лесником, время от времени ее проведать, а потом видит ее на войне: «Сказать, чтобы Василий Веселкин так-таки все и думал на войне о своей елке в шишках кровавого цвета, осыпаемых золотой пыльцой, — нет! он никогда об этом не думал. Но случилось однажды, когда война уже решалась в пользу нас, сержант Веселкин вышел из окопа и приказал части своей подниматься в атаку. Казалось, все было вокруг обыкновенно и просто, но, — вдруг свет, великий свет больше солнца, может быть, свет самой истинной правды просиял www.franklang.ru 236 перед ним, и он открытыми глазами мог смотреть на него! Он видел на поле елочку правильной формы, и каждый сук, каждая ветка на ней выносила из тени на свет знамя будущего, сложенное в шишечку кровавого цвета, и на шишечку со всех сторон летела золотая пыльца. Так было человеку, так ему и бывает порой, а люди видели самое обыкновенное, то, что видят они каждый день на войне: сержант Веселкин упал». Такова «Васина елочка». Это одновременно и древесный двойник (то есть он сам), и дарующее жизнь и смерть Мировое Древо (то есть богиня). А еще в этой повести есть такие слова: «Но каждый из нас знает, — за каждым кустиком, из каждого овражка во все глаза на нас кто-то глядит». www.franklang.ru 237 Моисей перед Неопалимой купиной. Икона XII века, монастырь Святой Екатерины Примечательно, что в христианстве неопалимая купина знаменует собой непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого. www.franklang.ru 238 Икона «Неопалимая купина». XIX век По сути же оживающее (обретающее человеческие черты) дерево есть Изида. www.franklang.ru 239 Изида, кормящая своего сына Гора. XXV династия, бронза. Подобные египетские изображения легли в основу изображений Богоматери. Один из эпитетов Изиды — «великая мать бога» И не ругайте меня язычником — я укроюсь за Пушкина. Именно Изида сквозит во всех его оживающих утопленницах51 и утопленниках52, статуях («Каменный гость» и «Медный всадник»), в подмигивающей пиковой даме… 51 В стихотворении «Как счастлив я, когда могу покинуть»: «О, скоро ли она со дна речного / Подымется, как рыбка золотая? <…> Пронзительно сих влажных синих уст / Прохладное лобзанье без дыханья…» 52 В стихотворении «Утопленник»: «Долго мертвый меж волнами / Плыл качаясь, как живой; / Проводив его глазами, / Наш мужик пошел домой. <…> Уж с утра погода злится, / Ночью буря настает, / И утопленник стучится / Под окном и у ворот». www.franklang.ru 240 (Пол оживающего перед героем существа может быть как женским, так и мужским, поскольку Изида есть некая основа жизни, зеркало, и показывает она в этом зеркале человеку его двойника-антипода. Изида изначально — андрогинное божество: «Я, пребывающая женщиной, ставшая мужчиной».) И откуда, как вы думаете, пришла «белая снежная мгла» в толстовский рассказ, как не из пушкинских «Метели» и «Капитанской дочки»? И эта метель — тоже Изида. У Пушкина она живая: Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя, То по кровле обветшалой Вдруг соломой зашумит, То, как путник запоздалый, К нам в окошко застучит53. Или вот, в «Капитанской дочке»: «Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»... Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным…» Метель — это поедающий героя мифический зверь. Она направляет его судьбу — подобно тому, как кит направляет судьбу Ионы. (С той оговоркой, что в иудаизме, конечно, морское чудовище действует не по своему почину, 53 Тут видна, кстати сказать, связь со стихотворением «Утопленник». www.franklang.ru 241 а является орудием Бога.) Кроме того, метель (как вообще снег) знаменует собой основу жизни: однородную, одноцветную, состоящую из одинаковых мелких элементов, способную как быть взвихренной, оживленной ветром, так и успокоенной, недвижной, мертвой. И в «Метели», и в «Капитанской дочке» метель перестраивает, решает посвоему судьбу героя. И в обоих произведениях использует при этом двойничество. В «Капитанской дочке» двойником-антиподом Петра Гринёва выступает Пугачев. Он возникает как порождение бурана, братается с героем (обменявшись тулупами), устраивает его судьбу. И под конец — перед самой казнью — еще успевает кивнуть Гринёву головой, которая тут же была отрублена. То есть мы, по сути, опять видим кивающего мертвеца. А в «Метели» все заблудились так, что двойник женится на Марии: «Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» — и упала без памяти». «Метель» — вторая повесть из «Повестей Белкина». Первая же — «Выстрел». И тут я перехожу к тому, что, собственно, имею вам сказать нового в этой главе. Герою является двойник. Это страшно. А что если сделать героем самого двойника-антипода? Так, например, в рассказе Михаила Пришвина «Черный Араб» (1910) рассказчик, путешествуя по Киргизии, прикидывается едущим из Мекки арабом: «Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, Черный Араб». Рассказчик употребляет здесь (в начале повествования) слово «двойник» не всерьез, а имея в виду лишь слух, сопровождающий его путешествие. Но затем понимает, что он действительно создал (или вызвал) двойника: «— Что еще есть нового в степи? — допрашивали люди, пьющие кумыс. — Еще что? — повторил гость. Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный Араб и www.franklang.ru 242 обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого. — Он здесь! — сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот. «Нет, — подумали мы, — здесь уже нет Черного Араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он — как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот»». В рассказе Пушкина «Выстрел» вводится нейтральный рассказчик — и начинает рассказывать о некоем Сильвио — типичном двойнике-антиподе, иностранце, Воланде: «Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя». Пушкин откровенно наделяет Сильвио дьявольскими чертами: «Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола». У Сильвио есть цель — отмстить обидчику, давшему когда-то ему пощечину. Дуэль уже была, обидчик выстрелил, но Сильвио, как выпомните, отложил свой выстрел: «Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». — «Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он, — извольте себе стрелять, а впрочем, как www.franklang.ru 243 вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился». Тут примечательна простреленная фуражка Сильвио, напоминающая нам о том, что двойник-антипод нередко либо лишается головы, либо оказывается пораженным в голову. И вот Сильвио упражняется в стрельбе из пистолета и достигает в этом умении невероятных результатов. Он выжидает удобного момента. Сюжет не очень редкий, если вы смотрели американские или китайские боевики. Герой обижен — тренируется — успешно мстит. У Пушкина же, как вы помните, другой поворот. Рассказчик оказывается в гостях у новых соседей и видит след удивительного выстрела: «Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. — Вот хороший выстрел, — сказал я, обращаясь к графу. — Да, — отвечал он, — выстрел очень замечательный». Далее выясняется, что это выстрел Сильвио, что граф и был тем самым обидчиком, что Сильвио пришел к нему в тот момент, когда граф только что женился и был вполне счастлив, что Сильвио предложил бросить жребий (кому стрелять первым), что первый выстрел выпал графу, что он промахнулся и попал в картину, что Сильвио не стал стрелять в графа, а, уходя, вогнал пулю в пулю. Вот как описан приход Сильвио к графу: «Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и www.franklang.ru 244 увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно, — продолжал он, — выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?»» Мистика начинается с заупрямившейся лошади. Сильвио является графу как типичный двойник-тень, как «черный человек» — Моцарту. Мы ведь понимаем, что под Моцартом Пушкин вывел себя — и говорил о своих страхах и своей судьбе. Между прочим, как известно, и черешни на дуэли ел сам Пушкин. И вот в повести «Выстрел» он решил посмотреть на себя извне, взяв за точку отсчета своего «черного человека»: «Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но — я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.) — Я выстрелил, — продолжал граф, — и, слава Богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, — сказал я ей, — разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, — правда ли, что вы оба шутите?» — «Он всегда шутит, графиня, — отвечал ей Сильвио, — однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! — закричал я в бешенстве; — а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной www.franklang.ru 245 женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» — «Не буду, — отвечал Сильвио, — я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться». Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами». Двойник-антипод проучил героя, но пощадил его. И, видимо, даже научил чему-то крайне важному в жизни. А сам погиб, как обычно и случается с двойниками (гибнет, например, и первый жених из повести «Метель» — в войне 1812 года). Гибнет и Василий Андреич в рассказе Толстого. А он-то почему? А потому что он сам — вполне неожиданно для самого себя — превращается в двойника-антипода другого человека — Никиты («Жив, Никита, значит, жив и я»). Хозяин спасает жизнь своему работнику. Василий Андреич укрывает собой Никиту — так, как пуля Сильвио входит в пулю графа. (Объятие — один из частых признаков двойничества.) Укрывает собой и своей шубой (и шуба, символизирующая мех, — один из частых признаков двойникаантипода, звериного двойника). Василий Андреич становится Тенью. Он, замерзнув, превращается в Статую. И эта неживая, ледяная и снежная Статуя (плоть от плоти Изиды-метели) спасает другого человека. А случилось это с Василием Андреичем потому, что он повстречал чернобыльник, мимо которого не пройти, потому что это он сам, потому что чернобыльник — у него внутри. (Подобно этому в христианстве исихасты, www.franklang.ru 246 созерцая в душе неопалимую купину, рождают в самих себе богочеловека.) Судите сами: «— А что ж, аль зазяб? — спросил Василий Андреич. — Чую, смерть моя… прости, Христа ради… — сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками. Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился. — А вот то-то, а ты говоришь — помираешь. Лежи, грейся, мы вот как… — начал было Василий Андреич. Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настраивался я, видно, ослаб вовсе», — подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость. «Мы вот как», — говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы. www.franklang.ru 247 Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние. — Микита! — сказал он. — Хорошо, тепло, — откликнулось ему снизу. — Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы… Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить. «Ну, ничего, — подумал он. — Я сам про себя знаю, что знаю». И он замолк. Так он лежал долго. Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика. Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого. «Небось не вывернется», — говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи. Так пролежал Василий Андреич час, и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом все это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета www.franklang.ru 248 радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищеные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой, и с Иваном Матвеичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» — «Нет, — говорит, — не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?» — «Нету». И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать — и не может, хочет двинуть рукой — не может, ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает www.franklang.ru 249 слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив, Никита, значит, жив и я», — с торжеством говорит он себе. И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, — думает он про Василья Брехунова. — Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его. И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич. Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту». Рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско», кстати, кончается, как вы помните, так: «В самом низу, в подводной утробе "Атлантиды", тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, — клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина "Атлантиды", столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно www.franklang.ru 250 сталкивалась среди той толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...» Мы видим здесь «живое чудовище» — корабль, видим вьюгу (долетевшую опять же из Пушкина, как долетит она затем и до «Белой гвардии» Булгакова, и до «Доктора Живаго» Пастернака). А внизу стоит, конечно, гроб с телом господина из Сан-Франциско. А почему говорится, что «никто не знал» этого? И зачем вообще кому-либо это знать? Пожалуй, затем, что господин этот стал общим двойником54 той нарядной толпы, что находится над ним. И вообще, «мы все скоро узнаем» (этими словами заканчивается рассказ Толстого), зачем. Озерный старец (Положительное двойничество в романе Евгения Водолазкина «Лавр») Тема двойников живо интересовала Бунина. В его романе «Жизнь Арсеньева» автобиографический герой читает героине автобиографическую книгу Гёте «Поэзия и правда: из моей жизни». И между ними происходит в этой связи такой разговор: «Она внимательно слушала. Потом вдруг спрашивала: — А скажи, зачем ты прочел мне это место из Гёте? Вот, как он уезжал от Фредерики и вдруг мысленно увидал какого-то всадника, ехавшего куда-то в сером камзоле, обшитом золотыми галунами. Как это там сказано? — «Этот всадник был я сам. На мне был серый камзол, обшитый золотыми галунами, какого я никогда не носил». — Ну да, и это как-то чудесно и страшно». 54 www.franklang.ru 251 Я покажу на одном из эпизодов этого современного романа (и затем кратко еще на нескольких дополнительных фрагментах из него), во-первых, что двойничество отнюдь не является исключительной особенностью романтической поэтики и, во-вторых, что оно вовсе не обязательно есть «часть той силы, что вечно хочет зла». В романе «Лавр» двойничество заряжено положительно. Целитель Арсений (главный герой романа) хочет уйти (бежать) из города Белозерска, из которого его не отпускает князь. Однажды ночью он просто (наудачу) направляется к запертым городским воротам, надеясь на помощь ангела (или предчувствуя эту помощь). При этом он надевает шубу (что важно для нашего разговора о двойничестве, как вы позже увидите): «Я, знаешь, пойду к городским воротам. Они о сию пору затворены, но аще се будет надобе, выведет мя ангел из града сего. Взгляд его упал на шубу, подаренную князем. Он не надевал ее еще ни разу. Несмотря на свое великолепие, шуба не была ни тяжелой, ни громоздкой. Арсений надел шубу и прошелся по комнате. Шуба ему нравилась. Арсений подумал, что начинает ценить удобство дорогих вещей, и ему стало неловко. Постояв в шубе с минуту, он решил все-таки ее не снимать. Если ему действительно предстоит путешествие, такая шуба может пригодиться». На улице Арсения встречают поземка и темнота, но не мешают ему: «По улице веяла поземка. Ничего не видя в темноте, Арсений чувствовал ее колючее прикосновение щеками. В окнах не светилось ни одного огня, и это было хорошим знаком: ночные огни в его жизни сопровождали болезни и смерти. Темнота не мешала ему идти. Путь к городским воротам он мог бы проделать и с закрытыми глазами». Начнем собирать признаки двойника, а также явления, ему сопутствующие. (Речь идет о двойнике-антиподе, который может проявляться и как звериный двойник — смотрите мою книгу «Прыжок через быка» или резюме этой книги в моей статье «Териоморфный двойник в романе Бориса Пастернака www.franklang.ru 252 “Доктор Живаго”».) Один из его частых признаков — шуба (или тулуп). Шуба — это вместо звериного меха. Одно из часто сопутствующих явлений — метель или буря. И нередко двойник является именно во тьме. Это потому, что метель и буря символизируют поглощающую героя стихию, поедающий его хаос. То есть чрево мифического зверя. Ипостасью этого зверя, отражением героя в этом звере и является двойник-антипод. Однако было бы смешно утверждать, что если человек зимой надел шубу, вышел ночью на улицу и встретил там тьму и метель, то это уже само по себе предвещает встречу с двойником. Нет, конечно. Посмотрим, что происходит дальше: «На открытом месте у ворот было немного светлее. В одном из углов площади Арсений заметил движение. Поколебавшись, он направился туда. На фоне свежеоструганного частокола проступили лошадь и всадник. Арсений не знал, ездят ли ангелы верхом. Рядом стояла еще одна лошадь. Готов, тихо спросил всадник. Готов, так же тихо ответил Арсений. Всадник молча указал ему на вторую лошадь, и Арсений запрыгнул в седло. Всадник тронулся в направлении ворот. Арсений последовал за ним. У ворот всадник спешился и постучал в будку стражи. В ответ произнесли что-то сонное. Всадник вошел. Из будки послышался тихий разговор, сопровождаемый звяканьем монет. Через минуту из будки вышли несколько человек, в том числе и всадник. Он снова занял свое место в седле. Два человека вставили ключ в замок и повернули его с лязгом — неожиданно громким, прокатившимся по безмолвному городу. Трое других нажали на ворота. Они открылись — опять же со скрипом — ровно на то расстояние, которое было необходимо для прохода лошади. В этой щели исчезли ночные странники. Стража мздоимна, сказал спутник Арсения, когда они были далеко от ворот». www.franklang.ru 253 Этот всадник, который, словно ангел, поджидал Арсения, ждал на самом деле вовсе не Арсения и был отнюдь не ангелом, а разбойником. Он принял Арсения за своего сообщника, разбойника Жилу. Вот с этого момента мы уже определенно видим двойника. И шуба начинает работать как признак двойника, а метель и тьма — как сопутствующие двойнику явления. Двойник-антипод обычно играет по отношению к герою судьбоносную роль (иногда сознательно, но очень часто и невольно). Он — помощник, рука судьбы. Так и разбойник помогает Арсению. И преодоление стены (ворот) также характерно для помощи двойника: он выводит героя на свободу. Важно и то, что появляется именно разбойник, поскольку двойник-антипод очень часто, так сказать, маргинал. Ведь он — плоть от плоти стихии, хаоса. Скажем так: воплощение, сгусток тьмы, метели. Кроме того, примечательно, что разбойник сам сидит на лошади и держит другую лошадь наготове. Вопервых, потому, что разбойников, значит, двое (и Арсений как бы замещает одного из них). Во-вторых, потому, что звериный двойник может быть звериным, не только действительно превратившись в зверя или обладая какими-либо звериными чертами внешности или одежды, но и имея зверя при себе. А тут даже круче: Арсения словно ждет кентавр, предлагающий и ему стать кентавром. Дальше — в лес: «Арсений кивнул, только этого никто не увидел. Больше спутник ничего ему не говорил. Вскоре они въехали в лес. Лишь там стало понятно, что такое настоящая темнота. Ехать приходилось медленно, лошади переставляли ноги на ощупь. Один раз по лицу незнакомца ударила ветка, и он грязно выругался. Арсений понял, что его сопровождает не ангел. Он подозревал это с первой минуты их встречи. Спустя четверть часа последовала вторая ветка, которая выбила всадника из седла. Падая, он неловко выставил ногу и повредил ее. Тут же попытался встать, наступил на поврежденную ногу и со стоном свалился на землю. www.franklang.ru 254 Нога… Доездился, бля». Тут уже много всего, двойнические приметы сгущаются. Во-первых, въезд в лес. Лес — одновременно и стихия, и зверь, он поглощает героя, проходящего обряд посвящения. (И не случайно тут подчеркивается сгущение тьмы. Лес давал о себе знать, раскрывал пасть уже тогда, когда Арсений только выходил из дома.) Лес — символ смерти. Миновав лес (пройдя обряд), герой должен родиться заново, превратиться в своего двойника. Лес — живой, он дважды стегает разбойника веткой — и на второй раз сбрасывает его с коня. В одном этом элементе кроются три подэлемента двойничества: ожившая ветка (или ожившее дерево — частый двойникантипод или признак двойника), двойное число ударов, сбрасывание либо падение двойника. (Герой проходит через смерть, погружаясь вниз или падая в бездну, двойник же является лишь его отражением во время этого процесса и потому нередко погибает. Можно и так сказать: погибает сам герой, превратившись в своего двойника. В любом случае в живых обычно остается кто-то один.) Во-вторых, разбойник повреждает ногу. Поврежденная (или хромая) нога (а также просто одноногость, как, впрочем, и однорукость и одноглазость) — одна из самых частых примет двойничества55. По той простой причине, что Например, в конце пьесы Вампилова «Утиная охота»: ОФИЦИАНТ. Ну пока, Витя. Жалко, что мы не едем вместе. Не вовремя ты расстроился… А то смотри, лучше будет — приезжай… ЗИЛОВ. Ладно, Дима, прощай. ОФИЦИАНТ. Подожди, а где твоя лодка? ЗИЛОВ. Лодка у Хромого. ОФИЦИАНТ. В сарае? ЗИЛОВ. Да, в сарае. ОФИЦИАНТ. Значит, я… ЗИЛОВ (хрипло). Бери. ОФИЦИАНТ. Спасибо, Витя. А если что… ЗИЛОВ (голос его дрогнул). Считай, что она твоя… Берите… Все берите… Тут, помимо образа хранителя лодки — «Хромого» (читай: черта), интересно и то, что двойник-антипод (официант) хочет забрать лодку у приготовившегося застрелиться Зилова. Лодка как символ жизни, в которой может остаться лишь один из двойников, встречается весьма часто. Так происходит, например, в романе Мелвилла «Моби Дик», а также в драматической поэме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», где тонет судно и Пер Гюнт борется за лодку с поваром. 55 www.franklang.ru 255 здоровая нога и хромая, видящий глаз и невидящий — уже сами по себе являются двойниками-антиподами. В-третьих, разбойник грязно ругается. Вы скажете, таких двойников мы тебе найдем сколько угодно. Однако особый язык (звериный, птичий, иностранный, поэтический, жаргонный, бранный) действительно является одним из признаков двойника-антипода. И вообще, уже пора вспомнить в этой связи пушкинскую «Капитанскую дочку». И буран, и появившегося из этого бурана Пугачева, доведшего повозку Гринёва до постоялого двора, и разговор Пугачева с хозяином постоялого двора (умета) на воровском жаргоне. Дочитав роман Водолазкина до этого места, я, естественно, жду как минимум появления топора и обмена шубами (тем более, что шуба так отчетливо нарисовалась в начале эпизода). Топор был во сне Гринёва, приснившемся ему на постоялом дворе («Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог…»), а шубу (точнее, заячий тулуп) Гринёв дарит вожатому на следующий день. (В дальнейшем Пугачев дарит Гринёву овчинный тулуп — получается своего рода братание.) Топор или нож — один из предметов, обычно сопутствующих двойникуантиподу. Это связано с прохождением через смерть, с обрядом жертвоприношения. Он действительно тут же появляется: «Арсений спрыгнул с лошади и подошел к упавшему. Внимательно ощупал ногу. Ничего страшного, это вывих. Главное — цела кость. При звуке Арсениева голоса незнакомец напрягся. Арсений почувствовал, как дернулась его нога. С этим легко справиться, подбодрил его Арсений. Не говоря ни слова, тот схватил Арсения за волосы и притянул к себе. У горла Арсений почувствовал нож. Ты кто, прохрипел незнакомец. www.franklang.ru 256 Я? Арсений. Я тебя, падаль, зарежу. Почему, спросил Арсений. Ему самому вопрос показался бессмысленным. Потому что на твоем месте должен был быть мой кореш Жила. Незнакомец тряхнул Арсения, и нож слегка рассек кожу на шее. Ты что — Жила? Нет, сказал Арсений. Как ты здесь оказался, гнида? Ты сам спросил, готов ли я. Ну? И я был готов. Ах ты ё-моё… Да теперь Жила зарежет меня при первой встрече. Я ж, бля, не только тебя — я общие деньги с собой увез… Теперь он сидит и думает, что я его кинул, вот что херово. Вот что херово, я говорю! Снова тряхнул Арсения, но нож в соприкосновение с горлом уже не входил. Ты объяснишь ему, что это я виноват, сказал Арсений. Ага, он только моих объяснений и ждет. Да я рта на хрен раскрыть не успею. Но до этого я зарежу тебя, понял? В горьких этих словах чувствовалось, однако, некоторое успокоение. Интонация предусматривала возможность примирения с обстоятельствами. Арсений мягко отнял у своего спутника нож и взялся за его ногу. Под его короткий крик он вправил ногу одним рывком. Предупредил бы хоть, пожаловался пациент. Без предупреждения лучше. С помощью Арсения тот встал с земли и осторожно ступил на вправленную ногу: Вроде бы полегче». И дальше все идет по плану: «Спутник с интересом рассматривал Арсения. www.franklang.ru 257 Может, так оно и надо было, чтобы Жила в Белозерске остался, задумчиво сказал он. Может, так оно и правильней. Взяв обеих лошадей под уздцы, он начал продвигаться в глубь леса. И ты, знаешь, тоже вали отсюда. Мне, бля, неспокойно, когда я не один. Я вдали от дороги отдохну, а потом ночью потихонечку поеду… Ты мне, брат, только шубу оставь, хорошая у тебя шуба. Что, не понял Арсений. Шубу снимай, а сам можешь идти. Ты мне ногу выправил, я тебя живым отпускаю. Ну, чего шары выкатил? В его руке снова блеснул нож. Арсений снял шубу и протянул ее незнакомцу. Тот снял свой зипун и бросил Арсению: На, носи». После этого странного братания Арсений поехал прочь, однако вспомнил об оставшихся в кармане шубы рукописях своего наставника Христофора и решил вернуться. И обнаружил, что его шуба — уже на другом разбойнике — на Жиле, которого он до этого по человеческому недоразумению и по Божьей воле замещал: «У места, где следовало сойти с дороги, Арсений спешился. Он привязал лошадь к дереву и направился в лес. Уже издали за голыми деревьями было заметно какое-то движение. Между двумя стоявшими там лошадьми ходил человек в его шубе, но Арсений не узнал в нем того, с кем ехал ночью. Он узнал в нем Жилу, хотя и не встречал его никогда. В левой руке Жила держал дубину. Вероятно, он был левшой. Сделав еще несколько шагов, Арсений увидел и своего спутника. Тот лежал на земле за одной из лошадей, и поза его была неестественна. Повернутый лицом вверх, одну руку он почему-то держал за спиной, а ноги судорожно елозили по земле. Одна из пяток вырыла неглубокий желоб, обрамленный сосновыми иголками. Глаза невидяще смотрели на Арсения, и в них Арсений без труда прочитал, что ожидает человека сего. www.franklang.ru 258 Не обращая внимания на Жилу, Арсений склонился над умирающим. Тот уже не двигался. Жила подумал и опустил дубину на голову Арсения». И Жила — двойник Арсения. Арсений его сразу узнаёт. Примечательно также, что Жила — левша. А также то, что другой разбойник (поверженный) одну руку держит за спиной. И устремленный на Арсения невидящий взгляд — важный признак двойника-антипода (неподвижный, страшный взгляд, существующий как бы сам по себе, взгляд мертвеца, статуи или портрета). Дубина же здесь — ипостась жертвенного топора или ножа. Удар по голове (равно как и отсечение головы) — также действие, часто сопутствующее двойнику. В этом действии проявляется не только то, что двойник — символ жертвоприношения и второго рождения, но и то, что он — не человек, а сгусток природы. У него нет человеческих глаз и человеческой головы. Он и без них живет и устремляет взгляд. Арсений разделяет участь своего двойника-разбойника. Однако разбойник умрет, а Арсений выживет, спасется: «В лесу стоял полумрак. И трудно было определить, закат это или рассвет. Только когда чуть посветлело, стало понятно, что рассвет. Собравшись с силами, Арсений смог оторвать голову от того твердого, на чем она лежала. Это было тело его спутника. Оно было таким же холодным, как земля. А я тепл, сказал Арсений Устине56. Я, который виноват в его смерти, тепл и жив. Сейчас я спасен ради одной лишь тебя, но он, как и ты, на моей совести. Я погубил его произнесенным словом. Если бы я не сказал ему, что готов, он не лежал бы здесь таким холодным». Мороз соединяет Арсения с разбойником. Замерзшее тело разбойника тоже не случайно в смысле двойничества. Разбойник стал частью снежной стихии, зимнего мира. Он — неподвижная статуя. Он — холодный, а Арсений — Устина — спутница жизни Арсения, умершая в родах. Арсений будет жить как бы за нее, назвавшись Устином и творя добрые дела, постоянно разговаривая с ней. Смерть Устины и долгое пребывание Арсения возле ее мертвого тела— как бы становление Арсения ее двойником, как бы его рождение из «мертвой царевны» — взамен их умершего вместе с матерью во время неудачных родов ребенка — говорит о том, что Устина есть богиня жизни и смерти, то есть, условно говоря, Изида. Встреча смерти и жизни написана в явной перекличке с произведениями Андрея Платонова. 56 www.franklang.ru 259 теплый. Так разбойник невольно выручил Арсения. Тут вспоминается рассказ Льва Толстого «Хозяин и работник». (О двойничестве в этом рассказе я написал в главе «Чернобыльник».) Ну а дальше чистый Майн Рид («Всадник без головы»): «Держась за дерево, Арсений встал на ноги. Лошадей уже не было. Очевидно, Жила увел их с собой. Арсений медленно побрел к дороге. Привязанная им лошадь все еще стояла на месте. Он отвязал ее и, вцепившись в гриву, чтобы не упасть, повел в глубь леса. Его шатало из стороны в сторону. Когда они подошли к мертвому телу, Арсений сел отдохнуть. Собравшись с силами, он подтащил убитого к лошади и попытался уложить его поперек седла. Убитый, который уже не сгибался, несколько раз соскальзывал. Падал на землю с глухим окоченелым звуком. Усилием воли Арсений забросил его руки на седло, изо всех сил уперся головой в ноги и подтолкнул тело вверх. Убитый закачался на седле в безразличном равновесии. Взгляд его открытых глаз также выражал безразличие. У него был вид того, кто хочет, чтобы его оставили в покое. Арсению удалось развернуть мертвеца лицом вперед и усадить в седло. Не найдя ничего, чем можно было бы привязать его к лошади, Арсений проверил сапоги убитого. В одном из них лежал нож, которым тот грозил ему еще вчера. Арсений снял данный ему зипун и стал разрезать его на узкие полоски. Связав их друг с другом, он получил довольно длинную веревку. Этой веревкой примотал ноги покойника к седлу. Арсений вывел лошадь на дорогу. Он сказал, что ты из Белозерска. Неси же его туда, ибо там его предадут земле. Лошадь протяжно посмотрела на Арсения и не сдвинулась с места. Я не поеду, сказал Арсений. Ему ты нужнее. Он легко шлепнул лошадь по крупу. www.franklang.ru 260 Лошадь тронулась с места и пошла в ту сторону, где лежал Белозерск. Прижавшись к ее гриве, ехал мертвый всадник». Кадр из фильма «Всадник без головы» (1973, режиссер Владимир Вайншток). Фильм снят по мотивам одноименного романа Майн Рида (1865) Двойник-антипод часто является именно в виде такого «живого мертвеца». То мертвец привязан или прислонен в позе живого, то по нему пробегают тени или свет, в результате чего кажется, что он шевелится или смотрит, то он и в самом деле оживает (как, например, статуя или вампир). Здесь разбойник соединен с лошадью, что, с одной стороны, делает его кентавром (звериным двойником), с другой стороны, дарит ему, мертвецу, подобие жизни. Разрезание зипуна на узкие полоски символизирует расчленение при жертвоприношении, символическое расчленение в обряде посвящения (например, надрезы на коже). Привязанность двойника веревкой (или связанность двойников одной веревкой) — тоже весьма распространенная вещь. www.franklang.ru 261 В результате этого эпизода своей жизни Арсений действительно проходит через смерть. Вследствие полученной от удара дубинкой раны головы он болеет, затем становится бродягой (причем в чужой одежде, поскольку его одежду похитили), принимает другое имя (теперь он Устин), приходит в Псков и там встречает еще одного своего двойника — юродивого Фому (опять, кстати сказать, маргинала). Тот его сразу признает за своего братаюродивого: «На том берегу Арсения встретил юродивый Фома. Ага, вскричал Фома, вижу, что ты есть самый настоящий юродивый. Настоящий. У меня, будь покоен, нюх на сей счет первоклассный». Само имя «Фома» указывает на двойничество, поскольку оно означает «близнец» (на арамейском языке: «теома»). А вот опять странное братание: «Фома размахнулся и ударил Арсения по лицу. Арсений молча смотрел на него, чувствуя, как по подбородку и шее стекает из носа кровь. Фома обнял Арсения, и лицо его тоже стало кровавым». Между прочим, эта роль Фомы как двойника, осуществляющего братание, просвечивает и в Евангелии. www.franklang.ru 262 Караваджо. Уверение святого Фомы. 1601—1602 годы Юродивый Фома, как и положено двойнику-антиподу, становится судьбоносным помощником Устина (бывшего Арсения, ставшего теперь мужской ипостасью умершей Устины). Он, во-первых, подсказывает Устину, что делать, во-вторых, объясняет псковитянам поступки Устина (который молчит). А все хорошо объяснить Фома может потому, что все видит насквозь. Он знает все про всех, знает чудесным образом и прошлое Арсения. Такое волшебное знание всех человеческих дел и судеб есть, конечно, признак двойника. Ведь двойник-антипод — не человек, а отражение человека в общей стихии жизни, ипостась мифического зверя — зверя, заключающего в себя всех людей, зверя, в котором человечество едино. Позднее Устин встречает еще одного двойника — итальянца Амброджо (то есть Амвросия), приехавшего в Псков наблюдать ожидаемый здесь конец света. Двойник-антипод, как мы уже говорили, часто появляется в виде www.franklang.ru 263 иностранца, чужака. Это не значит, конечно, что каждый встречаемый вами иностранец — двойник-антипод. Я, например, заподозрил Амброджо в двойничестве только с того момента, как узнал о его даре предвидеть будущее. Моя догадка начала подтверждаться, когда Арсений и Амброджо вместе отправились в Иерусалим. Окончательно же я уверился в двойничестве Амброджо, когда прочел следующее: «Арсений молча смотрел на Амброджо, и ему казалось, что голова Амброджо приподнялась над его телом. Голова все еще говорила, но телу явным образом уже не принадлежала. Тело Амброджо облекла мутная пелена. Вначале оно стало полупрозрачным, а затем растворилось совершенно. <…> Арсений боялся, что сейчас потеряет сознание. Но он его сохранил». Вскоре после этого видения на караван, движущийся к Иерусалиму, налетают разбойники-мамлюки. Амброджо действительно отрубают голову, Арсению также достается удар — мечом по голове. Арсений выживет, останется глубокий шрам на лбу. Тут для темы двойничества важно и то, что отсечена голова двойника, и то, что герой также получил удар мечом по голове (меч — вариант жертвенного ножа), и то, что двойник погиб, а герой выжил. В дальнейшем двойничество подкрепляется тем, что Арсений, постригаясь в монахи, получает имя Амвросий: «И прощайтеся с Арсением, яко обретаете Амвросия. После сказанного старец Иннокентий повел Арсения к игумену. По обычаю монашеское имя выбирали на ту же букву, с которой начиналось мирское. И Арсений уже знал, какое имя ему будет предложено, и любовался им в глубине своей души. Мы выбираем тебе имя в память святителя Амвросия Медиоланского, сказал старец Иннокентий. И наслышаны — так уж оно всегда получается — о твоем преданном друге, произносившем это имя на иной лад. Пусть это www.franklang.ru 264 имя в правильном произношении будет воспоминанием и о твоем друге. Сколько же жизней ты будешь проживать отныне одновременно?» Надо сказать, и само имя Амвросий в романе говорит о двойничестве, поскольку связывается с вином (еще один признак двойника: опьянение, безумство, дионисийство, экстаз, приобщающий к бессмертным): «Амброджо Флеккиа родился в местечке Маньяно. На восток от Маньяно, в дне пути верхом, лежал Милан, город святого Амвросия. В честь святого назвали и мальчика. Амброджо. Так это звучало на языке его родителей. Напоминало, возможно, об амброзии, напитке бессмертных. Родители мальчика были виноделами». В конце романа Амвросий принимает схиму и становится Лавром. И вот он, склоняясь над водой озера, видит себя стариком: «Из черных лесных озер Лавр пил воду. И всякий раз, как он наклонялся над водой, из глубины к нему поднималось изображение ветхого старца в куколе, с белыми крестами на плечах. Лавр поднимал глаза к расчерченному ветвями небу и указывал на озерного старца Устине: Следует полагать, что это я, поскольку больше здесь отражаться некому. Я же продолжаю жить тобой и вижу тебя, оставшуюся неизменной, но ты, любовь моя, меня бы уже не узнала. Иногда Лавру казалось, что это отражение он уже видел, что было это много лет назад, но когда и при каких обстоятельствах видел, вспомнить никак не удавалось. Возможно, думал Лавр, это было во сне, ибо, предъявляя образы, сон не заботится о соблюдении вещей условных, одной из которых является время». Лавр видит своего двойника — «озерного старца». Это одновременно и он сам, и часть стихии, то есть одушевленная всемирная жизнь. Такое склонение над водной поверхностью или стояние перед зеркалом является, конечно, коренным признаком двойника. Двойника-антипода, потому что герой часто видит и себя, и не себя. Спустя некоторое время Лавр понимает, что www.franklang.ru 265 «озерный старец» — это одновременно и он сам, и Христофор — его дед и наставник. Его двойник-помощник: «Мысли Лавра, прежде занятые событиями последних лет, все чаще стали обращаться к первым годам его жизни. Идя по осеннему лесу, в своей руке он порой чувствовал руку Христофора. Она была шершавой и теплой. Поглядывая на Христофора снизу вверх, Лавр вспомнил, наконец, где видел лицо, отразившееся в озере. Это было лицо Христофора. От деда внуку в день старости его». Двойничество, конечно, проявляется и в событиях и явлениях, которые в романе словно повторяются, но при внимательном рассмотрении оказываются не теми же самыми, а подобными. То есть не просто двойниками, а двойниками-антиподами. Не будем на этом останавливаться. Эта штука в романе сплошь и рядом, потому что такой повтор и есть способ упразднить время. Что является главной и сознательной установкой автора (Водолазкина) в отношении своего повествования. Глиняный монгол Одно из самых известных произведений о двойниках — роман Густава Майринка «Голем» (1915). В его основе — пражская еврейская легенда об искусственном человеке (как бы роботе) — Големе, оживленном каббалистом с помощью тайного знания. www.franklang.ru 266 Рабби Лев оживляет Голема В этом романе рассказчику снится, что он — не он, а резчик по камню Атанасиус Пернат. И что все происходит не в настоящее время, а 33 года тому назад. Атанасиус Пернат — двойник рассказчика. Пернату же, в свою очередь, является его двойник Голем. Примечательно, что Голем имеет черты монголоидной расы (что довольно типично для двойника-антипода): «— Я не знаю, с чего начать, — задумчиво сказал старик. — Историю о Големе нелегко передать. Это как Пернат говорил: знает точно, каков был незнакомец, но все же не может его описать. Приблизительно каждые тридцать три года на наших улицах повторяется событие, которое не имеет в себе ничего особенно волнующего, но которое все же распространяет ужас, не находящий ни оправдания, ни объяснения. www.franklang.ru 267 Неизменно каждый раз совершенно чужой человек, безбородый, с желтым лицом монгольского типа, в старинной выцветшей одежде, идет по направлению от Старосинагогальной улицы — равномерной и странно прерывистой походкой, как будто он каждую секунду готов упасть — идет по еврейскому кварталу и вдруг — становится невидим». Кадр из фильма Пауля Вегенера «Голем, как он пришел в мир» (1920). Здесь двойник-ожившая статуя, но в этом красноармейце вполне различим и будущий (1933) Кинг-Конг57 (звериный двойник) К Пернату же незнакомец (то есть двойник Перната) является до этого с книгой, чтобы Пернат кое-что исправил в ее оформлении: 57 Обратите внимание и на «двойническое» имя. www.franklang.ru 268 «Если я не ошибся, что кто-то равномерным шагом подымается по лестнице, чтобы зайти ко мне, то он должен быть теперь приблизительно на последних ступенях. Теперь он огибает угол, где находится квартира архивариуса Шемайи Гиллеля, и подходит к выступу площадки верхнего этажа, выложенной красным кирпичом. Теперь он идет ощупью вдоль стены и в эту минуту должен с трудом в темноте разбирать мое имя на дверной доске. Я встал посреди комнаты и смотрю на дверь. Дверь открылась, и он вошел. Он сделал несколько шагов по направлению ко мне, не сняв шляпы и не сказав мне ни слова привета. Так ведет он себя, когда он дома, почувствовал я, и я нашел вполне естественным, что он держит себя именно так, не иначе. Он полез в карман и вытащил оттуда книгу. Затем он долго перелистывал ее. Переплет книги был металлический, и углубления в форме розеток и печатей были заполнены красками и маленькими камешками. Наконец, он нашел то место, которое искал, и указал на него пальцем. Глава называлась «Ibbur» — «беременность души», — расшифровал я. Большое, золотом и киноварью выведенное заглавие «I» занимало почти половину страницы, которую я невольно пробежал, и было у края несколько повреждено. Я должен был исправить это. Заглавная буква была не наклеена на переплет, как я это до сих пор видал в старинных книгах, а скорее было похоже на то, что она состоит из двух тонких золотых пластинок, спаянных посередине и захватывающих концами края пергамента. Значит, где была буква, должно быть отверстие в листе. www.franklang.ru 269 Если же это так, то на следующей странице должно было быть обратное изображение буквы «I»? Я перевернул страницу и увидел, что предположение мое правильно. Невольно я прочитал и всю эту страницу, и следующую. И стал читать дальше и дальше. Книга говорила мне, как говорит сновидение, только яснее и значительно отчетливее. Она шевелилась в моем сердце, как вопрос. Слова струились из невидимых уст, оживали и подходили ко мне. Они кружились и вихрились вокруг меня как пестро одетые рабыни, уходили потом в землю или расплывались клубами дыма в воздухе, давая место следующим. Каждая надеялась, что я изберу ее и не посмотрю на следующую. <…> Затем они притащили женщину, совершенно обнаженную и огромную, как медная статуя. На одну секунду женщина остановилась и наклонилась передо мною. Ее ресницы были такой величины, как все мое тело. Она молча указала на пульс ее левой руки. Он бился, как землетрясение, и я чувствовал в ней жизнь целого мира. Издалека выплывало шествие корибантов. Мужчина и женщина обнимали друг друга. Я видел их приближающимися издали, и все ближе подходила процессия. Теперь я услышал звонкие и восторженные песни совсем возле меня, и мой взор искал обнявшейся пары. Она обратилась, однако, в одну фигуру, и полумужчиной, полуженщиной Гермафродитом – сидела она на перламутровом троне». Помимо женщины-статуи (нередкой гостьи для тех, кто видит двойника), а также помимо Изиды в женской и мужской ипостасях, здесь интересно и ощущение оживающих и кружащихся слов. (Уж не встреча ли с двойником делает человека поэтом?) www.franklang.ru 270 Слова, однако, могут быть не только живыми, но и мертвыми, как мы узнаем позже в романе: «Я потушил свет и, не раздеваясь, бросился на постель. Считал удары своего сердца: раз, два, три, четыре — до тысячи, и опять сначала — часы, дни, недели, как мне казалось, пока мои губы не высохли, и волосы не встали дыбом: ни секунды облегчения. Ни единой. Я начал произносить первые попадавшиеся слова: «принц», «дерево», «дитя», «книга». Я судорожно повторял их, пока они не стали раздаваться во мне бессмысленными, страшными звуками из каких-то доисторических времен, и я должен был напрягать все свои умственные способности, чтоб вновь осмыслить их значение: п-р-и-н-ц?… к-н-и-г-а? Не сошел ли я с ума? Не умер ли я?.. Я ощупывал все вокруг». (Не посещало ли и вас когда-либо такое ощущение обессмыслившегося слова? Если да, то двойник был неподалеку.) www.franklang.ru 271 Голем передает Пернату книгу Затем двойник исчезает, а Пернат выходит из комнаты и затем возвращается в нее, становясь на этом пути к самому себе своим двойником: «Это уже больше не книга со мной говорила. Это был голос. Голос, который чего-то хотел от меня, чего я не понимал, как ни старался я. Он мучил меня жгучими непонятными вопросами. <…> Я прочел книгу до конца и еще держал ее в руках, и казалось мне, что я в поисках чего-то перелистывал свой мозг, а вовсе не книгу. Все, что сказал мне голос, я нес в себе всю жизнь, но скрыто было все это, забыто, где-то было запрятано от моей мысли до сегодняшнего дня. Я оглянулся. Где человек, который принес мне книгу? www.franklang.ru 272 Ушел! Он придет за ней, когда она будет готова? Или я должен отнести ему? Но не припомню, сказал ли он, где он живет. Я хотел воскресить в памяти его фигуру, но мне это не удавалось. Как он был одет? Стар он был или молод? Какого цвета были его волосы, борода? Ничего, решительно ничего я не мог себе теперь представить. Всякий образ, который я себе рисовал, неудержимо распадался прежде, чем я мог сложить его в моем воображении. Я закрыл глаза, придавил пальцами веки, чтоб поймать хоть малейшую черточку его облика. Ничего, ничего. Я стал посреди комнаты и смотрел на дверь; как прежде, когда он пришел, я рисовал себе: теперь он огибает угол, проходит по кирпичной площадке, теперь читает мою дощечку на двери «Атанасиус Пернат», теперь входит… Напрасно. Ни малейшего следа воспоминания о том, каково было его лицо, не вставало во мне. Я увидел книгу на столе и хотел себе представить его руку, как он ее вынул из кармана и протянул мне. Я не мог представить себе ничего: была ли она в перчатке или нет, молодая или морщинистая, были на ней кольца или нет. Здесь мне пришла в голову странная вещь. Точно внушение, которому нельзя противиться. Я набросил на себя пальто, надел шляпу, вышел в коридор, спустился с лестницы. Затем я медленно вернулся в комнату. www.franklang.ru 273 Медленно, совсем медленно, как он, когда он пришел. И когда я открыл дверь, я увидел, что в моей комнате темно. Разве не ясный день был только что, когда я выходил? Долго же, по-видимому, я раздумывал, что даже не заметил, как уже поздно. И я пытался подражать незнакомцу в походке, в выражении лица, но не мог ничего припомнить. Да и как бы я мог подражать ему, когда у меня не было никакого опорного пункта, чтобы представить себе, какой он имел вид. Но случилось иначе. Совсем иначе, чем я думал. Моя кожа, мои мускулы, мое тело внезапно вспомнили, не спрашивая мозга. Они делали движения, которых я не желал и не предполагал делать. Как будто члены мои больше не принадлежали мне. Едва я сделал два шага по комнате, моя походка сразу стала тяжелой и чужой. Это походка человека, который постоянно находится в положении падающего. Да, да, да, такова была его походка! Я знал совершенно точно: это он. У меня было чужое безбородое лицо с выдающимися скулами и косыми глазами58. Я чувствовал это, но не мог увидеть себя. «Это не мое лицо», — хотел я в ужасе закричать, хотел его ощупать, но рука не слушалась меня, она опустилась в карман и вытащила книгу. Точно так же, как он это раньше сделал. И вдруг я снова сижу без шляпы, без пальто, у стола, и я опять я. Я, я, Атанасиус Пернат. Я трясся от ужаса и испуга, сердце мое было готово разорваться, и я чувствовал: пальцы призрака, которые только что еще копошились в моем мозгу, отстали от меня. 58 Да-да, опять Евграф из «Доктора Живаго»! www.franklang.ru 274 Я еще осязал на затылке холодное прикосновение их. Теперь я знал, каков был незнакомец, я мог снова чувствовать его в себе, каждое мгновение, как только я хотел, но представить себе его облик, видеть его лицом к лицу — это все еще не удавалось мне и никогда не удастся. Он, как негатив, незримая форма, понял я, очертаний которой я не могу схватить, в которую я сам должен внедриться, если только я захочу осознать в собственном я ее облик и выражение». Двойник-антипод часто бывает лишен головы. Одну такую картину мы видим и в романе Майринка: «Постепенно становилось ясно, что передо мною странное существо: он тут, может быть, уже все время, пока я здесь сижу… Вот он протягивает мне руку. Некто в сером, широкоплечий, ростом в среднего, плотно сложенного человека, стоит, опираясь на спирально выточенную трость светлого дерева. Там, где должна была быть его голова, я мог различить только туманный шар из сизого дыма». Но бывает и наоборот: двойник лишается туловища, от него остается одна голова: «— Теперь — голова! — услышал я вдруг громкий голос художника Фрисландера. Он вынул из кармана круглый кусок дерева и начал вытачивать. <…> Фрисландер все еще возился с головкой, и дерево скрипело под острым ножом. Мне было больно слышать это, и я взглянул, скоро ли уже конец. Головка поворачивалась в руках художника во все стороны, и казалось, что она обладает сознанием и ищет чего-то по всем углам. Затем ее глаза надолго остановились на мне, — довольные тем, что наконец нашли меня. www.franklang.ru 275 Я, в свою очередь, не мог уже отвести глаз и, не мигая, смотрел на деревянное лицо. На одну секунду нож художника остановился в поисках чего-то, потом решительно провел одну линию, и вдруг деревянная голова странным образом ожила. Я узнал желтое лицо незнакомца, который приносил мне книгу. Больше я ничего не мог различить, видение продолжалось только одну секунду, но я почувствовал, что мое сердце перестает биться и робко трепещет. Но лицо это, как и тогда, запечатлелось во мне. Я сам обратился в него, лежал на коленях Фрисландера и озирался кругом. Мои взоры блуждали по комнате, и чужая рука касалась моей головы. Затем я вдруг увидел возбужденное лицо Цвака и услышал его слова: Господи, да ведь это Голем! Произошла короткая борьба, у Фрисландера хотели отнять силой фигурку, но он оборонялся и смеясь закричал: — Чего вы хотите, — она мне совсем не удалась. — Он вырвался, открыл окно и швырнул фигурку на улицу. Тут я потерял сознание и погрузился в глубокую тьму, пронизанную золотыми блестящими нитями. И когда я, после долгого, как мне показалось, промежутка времени, очнулся, только тогда я услышал стук дерева о мостовую». Тут, помимо двойника-головы, интересен двойник-кукла, а также двойник, вовлекающий в падение (вспомните, кстати: «Это походка человека, который постоянно находится в положении падающего»). Оживающая фигурка двойника появляется и в виде карты для игры в тарок: «Мой взгляд упал на тряпье в углу, я бросился к нему и дрожащими руками накинул что-то поверх своей одежды. Это был обтрепанный костюм из толстого темного сукна, старомодного, очень странного покроя. www.franklang.ru 276 От него несло гнилью. Я забился в противоположный угол и чувствовал, как моя кожа постепенно согревается. Но страшное ощущение ледяного скелета внутри моего тела не покидало меня. Я сидел без движения, блуждая взором: карта, которую я раньше заметил — пагад — все еще лежала среди комнаты в полосе лунного света. Я смотрел на нее, не отрываясь. Насколько я мог видеть, она была раскрашена акварелью, неопытной детской рукой, и изображала еврейскую букву «алеф» в виде человека в старофранконском костюме, с коротко остриженной седой острой бородкой, с поднятой левой рукой и опущенной правой. Не имеет ли лицо этого человека странного сходства с моим? — зашевелилось у меня подозрение». Мы наблюдаем здесь и «ожившую букву» (алеф), являющую саму идею двойника-антипода через свои «руки»: поднятую и опущенную. Достоин внимания и «обтрепанный костюм из толстого темного сукна, старомодного, очень странного покроя», от которого «несло гнилью», — как разновидность съемной (и подлежащей обмену) шкуры териоморфного двойника. Пернат затем пойдет в этом облачении по улице — и вызовет панику: «Я обернулся и увидел огромное, шумное скопление смертельно бледных, искаженных ужасом лиц. Я с изумлением перевел глаза на себя и понял: на мне все еще был, поверх моей одежды, странный средневековый костюм, и люди думали, что перед ними Голем». О картах тарок мы узнаем, что они идентичны книге, в которой заключена Каббала: «Кстати, вот вы заговорили о картах: господин Цвак59, вы играете в тарок? — В тарок? Разумеется. С детских лет. 59 Цвак — кукольник, друг Перната. www.franklang.ru 277 — В таком случае меня удивляет, как вы спрашиваете о книге, в которой заключена вся Каббала, если вы сами тысячу раз держали ее в руках». Пернат вспоминает, что на одной из карт изображен человек, висящий головой вниз, — и находит эту карту: «Я взял в руку колоду карт — мне померещилось: не я ли сам разрисовывал их когда-то? Ребенком? Давно, давно? Это была очень старая колода с еврейскими знаками… Номер двенадцатый должен изображать «повешенного»; — пробежало во мне что-то вроде воспоминания. — Головой вниз?.. Руки заложены за спину?.. Я стал перелистывать: вот! Он был здесь». Ближе к концу романа Пернат сам оказывается в таком положении — и падает. Непосредственно перед этим он встречается с двойником, переживает пожар, видит в окне Мириам (свою Прекрасную Даму) и ее отца Гиллеля (архивариуса, мудрого старика): «Словно меня коснулась чья-то рука, я вдруг обернулся и: На пороге стояло мое подобие. Мой двойник. В белом облачении. С короной на голове. Одно мгновение. Затем огонь охватил деревянную дверь, и ворвались клубы горячего удушливого дыма. Пожар! Горит! Горит! Я стремительно раскрываю окно. Карабкаюсь на крышу. Издали доносится пронзительный треск и звон пожарного обоза. Блестящие каски и отрывистая команда. Затем призрачное, ритмическое пыхтение насосов, точно демоны воды готовятся к прыжку на своего смертельного врага: на огонь. Стекла звенят, и красные языки рвутся из всех окон. Бросают матрацы, вся улица покрыта ими, люди прыгают на них, разбиваются, их уносят. А во мне торжествует что-то диким, ликующим экстазом, сам не знаю, почему. Волосы становятся дыбом. www.franklang.ru 278 Я подбегаю к дымовой трубе, чтобы спастись, потому что пламя охватывает меня. Вокруг трубы намотан канат трубочиста. Я развертываю его, обвязываю им кисть и ногу, как делал это когда-то во время гимнастики ребенком, и спокойно спускаюсь вдоль передней стены дома. Передо мной окно. Я заглядываю в него. Там все ослепительно освещено. И вот я вижу… я вижу… все тело мое обращается в один торжествующий крик: «Гиллель! Мириам! Гиллель!» Хочу спрыгнуть на решетку. Хватаюсь за прутья. Выпускаю канат из рук. Одно мгновенье вишу головой вниз, со скрещенными ногами, между небом и землей. Я падаю. Сознание гаснет во мне. Летя, я хватаюсь за подоконник, но соскальзываю. Не за что удержаться». Происходит падение, в которое двойник вовлекает героя, — одна из сквозных тем романа. Тем не менее все кончается хорошо. Рассказчик просыпается: «Затем я приподнимаюсь и стараюсь сообразить, где я. Я лежу в постели, я живу в гостинице. И зовут меня вовсе не Пернат. Не снилось ли мне все это? Ну! Такие вещи не снятся. Смотрю на часы: я еще не спал и часу. Половина третьего. Вот висит чужая шляпа, которую я сегодня по ошибке обменял в соборе на Градчине, когда слушал обедню, сидя на скамье. Нет ли на ней имени? www.franklang.ru 279 Я снимаю ее и читаю: золотыми буквами по белой шелковой подкладке чужое и так странно знакомое имя: АТАНАСИУС ПЕРНАТ. Это не дает мне покоя, я наскоро одеваюсь и сбегаю с лестницы». Рассказчик хочет вернуть шляпу ее владельцу (то есть тому Пернату, которым он был сам — в своем сне). (Шляпа двойника-антипода, кстати сказать, есть разновидность «съемной» головы.) От событий, которые рассказчик переживал во сне, его сейчас отделяют 33 года. Выясняется, правда, что никакого пожара не было. И вот рассказчик видит своего двойника (Перната) — вместе со своей (и его — то есть Перната) Прекрасной Дамой: «Долго стою я здесь, точно окаменев, и созерцаю. Мне кажется, будто предо мною какой-то чуждый мир. Старый садовник или слуга, с серебряными пряжками на ботинках, и жабо, в странного покроя сюртуке, выходит слева из-за ограды, приближается ко мне и через решетку спрашивает, что мне угодно. Я без слов подаю ему сверток со шляпой Атанасиуса Перната. Он берет его и идет через ворота. Когда ворота раскрываются, я вижу за ними мраморный дом, похожий на храм, и на его ступенях: Атанасиус Пернат, и к нему прислоненная: Мириам, оба смотрят вниз на город. На одно мгновение Мириам поворачивает голову, замечает меня, улыбается и говорит что-то шепотом Атанасиусу Пернату. Я зачарован ее красотой. Она кажется такой же молодой, какой я видел ее сегодня ночью во сне. Атанасиус Пернат медленно поворачивается ко мне, и у меня замирает сердце. Мне чудится, будто я стою перед зеркалом, так похоже его лицо на мое собственное». www.franklang.ru 280 Я пунктирно наметил только одну двойническую линию романа. Есть в нем и другие: например, линия, связанная с старьевщиком-евреем Аароном Вассертрумом — еще одним двойником Перната. По тому, как вводится этот персонаж, сразу заметно двойничество: «Я стоял в темном дворе и сквозь красную арку ворот видел на противоположной стороне узкой и грязной улицы старьевщика-еврея, прислонившегося к лавчонке, увешанной старым железным хламом, сломанными инструментами, ржавыми стременами и коньками, равно как и множеством других отслуживших вещей». В определенный момент у Перната возникает желание убить старьевщика — это маячащее перед ним воплощение материальной, дробной, бессмысленной жизни. И тут возникает напильник — разновидность «жертвенного ножа», столь часто появляющегося между двойниками: «Затем спокойная, холодная, как лед, мысль продиктовала мне решение: “Дурак! Все ведь в твоих руках. Стоит только взять напильник, там на столе, сбежать вниз и всадить его старьевщику в горло, так, чтобы конец его вышел сзади у затылка”». «Вот напильник. Я положил его в карман, — решил бросить его где-нибудь на улице. Такой план был у меня и раньше. Я ненавидел этот напильник. Ведь я чуть не сделался убийцей из-за него». Пернат попадает в тюрьму (по подозрению в убийстве), там этот напильник подбирает другой человек, бежит из тюрьмы и таки убивает старьевщика. Вот как Пернат узнает об этом убийстве: «— Вы, наверно, слышали, что Вассертрума черт побрал, — вдруг начал Венцель. Я вскочил в ужасе. — Ну, да. — Венцель указал на свою шею. — Готово! Ну и скажу я вам, страшно это было. Он несколько дней не показывался; когда они открыли лавочку, я, разумеется, первый влез туда — кому же другому! — И тут он сидел, Вассертрум, в кресле, вся грудь в крови, а глаза как стекло… Вы www.franklang.ru 281 знаете, я парень крепкий, но у меня все помутилось в глазах, когда я увидел его. Признаюсь вам, что я чуть не упал в обоморок. Я говорил себе: Венцель, не волнуйся, это ведь только мертвый еврей… А в горле у него торчал напильник. В лавке все было перевернуто. Убийство, натурально. — Напильник! Напильник! — Я чувствовал, как я холодею от ужаса. — Напильник! Он исполнил свое дело». Судя по последним словам, Пернат понимает, что убил не человек, который вонзил напильник старьевщику в горло, а сам напильник. Или черт. Или сам Пернат. Примечательно, что в романе Майринка появляется и своя «Лолита» (задолго до набоковской): «Тут я услышал впереди себя чьи-то шаги, и когда я подошел к своей двери, увидел, что это была четырнадцатилетняя рыжая Розина, дочь старьевщика Аарона Вассертрума. Я должен был вплотную протесниться около нее; она стояла спиной к перилам, похотливо откинувшись назад. Она положила свои грязные руки на железные перила, чтоб держаться, и в тусклом полумраке я заметил ее светящиеся обнаженные руки. Я уклонился от ее взгляда. Мне противна была ее навязчивая улыбка и это восковое лицо карусельной лошадки. У нее, должно быть, рыхлое белое тело, как у тритона, которого я недавно видел в клетке с ящерицами у одного продавца птиц, — так почувствовал я. Ресницы рыжих противны мне, как кроличьи. Я взбежал и быстро захлопнул за собою дверь». Эта «Прекрасная Дама», как нетрудно заметить, вполне териоморфна. Как, впрочем, и ее отец: «Я хотел отвлечь мысли от Розины и взглянул в раскрытое окно комнаты на Петушью улицу, и вдруг, точно почувствовав мой взгляд, Аарон Вассертрум повернул лицо в мою сторону. www.franklang.ru 282 Отвратительное неподвижное лицо, с круглыми рыбьими глазами и с отвислой заячьей губой. Он показался мне пауком среди людей, тонко чувствующим всякое прикосновение к паутине, при всей своей кажущейся безучастности. Чем он живет? Что думает, чем занимается? Я не знал. На каменных выступах его лавчонки, изо дня в день, из года в год, висят все те же мертвые, бесполезные вещи». ПАДЕНИЕ В ХРУСТАЛЬ Двойник и падение в бездну в литературных произведениях Положение его в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту своей же погибели. Господин Голядкин знал, чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразиться над ним еще какая-нибудь неприятность, что, например, он встретит опять своего незнакомца; но — странное дело, он даже желал этой встречи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее все это кончилось, чтоб положение-то его разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. Ф. М. Достоевский. Двойник Бездны мрачной на краю Я подошел к краю площадки Падение в хрусталь Играет на лице еще багровый цвет www.franklang.ru 283 Перешагни, перескачи Снежный король Старая сказка Высоко на башне с венком в руках Ну так как, есть Бог — или нет? Серебряное озеро Маракулин и пожарный Машина Офелия На качелях Бездны мрачной на краю Когда человеку является его двойник-антипод, его Тень, у него возникает ощущение бездны, в которую он боится упасть. Вот несколько примеров-картинок на тему «двойник — и падение (или боязнь падения) в бездну». В романе Чарльза Роберта Метьюрина «Мельмот Скиталец» (1820) Джон Мельмот со своими домочадцами бросается спасать экипаж судна, тонущего у скалистого берега. На одной из скал он вдруг замечает своего предка и двойника — тоже Джона Мельмота, который продал душу дьяволу и потому не умирает и не стареет: «У него действительно не было времени подумать: как раз в эту минуту он заметил в расстоянии нескольких ярдов от себя чуть выше на скале фигуру, вид которой не мог внушить ему ни симпатии, ни страха. Незнакомец не произнес ни единого звука и никому не пытался помочь. Мельмот с трудом удерживался на скользком и шатком камне; человека же этого, находившегося еще выше, казалось, нимало не волновала ни буря, ни гибель экипажа. Как Мельмот ни старался закутаться в плащ, ветер срывал его и www.franklang.ru 284 раздирал в клочья, в то же время на плаще незнакомца ни одна складка не шелохнулась. Но не столько это поразило Мельмота, сколько полнейшее безразличие его к людям, терпевшим бедствие, и к окружавшему его ужасу, и он воскликнул: — Милосердный Боже, возможно ли, что существо, всем видом своим похожее на человека, стоит здесь недвижно, не сделав ни малейшего усилия, чтобы помочь этим несчастным, и даже нисколько им не сочувствует? Последовало молчание, а может быть, порыв ветра заглушил его слова, однако спустя несколько мгновений Мельмот отчетливо услыхал: — Пусть погибают. Он посмотрел наверх: незнакомец стоял по-прежнему недвижимо, скрестив руки на груди, выставив одну ногу вперед, как бы бросая всем видом своим вызов подымавшимся ввысь столбам пены, и обращенное в профиль суровое лицо его, которое на несколько мгновений озарял колеблющийся и смутный свет луны, равнодушно взирало на все, что происходило внизу, причем во взгляде его было что-то чужое, неестественное, зловещее. В это мгновение чудовищная волна обрушилась на палубу корабля, и крик ужаса вырвался из груди всех тех, кто это видел; это был словно отзвук других криков, исходивших от несчастных жертв, чьи обезображенные и бездыханные тела через несколько минут были выброшены к их ногам. Когда крик этот умолк, Мельмот услышал вдруг раскаты смеха, от которого кровь у него похолодела. Смеялся стоявший наверху над ним незнакомец. <…> Мельмот сразу же стал взбираться на скалу; недвижная фигура находилась теперь всего на несколько футов выше того места, где он стоял, — тот, о ком он думал целые дни и кто снился ему по ночам, был здесь, рядом, он мог вглядеться в него, коснуться его рукой; он почти что его ощущал. <…> Он стал карабкаться по крутой и опасной тропинке к уступу скалы, на котором стояла неподвижная темная фигура. Изнемогая от яростного ветра, от безмерного душевного напряжения и от трудности задачи, которую он себе поставил, Мельмот столкнулся теперь лицом к www.franklang.ru 285 лицу с тем, кого он стремился найти; забывшись, он ухватился за наполовину отколовшийся от скалы камень; камень этот, который был настолько мал, что, упав, вероятно, не мог бы ушибить даже ребенка, оказался шаткой и ненадежной опорой для рослого мужчины: Мельмот сорвался вместе с ним и упал вниз, в ревущую пучину, которая, казалось, готова была вцепиться в него тысячами щупалец и его поглотить». Итак, двойник-антипод и падение вниз. Обратите внимание на «ревущую пучину». Иногда двойник вызывает не просто падение, а именно падение в воду. Важно здесь и то, что пучина обретает образ ревущего зверя, который готов поглотить героя. Важен и образ «тысячи щупалец», поскольку двойник-антипод нередко сопровождается многоруким (или многоголовым, или многоочитым) чудовищем (а иногда и сам является таковым). www.franklang.ru 286 Каспар Давид Фридрих. Странник над морем тумана. 1817 год В рассказе Э.Т.А. Гофмана (1776—1822) «Состязание певцов», действие которого происходит в Средневековье, поэту-певцу Генриху фон Офтердингену перед состязанием является Тень певца-мастера и соблазняет www.franklang.ru 287 его удивительным, неведомым ему мастерством. Место действия — крутой обрыв: «Сердце Генриха готово было разорваться в сладострастном томлении. Он взял в руки лютню и начал петь — никто никогда еще не слышал, чтобы он так пел. Успокоился ветер, замолкли кусты и деревья, и только звуки голоса Генриха светились в глубокой тишине мрачного леса, как бы сливаясь с лучами месяца. Но как только песнь его начала таять в трепетных любовных вздохах, позади него вдруг раздался оглушительный, душераздирающий хохот. В ужасе он поспешно обернулся и увидел огромную мрачную фигуру, которая еще прежде, чем Генрих мог прийти в себя, повела такие речи, произнося их голосом гадким и насмешливым: — Ага, немало пришлось побродить, чтобы доискаться наконец того, кто так здорово распелся тут в ночи. Так это вы, Генрих фон Офтердинген? Мне бы и самому догадаться — ведь вы же самый скверный из всех этих так называемых певцов с Вартбурга, так что дурацкая песня без смысла и толка — откуда бы ей еще тут взяться? При этих словах Офтердинген положил руку на рукоять своего меча. Однако черная фигура вновь разразилась оглушительным смехом, в это мгновение луч света упал на смертельно-бледное лицо незнакомца и Офтердинген мог рассмотреть его впалые щеки, острую рыжеватую бородку, искаженный гримасой рот, берет с черными перьями на нем. — Ну, ну, юноша, — сказал незнакомец. — Не будете же вы применять против меня оружие только потому, что я не доволен вашими песнями? Конечно, певцы этого не любят, им хочется, чтобы до небес превозносили все, что ни сочинят такие знаменитости, пусть даже все это ни на что не годный вздор. Но именно потому, что для меня все эти песни — чепуха и я вам откровенно говорю: вы в благородном искусстве пения не мастер, а в лучшем случае посредственный ученик, — вы должны понять, что я искренний ваш доброжелатель и друг и не собираюсь чинить вам зло. www.franklang.ru 288 — Но как же вы можете, — заговорил Офтердинген, которого била дрожь, — как можете вы быть моим другом, если я даже не помню, чтобы когданибудь в жизни видел вас... Не отвечая на вопрос, незнакомец продолжал: — Что за чудное место! И ночь такая теплая, подсяду-ка к вам — вот сюда, где светит луна, и мы поговорим хорошенько. Вы же все равно не станете возвращаться сейчас в Эйзенах. Послушайте меня, может быть, это послужит вам на пользу. С этими словами незнакомец опустился на большой поросший мхом камень, усевшись почти вплотную к Офтердингену. Странные чувства боролись в груди Генриха. Он не ведал страха, однако в такую ночь, вдалеке от человеческого жилья, в таком жутком месте он не мог отделаться от чувства ужаса, который вызывал в нем голос человека, да и весь облик его. У него было ощущение, будто он вот-вот должен броситься головой вниз с крутого обрыва в лесной поток, шумевший в глубине. А спустя мгновение ему казалось, что он скован по рукам и ногам. Тем временем незнакомец пододвинулся еще ближе к Офтердингену и начал тихо, почти шепча ему на ухо: — Я из Вартбурга, я только что выслушал все, что распевали там ваши так называемые мастера, все от начала до конца, все эти ученические потуги, недостойные называться пением. Но дама Матильда существо прелестное и приятное, другого такого, может, и нет на свете. — Матильда! — вскрикнул Офтердинген с душераздирающей тоскою в голосе. — Ха-ха! — засмеялся незнакомец. — Ха-ха! Видно, юноша, кольнуло? Так давайте поговорим сейчас о вещах серьезных или, лучше сказать, возвышенных. Я имею в виду благородное искусство пения. Возможно, вы все там связываете с ним какие-то благие намерения, так что все у вас выходит как-то просто и естественно, но ведь у вас нет ни малейшего www.franklang.ru 289 представления о глубинах искусства. Я только намекну, и вы поймете, что никогда не достигнете цели, если и впредь будете идти прежней дорогой. И черный повел неслыханные речи — словно какие-то заморские песни, — в них же он необычайно превозносил искусство пения. Пока он говорил, в душе Генриха являлись и исчезали, словно ветер уносил их, образы, картины — одна за другой. Как будто новый мир открывался перед ним — люди, лица, все как живые. Каждое слово производило впечатление молнии — они внезапно вспыхивали и стремительно исчезали. Полная луна стояла над лесом. И незнакомец, и Генрих были освещены ее лучами. И Генрих заметил теперь, что лицо незнакомца отнюдь не было столь отвратительным, как показалось ему поначалу. Если и горели его глаза каким-то необыкновенным огнем, то все же на губах его играла приятная улыбка (так виделось Генриху), а нос коршуна и высокий лоб придавали лицу выражение силы и решительности. — Не знаю, — сказал Офтердинген, когда незнакомец на мгновение остановился. — Не знаю, что за чудное ощущение пробуждают во мне ваши речи. Словно только теперь я начинаю понимать, что такое пение, а все прежнее было лишь простым и обыденным, словно только теперь я узнаю, что такое истинное искусство. Вы, конечно, большой мастер песнопений, и я от всей души прошу принять меня в число ваших старательных и любознательных учеников. Тут незнакомец вновь отвратительно расхохотался, поднялся с камня и предстал пред Генрихом с лицом, искаженным гримасой, в облике такого исполина, что Офтердингена вновь обуял ужас. Чужак опять заговорил громовым голосом, отдававшимся в дальних ущельях: — Вы полагаете, я большой мастер песнопений? Быть может. Порой, по временам. Однако уроков я не даю. Любознательным личностям вроде вас я всегда готов служить советом. А слышали ли вы о мастере песнопений, глубоко изведавшем тайны этого искусства, — о Клингзоре? О нем болтают, что он великий некромант и будто бы даже общается с кем-то, www.franklang.ru 290 кто принят не во всяком обществе. Однако не давайте сбить себя с толку россказнями: все, что людям непонятно, что ускользает от их соображения, все это для них уже что-то сверхчеловеческое, поближе к небу. Или к аду. Ну, хорошо, мастер Клингзор и наставит вас на путь истинный. Он обитает в Семигорье, вот и отправляйтесь туда. Тут вы и увидите, что наука и искусство даровали великому мастеру все, чем можно насладиться и позабавиться на земле, — и славу, и богатство, и расположение дам. Вот так-то, любознательный юноша! Будь Клингзор здесь, спорим на что хочешь, он обездолил бы нашего нежнейшего Вольфрамба фон Эшинбаха, этого швейцарского пастуха-воздыхателя, он отнял бы у него прекрасную графиню Матильду! — Для чего повторяете вы мне это имя? — в гневе воскликнул Генрих Офтердинген. — Подите прочь, от вашего присутствия меня знобит! — Ха-ха, — засмеялся незнакомец, — только не сердиться, маленький мой приятель! Вас знобит оттого, что ночь холодна, а куртка ваша тонка. Я в этом не повинен. Может быть, вам было худо оттого, что я сидел рядышком с вами и согревал вас? Что холод и озноб! Я могу послужить вам кровью и жаром — вспомните графиню Матильду! Ну, я просто хочу сказать, что расположение женщин можно завоевать пением — если петь так, как мастер Клингзор. Я затем столь презрительно отзывался о вашем пении, чтобы вы обратили внимание на свое неумение и бестолковость. Но когда я заговорил о подлинном искусстве, вы сразу же почувствовали истину моих слов, и это доказывает, что в вас есть добрые задатки. Вполне возможно, что вы призваны пойти по стопам мастера Клингзора, а тогда вы сможете с успехом добиваться расположения Матильды. Итак, нечего сидеть на месте — в путь, в Семигорье! Однако минуточку! Если вы не сразу сможете пуститься в странствие, то вот я дарю вам маленькую книжечку — тщательно изучайте ее. Мастер Клингзор сочинил ее, и в ней записаны не только правила подлинного пения, но и некоторые песни самого мастера. www.franklang.ru 291 С этими словами незнакомец вытащил из кармана книжечку в кровавокрасном переплете, который так и заблистал в лучах луны. Ее он отдал Генриху. Как только Офтердинген взял книжечку в руки, чужака словно и след простыл, он исчез в чаще леса. Генрих погрузился в сон. Когда он проснулся, солнце стояло в зените. На коленях лежала красная книжечка, иначе все приключение с незнакомцем он счел бы ярким сновидением». Обратите внимание на хохот незнакомца (Мельмот тоже хохотал), на его искаженный гримасой рот. А также на то, что в какой-то момент незнакомец предстает в облике исполина (что вообще есть одно из проявлений сущности Тени). И на то, что появление Тени как-то связано с «истинным искусством», а значит, с поэтическим вдохновением. Разговор над обрывом — «о глубинах искусства». Итак: «У него (Генриха. — И.Ф.) было ощущение, будто он вот-вот должен броситься головой вниз с крутого обрыва в лесной поток, шумевший в глубине. А спустя мгновение ему казалось, что он скован по рукам и ногам». Прыжок в пропасть — своего рода попытка бегства, свободы, полета — и затем сразу крайняя несвобода, плен. www.franklang.ru 292 Падение Люцифера с небес. Иллюстрация Гюстава Доре к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». 1866 год В романе Гофмана «Эликсиры дьявола» монах Медард нечаянно сталкивает в пропасть своего двойника — графа Викорина: «Но все гуще и гуще становился пихтовый лес; вот что-то зашуршало в темной чаще, и вдруг заржала лошадь, как видно, там привязанная. Я сделал еще несколько шагов и оцепенел, внезапно очутившись на краю зиявшей подо мной ужасной пропасти, на дне которой между крутыми и острыми www.franklang.ru 293 скалами мчался вниз с яростным шипением и ревом лесной поток, громовой грохот которого я слышал еще издали. А на самом краю обрыва, на выступе нависшей над бездной скалы, сидел молодой человек в офицерской форме; возле него лежали шляпа с высоким султаном, шпага и бумажник. Казалось, он спал, свесившись над пропастью и сползая все ниже и ниже. Его падение было неотвратимо. Я отважился подвинуться вперед и, пытаясь удержать, схватил его за руку и громко воскликнул: — Ради Бога, проснитесь... Ради Бога! Но едва я до него дотронулся, как он очнулся от глубокого сна и, потеряв равновесие, рухнул в мгновение ока в бездну; тело его покатилось со скалы на скалу; послышался треск размозженных костей, раздирающий вопль донесся из неизмеримой глубины; потом почудились глухие стоны, но наконец замерли и они. В смертельном испуге я застыл, затем схватил шляпу, шпагу, бумажник и уже двинулся было прочь от злополучного места, как навстречу мне из лесу вышел одетый егерем парень и, пристально вглядевшись в меня, начал так безудержно хохотать, что леденящий ужас обуял меня. — Ну, ваше сиятельство граф, — проговорил он наконец, — маскарад и впрямь получился отменный, и если бы ее милость баронесса ничего о нем наперед не знала, то, по правде говоря, ей не признать бы своего любезного. Но куда вы девали свой костюм, ваше сиятельство? — Я швырнул его в пропасть, — как-то пусто и глухо прозвучало в ответ, ибо не я произнес эти слова, они сами собой сорвались с моих уст. Я стоял в раздумье и упорно глядел в бездну, словно ожидая, что над ней вот-вот грозно встанет окровавленный труп графа... Мне казалось, что я его убийца, я все еще судорожно сжимал в руке его шпагу, шляпу и бумажник. А егерь между тем продолжал: www.franklang.ru 294 — Ну, ваша милость, пора, я спущусь по тропинке в городок и буду там скрываться в доме, что слева у самой заставы, а вы, конечно, отправитесь в замок, где вас уже поджидают; шпагу и шляпу я заберу с собой. Я подал ему и то и другое. — Прощайте, ваше сиятельство! Желаю вам доброй удачи в замке! — воскликнул егерь и тотчас же скрылся в чаще, насвистывая и напевая. Я услыхал, как он отвязал лошадь и повел ее за собой. Когда столбняк у меня прошел и я обдумал все происшедшее, то вынужден был сознаться, что поддался прихоти случая, одним рывком швырнувшего меня в какое-то загадочное сплетение обстоятельств. Как видно, разительное сходство в фигуре и в чертах моего лица со злосчастным графом ввело егеря в заблуждение, а граф, должно быть, как раз собирался переодеться капуцином ради амурных похождений в близлежащем замке. Но его настигла смерть, а дивная судьба в тот же миг подставила меня на его место. Мною овладело неудержимое желание подхватить роль графа, навязанную мне судьбой, и оно подавило в моей душе все сомнения, заглушило внутренний голос, обвинявший меня в убийстве и в дерзком преступлении». Позже о месте, где произошло падение двойника, рассказывается следующее: «Неподалеку отсюда громоздятся дикие, грозные скалы. Поднявшись на них, путник видит перед собой мрачную бездонную пропасть и нависший над нею выступ скалы, прозванный Чертова Скамья. По народному поверью, из бездны поднимаются ядовитые испарения; смельчака, вздумавшего подсмотреть ее тайны и заглянуть вниз, они одурманивают, и, сорвавшись, он низвергается в пропасть на верную смерть». В «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара Аллана По (1838) главный герой спускается в пропасть с помощью своего товарища Петерса: «Так с помощью клиньев и веревки (этот способ, который родился благодаря изобретательности и решимости Петерса, никогда не пришел бы мне в www.franklang.ru 295 голову) мой товарищ, цепляясь помимо всего за каждый попадавшийся выступ, благополучно достиг дна. Не сразу я мог набраться духу, чтобы последовать его примеру, но в конце концов все-таки решился. Еще до того, как пойти на это рискованное предприятие, Петерс снял рубашку, которую я связал с моей собственной, сделав таким образом необходимую для спуска веревку. Сбросив Петерсу найденное в пропасти ружье, я привязал ее к кустам и начал быстро спускаться вниз, пытаясь энергичными движениями преодолеть дрожь, которую я не мог унять никак иначе. Меня хватило, однако, на первые пятьшесть шагов; при мысли о бездне, разверзшейся под ногами, и о ненадежных ступенях и клиньях из мягкого мыльного камня, которые служили единственной мне опорой, воображение мое разыгралось необыкновенно. Напрасно я пытался отогнать эти мысли, вперив взгляд в плоскую поверхность стены прямо перед собой. Чем упорнее я старался не думать, тем ужаснее и отчетливее возникали у меня в голове разные видения. Наконец настал тот момент, столь опасный в подобных случаях, когда мы заранее как бы переживаем ощущения, испытываемые при падении, и ясно представляем себе головокружение и пустоту в животе, и последнее отчаянное усилие, и потемнение в глазах, и, наконец, острое сожаление, что все кончено и ты стремительно летишь головой вниз. Мои фантазии, достигнув критической точки, начали создавать свою собственную реальность, и все воображаемые страхи действительно обступили меня со всех сторон. Я чувствовал, как дрожат и слабеют ноги, как медленно, но неумолимо разжимаются пальцы. В ушах у меня зазвенело, и я подумал: "Это по мне звонит колокол!" Теперь мной овладело неудержимое желание посмотреть вниз. Я не мог, не хотел смотреть больше на стену и с какимто безумным неизъяснимым чувством, в котором смешался ужас и облегчение, устремил взгляд в пропасть. Тут же мои пальцы судорожно вцепились в клин, и в сознании, как тень, промелькнула едва ощутимая надежда на спасение, но в то же мгновение всю душу мою наполнило www.franklang.ru 296 желание упасть — даже не желание, а непреодолимая жажда, влечение, страсть. Я разжал пальцы, отвернулся от стены и, раскачиваясь, замер на секунду. Потом сразу помутилось в голове, в ушах раздался резкий, нечеловеческий голос, подо мной возникла какая-то страшная призрачная фигура, и, тяжело вздохнув, я с замирающим сердцем обрушился прямо к ней на руки. Я потерял сознание, но Петерс поймал меня. Он следил за мной со дна пропасти и, понимая, что я пал духом, всячески старался приободрить меня, хотя состояние мое было таково, что я не различал его слов и вообще ничего не слышал. Видя, что я вот-вот сорвусь, он поспешил подняться мне на помощь и подоспел вовремя. Если бы я обрушился всем своим весом, веревка наверняка бы лопнула, и я полетел бы в бездну, но он сумел подхватить меня и осторожно спустил на полную ее длину, так что я без чувств повис над пропастью. Минут через пятнадцать я пришел в себя. Страх мой совершенно пропал, я почувствовал себя новым человеком и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз». Обратите внимание на слова «всю душу мою наполнило желание упасть — даже не желание, а непреодолимая жажда, влечение, страсть». Здесь дьявольский соблазн очевиден. А вот и сам черт: «в ушах раздался резкий, нечеловеческий голос, подо мной возникла какая-то страшная призрачная фигура, и, тяжело вздохнув, я с замирающим сердцем обрушился прямо к ней на руки». Это двойник-антипод, к которому человек стремится навстречу, чтобы совпасть с ним. Однако, стремясь вниз, Пим попадает в руки своему товарищу Петерсу — другому своему двойнику, двойнику-спасителю, двойнику со знаком плюс. Почему Петерс — двойник? Обратите внимание на связанные рубашки Пима и Петерса, превращенные таким образом в веревку, на то, что Пим и Петерс оказываются соединенными веревкой, на спасительную роль Петерса (причем он играет такую роль не только в данный момент, но и на протяжении всей повести). www.franklang.ru 297 Что мы еще узнаем в повести о Петерсе? В описании его внешности подчеркнуты и черты чужака-инородца, и черты, необычные для человека, и звериные черты (включая съемную шкуру), и черты безумца, и даже черты беса и вампира (то есть мы здесь видим стандартный набор признаков двойника-антипода): «Этот человек был сыном индианки из племени упшароков, которое обитает среди недоступных Скалистых гор, неподалеку от верховий Миссури. Отец его, кажется, торговал пушниной или, во всяком случае, каким-то образом был связан с индейскими факториями на реке Льюиса. Сам Петерс имел такую свирепую внешность, какой я, пожалуй, никогда не видел. Он был невысокого роста, не более четырех футов восьми дюймов, но сложен как Геркулес. Бросались в глаза кисти его рук, такие громадные, что совсем не походили на человеческие руки. Его конечности были как-то странно искривлены и, казалось, совсем не сгибались. Голова тоже выглядела какой-то несообразной: огромная, со вдавленным теменем (как у большинства негров) и совершенно плешивая. Чтобы скрыть этот недостаток, вызванный отнюдь не старческим возрастом, он обычно носил парик, сделанный из любой шкуры, какая попадалась под руку, — будь то шкура спаниеля или американского медведя-гризли. В то время, о котором идет речь, на голове у него был кусок медвежьей шкуры, который сообщал еще большую свирепость его облику, выдававшему его происхождение от упшароков. Рот у Петерса растянулся от уха до уха, губы были узкие и казались, как и другие части физиономии, неподвижными, так что лицо его совершенно независимо от владеющих им чувств сохраняло постоянное выражение. Чтобы представить себе это выражение, надо вдобавок принять во внимание необыкновенно длинные, торчащие зубы, никогда, даже частично, не прикрываемые губами. При мимолетном взгляде на этого человека можно было подумать, что он содрогается от хохота, но если вглядеться более пристально, то с ужасом обнаружишь, что если это и веселье, то какое-то бесовское. Об этом необыкновеннейшем существе www.franklang.ru 298 среди моряков Нантакета ходило множество историй. Некоторые касались его удивительной силы, которую он проявлял, будучи в раздраженном состоянии, а иные вообще сомневались, в здравом ли он уме. Но на борту "Дельфина" в момент бунта он, по-видимому, был всего лишь предметом всеобщего зубоскальства. Я так подробно остановился на Дирке Петерсе потому, что, несмотря на кажущуюся свирепость, именно он помог Августу спастись от смерти, а также и потому, что я буду часто упоминать о нем в ходе моего повествования, которое — позволю себе заметить — в последних своих частях будет содержать происшествия, настолько несовместимые с областью человеческого опыта и в силу этого настолько выходящие за границы достоверности, что я продолжаю свой рассказ без малейшей надежды на то, что мне поверят, однако в стойком убеждении, что время и развивающиеся науки подтвердят наиболее важные и наименее вероятные из моих наблюдений». Вы приметили, конечно, бесовский хохот Петерса. Интересно отметить и нож Петерса (частый атрибут двойника) — «огромный морской тесак, который он носил на поясе». Последние строки повести Эдгара По описывают падение в водную бездну: «Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятья. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване. И кожа ее белее белого». www.franklang.ru 299 Иллюстрация МакКормика к «Повести о приключениях Артура Гордона Пима». 1898 год Я подошел к краю площадки Отдохнем немного от происшествий, «выходящих за границы достоверности», на реалистическом прозведении — приведем пример из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени»: www.franklang.ru 300 «— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться. <…> Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи60». Печорин предлагает Грушницкому стреляться на скале, Грушницкий в этой дуэли погибает (гибель двойника — один из самых частых двойнических признаков). Да, Грушницкий — один из двойников Печорина, как бы пародия на Печорина. Вот одна из двойнических примет: Грушницкий носит «толстую солдатскую шинель», хотя он юнкер, то есть кандидат в офицеры, а не офицер, разжалованный в солдаты: «Грушницкий — юнкер. Он только год Страх высоты (наряду с дьявольским двойником) мы видим и в поэме Лермонтова «Мцыри»: Я осмотрелся; не таю: Мне стало страшно; на краю Грозящей бездны я лежал, Где выл, крутясь, сердитый вал; Туда вели ступени скал; Но лишь злой дух по ним шагал, Когда, низверженный с небес, В подземной пропасти исчез. 60 www.franklang.ru 301 в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель». Шинель для Грушницкого вполне чужеродна — здесь имеет место момент переодевания, маскирования под другого. «Толстая солдатская шинель» есть не что иное, как звериная шкура, в которую маскируется двойник-антипод. Еще одна двойническая примета: раненая нога Грушницкого отражается (позже, в сцене дуэли) в раненой ноге Печорина: «Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края». Хромая нога — один из типичных признаков двойничества61 — и именно тогда, когда двойник одновременно является антиподом, поскольку одноногость (равно как однорукость или одноглазость) являет такое двойничество в самом облике человека: хромая или отсутствующая нога (так сказать, вторая) — двойник-антипод первой, полноценной ноги. Тут можно вспомнить, например, капитана Копейкина из «Мертвых душ» Гоголя — двойника Чичикова. Капитану Копейкину «оторвало руку и ногу». Или одноногого капитана Ахава из романа Мелвилла «Моби Дик» (ногу откусил Белый кит). Хромота считается, конечно, и признаком дьявола, но это вторично по отношению к двойничеству. Дьявол — лишь разновидность двойника-антипода. Еще интересный пример: в «Метаморфозах» Апулея хромой двойник является Луцию во сне — перед его посвящением в культ Озириса — а затем наяву: «В ближайшую же ночь увидел я какого-то жреца в полотняном одеянии; в руках у него тирсы, плющ и еще нечто, чего я не имею права называть; все это он кладет пред моими ларами, а сам, заняв мое сиденье, говорит мне, чтобы я приготовлял обильную священную трапезу. И для того, разумеется, чтобы я лучше мог узнать его, он отличался одной особенностью, а именно: левая пятка у него была несколько искривлена, так что при ходьбе в его поступи была заметна легкая неуверенность. После такого ясного выражения божественной воли всякая тень неопределенности исчезла, и я тотчас после утренних молитв богине стал с величайшим вниманием наблюдать за каждым жрецом, нет ли у кого такой походки, как та, что я видел во сне. Ожидания мои оправдались». 61 www.franklang.ru 302 Михаил Врубель. Дуэль Печорина с Грушницким. 1894 год Примечательно, что сам роман начинается со страха высоты (и со встречи с Максимом Максимычем, который являет двойничество даже просто своим именем): «Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, www.franklang.ru 303 по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа». Страх перед падением мы видим и в главе «Тамань» — там это падение в морскую бездну: «Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. "Что это значит?" — сказал я сердито. "Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — это значит, что я тебя люблю..." И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... "Чего ты хочешь?" — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку. "Ты видел, — отвечала она, — ты донесешь!" — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны. Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал. На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над www.franklang.ru 304 обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь». Здесь примечательна «русалка». В этом употребленном Лермонтовым слове — и метафора, и ирония, но и метафизическая правда: сравните с той страшной белой фигурой, что мы наблюдали в конце «Повести о приключениях Артура Гордона Пима». Ну а двойник Печорина в «Тамани», видимо, мальчик — «слепой чертенок». Тамань. Рисунок Лермонтова. 1837 год В главе «Фаталист», двойником, Тенью Печорина в которой выступает серб Вулич («высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы»62), также есть 62 Грушницкий, кстати, тоже «смугл и черноволос». А Печорин — «беленький» и «белокурый». С одной поправкой: «несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади». Этот «признак породы» в облике Печорина www.franklang.ru 305 падение. Правда, с небольшой высоты, но зато головой вниз (такое перевертывание — один из признаков двойника-антипода) и смертельно опасное: «Он стал стучать в дверь изо всей силы; я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!» Падение в хрусталь В конце рассказа Гофмана «Песочный человек» главный герой Натанаэль идет на прогулку с невестой Кларой и ее братом Лотаром, поднимается с невестой на башню — и замечает своего страшного двойника-антипода. Это Коппелиус, он же Коппола: «Совершили кое-какие покупки; высокая башня ратуши бросала на рынок исполинскую тень. — Вот что, — сказала Клара, — а не подняться ли нам наверх, чтобы еще раз поглядеть на окрестные горы? Сказано — сделано. Оба, Натанаэль и Клара, взошли на башню, мать со служанкой отправились домой, а Лотар, не большой охотник лазать по лестницам, решил подождать их внизу. И вот влюбленные рука об руку являет сочетание человека с его двойником-антиподом не только внешним (с Грушницким или Вуличем), но и внуренним. Уже в самом облике Печорина видно, что он раздвоен — на себя и на свою Тень. www.franklang.ru 306 стояли на верхней галерее башни, блуждая взорами в подернутых дымкою лесах, позади которых, как исполинские города, высились голубые горы. — Посмотри, какой странный маленький серый куст, он словно движется прямо на нас, — сказала Клара. Натанаэль машинально опустил руку в карман; он нашел подзорную трубку Копполы, поглядел в сторону... Перед ним была Клара! И вот кровь забилась и закипела в его жилах — весь помертвев, он устремил на Клару неподвижный взор, но тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза; он ужасающе взревел, словно затравленный зверь, потом высоко подскочил и, перебивая себя отвратительным смехом, пронзительно закричал: "Куколка, куколка, кружись! Куколка, кружись, кружись!" — с неистовой силой схватил Клару и хотел сбросить ее вниз, но Клара в отчаянии и в смертельном страхе крепко вцепилась в перила. Лотар услышал неистовство безумного, услышал истошный вопль Клары; ужасное предчувствие объяло его, опрометью бросился он наверх; дверь на вторую галерею была заперта; все громче и громче становились отчаянные вопли Клары. В беспамятстве от страха и ярости Лотар изо всех сил толкнул дверь, так что она распахнулась. Крики Клары становились все глуше: "На помощь! спасите, спасите..." — голос ее замирал. "Она погибла — ее умертвил исступленный безумец!" — кричал Лотар. Дверь на верхнюю галерею также была заперта. Отчаяние придало ему силу неимоверную. Он сшиб дверь с петель. Боже праведный! Клара билась в объятиях безумца, перекинувшего ее за перила. Только одной рукой цеплялась она за железный столбик галереи. С быстротою молнии схватил Лотар сестру, притянул к себе и в то же мгновенье ударил беснующегося Натанаэля кулаком в лицо, так что тот отпрянул, выпустив из рук свою жертву. Лотар сбежал вниз, неся на руках бесчувственную Клару. Она была спасена. И вот Натанаэль стал метаться по галерее, скакать и кричать: "Огненный круг, крутись, крутись! Огненный круг, крутись, крутись!" На его дикие www.franklang.ru 307 вопли стал сбегаться народ; в толпе маячила долговязая фигура адвоката Коппелиуса, который только что воротился в город и сразу же пришел на рынок. Собирались взойти на башню, чтобы связать безумного, но Коппелиус сказал со смехом: "Ха-ха, — повремените малость, он спустится сам", — и стал глядеть вместе со всеми. Внезапно Натанаэль стал недвижим, словно оцепенев, перевесился вниз, завидел Коппелиуса и с пронзительным воплем: "А... Глаза! Хорош глаза!.." — прыгнул через перила. Когда Натанаэль с размозженной головой упал на мостовую, — Коппелиус исчез в толпе». Почему Натанаэль, завидев Коппелиуса, закричал о глазах? До этого рассказывалось, что Коппелиус — иноземец, говорящий на искаженном немецком, торговец барометрами и очками — пришел к Натанаэлю и разложил очки, предлагая их купить. Герой рассказа воспринял это весьма необычно, неадекватно: «И вот однажды, когда он писал письмо Кларе, к нему тихо постучали; на его приглашение войти дверь отворилась и отвратительная голова Коппелиуса просунулась вперед. Натанаэль содрогнулся в сердце своем, но, вспомнив, что говорил ему Спаланцани о своем земляке Копполе и что он сам свято обещал возлюбленной относительно Песочника Коппелиуса, он устыдился своего ребяческого страха перед привидениями, с усилием поборол себя и сказал с возможной кротостью и спокойствием: — Я не покупаю барометров, любезный, оставьте меня! Но тут Коппола совсем вошел в комнату и, скривив огромный рот в мерзкую улыбку63, сверкая маленькими колючими глазками из-под длинных седых ресниц, хриплым голосом сказал: — Э, не барометр, не барометр! — есть хороши глаз — хороши глаз! Натанаэль вскричал в ужасе: — Безумец, как можешь ты продавать глаза? Глаза! Глаза! 63 Сравните: в «Состязании певцов» у Тени был «искаженный гримасой рот». www.franklang.ru 308 Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и очки и стал раскладывать их на столе. — Ну вот, ну вот, — очки, очки надевать на нос, — вот мой глаз, — хороши глаз! И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и таращились; и он уже сам не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал: — Остановись, остановись, ужасный человек!» Так что же означает эта устрашающая, чудовищная множественность глаз? Герой, склоняясь над миром, как над водным простором (как над зеркалом!), видит себя умноженным двойником, видит свою собственную многоочитую Тень. Он отражается в каждой вещи (сравните с «великим изречением» индуистов: tat tvam asi — «то ты еси», это есть ты). Будто зеркало раскалывается — и каждый осколок сам становится зеркалом, отражая героя. Вот еще примеры на сочетание образа бездны с образом разбитого зеркала. В рассказе Гофмана «Майорат» барон заглядывает в провал, образовавшийся на пути к башне (потом его в этот провал столкнут): «Старик молча подошел к дверце и с трудом ее отпер. Но как только он ее распахнул, в залу ворвалась снежная пороша, влетел испуганный ворон и, каркая, стал биться об окна черными крыльями, а потом, найдя открытую дверь, ринулся в пропасть. Барон ступил в коридор, но, едва заглянув вниз, попятился назад. — Ужасный вид! Голова кружится!..— пробормотал он и, на мгновение потеряв сознание, упал на руки стряпчего. Но очень быстро пришел в себя и спросил, вперив в дворецкого проницательный взор: — А там внизу? www.franklang.ru 309 Старик между тем снова запер дверцу и, навалившись на нее всей тяжестью своего тела, пытался повернуть огромный ключ в заржавленном замке. Справившись с этим и вытащив ключ, он повернулся к барону и сказал со странной усмешкой, помахивая большими ключами: — Да, там, внизу лежат тысячи тысяч: все замечательные инструменты покойного господина, — телескопы, квадранты, глобусы, ночные зеркала, — все превратилось в осколки, раздавленные балками и камнями». В рассказе Гофмана «Фалунские рудники» матрос Элис Фребем встречает своего двойника-антипода, свою Тень — «старого рудокопа», который советует ему стать рудокопом. Эта встреча, по сути, повторяет встречу Генриха фон Офтердингена с незнакомцем над обрывом (только тут речь идет не о глубинах поэтического искусства, но о глубинах земли и сокровищах, которые становятся доступны искусному рудокопу): «Вдруг глухой, суровый голос раздался возле него: — Ты, молодой человек, должно быть, испытал очень большое несчастье, если желаешь смерти теперь, когда жизнь твоя только что начинается. Элис оглянулся и увидел старого рудокопа, который стоял, прислонясь спиной к стене дома гостиницы, с сложенными на груди руками, и смотрел на него проницательным взглядом. Вглядевшись в старика, Элис почувствовал какое-то странное впечатление, точно после долгого одиночества встретил знакомое и приветливое лицо. <…> Говорю тебе, Элис Фребем, послушай моего совета, сделайся рудокопом. Элис почти испугался слов старика. — Как, — воскликнул он, — что ты мне советуешь? Покинуть прекрасную землю, проститься с ясным солнцем, которое нас холит и радует? Спуститься вниз, в страшную глубь земли, рыться как крот, отыскивая металлы и руды, для того, чтобы добыть жалкий заработок? — Вот, — сердито воскликнул старик, — мнение толпы! Она презирает то, в чем ровно ничего не смыслит. Жалкий заработок? Как будто вся эта www.franklang.ru 310 суетливая, мучительная возня на поверхности земли, которую вы называете торговлей, лучше и благороднее прекрасного ремесла рудокопа, чей обогащенный познаниями ум и неутомимое прилежание проникают в места, куда природа скрыла свои неисчерпаемые сокровища. Ты говоришь о жалкой выгоде рудокопа, Элис Фребем? Так знай же, что в ремесле его скрыто более, чем простая выгода. Роясь, как крот, чей слепой инстинкт перерезывает землю во всех направлениях, работая при бледном свете рудничных ламп, рудокоп укрепляет свой глаз и может дойти до такого просветления, что в неподвижных каменных глыбах ему, иной раз, представляются отраженными вечные истины того, что скрыто от нас там, далеко, за облаками! Ты ничего не понимаешь в рудничном деле, Элис Фребем, и я тебе о нем расскажу. С этими словами старик сел на скамью возле Элиса и начал объяснять ему первые основы горного искусства, стараясь как можно лучше рассказать все незнакомому с этим делом молодому человеку. Он начал с рассказа о Фалунских рудниках, где, по его словам, работал с самых первых лет молодости; описал вид тамошних знаменитых наружных рудников, с их черными отвесными скалами, говорил о неисчерпаемых рудных богатствах, о прекрасных минералах; речь его лилась с каждым словом живее, и все ярче и ярче загорался проницательный взгляд; подземные ходы описывал он, как аллеи волшебного сада; камни оживали от его слов; ископаемые животные начинали шевелиться; пирозмалиты и альмандины загорались дивным огнем; горные хрустали сияли и просвечивали всевозможными красками радуги. Элис слушал с увлечением; живая речь старика, описывавшего чудеса подземного мира такими яркими красками, как будто бы он сам находился посреди них, охватила все его существо; грудь его волновалась; ему казалось, что он уже как будто сам стоит, вместе со стариком, в подземной глубине и чувствует, что никогда не увидит более светлого солнца. Все, что тот ни говорил, казалось ему как будто давно знакомым, точно все эти волшебные www.franklang.ru 311 чудеса уже с детства носились перед его глазами в неясных, туманных видениях. — Я рассказал тебе, Элис Фребем, — так кончил старик, — о том прекрасном деле, к которому ты предназначен самой судьбой. Подумай об этом и поступи, как тебе посоветует твой собственный здравый смысл». Затем Элис видит сон: «Едва успел он улечься, усталый, в постель, как сон в то же мгновение простер над ним свои крылья. Ему снилось, что он плывет под полными парусами на прекрасном корабле среди тихого, как зеркало, моря, но под небом, покрытым грядою темных, грозных облаков. Вглядываясь пристальнее в поверхность воды, он увидел, однако, что это была не вода, а, напротив, твердая, прозрачная, сверкающая поверхность, на которую едва он успел взглянуть, как корабль вдруг исчез, точно растворившись в этой кристальной массе, а сам Элис очутился стоящим на светлой хрустальной поверхности. Взглянув наверх, он увидел, что принятый им сначала за облака свод состоял не из облаков, а из нависших сверкающих каменных масс. Увлекаемый точно волшебной силой, Элис сделал несколько шагов по этой прозрачной поверхности, но тут вдруг все зарябило у него в глазах, и из глубины, точно закрутившиеся волны, вдруг поднялись чудные цветы и деревья, сверкавшие металлическим блеском листьев, переливавшиеся всеми цветами радуги. Дно было так прозрачно, что Элис ясно различал корни этих цветов и деревьев, а под ними, вглядываясь еще пристальнее, увидел множество прелестных улыбающихся женских фигур, державшихся друг за друга белыми, сияющими руками64. Он видел, что деревья и цветы Подобное происходит и с Хомой Брутом в повести Гоголя «Вий»: «Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как 64 www.franklang.ru 312 вырастали из их сердец, и когда они улыбались, то звонкие переливы их смеха отдавались под нависшим сводом звуками чудной, чарующей музыки, а металлические цветы и деревья росли все выше и выше, сплетаясь ветвями. Какое-то странное чувство счастья и вместе с тем боли охватило его сердце; жажда любви, страсти, бурных желаний вдруг закипела в его душе. "Туда, к вам, к вам!" — воскликнул он и как безумный бросился с простертыми руками в глубину кристального моря. Оно раздалось от его падения, и он поплыл в пучине какого-то легкого, мерцавшего эфира. "А ну, Элис Фребем! Как тебе эта красота?" — вдруг раздался возле него сильный, грубый голос. Элис оглянулся и увидел возле себя старого рудокопа, но чем пристальнее он в него вглядывался, тем более замечал, что фигура его все росла, росла и наконец достигла гигантских размеров, точно из раскаленного металла вылитая статуя. Элис с ужасом отшатнулся, но тут вдруг будто молния сверкнула в глубине и внезапно озарила исполинский образ величавой женщины. Элис почувствовал, что восторг, охвативший все его существо, достиг последних пределов, какие только может выдержать человеческая грудь. Старик крепко его схватил и воскликнул: "Берегись, Элис Фребем! Это царица! Еще есть время вернуться тебе наверх!" Элис невольно поднял глаза, и ему показалось, что ночные звезды сияли сквозь трещины свода. Нежный голос, где-то вдали, с отчаянной тоской, произнес его имя; он узнал голос матери; ему показалось даже, что мелькнул ее образ там в высоте, но это была не мать, а прелестная молодая женщина, простиравшая к нему руки. — Наверх, наверх! — воскликнул он старику. — Я принадлежу еще этому миру, его светлым небесам. из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде... Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью...» www.franklang.ru 313 — Берегись! — мрачно произнес старик. — Берегись, Элис Фребем! Ты должен остаться верен царице, которой предался телом и душой! Но едва Элис взглянул еще раз на образ поразившей его, величественной женщины, как вдруг почувствовал, что кровь стынет в его жилах, а он сам превращается в холодный блестящий камень. Ужас сковал его душу, и, сделав неимоверное усилие, он очнулся от этого колдовского сна, хотя оставленное им впечатление еще долго волновало все его существо». В этом отрывке вы видите единство следующих образов: море — зеркало — горная пропасть. Вы видите, как свобода («и он поплыл в пучине какого-то легкого, мерцавшего эфира») оборачивается пленом («как вдруг почувствовал, что кровь стынет в его жилах, а он сам превращается в холодный блестящий камень»). Кроме того, вы видите два жутких образа, речь о которых еще впереди: старого рудокопа, чья фигура «достигла гигантских размеров, точно из раскаленного металла вылитая статуя», и «царицу» — «исполинский образ величавой женщины» (сравните с тем образом, что мы уже встречали в конце повести Эдгара По65). Он видит словно две ожившие статуи — мужскую и женскую. Это две ипостаси двойника (вольно используя термины Юнга, это Тень и Анима). Еще немного «Фалунских рудников». Элис слушается совета старого рудокопа и отправляется в Фалун. Вот его первое впечатление от рудников: «Заглянув в эту бездну, Элис Фребем вспомнил давно слышанный им рассказ старого штурмана корабля, на котором он служил. Человеку этому чудилось в припадке горячки, что волны, внезапно расступаясь, открыли перед ним бездонную пропасть морского дна, на котором тысячи отвратительных чудовищ, клубясь и ползая среди груды раковин, кораллов и окаменелостей, рвали и терзали друг друга, пока не погибли в этой страшной борьбе все до последнего. По словам старика, сон этот означал близкую смерть, и, действительно, скоро он, в припадке безумия, бросился с «И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване». 65 www.franklang.ru 314 палубы в море и исчез в волнах навсегда. При воспоминании об этом Элису казалось, что дно Фалунской бездны очень похоже на высохшее дно моря, а черные скалы с голубоватым налетом обжигаемых руд выглядели, точно страшные полипы, простиравшие к нему свои жадные лапы. Несколько рудокопов, поднявшихся снизу, в черных рабочих платьях, с лицами, закопченными пороховым дымом, похожие на демонов, пробивающих себе дорогу к свету, довершали ужасное впечатление. Элис не мог скрыть возбужденного в нем чувства страха и почувствовал даже, чего никогда не бывает с моряком, невольное головокружение, точно невидимые руки толкали его прямо в зияющую пропасть». Вспомните «тысячу щупалец» в романе о Мельмоте: «Мельмот сорвался вместе с ним и упал вниз, в ревущую пучину, которая, казалось, готова была вцепиться в него тысячами щупалец и его поглотить». И вот здесь: «Черные скалы с голубоватым налетом обжигаемых руд выглядели, точно страшные полипы, простиравшие к нему свои жадные лапы». Более сдержанно о том же у Лермонтова: «Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чутьчуть у меня не закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи». То, что скалы ожидают своей добычи, — метафора. Но раньше эта метафора была мифом. И в романе Лермонтова — в сцене двойников на скале — вновь оборачивается мифом. Элис становится рудокопом и, погрузившись в «ужасную Фалунскую бездну», встречает там Тень — старого рудокопа: «Однажды Элис работал в самом глубоком отделении рудника, до того наполненном серными испарениями, что его лампочка едва горела бледным, мерцающим светом, и он едва мог отличать горные породы одну от другой. Вдруг услышал он удары горного кайла, раздававшиеся еще глубже той шахты, в которой он находился. Звук этот поразил его каким-то неприятным, зловещим образом, так как он хорошо знал, что в этом отделении рудника никого не было кроме него, прочие же рабочие, еще с www.franklang.ru 315 утра, были посланы штейгером в другую шахту. Он бросил молот и стал прислушиваться к этому глухому звуку, который все приближался. В эту минуту свежий поток воздуха, ворвавшись откуда-то в шахту, разогнал серный пар; черная тень скользнула по стене, и Элис, оглянувшись, увидел возле себя старого гетеборгского рудокопа. — Доброго успеха! — сказал старик. — Доброго успеха, Элис Фребем, в твоем деле! Каково поживаешь, товарищ? Элис хотел спросить, каким образом он смог забраться в шахту, но старик вдруг с такой силой ударил молотом по скале, что искры посыпались во все стороны и точно гром пронесся по всему подземелью. — Славная здесь есть жила! — закричал он резким, пронзительным голосом. — Да только ты ее не увидишь, хитрый подмастерье! Вечно будешь ты рыться, как слепой крот, и никогда не полюбит тебя царь металлов! Да и там, наверху, не удастся тебе ничего! Ведь ты работаешь только затем, чтобы жениться на дочери Пэрсона Дальсе Улле! Любви и усердия к делу в тебе нет. Берегись, лукавый работник! Смотри, чтобы здешний царь, над которым ты издеваешься, не переломал о камни и не разбросал в разные стороны твои кости! Никогда Улла не будет твоей женой, это говорю тебе я! Элиса взорвало от дерзких слов старика. — Что ты тут делаешь, — крикнул он, — в шахте моего хозяина Пэрсона Дальсе, на которого я работаю со всем усердием, к какому только способен? Убирайся-ка лучше подобру-поздорову, покуда цел, а не то мы еще посмотрим, кто кому разобьет голову! С этими словами он грозно встал перед стариком, подняв железный молот66, которым работал, но тот только презрительно усмехнулся и, к величайшему ужасу Элиса, вскарабкавшись с проворством кошки по уступам скалы, исчез в мрачных переходах подземелья. Железный молот здесь — вариант ножа (жертвенного, ритуального), который часто возникает в отношениях между двойниками. 66 www.franklang.ru 316 Элис чувствовал, что он точно разбит во всем теле; работа валилась из его рук, и он вышел из шахты. Главный штейгер, встретив его при выходе, воскликнул: — Ради самого Создателя, что с тобой, Элис? Ты расстроен и бледен как смерть! Неужто тебя так одурманил серный дым, к которому ты еще не успел привыкнуть? Ничего! Выпей, дружище, это тебе поможет! Элис выпил добрый глоток из фляжки, поданной ему стариком, и, подкрепившись таким образом, рассказал ему свое приключение в шахте, а равно и свое первое знакомство со старым и загадочным рудокопом в Гетеборге. Главный штейгер выслушал его очень внимательно, а затем, многозначительно покачав головой, сказал: — Знаешь что, Элис Фребем! Ведь это был старый Торберн, и я начинаю думать, что сказки, которые о нем здесь рассказывают, далеко не вздор. Лет сто тому назад жил в Фалуне рудокоп, по имени Торберн. Он был один из первых, приведших Фалунское горное дело в порядок, и при нем выгоды этого занятия были гораздо значительнее, чем теперь. Никто не мог сравниться с Торберном в глубоком познании горного дела, и в Фалуне он был лучшим его представителем. Вечно мрачный и суровый на вид, он, казалось, обладал какой-то сверхъестественной способностью открывать богатейшие рудные жилы и постоянно рылся в земле, никогда не выходя на свет Божий. Ни жены, ни детей, ни даже жилища в Фалуне у него не было. Такая жизнь скоро породила слухи, что будто бы он связался с нечистой силой, которой подвластны расплавленные в земной утробе металлы. Он постоянно пророчил несчастье тем рудокопам, которые работали только для прибыли, а не из бескорыстной любви к благородным камням и металлам. Но его никто не хотел слушать, и рудники наши все более и более перерезывались подземными ходами и шахтами, пока, наконец, однажды, в день святого Иоанна тысяча шестьсот восемьдесят седьмого года, ужасный горный обвал не завалил весь рудник, образовав таким образом www.franklang.ru 317 наше страшное ущелье и разрушив все работы до такой степени, что только спустя долгое время, с великим трудом, успели восстановить и сделать годными для дальнейших работ некоторые шахты. Торберна никто с тех пор не видал, так что, по всей вероятности, он, работая в шахте, был засыпан обвалом. Однако впоследствии, когда работы были восстановлены, между мастеровыми пронесся слух, что Торберн стал появляться то в той, то в другой части рудника и каждый раз давал дельные советы работающим или указывал новые рудные жилы. Некоторые встречали его даже наверху, причем он или печально на что-то жаловался, или сердито ворчал. Многие из пришедших сюда молодых людей уверяли, что им советовал искать счастья в горном труде и прислал именно в Фалун неизвестный им старый рудокоп. Замечательно, что это случалось каждый раз, когда здесь был недостаток в рабочих руках, так что Торберн, казалось, и этим хотел услужить любимому им горному делу. Если человек, с которым ты поссорился в шахте, был действительно Торберн и если он в самом деле говорил тебе о близко лежащей жиле, то это верный знак, что тут есть богатая залежь руды...» Рассказ о рудокопе Торберне несколько напоминает рассказ в гоголевском «Портрете» о смуглом старике в азиатском наряде, который на том портрете изображен. Напоминает скорее структурно: в начале повествования Тень является, а в конце повествования рассказывается о жившем когда-то реальном человеке, который стал затем этой Тенью. О двойнике-антиподе в «Портрете» я говорил в статье «Гоголь и бесчисленноглазый Кришна». Портрет, глядящий на художника Чарткова, — это засасывающая беднягу, бесконечно расширяющаяся пропасть, это разбитое зеркало, это многоочитое и многорукое чудовище: «Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз». www.franklang.ru 318 В заключение бросим взгляд на повесть Гофмана «Золотой горшок». В начале повести студента Ансельма проклинает старуха-торговка, яблоки которой он нечаянно рассыпал (в дальнейшем она оказывается ведьмой): «В день вознесения, часов около трех пополудни, чрез Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина, — и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи товарки ее оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок; но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..» В резком, пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм (молодой человек был именно он) хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах, она проклятая баба!» Странным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали». «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..» — так Владимир Соловьев перевел »Ja renne — renne nur zu, Satanskind — ins Kristall bald dein Fall — ins Kristall!« Дословно: «Так беги — беги же, чертов www.franklang.ru 319 сын: «дитя сатаны» — в хрусталь скоро твое падение — в хрусталь!» Не просто «попадешь», а именно «падение» — «упадешь». Ансельм будет затем слышать «хрустальные колокольчики» — хрустальные голоса волшебных змеек, а также смотреть в волшебное хрустальное зеркало67: «Студент Ансельм посмотрел, и — о, чудо! — из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало, а в этом зеркале, всячески извиваясь, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три золотисто-зеленые змейки. И когда гибкие, тысячами искр сверкающие тела касались друг друга, тогда звучали дивные аккорды хрустальных колокольчиков и средняя змейка протягивала с тоскою и желанием свою головку и синие глаза говорили: «Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм? Только в вере есть любовь — можешь ли ты любить?»» В какой-то момент Ансельм совершает ошибку — и попадает в стеклянный плен: ««Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» — так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями как ослепительный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии — поднять руку или сделать движение. Ах! он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста». Так и в повести Гофмана «Принцесса Брамбилла» «сверкающая хрустальная призма» превращается в «зеркальную гладь огромного озера». Это озеро — не простое: «…как богаты, как счастливы мы и все те, кому удалось узреть жизнь, самих себя, все сущее вокруг, в дивном, солнечно светлом зеркале Урдарозера». 67 www.franklang.ru 320 Михаил Врубель. Демон поверженный. 1902 год Играет на лице еще багровый цвет Главного героя драматической поэмы Байрона «Манфред» (1817) мы встречаем в Альпах. Вот он — глядящий в пропасть: Вы, груды скал, где я стою над бездной68 И в бездне над потоком различаю Верхи столетних сосен, превращенных Зияющей стремниною в кустарник, — Скажите мне, зачем над ней я медлю, Когда одно движенье, лишний шаг 68 And you, ye crags, upon whose extreme edge I stand, and on the torrent's brink beneath Behold the tall pines dwindled as to shrubs In dizziness of distance; when a leap, A stir, a motion, even a breath, would bring My breast upon its rocky bosom's bed To rest for ever—wherefore do I pause? I feel the impulse—yet I do not plunge; I see the peril—yet do not recede; And my brain reels—and yet my foot is firm… www.franklang.ru 321 Навеки успокоили бы сердце В скалистом ложе горного потока? Оно зовет — но я не внемлю зову. Оно страшит — но я не отступаю, Мутит мой ум — и все же я стою69… И немного дальше (где, кстати, возникает образ адского океана, то есть горная пропасть напоминает водную — и вместе с тем огненную — бездну): Вкруг ледников дымится мгла и пахнет70 Горящей серой; белыми клубами К моим ногам всползают облака, Как пена из пучины преисподней, С тех жадных волн, что роют берег жизни, Обремененный грешными, как щебнем. — Я задыхаюсь. У Бунина «Я задыхаюсь», в подлиннике же “I am giddy” — «У меня кружится голова», что важно для нашей темы. Перевод Ивана Бунина. The mists boil up around the glaciers; clouds Rise curling fast beneath me, white and sulphury, Like foam from the roused ocean of deep Hell, Whose every wave breaks on a living shore, Heaped with the damned like pebbles.—I am giddy. 69 70 www.franklang.ru 322 Ф. М. Браун. Манфред на Юнгфрау. 1842 год Когда Манфред наконец хочет броситься в пропасть, его удерживает от этого проходящий мимо охотник за сернами, говорящий затем Манфреду, что тот должен покорно нести свой крест. www.franklang.ru 323 Манфред Я и несу. Ведь я живу — ты видишь71. Охотник Такая жизнь — болезненные корчи. “This is convulsion” — подобное является частой характеристикой человека, повстречавшего дьявольского двойника и готового броситься в бездну72. Далее в драматической поэме мы получаем довольно полный мифический набор, связанный с двойником: Манфред вызывает фею Альп (в подлиннике — ведьму: witch of the Alps), встречается с тремя парками (богинями судьбы: the Destinies), Ариманом73, Немезидой74, аббатом, уговаривающим его одуматься, и в самом конце с «мрачным призраком» — со своей Тенью, своим «черным человеком», своим двойником-антиподом: Манфред Напрасная надежда! Мой путь свершен, моя судьба решилась. Но уходи, — тебе здесь быть опасно. Аббат Ты хочешь запугать меня? Манфред О нет. Я говорю лишь, что близка опасность. Остерегись. Аббат Чего? 71 Manfred. Do I not bear it?—Look on me—I live. Chamois Hunter. This is convulsion, and no healthful life. 72 У Гофмана, например, мы видели «искаженный гримасой рот». 73 Ариман — древнеперсидское божество, олицетворяющее злое начало на земле, властелин смерти и тьмы. 74 Немезида — в греческой мифологии богиня возмездия, карающая за преступления. В "Манфреде" Немезида — исполнительница воли Аримана. www.franklang.ru 324 Манфред Гляди сюда: Ты видишь? Аббат Нет. Манфред Гляди, я повторяю, И пристально. Теперь скажи, — ты видишь? Аббат Я вижу, что встает из-под земли, Как адский бог, какой-то мрачный призрак; Его лицо закрыто покрывалом, Он весь повит тяжелыми клубами Свинцовой мглы, но он не страшен мне. <…> Зачем он здесь? Манфред Да, да, зачем он здесь? Кто звал его? Он гость, никем не званный. Аббат Погибший смертный! Страшно и подумать, Что ждет тебя! С какою целью ходят К тебе такие гости? Почему Вы смотрите так зорко друг на друга? А, он покров свой сбросил: на челе — Следы змеистых молний, взор блистает Бессмертием геенны — адский призрак, Исчезни! Манфред Дух, зачем ты здесь? Дух www.franklang.ru 325 Идем! «Почему / Вы смотрите так зорко друг на друга?» (“Why doth he gaze on thee, and thou on him?”) — вот еще один из признаков двойничества: двойники впиваются друг в друга взглядом. В подлиннике это передается и на уровне синтаксиса: «Почему он (пристально) смотрит на тебя, а ты — на него?». Двойники обмениваются взглядом, как крестиками, — словно братаются. Из последней сцены «Манфреда» тянутся ниточки сразу к нескольким произведениям Пушкина (который самостоятельно выучил английский специально для того, чтобы читать Байрона в оригинале). Одна ниточка тянется к «Моцарту и Сальери», где Моцарту является «черный человек». Другая — к «Пиру во время чумы». Разговор председателя пира с увещевающим его старым священником — это отголосок разговора Манфреда с аббатом75. И именно в этом произведении Пушкина — тема «бездны мрачной на краю». Вот знаменитая песня председателя: Когда могущая Зима, Как бодрый вождь, ведет сама На нас косматые дружины Своих морозов и снегов, — Навстречу ей трещат камины, И весел зимний жар пиров. * Царица грозная, Чума Теперь идет на нас сама И льстится жатвою богатой; И к нам в окошко день и ночь Разговор Манфреда с аббатом, в свою очередь, есть отголосок разговора Фауста со стариком в «Трагической истории доктора Фауста» Кристофера Марло (1589). 75 www.franklang.ru 326 Стучит могильною лопатой... Что делать нам? и чем помочь? * Как от проказницы Зимы, Запремся также от Чумы! Зажжем огни, нальем бокалы, Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы. * Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. * Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог. * Итак, — хвала тебе, Чума, Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призванье! Бокалы пеним дружно мы И девы-розы пьем дыханье, — Быть может... полное Чумы! www.franklang.ru 327 Входит старый священник. Священник Безбожный пир, безбожные безумцы! Есть в этом произведении и свой «черный человек»: «Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею». Ужасный демон Приснился мне: весь черный, белоглазый... Он звал меня в свою тележку. В ней Лежали мертвые — и лепетали Ужасную, неведомую речь... Скажите мне: во сне ли это было? Проехала ль телега? На самом деле «черный человек» проявляется и в следующих словах: И к нам в окошко день и ночь Стучит могильною лопатой... Это нередкая для Пушкина тема ожившего мертвеца, который и есть Тень, «черный человек», ожившая статуя, живая буря (буран, метель), двойникантипод. Сравните — в стихотворении «Утопленник»: Долго мертвый меж волнами Плыл качаясь, как живой; Проводив его глазами, Наш мужик пошел домой. www.franklang.ru 328 <…> Уж с утра погода злится, Ночью буря настает, И утопленник стучится Под окном и у ворот. Или о буре: То, как путник запоздалый, К нам в окошко застучит. Еще одна ниточка ведет к «Каменному гостю», где дон Гуану является статуя командора. Еще одна — к «Медному всаднику», где также оживает статуя, являющаяся двойником-антиподом бедного Евгения. И где, конечно, оживает водная стихия: Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась… Это то же самое, что снежная буря, то же самое, что Чума. Это мифический зверь, который хочет проглотить героя. Это пропасть. И это двойникантипод. Есть образ стихии, поглощающей героя, и в в «Манфреде»: Вы, лавины! Вы, глыбы льдов! Обрушьтесь на меня И поглотите жизнь мою! www.franklang.ru 329 Но есть еще одна ниточка, быть может, самая любопытная. Манфред просит сначала фею Альп, а затем Немезиду воскресить его возлюбленную — Астарту. Немезида, получив согласие Аримана, выполняет просьбу: Призрак Астарты появляется среди чертога. Манфред И это смерть? Румянец на ланитах76! Но не живой он, — странный и зловещий, Как тот, что рдеет осенью на листьях. Астарта! — Нет, я говорить не в силах, Вели заговорить ей: пусть она Простит иль проклянет меня. Это несколько напоминает: И девы-розы пьем дыханье, — Быть может... полное Чумы! Однако больше всего это напоминает деву из пушкинского стихотворения «Осень»: Дни поздней осени бранят обыкновенно, Но мне она мила, читатель дорогой, Красою тихою, блистающей смиренно. 76 Can this be death? there's bloom upon her cheek; But now I see it is no living hue, But a strange hectic—like the unnatural red Which Autumn plants upon the perished leaf. It is the same! Oh, God! that I should dread To look upon the same—Astarte!—No, I cannot speak to her—but bid her speak— Forgive me or condemn me. www.franklang.ru 330 Так нелюбимое дитя в семье родной К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, Из годовых времен я рад лишь ей одной, В ней много доброго; любовник не тщеславный, Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, Как, вероятно, вам чахоточная дева Порою нравится. На смерть осуждена, Бедняжка клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах увянувших видна; Могильной пропасти она не слышит зева; Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. «Играет на лице еще багровый цвет» — это, извините, Брэм Стокер, это «Дракула»: «В гробу лежала Люси, точь-в-точь такая же, какой мы видели ее накануне похорон. Она, казалось, была еще прекраснее, чем обыкновенно, и мне никак www.franklang.ru 331 не верилось, что она умерла. Губы ее были пунцового цвета, даже более яркого, чем раньше, а на щеках играл нежный румянец77. — Что это — колдовство? — спросил я. — Вы убедились теперь? — сказал профессор в ответ; при этом он протянул руку, отогнул мертвые губы и показал мне белые зубы. Я содрогнулся». Тут не просто моя шутка. Дело в том, что тривиальный (но увлекательно написанный) роман «Дракула» (1897) — из того же источника, что и гениальное стихотворение Пушкина. И сам Дракула — это, конечно, «черный человек». Бела Лугоши в фильме «Дракула». 1931 год Между прочим, и девочка, снящаяся Свидригайлову в «Преступлении и наказании», имеет те же черты оживающей покойницы или вампирши: «Он осторожно приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно: эта краска обозначалась как бы ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. «Это лихорадочный румянец», — подумал Свидригайлов, это — точно румянец от вина, точно как будто ей дали выпить целый стакан. Алые губки точно горят, пышут, но что это? Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетски подмигивающий глазок, точно девочка не спит и притворяется». 77 www.franklang.ru 332 Двойник-антипод обычно и является вместе с «Мертвой Царевной». Мы уже видели ее образ в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара По: «Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятья. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване». Вот еще один такой образ из Эдгара По — из рассказа «Падение дома Ашеров» (1839): «Вот теперь я тебе скажу — я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услыхал это... много, много дней назад... и все же не смел... не смел сказать! А теперь... сегодня... ха-ха! <…> Вот уже я слышу, как тяжко, страшно стучит ее сердце! Безумец! — Тут он вскочил на ноги и закричал отчаянно, будто сама жизнь покидала его с этим воплем: — Безумец! Говорю тебе, она здесь, за дверью! И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обладала властью заклинания, огромные старинные двери, на которые указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра — но там, за ними, высокая, окутанная саваном, и вправду стояла леди Мэдилейн. На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшно исхудалом теле — следы жестокой борьбы. Минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на пороге... потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь — и в последних смертных судорогах увлекла за собою на пол и его, уже бездыханного, — жертву всех ужасов, которые он предчувствовал». «Чахоточная дева» из стихотворения «Осень» — один из тех образов пушкинской поэзии, которые можно объединить под названием «образ мертвой возлюбленной» (в него входят, например, и пушкинские русалки). Об этом интересно пишет О. С. Муравьева в статье «Образ «мертвой возлюбленной» в творчестве Пушкина»: www.franklang.ru 333 «Итак, в целом ряде пушкинских произведений мы обнаруживаем образы и настроения, явно перекликающиеся с темой мертвой возлюбленной. Прежде всего это Инеза из «Каменного гостя». Дон Гуан вспоминает: «...Странную приятность / Я находил в ее печальном взоре / И помертвелых губах. Это странно <…> А голос / У ней был тих и слаб — как у больной...». Дон Гуан находил ту же прелесть и в Доне Анне, лежащей в обмороке: О как она прекрасна в этом виде! В лице томленье, взор полузакрытый, Волненье груди, бледность этих уст... (черновой текст) Образ больной девушки, обреченной на смерть, но необыкновенно привлекательной для поэта, возникает в стихотворении 1820 года: Увы, зачем она блистает Минутной, нежной красотой? Она приметно увядает Во цвете юности живой... Увянет! и т. д. Этот образ затем будет развит в стихотворении «Осень» (1833). <…> в самом деле, Пушкин здесь открыто признается в своей приверженности этому странному идеалу». На самом деле «мертвая возлюбленная» — один из образов пушкинской Музы. Муза же — не просто мифическое женское существо, помогающее поэту писать стихи, это его женственная ипостась, его, говоря по Юнгу, Анима, его душа, он сам. Кюхельбекер заметил, что если Пушкин и похож на какого-либо персонажа романа «Евгений Онегин», то на Татьяну. Татьяна — Анима Пушкина, а также его Муза. И вот автор статьи продолжает: «Ассоциативные связи, ведущие от чахоточной девы-осени к Татьяне, отметил В. С. Непомнящий: «...так нелюбимое дитя в семье родной» — «она в семье своей родной казалась девочкой чужой»; «красою тихою, www.franklang.ru 334 блистающей смиренно» — «все тихо, просто было в ней»; «унылая пора ... прощальная краса» — «Татьяны бледные красы», «неубранна, бледна ... тихо слезы льет рекой»». Надо сказать, что и Астарта для Манфреда — его Анима, его женственный двойник: Она была похожа на меня. Черты лица, цвет глаз, волос и даже Тон голоса — все родственно в нас было, Хотя она была прекрасна. Нас Сближали одинаковые думы, Любовь к уединению, стремленья К таинственным познаниям и жажда Обнять умом вселенную, весь мир; Но ей не чуждо было и другое: Участье к людям, слезы и улыбки, — Которых я не ведаю, — смиренье, — Моей душе не сродное, — и нежность, Что только к ней имел я; недостатки Ее натуры были и моими, Достоинства лишь ей принадлежали. Я полюбил и погубил ее! Ближе к концу выясняется и родственная связь Астарты и Манфреда: …………но только с ним была Та, что делила все его скитанья И бдения полночные: Астарта, Единственное в мире существо, Которое любил он, что, конечно, www.franklang.ru 335 Родством их объяснялось... Астарта — не только Анима Манфреда, но и Муза Байрона. В ней легко узнается Августа — сестра и возлюбленная поэта. Пушкинская «Осень» — стихотворение не только о природе, это прежде всего стихотворение о Музе. Пушкин говорит о том, что ему пишется именно осенью, размышляет, почему так получается, сравнивает осень с другими состояниями природы (и, соответственно, другими состояниями души). Стихотворение «Осень» само повествует о своей поэтике (и о поэтике Пушкина в целом): оно рассказывает, какие образы поэту ближе всего (в том числе говорит о прозаизмах), дает образцы «осеннего» звучания (в котором, подобно оголенным веткам, начинают обретать самостоятельное значение и явственно перекликаться отдельные звуки: «Унылая пора! очей очарованье!»78). И оканчивается выходом в море — в бескрайнее (переданное многоточием) творчество (или же, наоборот, в саму безграничную жизнь, пред которой творчество немеет): И забываю мир — и в сладкой тишине Я сладко усыплен моим воображеньем, И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться наконец свободным проявленьем — И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, Самостоятельное значение звуков и их перекличка, конечно, свойственны поэзии вообще. Однако это явление постепенно набирает силу, чтобы на рубеже 19-го и 20-го веков вспыхнуть ярким светом в поэзии символистов, а потом по-разному выразиться как у футуристов, так и у акмеистов. Путь же к самостоятельности звуков проходит через их двойничество: «очей очарованье», «пОРА» — «очАРОванье». Это двойники-антиподы. 78 www.franklang.ru 336 И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны; Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?. . . . . ................. ................. И это, между прочим, тоже падение в бездну. То, что намечается сначала осенним увяданием-разложением79, затем проявляется как образ бескрайнего океана80. В романе Андрея Белого «Серебряный голубь» (1909) мы встречаем похожее соединение образов Прекрасной Дамы (она же — богиня смерти, поедающая героя «звериха»), осени и «окиана»: «Погляди ей в глаза, и ты скажешь: "Какие там плачут жалобные волынки, какие там посылает песни большое море и что это за сладкое благовоние стелется по земле?.." Такие синие у нее были глаза — до глубины, до Связь этого осеннего увядания с многоочитостью (а также с кружением — еще одним важным элементом двойничества) видна в другом стихотворении Пушкина — «Бесы»: Бесконечны, безобразны, В мутной месяца игре Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре... 80 Одно из основных декадентских произведений, роман Августа Стриндберга «На шхерах» (1890), заканчивается тем, что главный герой, инспектор рыбнадзора Борг, в полупомешанном состоянии выходит на парусной лодке в зимнее море (в Рождество), явно не собираясь возвращаться из этой прогулки. Последние строки романа; «В открытое море, навстречу новой рождественской звезде направлялась лодка, по морю, которое было матерью всего существующего, в чьем лоне зажглась первая искра жизни, по морю, неисчерпаемому кладезю плодородия и любви, истоку жизни — и противнику жизни». А непосредственно перед этим инспектор сталкивается с многоочитостью моря. Мотивировка явления необычная и художественно сильная: терпит кораблекрушение пароход, волны относят к берегу детские куклы (пароход вез их на рождественскую ярмарку). Глаза кукол движутся, когда они раскачиваются на волнах, — и инспектору кажется, что они подают ему знак, подмигивают ему. Двойник-антипод в романе, конечно, тоже имеется. Это проповедник. Он выходит из тумана, его левое плечо ниже правого. 79 www.franklang.ru 337 темноты, до сладкой головной боли: будто и не видно у ней в глазницах белых белков: два аграмадных влажных сафира медленно с поволокой катятся там в глубине — будто там окиан — мope синее расходилось из-за ее рябого лица, нет предела его, окиан-моря синего, гульливым волнам: все лицо заливали глаза, обливаясь темными под глазами кругами, такие-то у нее были глаза. В них коли взглянешь, все иное забудешь: до второго Христова Пришествия, утопая, забарахтаешься в этих синих морях, моля Бога, чтобы только тебя скорей освободила от плена морского зычная архангелова труба, если еще у тебя останется память о Боге и если еще ты не веришь в то, что ту судную трубу украл с неба диавол. И уж будет невесть тебе что казаться: будто и кровь-то ее — окиан-море синее, и белое-то лицо ее — иссиня-белое оттого, что оно иссиня-сквозное: в жилах ее и не синее море, а синее небо, где сердце — красная, что красное солнце, лампада; и ее тебе уста померещутся пурпуровыми: пурпуровыми теми устами тебя она оторвет от невесты; и будет усмешка ее — милой улыбкой, милой... и грустной; и вся тебе она станет по отчизне сестрицею родненькой, еще не вовсе забытой в жизни снах, — тою она тебе станет отчизной, которая грустно грезится по осени нам — в дни, когда оранжевые листы крутятся в сини прощальной холодного октября; и будут красные волоса столярихи для тебя в ветре закрученным листом — в небо, и блеск, и осенний трепет; но тут ты увидишь, что эти все осветляющие глаза — косые глаза; один глядит мимо тебя, другой — на тебя; и ты вспомнишь, как коварна, обманна осень. А закати глаза столяриха: два на тебя уставятся зрячих бельма Матрены Семеновны; тут поймешь, она-то тебе чужда и, как ведьма, пребезобразна; а опусти долу она глаза и упрись ими в грязь, солому и стружки, да заскорузлые свои руки сложи она на животе, — побежит по лицу тень, очернятся складки у носа, явственней в рябины кожа ее углубится, — а рябин-то многое множество, — мятым и потным станет лицо, и опятьwww.franklang.ru 338 таки выпятится живот, а в углах губ такая задрожит складочка, что одна срамота: будет тебе она вся — гуляющей бабой. <…> И уже они в горнице: только зеленая там лампадка озаряет светлый лик Спасов, благословляющий хлебы; в их волосах стружки, древесные опилки, щепки; все предметы, что ни есть какие, молчаливо уставились в этот миг на Петра; белое в зеленоватом свете с провалившимися глазами и с блистающими из-под осклабленного рта зубами Матрены Семеновны потное лицо: белое в зеленоватом свете, точно зеленый труп, перед ним сидящей ведьмы лицо; сама к нему лезет, облапила, толстые груди к нему прижимает, — осклабленная звериха…» В стихотворении Эдгара По «Аннабель Ли»81 мы видим умершую возлюбленную, с которой поэт не расстается, — и берег моря: Это было давно, это было давно82, В королевстве приморской земли: Там жила и цвела та, что звалась всегда, Называлася Аннабель-Ли, Я любил, был любим, мы любили вдвоем, Только этим мы жить и могли. И, любовью дыша, были оба детьми В королевстве приморской земли. Но любили мы больше, чем любят в любви, — Примечательно, что первую возлюбленную (умершую) Гумберта Гумберта в романе Владимира Набокова «Лолита» звали Аннабелла Ли. Это отнюдь не случайно: в «Лолите» вовсю действуют двойники. Набоков на протяжении романа многократно цитирует и обыгрывает стихотворение «Аннабель Ли». (Об этом подробнее: Карл Проффер «Ключи к Лолите»). Интересно и название автомобиля Гумберта Гумберта — «Мельмот». 82 Перевод Константина Бальмонта. 81 www.franklang.ru 339 Я и нежная Аннабель-Ли, И, взирая на нас, серафимы небес Той любви нам простить не могли. Оттого и случилось когда-то давно, В королевстве приморской земли, — С неба ветер повеял холодный из туч, Он повеял на Аннабель-Ли; И родные толпой многознатной сошлись И ее от меня унесли, Чтоб навеки ее положить в саркофаг, В королевстве приморской земли. Половины такого блаженства узнать Серафимы в раю не могли, — Оттого и случилось (как ведомо всем В королевстве приморской земли), — Ветер ночью повеял холодный из туч И убил мою Аннабель-Ли. Но, любя, мы любили сильней и полней Тех, что старости бремя несли, — Тех, что мудростью нас превзошли, — И ни ангелы неба, ни демоны тьмы, Разлучить никогда не могли, Не могли разлучить мою душу с душой Обольстительной Аннабель-Ли. И всегда луч луны навевает мне сны О пленительной Аннабель-Ли: www.franklang.ru 340 И зажжется ль звезда, вижу очи всегда Обольстительной Аннабель-Ли; И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней, С незабвенной — с невестой — с любовью моей — Рядом с ней распростерт я вдали, В саркофаге приморской земли. В подлиннике последняя строка “In her tomb by the side of the sea” — «в ее гробнице у моря»83. Образ мертвой возлюбленной мы встречаем и в стихотворении Эдгара По «Ворон». И вместе с тем встречаем Тень — самого Ворона (повторяющего одно и то же слово “nevermore” — «никогда впредь»). Ворон — олицетворение, конденсация тьмы, он — сама Тьма. И он стучится, как пушкинский утопленник: Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой84, Над старинными томами я склонялся в полусне, Грезам странным отдавался, — вдруг неясный звук раздался, Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне. "Это, верно, — прошептал я, — гость в полночной тишине, Гость стучится в дверь ко мне". Ясно помню... Ожиданье... Поздней осени рыданья... И в камине очертанья тускло тлеющих углей... О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа Последняя строфа по-английски: For the moon never beams without bringing me dreams Of the beautiful Annabel Lee; And the stars never rise but I see the bright eyes Of the beautiful Annabel Lee; And so, all the night-tide, I lie down by the side Of my darling, my darling, my life and my bride, In her sepulchre there by the sea— In her tomb by the side of the sea. 84 Перевод Константина Бальмонта. 83 www.franklang.ru 341 На страданье без привета, на вопрос о ней, о ней — О Леноре, что блистала ярче всех земных огней, — О светиле прежних дней. И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет, Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне. Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя: "Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне, Поздний гость приюта просит в полуночной тишине — Гость стучится в дверь ко мне". Подавив свои сомненья, победивши спасенья, Я сказал: "Не осудите замедленья моего! Этой полночью ненастной я вздремнул, — и стук неясный Слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его, Я не слышал..." Тут раскрыл я дверь жилища моего: Тьма — и больше ничего85. Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный, Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого; Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала, Лишь — "Ленора!" — прозвучало имя солнца моего, — Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, — Эхо — больше ничего. Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, — Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того. "Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось, Там, за ставнями, забилось у окошка моего, 85 Darkness there and nothing more. www.franklang.ru 342 Это — ветер, — усмирю я трепет сердца моего, — Ветер — больше ничего". Я толкнул окно с решеткой, — тотчас важною походкой Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней, Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей, Он взлетел — и сел над ней. От печали я очнулся и невольно усмехнулся, Видя важность этой птицы, жившей долгие года. "Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, — Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где ночь всегда, Как ты звался, гордый Ворон, там, где ночь царит всегда?" Молвил Ворон: "Никогда". То, что Ворон «взлетел на бюст Паллады», также не случайно. Ворон сидит на статуе богини — Тень сочетается с Анимой. Богиня здесь также представляет мертвую возлюбленную. Это довольно длинное стихотворение заканчивается так: И сидит, сидит зловещий Ворон черный, Ворон вещий, С бюста бледного Паллады не умчится никуда. Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный, Свет струится, тень ложится, — на полу дрожит всегда. И душа моя из тени, что волнуется всегда. Не восстанет — никогда!86 86 And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, www.franklang.ru 343 And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted—nevermore! www.franklang.ru 344 www.franklang.ru 345 Ворон. Рисунок Эдуарда Мане. 1875 год Мертвая возлюбленная, являющаяся поэту (или «черный человек», или они вместе) и Тьма, и стихия-бездна (и она же — разбитое зеркало), в которую поэт бросается, падает, — вот то общее, что мы видим и у Байрона, и у Гофмана (у которого не раз встречается, например, возлюбленная-кукла), и у Пушкина, и у Эдгара По87. Вот еще один пример той же схемы — поэма Сергея Есенина «Черный человек». Привожу самое начало и самый конец: Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит88 Над пустым и безлюдным полем, То ль, как рощу в сентябрь, Осыпает мозги алкоголь. <…> «Черный человек! Ты — прескверный гость! Эта слава давно Про тебя разносится». Я взбешен, разъярен, И летит моя трость Прямо к морде его, В переносицу89... И у Кристофера Марло в «Трагической истории доктора Фауста», где Мефистофель (слуга Люцифера) — дьявольский двойник, «черный человек» Фауста, и где Фауст просит явить себе Елену — свою Аниму. 88 Сравните: «Ветер — больше ничего». Ветер мы слышали и в стихотворении Пушкина «Осень». 89 В поэме Есенина ритуальный нож (признак двойника или отношений с двойником) принимает вид брошенной трости. 87 www.franklang.ru 346 ...................... ...Месяц умер, Синеет в окошко рассвет. Ах, ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала! Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один... И — разбитое зеркало... Перешагни, перескачи Три темы, о которых до сих пор шла речь, а именно: тема двойника, тема падения вниз и тема зеркала, замечательно и показательно соединяются в стихах Владислава Ходасевича (1886—1939). Вот он видит двойника (стихотворение «Эпизод»): Самого себя Увидел я в тот миг, как этот берег; Увидел вдруг со стороны, как если б Смотреть немного сверху, слева. Я сидел, Закинув ногу на ногу, глубоко Уйдя в диван, с потухшей папиросой Меж пальцами, совсем худой и бледный. Вряд ли это поэтическая фантазия, скорее всего реальный опыт. Вот он примеряется к участи бросившегося вниз самоубийцы: www.franklang.ru 347 Было на улице полутемно. Стукнуло где-то под крышей окно. Свет промелькнул, занавеска взвилась, Быстрая тень со стены сорвалась — Счастлив, кто падает вниз головой: Мир для него хоть на миг — а иной. Вот он глядит в зеркало (стихотворение «Перед зеркалом»): Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея? Разве мальчик, в Останкине летом Танцевавший на дачных балах, — Это я, тот, кто каждым ответом Желторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры Всю мальчишечью вкладывал прыть, — Это я, тот же самый, который На трагические разговоры Научился молчать и шутить? Впрочем — так и всегда на средине www.franklang.ru 348 Рокового земного пути: От ничтожной причины — к причине, А глядишь — заплутался в пустыне, И своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками На парижский чердак загнала. И Виргилия нет за плечами — Только есть одиночество — в раме Говорящего правду стекла. «На … чердак загнала» — эти строки, между прочим, перекликаются со стихотворением Александра Блока «Октябрь», в котором загнанный на чердак герой выбрасывается из окна: … Да и меня без всяких поводов Загнали на чердак. Никто моих не слушал доводов, И вышел мой табак. … Давно звезда в стакан мой канула, — Ужели навсегда?.. И вот душа опять воспрянула. Со мной моя звезда! Вот, вот — в глазах плывет манящая, www.franklang.ru 349 Качается в окне... И жизнь начнется настоящая, И крылья будут мне! И даже всё мое имущество С собою захвачу! Познал, познал свое могущество!.. Вот вскрикнул... и лечу! На самом деле в стихотворении Ходасевича «Перед зеркалом» можно проследить все три наши темы, однако для такой операции есть и более удобные примеры, к ним и обратимся. Мы уже говорили, что герой, склоняясь над миром, словно над водным простором, словно над большим зеркалом («пространное зеркало, мировое море» — как сказано в «Ночных бдениях» Бонавентуры90), видит себя как умноженного двойника, видит свою собственную многоочитую Тень. (О подобном писал, например, Григорий Сковорода в сочинении «Нарцисс. Рассуждение о том: узнай себя».) Вот сонет Ходасевича об этом («Про себя», II): Нет, ты не прав, я не собой пленен. Что доброго в наемнике усталом? Своим чудесным, божеским началом, Смотря в себя, я сладко потрясен. Когда в стихах, в отображеньи малом, Мне подлинный мой образ обнажен, — Все кажется, что я стою, склонен, В вечерний час над водяным зерцалом, 90 «Ночные бдения» Бонавентуры (1805) — анонимное немецкое романтическое сочинение. www.franklang.ru 350 И чтоб мою к себе приблизить высь, Гляжу я в глубь, где звезды занялись. Упав туда, спокойно угасает Нечистый взор моих земных очей, Но пламенно оттуда проступает Венок из звезд над головой моей. Человек, Нарцисс, видит своего двойника-антипода. Он видит себя преображенным, истинным, видит себя как «точного человека» (Григорий Сковорода). Человек проходит обряд посвящения: умирает («Упав туда, спокойно угасает / Нечистый взор моих земных очей…») — и вновь рождается, становясь «рожденным дважды», «рожденным от Духа Святого», преображенным («Но пламенно оттуда проступает / Венок из звезд над головой моей»). Он падает в глубь — и взмывает в высь («И чтоб мою к себе приблизить высь, / Гляжу я в глубь, где звезды занялись»). И, между прочим, таким образом соединяется с миром. «Венок из звезд над головой моей» — это мир, уже соединенный с человеком, это мир-союзник. Это мир живой, смотрящий бесчисленными звездами-глазами. Это многоочитый двойникантипод Нарцисса. www.franklang.ru 351 Джон Уильям Уотерхаус. Эхо и Нарцисс. 1903 год Итак, двойник («подлинный мой образ»), падение («гляжу я в глубь», «упав туда»), зеркало («над водяным зерцалом»). А вот, кстати, и прямо о Нарциссе (стихотворение «Полдень»): …………………. И все, что слышу, Преображенное каким-то чудом, Так полновесно западает в сердце, Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо, И я смотрю как бы обратным взором В себя. И так пленительна души живая влага, Что, как Нарцисс, я с берега земного Срываюсь и лечу туда, где я один, В моем родном, первоначальном мире, Лицом к лицу с собой, потерянным когда-то — И обретенным вновь... www.franklang.ru 352 ……………………… Здесь всё те же три темы. И здесь тоже («Берлинское»): Что ж? От озноба и простуды — Горячий грог или коньяк. Здесь музыка, и звон посуды, И лиловатый полумрак. А там, за толстым и огромным Отполированным стеклом, Как бы в аквариуме темном, В аквариуме голубом — Многоочитые трамваи Плывут между подводных лип, Как электрические стаи Светящихся ленивых рыб. И там, скользя в ночную гнилость, На толще чуждого стекла В вагонных окнах отразилась Поверхность моего стола, — И проникая в жизнь чужую, Вдруг с отвращеньем узнаю Отрубленную, неживую, Ночную голову мою. www.franklang.ru 353 Двойник (о котором — вся последняя строфа), падение («скользя в ночную гнилость», «и проникая в жизнь чужую»), зеркало («аквариум», «на толще чуждого стекла»). И в зеркале — машинно-рыбья (живая и неживая одновременно) многоочитость. Стихотворение «Про себя» (II) — радостное, просветленное, «Берлинское» же — темное, трагическое (и при этом, конечно, гораздо более сильное). Но темы те же. Обратите внимание и на отрубленную голову — один из частых признаков двойника-антипода. Так, например, у Александра Блока: В тени дворцовой галлереи, Чуть озаренная луной, Таясь, проходит Саломея С моей кровавой головой. www.franklang.ru 354 Андреа дель Верроккьо. Давид. 1476 год Что касается отрубания (разрубания, прокалывания), есть удивительная связь между такими признаками двойничества, как падение в пропасть и www.franklang.ru 355 ритуальный нож. Казалось бы, что общего? Но вот пример: в поэме Пушкина «Цыганы» Алеко убивает своего соперника и изменившую ему Земфиру: Восток, денницей озаренный, Сиял. Алеко за холмом, С ножом в руках, окровавленный Сидел на камне гробовом. А до этого он грозился (в разговоре со стариком — отцом Земфиры): Я не таков. Нет, я не споря От прав моих не откажусь! Или хоть мщеньем наслажусь. О нет! когда б над бездной моря Нашел я спящего врага, Клянусь, и тут моя нога Не пощадила бы злодея; Я в волны моря, не бледнея, И беззащитного б толкнул; Внезапный ужас пробужденья Свирепым смехом упрекнул, И долго мне его паденья Смешон и сладок был бы гул. Вы помните, как у Гофмана монах Медард сталкивает в пропасть своего двойника — графа Викторина? Алеко грозится столкнуть соперника в бездну моря (и очень живо себе это представляет), но потом пронзает его ножом. В поэме Пушкина эта странная фантазия Алеко о бездне ничем не мотивирована (ни о каком море речи ранее www.franklang.ru 356 не было, цыганы кочуют по степи). Зато она мотивирована чувством моря и бездны самого Пушкина, столь часто проявляющимся в его произведениях. Итак, Нарцисс падает — в самого себя: Большие флаги над эстрадой, Сидят пожарные, трубя. Закрой глаза и падай, падай, Как навзничь — в самого себя. День, раздраженный трубным ревом, Небес надвинутую синь Заворожи единым словом, Одним движеньем отодвинь. И закатив глаза под веки, Движенье крови затая, Вдохни минувший сумрак некий, Утробный сумрак бытия. Как всадник на горбах верблюда, Назад в истоме откачнись, Замри — или умри отсюда, В давно забытое родись. И с обновленною отрадой, Как бы мираж в пустыне сей, Увидишь флаги над эстрадой, Услышишь трубы трубачей. www.franklang.ru 357 «Как бы мираж в пустыне сей» — мир в в волшебном зеркале. Человек, упав в себя, разлетевшись, разбрызгавшись на кусочки91, обретает обновленный, преображенный мир. В одной буддийской притче говорится: «До того, как он узнал о Дзене, горы были для него горами, а воды водами. Но когда он приступил к практике под руководством опытного наставника, горы перестали для него быть горами, а воды водами. Когда же он достиг просветления, горы опять стали для него горами, а воды водами». Обряд посвящения можно сравнить с рукой, берущей горсть, например, камней. Сначала она пустая, находится наверху. Затем она опускается вниз, под камни, захватывает их. Затем поднимает их наверх и держит на ладони. В стихах Ходасевича можно продолжать и продолжать отыскивать темы двойника, падения и зеркала. Они центральные. Перечтите — и увидите сами. Мы же бросим взгляд еще только на одно короткое стихотворение (и, конечно, одно из самых замечательных): Перешагни, перескачи, Перелети, пере- что хочешь — Но вырвись: камнем из пращи, Звездой, сорвавшейся в ночи... Сам затерял — теперь ищи... Бог знает, что себе бормочешь, Ища пенсне или ключи. 91 Сравните со строками из другого стихотворения Ходасевича: И в этой жизни мне дороже Всех гармонических красот — Дрожь, побежавшая по коже, Иль ужаса холодный пот, Иль сон, где, некогда единый, Взрываясь, разлетаюсь я, Как грязь, разбрызганная шиной По чуждым сферам бытия. www.franklang.ru 358 Падение Люцифера здесь очевидно («звездой, сорвавшейся в ночи»). (Равно как и связанный с падением полет — столь важная для Ходасевича тема возможности или невозможности проникновения в метафизический мир92.) Так же очевиден выход из себя — и возвращение в себя (то есть двойничество). Человек не просто возвращается-приходит в себя, он прямотаки падает в себя. Динамика стихотворения представляет собой, во-первых, порыв (точнее, многократное порывание), во-вторых, падение (которое не выражено словами, а выражено смысловым и грамматическим переломом между строфами: сменой повелительной формы на повествовательную), втретьих, положение упавшего ничком на земле — созерцающего всякую мелочь у себя под носом. И эта мелочь — «пенсне или ключи». (Звучит-то так, будто на битое стекло наступили.) «Пенсне», кстати сказать, напоминает о глазах двойника (помните Коппелиуса из гофмановского «Песочного человека»?), а «ключи» говорят о возможности установить контакт с многодверным и многоочитым миром. В последней строке мы видим зеркало. Это подчеркнуто и противопоставленностью первой и второй строф: вторая строфа странно короткая, как бы плоская — и отражает в себе первую (в своих рифмах). Важно (в смысле двойничества) и то, что она состоит из двух строк. Эта строфа — разбитое зеркало, в котором человеку, к сожалению, невозможно увидеть себя и мир. Снежный король Тема падения — одна из самых важных тем Александра Блока. Вот, например, стихотворение «Обреченный»: Ту же связь (падения и полета) мы видели в строках: И чтоб мою к себе приблизить высь, Гляжу я в глубь, где звезды занялись. 92 www.franklang.ru 359 Тайно сердце просит гибели. Сердце легкое, скользи... Вот меня из жизни вывели Снежным серебром стези... Как над тою дальней прорубью Тихий пар струит вода, Так своею тихой поступью Ты свела меня сюда. Завела, сковала взорами И рукою обняла, И холодными призорами Белой смерти предала... И в какой иной обители Мне влачиться суждено, Если сердце хочет гибели, Тайно просится на дно? Это стихотворение — из цикла «Снежная маска». В следующем стихотворении цикла («Нет исхода») продолжается речь о той, которая свела героя к проруби: Нет исхода из вьюг, И погибнуть мне весело. Завела в очарованный круг, Серебром своих вьюг занавесила... Тихо смотрит в меня, www.franklang.ru 360 Темноокая. Это Снежная дева, Снежная королева. Это богиня смерти. Помните, мы видели ее у Эдгара По93? Она забирает к себе героя, как мальчика Кая в сказке Андерсена, и делает его Снежным королем. Например, в стихотворении «Сердце предано метели»: Я всех забыл, кого любил, Я сердце вьюгой закрутил, Я бросил сердце с белых гор, Оно лежит на дне! Я сам иду на твой костер! Сжигай меня! Пронзай меня, Крылатый взор, Иглою снежного огня! Или в стихотворении «Второе крещение»: Открыли дверь мою метели, Застыла горница моя, И в новой снеговой купели Крещен вторым крещеньем я. … 93 «Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятья. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване. И кожа ее белее белого». www.franklang.ru 361 И гордость нового крещенья Мне сердце обратила в лед. Ты мне сулишь еще мгновенья? Пророчишь, что весна придет? Но посмотри, как сердце радо! Заграждена снегами твердь. Весны не будет, и не надо: Крещеньем третьим будет — Смерть. Или в стихотворении «Настигнутый метелью»: Вьюга пела. И кололи снежные иглы. И душа леденела. Ты меня настигла. … И снежных вихрей подъятый молот Бросил нас в бездну, где искры неслись, Где снежинки пугливо вились... Или вот: Большие крылья снежной птицы Мой ум метелью замели94. 94 «Вечером, когда Кай вернулся домой и уже почти разделся, собираясь лечь в постель, он забрался на скамеечку у окна и заглянул в круглое отверстие в том месте, где оттаял лед. За окном порхали снежинки; одна из них, самая большая, опустилась на край цветочного ящика. Снежинка росла, росла, пока, наконец, не превратилась в высокую женщину, закутанную в тончайшее белое покрывало; казалось, оно было соткано из миллионов снежных звездочек. Женщина эта, такая прекрасная и величественная, была вся изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, — и все же живая; глаза ее сияли, как две ясные звезды, но в них не было ни тепла, ни покоя. Она склонилась к окну, кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчик испугался и спрыгнул со скамеечки, а мимо окна промелькнуло что-то, похожее на огромную птицу». www.franklang.ru 362 Отметим особый взор богини — «крылатый взор», «сковала взорами», «снежный мрак ее очей», «И когда со мной встречаются / Неизбежные глаза, — / Глуби снежные вскрываются…» и т. п. Этот взор словно не принадлежит лицу, он самостоятелен. Им смотрит не человек, а сама жизнь (или смерть). Подобное у Блока встречалось и раньше, в стихотворении «Незнакомка»: И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу. Встретится и позже — например, в стихотворении «Есть игра: осторожно войти»95: Тем и страшен невидимый взгляд, Что его невозможно поймать; Чуешь ты, но не можешь понять, Чьи глаза за тобою следят. Это стихотворение — о сглазе: Есть дурной и хороший есть глаз, Только лучше б ничей не следил: Слишком много есть в каждом из нас Неизвестных, играющих сил... 95 www.franklang.ru 363 Каспар Давид Фридрих. Ледяное море. 1824 год Отметим образ воды — в проруби. В снежной стихии герою часто мерещится водная стихия. Это видно в ряде других стихов цикла «Снежная маска»: И снежные брызги влача за собой, Мы летим в миллионы бездн... ——— Ты услышишь с белой пристани Отдаленные рога. Ты поймешь растущий издали Зов закованной в снега. www.franklang.ru 364 ——— Твой голос слышен сквозь метели, И звезды сыплют снежный прах. Ладьи ночные пролетели, Ныряя в ледяных струях. ——— И я затянут Лентой млечной! Тобой обманут, О, Вечность! Подо мной растянут В дали бесконечной Твой узор. Бесконечность, Темница мира96! Узкая лира, Звезда богини, Снежно стонет Мне. И корабль закатный Тонет 96 «Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, только из льдин <…>. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слово “вечность”. Снежная королева сказала ему: “Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков”. Но он никак не мог его сложить». www.franklang.ru 365 В нежно-синей Глубине. ——— Над бескрайными снегами Возлетим! За туманными морями Догорим! Птица вьюги Темнокрылой, Дай мне два крыла! Чтоб с тобою, сердцу милой, В серебристом лунном круге Вся душа изнемогла! Чтоб огонь зимы палящей Сжег грозящий Дальний крест! Чтоб лететь стрелой звенящей В пропасть черных звезд! В последнем примере хорошо видно, что за снежной стихией сквозит и стихия огненная. Снежный король — одновременно и Огненный король. Тут интересна перекличка с Гофманом, который был Огненным королем в наивысшей степени. Его герои словно (а то и буквально) разбрасывают искры, как бенгальские огни. (Своей повышенной температурой они очень www.franklang.ru 366 напоминают героев Достоевского, который вообще многим обязан Гофману.) Но меня тут больше интересует другое, а именно связанное с огнем, падением и двойником (и страшным двойническим — существующим самим по себе — взглядом) кружение97. (Двойничество, конечно, вызывает кружение: я →двойник →я →двойник…98) Вспомним «Песочного человека»: «И вот кровь забилась и закипела в его жилах — весь помертвев, он устремил на Клару неподвижный взор, но тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза; он ужасающе взревел, словно затравленный зверь, потом высоко подскочил и, перебивая себя отвратительным смехом, пронзительно закричал: "Куколка, куколка, кружись! Куколка, кружись, кружись!" — с неистовой силой схватил Клару и хотел сбросить ее вниз… <…> Лотар сбежал вниз, неся на руках бесчувственную Клару. Она была спасена. И вот Натанаэль стал метаться по галерее, скакать и кричать: "Огненный круг, крутись, крутись! Огненный круг, крутись, крутись!" На его дикие вопли стал сбегаться народ; в толпе маячила долговязая фигура адвоката Коппелиуса…» Мы уже читали отрывок из «Фалунских рудников» Гофмана: «Элис не мог скрыть возбужденного в нем чувства страха и почувствовал даже, чего никогда не бывает с моряком, невольное головокружение, точно невидимые руки толкали его прямо в зияющую пропасть». 98 В фильме Хичкока «Незнакомцы в поезде» (1951) герой дерется со своим двойником-антиподом на карусели. Перед этим поединком он играет в теннис (то есть мы видим и двух противников и летающий туда-сюда мячик) — и выигрывает матч. В схватке на карусели двойник погибает, раздавленный упавшим на него карусельным конем. До этого двойник в драке пытался подсунуть голову героя под опускающееся копыто «скачушего» карусельного коня. Двойник-антипод — звериный двойник. Пытаясь убить героя, он как бы становится конем. Кружащиеся, а также поднимающиеся и опускающиеся карусельные кони — это одновременно и животный мир, в который оказываются втянуты дерущиеся, и ожившие статуи. Карусель, кружась, производит и смерть, и жизнь: она убивает двойника и спасает героя. 97 www.franklang.ru 367 Рене Магритт. Открытие огня. Кружение здесь — в самой форме музыкального инструмента Кружение — один из главных образов Блока. Кружение и его связь с теми образами, о которых мы уже говорили, легко увидеть в последнем стихотворении цикла — «На снежном костре»: www.franklang.ru 368 И взвился костер высокий Над распятым на кресте. Равнодушны, снежнооки, Ходят ночи в высоте. Молодые ходят ночи, Сестры — пряхи снежных зим, И глядят, открывши очи, Завивают белый дым. И крылатыми очами Нежно смотрит высота. Вейся, легкий, вейся, пламень, Увивайся вкруг креста! В снежной маске, рыцарь милый, В снежной маске ты гори! Я ль не пела, не любила, Поцелуев не дарила От зари и до зари? Будь и ты моей любовью, Милый рыцарь, я стройна, Милый рыцарь, снежной кровью Я была тебе верна. Я была верна три ночи, Завивалась и звала, Я дала глядеть мне в очи, www.franklang.ru 369 Крылья легкие дала... Так гори, и яр и светел, Я же — легкою рукой Размету твой легкий пепел По равнине снеговой. Образ кружения, помимо кружения вьюги, имеет у Блока целый ряд других ипостасей: круг, кольцо99, пояс, венец, веер… Рукавом моих метелей Задушу. Серебром моих веселий Оглушу. На воздушной карусели Закружу. Пряжей спутанной кудели Обовью. Легкой брагой снежных хмелей Напою. ——— Нет исхода из вьюг, В романе Дж. Р. Р. Толкина «Братство кольца» (1954) мы видим связь кольца («кольца власти») с двойническим взглядом: «Бильбо протер рукой глаза. — Простите, — сказал он. — Но со мной происходит что-то странное. Будет большим облегчением не беспокоиться о нем больше. Оно заняло слишком большое место в моих мыслях. Иногда мне кажется, что это глаз, наблюдающий за мной. И мне всегда хочется надеть его и исчезнуть». Это кольцо проявляется и в магической чаше — в зеркале эльфийской владычицы Галадриэль: «Но неожиданно зеркало снова потемнело, как будто превратившись в темную глубинную дыру, и Фродо смотрел в пустоту. В темной пропасти возник единственный глаз. Он медленно увеличивался, пока не заполнил собой все зеркало. Он был так ужасен, что Фродо прирос к месту, не способный ни крикнуть, ни отвести взгляда. Глаз был обрамлен огнем, но сам был желтый, как у кошки, внимательный и пронзительный, и черный зрачок в нем открывался как пропасть, как окно в ничто». 99 www.franklang.ru 370 И погибнуть мне весело. Завела в очарованный круг, Серебром своих вьюг занавесила... ——— Оставь тревоги, Метель в дороге Тебя застигла. Ласкают вьюги, Ты — в лунном круге, Тебя пронзили снежные иглы! ——— Там, в ночной завывающей стуже, В поле звезд отыскал я кольцо. Вот лицо возникает из кружев, Возникает из кружев лицо. В последнем фрагменте видно, что кружение — не только тема, но и поэтическая установка Блока. Образ кружения рождается потому, что кружатся слова, кружится музыка стихотворения100. (Так, собственно говоря, построено и знаменитое стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека», в котором тема кружения всплывает с помощью слова «повторится».) И снег, кстати сказать, тоже не только тема, но и установка. Не только образ, но и образ действия. Снежный король слагает стихи из снега101, в чем сам и признается: 100 101 Впрочем, можно сказать и наоборот: есть кружение — кружатся слова. Смотрите мою статью «Горячие и холодные эпохи русской поэзии». www.franklang.ru 371 Снежная мгла взвилась. Легли сугробы кругом. Да. Я с тобой незнаком. Ты — стихов моих пленная вязь. И, тайно сплетая вязь, Нити снежные тку и плету. А вот кружение в виде венца — в стихотворении «Снежное вино», где Снежная королева смотрит на героя из «чаши винной» (и имеет при этом змеиные черты, черты Медузы Горгоны, что также является одной из основных блоковских тем102): И вновь, сверкнув из чаши винной, Ты поселила в сердце страх Своей улыбкою невинной В тяжелозмейных волосах. Я опрокинут в темных струях И вновь вдыхаю, не любя, Забытый сон о поцелуях, О снежных вьюгах вкруг тебя. И ты смеешься дивным смехом, Змеишься в чаше золотой, Например: И если лик свободы явлен, То прежде явлен лик змеи, И ни один сустав не сдавлен Сверкнувших колец чешуи. 102 www.franklang.ru 372 И над твоим собольим мехом Гуляет ветер голубой. И как, глядясь в живые струи, Не увидать себя в венце, Твои не вспомнить поцелуи На запрокинутом лице. Герой — в венце. Узнаёте? «В белом венчике из роз»? Христос, появляющийся в конце поэмы «Двенадцать», — это Снежный король. Герой (Нарцисс) глядится в снежную метель, в прорубь, в винную чашу103 — и видит себя преображенного, зрит своего двойника. Он — «рыцарь милый» «в снежной маске». А там, где рыцарь, там и крест: И вздымает вьюга смерч, Строит белый, снежный крест, Заметает твердь... Потому что блоковский рыцарь — это Христос, распятый на снежном кресте. И при этом горящий на снежном огне. Цитирую еще раз: И взвился костер высокий Над распятым на кресте. Равнодушны, снежнооки, Ходят ночи в высоте. … В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине. 103 www.franklang.ru 373 И крылатыми очами Нежно смотрит высота. Вейся, легкий, вейся, пламень, Увивайся вкруг креста! В снежной маске, рыцарь милый, В снежной маске ты гори! Я ль не пела, не любила, Поцелуев не дарила От зари и до зари? Маска, конечно, коренной признак двойника-антипода. Он — плоть от плоти тьмы и вьюги, он — «неугомонный враг» (как сказано в «Двенадцати»), человек-невидимка, требующий жертвы: Разыгралась чтой-то вьюга, Ой, вьюгá, ой, вьюгá! Не видать совсем друг друга За четыре за шага! Снег воронкой завился, Снег столбушкой поднялся... — Кто там машет красным флагом? — Приглядись-ка, эка тьма! — Кто там ходит беглым шагом, Хоронясь за все дома? — Все равно, тебя добуду, www.franklang.ru 374 Лучше сдайся мне живьем! — Эй, товарищ, будет худо, Выходи, стрелять начнем! Трах-тах-тах! — И только эхо Откликается в домах... Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах... Трах-тах-тах! Трах-тах-тах... ...Так идут державным шагом, Позади — голодный пес, Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос. «В белом венчике» — это в снежном венчике. В цикле «Снежная маска», помимо сгорающего на снежном костре рыцаря, мы видели и ходящего «беглым шагом» неуловимого двойника: Ветер звал и гнал погоню, Черных масок не догнал. Были верны наши кони, Кто-то белый помогал. www.franklang.ru 375 Заметал снегами сани, Коней иглами дразнил, Строил башни из тумана, И кружил, и пел в тумане, И из снежного бурана Оком темным сторожил. Особый его взгляд вы тоже уже заметили. Сам он не виден, а взгляд его чувствуется. «И кружил» — это то же, что «в белом венчике». А вот богиня смерти из поэмы «Двенадцать»: А Катька где? — Мертва, мертва! Простреленная голова! Чтó, Катька, рада? — Ни гу-гу... Лежи ты, падаль, на снегу!.. Надо же, кем обернулась здесь Снежная королева, Мертвая царевна из цикла «Снежная маска». Мертва и лежит на снегу. Но с ней можно разговаривать. Может, она не умерла, а спит104? А что если она, скажем, вурдалак? В «Снежной маске» она была вот какая: А она не слышит — Слышит — не глядит, Тихая — не дышит, Белая — молчит... 104 Сравните со строками из стихотворения «На железной дороге»: Под насыпью, во рву некошеном Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая. www.franklang.ru 376 Уж не просит кушать... Ветер свищет в щель. Как мне любо слушать Вьюжную свирель! Ветер, снежный север, Давний друг ты мне! Подари ты веер Молодой жене! Подари ей платье Белое, как ты! Нанеси в кровать ей Снежные цветы! Ты дарил мне горе, Тучи, да снега... Подари ей зори, Бусы, жемчуга! Чтоб была нарядна И, как снег, бела! Чтоб глядел я жадно Из того угла!.. Слаще пой ты, вьюга, В снежную трубу, Чтоб спала подруга В ледяном гробу! www.franklang.ru 377 Чтоб она не встала, Не скрипи, доска... Чтоб не испугала Милого дружка! А то встанет и испугает, как испугал героя готического романа Льюиса «Монах» (1796) явившийся к нему без приглашения белый призрак — Окровавленная Монахиня: «Но сон я призывал тщетно. Волнение в моей груди гнало его прочь. Мой расстроенный дух взял верх над телесным утомлением, и я ворочался с боку на бок, пока куранты на соседней колокольне не отбили час ночи. Пока я слушал, как тоскливый глухой звук уносится ветром, по моему телу вдруг разлился холод, и я задрожал, не зная почему. По лбу у меня заструилась ледяная испарина, волосы встали дыбом от страха. Внезапно я услышал поднимающиеся по лестнице медленные тяжелые шаги. Невольно приподнявшись на кровати, я отдернул полог. Тростниковый светильник, мерцавший на каминной полке, слабо освещал увешанные гобеленами стены. Дверь с силой распахнулась. Через порог переступила некая фигура и размеренной походкой направилась к моей кровати. Трепеща от страха, я вглядывался в полуночную гостью. Великий Боже! Это была Окровавленная Монахиня! Это была моя исчезнувшая спутница! Покрывало все так же прятало ее лицо, но ни светильника, ни кинжала у нее в руках не было. Медленно она откинула покрывало. Какое зрелище предстало моим пораженным глазам! Я увидел перед собой живой труп. Лицо у нее было обострившимся и изможденным, щеки и губы — бескровными, бледность смерти одевала ее черты, а устремленные на меня глаза были тусклыми и глубоко запавшими. Я смотрел на привидение с ужасом, не поддающимся описанию. Кровь застыла в моих жилах. Я тщился позвать на помощь, но звуки умирали у www.franklang.ru 378 меня на устах. Мои нервы сковало бессилие, и я окостенел в своей позе, точно статуя. Призрачная Монахиня несколько мгновений смотрела на меня в безмолвии. Во взгляде ее было что-то мертвящее. Наконец тихим загробным голосом она произнесла следующее: — Раймонд! Раймонд! Я твоя, И тобой владею я. О, пока ты жив, ты мой. Я твоя. Ты и я, Мой ты телом и душой. Почти бездыханный от ужаса слушал я, как она повторяет мои же собственные слова. Призрачная Монахиня села напротив меня в ногах кровати и смолкла. Ее глаза пристально смотрели в мои и, казалось, были наделены свойством глаз гремучей змеи, потому что я напрасно пытался отвести взгляд. Мои глаза были заворожены, и я не мог оторвать свой взгляд от призрака». Это встреча с богиней смерти — женской ипостасью темного двойника, двойника-Тени. У Блока есть целый ряд стихотворений, в которых он описывает свою встречу с двойником так, что сомнений, так сказать, в подлинности видения, не остается. Например, в стихотворении «Двойник (Однажды в октябрьском тумане)»: … Вдруг вижу — из ночи туманной, Шатаясь, подходит ко мне Стареющий юноша (странно, Не снился ли мне он во сне?), Выходит из ночи туманной И прямо подходит ко мне. … www.franklang.ru 379 Вдруг — он улыбнулся нахально, И нет близ меня никого... Знаком этот образ печальный, И где-то я видел его... Быть может, себя самого Я встретил на глади зеркальной? Но вот самое замечательное стихотворение Блока о двойнике (в котором вы видите зеркало и отступление в ночь, похожее на падение навзничь): Я коротаю жизнь мою. Мою безумную, глухую: Сегодня — трезво торжествую, А завтра — плачу и пою. Но если гибель предстоит? Но если за моей спиною Тот — необъятною рукою Покрывший зеркало — стоит?.. Блеснет в глаза зеркальный свет, И в ужасе, зажмуря очи, Я отступлю в ту область ночи, Откуда возвращенья нет... Старая сказка www.franklang.ru 380 Когда про все это (про звериного двойника и кружение, про падение в водную бездну-зеркало, про утопленника, про жертвенный нож, морскую и снежную бурю, про Черного человека) я рассказал Генрику Ибсену, он, воодушевившись, сразу сделал две вставки в свою пьесу «Пер Гюнт» (1867). Одну — в самое начало (юный Пер, оправдываясь перед матерью в своей долгой отлучке, рассказывает вымышленную историю о том, как он упал с оленем в озеро), другую — ближе к концу (пожилой Пер плывет на корабле домой — и на фоне усиливающейся бури происходит его встреча с Неизвестным пассажиром). Вот эти два отрывка — сначала второй, а затем первый105: Неизвестный пассажир (словно вырастая перед ним из мрака и приветливо раскланиваясь). Мое почтенье! Пер Гюнт. Здравствуйте! Но... кто вы? Пассажир. Ваш спутник и слуга покорный. Пер Гюнт. Вот как? Вы тоже пассажир? А я ведь думал, Что я — единственный. Пассажир. Предположенье, Которое теперь должно отпасть. Пер Гюнт. Но странно, что вас в первый раз я вижу Сегодня ночью... Пассажир. Днем не выхожу я... Пер Гюнт. Вы не больны? Как полотно, бледны вы... Пассажир. О нет, я чувствую себя отлично. Пер Гюнт. Как море-то бушует! Пассажир. Просто прелесть! Пер Гюнт. Как — прелесть? Пассажир. Волны, словно горы, ходят. 105 Перевод А. и П. Ганзен. www.franklang.ru 381 Взглянуть — так слюнки потекут. Представьте, Какую массу разобьет судов И трупов выкинет сегодня море! Пер Гюнт. Помилуйте!.. Пассажир. Утопленника видеть Иль удавленника вам случалось? Пер Гюнт. Нет, это уж из рук вон! Пассажир. Трупы их Смеются. Принужденным смехом, правда. Язык у них прикушен большей частью. Пер Гюнт. Отстаньте от меня! Пассажир. Один вопрос... А что как наше судно сядет на мель И разобьется? Пер Гюнт. Разве есть опасность? Пассажир. Не знаю, что на это вам ответить. Но вы представьте — вы ко дну пойдете, А я спасусь?.. Пер Гюнт. Вот вздор!.. Пассажир. Возможность есть. Но кто стоит одной ногой в могиле, Становится добрее и щедрее... Пер Гюнт (хватаясь за карман). А, денег вам? Пассажир. Нет, будьте так любезны Мне завещать ваш труп, почтенный?.. Пер Гюнт. Что?.. Нет, это слишком далеко заходит! Пассажир. Лишь труп, — вы понимаете. Для пользы Науки хлопочу я. Пер Гюнт. Убирайтесь! www.franklang.ru 382 Пассажир. Но вам прямая выгода, мой друг. О вашем вскрытии похлопочу я. Меня особенно интересует, Где специальный орган фантазерства; Так вас по косточкам и разберем мы. Пер Гюнт. Да провалитесь вы совсем! Пассажир. Но, друг мой, — Утопленника труп? Пер Гюнт. Да вы безбожник! Безумец! Вы накличете беду. И без того такая буря, качка... Того гляди, дойдет до катастрофы, А вы ее торопите как будто. Пассажир. Я вижу ваше нерасположенье Беседу продолжать на эту тему; Но время многое ведь изменяет... (Приветливо раскланиваясь.) Мы встретимся, когда ко дну пойдете, А может быть, и раньше. И тогда Вы будете сговорчивей, надеюсь. (Скрывается в каюту.) Пер Гюнт. Пренеприятные субъекты — эти Ученые. Такое вольнодумство! (Проходящему мимо боцману.) Послушай-ка, любезный! Кто такой Тот пассажир? Из дома сумасшедших? Боцман. Я не слыхал, чтоб кроме вас здесь были Другие пассажиры. Вы один. Пер Гюнт. Час от часу не легче! (Юнге, выходящему из каюты.) www.franklang.ru 383 Кто в каюту Сейчас юркнул? Юнга. Собака наша, сударь. ——— Осе106 (забегая вперед). Стыд-то есть ли у тебя? В страду самую шататься За оленем по горам Больше месяца! Вернуться В рваной куртке, без ружья, Без добычи да морочить Баснями старуху-мать?! Ну, где встретил ты оленя? Пер Гюнт. Там, на запад от хребта... Осе (насмешливо). Так. Пер Гюнт. Под ветром я пришелся; Он в кустах ольхи стоял; Снег копытом разгребая, Мох щипал... Осе (как прежде). Так, так. Пер Гюнт. ...В кустах Лишь рога одни виднелись; Затаивши дух в груди, Скрип копыт его я слушал И ползком между камней Все поближе подбирался... Вот уж виден стал он мне — 106 Осе — мать Пера. www.franklang.ru 384 Жирный, с гладкими боками... Ты такого никогда, Побожусь я, не видала!..107 Осе. Ну, еще бы! Пер Гюнт. Трах!.. Олень Оземь грянулся врастяжку, Я же на спину ему Вмиг вскочил и, ухватившись За ухо одной рукой, Нож стал вынимать другою, Чтоб оленя приколоть Тут он как взревет, скотина, Да как вскочит вдруг с земли, Да поддаст ногою задней!.. Вышиб нож из рук моих И к спине прижал рогами, — Как в тиски я тут попал, — И пустился вскачь со мною Прямо к Ендину-хребту. Осе (невольно). Иисусе! Пер Гюнт. Ты видала Тот хребет когда-нибудь? Он длиной с полмили будет, Крут, обрывист и остер; Лед, лавины и морены — Справа, слева, а внизу То, что олень — звериный двойник-антипод Пера, подтверждается также двумя последующими моментами пьесы: во-первых, когда Пер в шутку сажает мать на себя и представляется оленем, во-вторых, когда он сравнивает себя с оленем в разговоре со своей возлюбленной Сольвейг: Осе. Ах, держи же ты! Уронишь! Пер Гюнт. Гоп-гоп! Я — олень, ты — Пер! * Сольвейг. Такой ты... дикий. Пер Гюнт. Олень дичает тоже по весне. 107 www.franklang.ru 385 Дремлют черные озера, — Сажен сотен пять до них! Вдоль хребта мы и летели, Как стрела, — олень и я. Не езжал еще я сроду На таком лихом коне! Искры сеял он копытом, Обгоняли мы орлов, Что, красуясь, проплывали Между озером и мной. Льдины о берег ломались, Но до нас не достигал Треск и грохот их, — высоко Были мы; вокруг же нас Духи снежные плясали, И крутились, и вились, Пели, выли, застилали Пеленою взор и слух. Осе (словно у нее голова кружится). Господи, спаси, помилуй!.. Пер Гюнт. Вдруг на страшной крутизне Вверх взлетела куропатка, С выступа сорвавшись, где Притаясь в гнезде сидела, И с кудахтаньем — шарах Прямо под ноги оленю! В сторону метнулся он И, подпрыгнув чуть не к небу, В бездну ринулся стремглав108. 108 utfor dypet med oss begge! — вперед-вниз в пропасть с нами обоими (дословный перевод). www.franklang.ru 386 Осе шатается и хватается за ствол дерева. Пер Гюнт продолжает. Пер Гюнт. Позади стена крутая, А под нами глубь без дна. Облака прорезав, в стаю Чаек врезались мы с ним. С криком чайки разлетелись, Мы же дальше вниз стрелой. Я взглянул туда и вижу — Беловатое пятно. Словно б оленье брюхо, Нам навстречу все растет... То изображенье было Наше собственное, мать! Нам навстречу поднималось Из озерной глубины На поверхность в то же время, Как неслись мы сами вниз! Осе (почти задыхаясь). Пер... скорее, Бога ради! Пер Гюнт. Вот и встретились олени — И со дна и с высоты; Брызги так и полетели, — Мы нырнули с головой!.. Как-никак олень, однако, Выплыл на берег со мной, И я марш домой скорее... Осе. А олень?.. Пер Гюнт. Должно быть, там Где-нибудь себе гуляет... (Прищелкивая пальцами и перевертываясь на одном каблуке.) Поищи — авось найдешь, www.franklang.ru 387 Постарайся — и поймаешь! Осе. Как ты шею не сломал? Иль хоть ноги, или спину? Господи! Хвала тебе! Это ты мне спас парнишку... Правда, куртка вся в дырах, И штанам досталось, видно; Ну, да не о них тужить, Как припомнишь, что могло бы... (Внезапно застывает с открытым ртом и вытаращенными глазами, долго не может найти слов и наконец разражается.) Ах ты, чертова башка! Ах ты, лгун! Ведь эту сказку, Как я вспомнила теперь, В девках я еще слыхала! Было это не с тобой, — С Глесне Гудбрандом когда-то! Пер Гюнт. А со мной быть не могло? Я ведь тоже ездить мастер. Осе (сердито). Мастер ты чужую ложь Разукрасить так, что с толку Хоть кого собьет она. И орлов сюда, и чаек, И невесть чего приплел он! Смесью были с небылицей Страх такой нагнал, что я Не узнала старой сказки! www.franklang.ru 388 Высоко на башне с венком в руках С высоты может свалиться не только герой, но и Прекрасная Дама. Вместе с героем или даже вполне самостоятельно. И такое падение может даже не иметь никакого разумного оправдания в обстоятельствах. Писатель, так сказать, видит внутренним взором, что дама должна упасть с высоты, — вот она и падает. Например, у Генриха фон Клейста в пьесе «Кетхен из Гейльбронна» (1808) Кетхен, глядя на отъезжающего графа, вдруг выпадает из окна. Или у Гёте — в конце романа «Избирательное сродство» (1809) с чердака падает деревенская девочка Нанни, причем ее падение следует отнести не только к ней, но и к ее госпоже Оттилии — настоящей Прекрасной Даме романа, которую в тот момент как раз хоронят: «Дивное тело покойницы одели в тот самый наряд, который она сама себе приготовила; голову ее украсили венком из астр, таинственно мерцавших, как печальное созвездие. Чтобы украсить гроб, церковь, придел, все сады лишили их убранства. Они теперь стояли опустошенные — словно зима, коснувшись клумб, уничтожила всю их радость. Было раннее утро, когда Оттилию вынесли из замка в открытом гробу, и всходившее солнце еще раз покрыло румянцем ее небесный лик. Провожающие теснились вокруг, никто не хотел оказаться впереди или отстать, каждый хотел быть подле нее, каждый хотел в последний раз насладиться ее присутствием. Мальчики, мужчины, женщины — никто не оставался бесчувствен. Девочки были безутешны, всего больнее ощущая утрату. Нанни не было. Ее удержали дома, вернее — скрыли от нее день и час погребения. Ее сторожили в родительском доме, в каморке, которая выходила в сад. Однако, услышав колокольный звон, она мигом сообразила, что сейчас происходит, а когда женщина, сторожившая ее, поддалась любопытству и пошла взглянуть на процессию, она выбралась через окно в коридор и оттуда, найдя все двери запертыми, — на чердак. www.franklang.ru 389 Процессия как раз двигалась через деревню по чисто убранной, усыпанной листьями дороге. Внизу Нанни отчетливо увидела свою госпожу — отчетливее, полнее, еще более прекрасной, чем она казалась тем, кто шел за гробом. Неземная, как бы паря над грядами облаков или над гребнями волн, она словно кивнула своей служанке, и та в полном смятении покачнулась, голова у нее закружилась, и Нанни полетела вниз109». Обратите, кстати, внимание на кивок покойницы. Помимо этого падения, в романе случаются три падения в воду, все внутренне и внешне связанные с Оттилией (хотя падает не она). 109 www.franklang.ru 390 Статуя святой Одилии на «Горе Одилии» (Odilienberg) в Эльзасе, произведшая глубокое впечатление на юного Гёте: «Образ, который она мне внушила, и ее имя глубоко запечатлелись во мне. Я долго носил их с собой…» («Поэзия и правда») Эта сцена предвосхищается в романе эквилибристикой Оттилии, спускающейся по камням вслед за главным героем: «Они решили тут же прямо спуститься вниз по мху и обломкам скал. Эдуард шел впереди; когда же, оглянувшись, он смотрел вверх, он видел Оттилию, которая без всякого страха спускалась с камня на камень вслед за ним, спокойно сохраняя равновесие, и ему казалось, что над ним парит небесное существо110». 110 Позже говорится также о портрете Оттилии в куполе церкви, выполненном вдохновленным ее внешностью и душой архитектором: «Как бы то ни было, а один из ликов, написанных напоследок, удался в совершенстве, и казалось, что сама Оттилия смотрит вниз с небесной высоты». А затем архитектор составляет на Рождество «живую картину», в которой Оттилия представляет Богоматерь. Так что и богиня в виде оживающей картины/статуи имеет место быть. www.franklang.ru 391 Катрин (Жанна Моро) перед неожиданным прыжком в Сену — в фильме Франсуа Трюффо «Жюль и Джим» (1962). Жюль и Джим — типичные двойники-антиподы, как это ясно уже из самого названия. Жюль — австриец-блондин, Джим — француз-брюнет. Джим выше Жюля и одет темнее его. Помимо всего прочего, друзья упражняются друг с другом во французском боксе (рядом с другой парой, занятой фехтованием111), играют в домино, Джим дает Жюлю поносить свою шляпу. И вообще на шляпу Джима (символ съемной головы) в фильме обращается внимание (а шляпка Катрин — после ее прыжка — показана плывущей по воде). Жюль и Джим сначала видят поражающую их древнюю (найденной при раскопках) скульптуру женщины, а затем встречают похожую на эту скульптуру Катрин. Катрин — проявление стихии и королева112… Когда она (незадолго до конца фильма) ведет, кружа, автомобиль, он кажется Джиму «лошадью Помимо шпаг, роль жертвенного ножа в фильме играет пила, которой Жюль распиливает пополам бревно, в то время как Катрин находится с Джимом. 112 Elle est une force de la nature qui s’exprime par des cataclysmes … c’est une reine… (Она — сила природы, проявляющаяся катаклизмами… это королева…) 111 www.franklang.ru 392 без всадника, кораблем-призраком». В самом же конце фильма Катрин приглашает Джима, сидящего с Жюлем в кафе, сесть в ее автомобиль и прокатиться. Он оставляет шляпу на столике. Катрин снимает очки, автомобиль заезжает на разрушенный мост и, переворачиваясь в воздухе, падает в воду. Примечательно также, что наши герои читают «Избранное сродство» Гёте (и обмениваются этой книгой). Офелия (в шекспировском «Гамлете») падает в реку без посторонней помощи. Она тонет, не просто зайдя в воду, а именно упав с некоторой высоты: Лаэрт Как, утонула? Где? Не может быть! Королева Над речкой ива свесила седую Листву в поток. Сюда она пришла Гирлянды плесть из лютика, крапивы, Купав и цвета с красным хохолком, Который пастухи зовут так грубо, А девушки — ногтями мертвеца. Ей травами увить хотелось иву, Взялась за сук, а он и подломись, И, как была, с копной цветных трофеев, Она в поток обрушилась. Сперва Ее держало платье, раздуваясь, И, как русалку, поверху несло. Она из старых песен что-то пела, Как бы не ведая своей беды Или как существо речной породы. Но долго это длиться не могло, www.franklang.ru 393 И вымокшее платье потащило Ее от песен старины на дно, В муть смерти113. 113 Перевод Леонида Пастернака. www.franklang.ru 394 Офелия. Иллюстрация Артура Рэкема (1867—1939) Офелия — Прекрасная Дама пьесы, найти же в пьесе Тень ни для кого не составит труда114. (Есть в пьесе и «пустые двойники» — Розенкранц и Гильденстерн, «бывшие университетские товарищи» Гамлета.) Именно взаимодействие героя, Прекрасной Дамы и Тени115 порождает падение. В пьесе Генрика Ибсена «Росмерсхольм» (1886) мы узнаем, что Беата, жена Йуханнеса Росмера, бросилась в Мельничный водопад и теперь является мужу в виде привидения — белого коня. С тех пор у Йуханнеса не хватает духу взойти на мостик (с которого бросилась жена) и перейти реку, он каждый раз ходит в обход: Ребекка (вполголоса самой себе). И сегодня не через мостик. В обход. Никогда не перешагнуть ему через водопад. Никогда. Йуханнес любит Ребекку Вест, живущую у него в доме. «Обворожительная морская дева» — так называет ее Ульрик Брендель — двойник-антипод Росмера, его бывший учитель, ныне опустившийся, тоскующий по «великому ничто». В конце пьесы Йуханнес Росмер уговаривает Ребекку взойти на мостик и повторить поступок его жены: Росмер (как бы невольно увлекаемый мыслью). Так посмотрим!.. Ты говоришь, что душа твоя познала великую любовь, что через меня душа твоя облагородилась. Так ли? Верно ли ты все решила? Что если сделать проверку? А? Ребекка. Я готова. Равно как совершенно «на поверхности» находятся и двойники «Избранного сродства» Гёте: «А кроме того, вы оба не подумали, что сегодня ваши именины. Ведь вас — и того и другого — зовут Отто? Приятели протянули друг другу руки над маленьким столом». Двойничество здесь выражено и самим зеркальным именем: ОТ-ТО. 115 Тенью, кроме Призрака, является и Йорик. И череп Йорика, который держит Гамлет, — типичная оторванная голова двойника. 114 www.franklang.ru 395 Росмер. Когда бы то ни было? Ребекка. Когда угодно. Чем скорее, тем лучше. Росмер. Так докажи мне, Ребекка... что ты... ради меня... сегодня же вечером... (Обрывая.) Нет, нет, нет! Ребекка. Да, Росмер! Да, да! Скажи, и ты увидишь. Росмер. Хватит ли у тебя духу... силы воли... с радостью, как сказал Ульрик Брендель, ради меня, сегодня же ночью... с радостью... уйти туда же, куда ушла Беата? Ребекка (медленно встает с дивана и едва внятно говорит). Росмер!.. Росмер. Да, вот вопрос, от которого я никогда не смогу отделаться... когда ты уедешь. Каждый день, каждый час буду я возвращаться все к тому же. О, я как будто воочию вижу тебя перед собой. Ты стоишь на мостике. По самой середине. Перегибаешься через перила... Под тобой бешено несется поток... Тебя тянет в него, голова твоя готова закружиться... Нет! Ты отступаешь. У тебя не хватает духу на то, на что хватило у нее. Ребекка. А если бы у меня хватило духу? И радостной воли? Что тогда? Росмер. Тогда бы уж я не мог не поверить в тебя... Неприятно даже читать про такое сумасшествие, не правда ли? В конце концов Росмер и Ребекка следуют за Беатой вместе: Росмер. Если ты пойдешь — и я с тобой. Ребекка (почти незаметно улыбается, смотрит на него и тихо говорит). Да, иди за мной, иди... и будь свидетелем. Росмер. Я пойду с тобой, говорю я. Ребекка. До мостика — да. Ступить на него ты ведь все-таки никогда не посмеешь. Росмер. Ты заметила? Ребекка (мрачно, надорванно). Да... Это-то и отняло надежды у моей любви. www.franklang.ru 396 Росмер. Ребекка... теперь я возложу руку на твою голову... (Делает то, что говорит.) И возьму тебя в жены, заключу с тобой истинный брачный союз. Ребекка (схватив его руки, склоняет голову к нему на грудь). Благодарю, Росмер. (Выпуская его.) А теперь иду... с радостью. Росмер. Муж с женой должны идти вместе. Ребекка. Только до мостика, Росмер. Росмер. И на мостик. Куда ты — туда и я. Теперь я посмею. Ребекка. Ты твердо уверен, что это наилучший путь для тебя? Росмер. Я знаю, что это единственный. Ребекка. А если ты заблуждаешься? Что если это ослепление, мираж? Один из тех белых росмерсхольмских коней? Росмер. Быть может. От них не уйти нам... здешним обитателям. Ребекка. Так оставайся, Росмер! Росмер. Муж должен следовать за женой, как жена за мужем. Ребекка. Скажи мне сначала одно. Ты ли идешь за мной? Или я за тобой? Росмер. В этом мы никогда не разберемся до конца. Ребекка. А мне хотелось бы знать. Росмер. Мы оба идем рука об руку, Ребекка. Я за тобой, ты за мной. Ребекка. Я готова думать то же. Росмер. Теперь мы слились воедино. Ребекка. Да, теперь мы слились воедино. Идем. Идем с радостью. И пьеса заканчивается словами экономки, глядящей в окно: Мадам Хельсет. Фрекен... экипаж подан... (Озираясь.) Нету никого? Ушли вместе в такую пору? Однако, скажу я!.. Гм! (Выходит в переднюю, озирается и снова входит в комнату.) И на скамейке их нет. Нет и нет. (Идет к окну и выглядывает.) Господи Иисусе! Что это там белеет?.. Да, ей-богу, это они оба стоят на мостике! Прости их, господи, грешников! Никак они обнимаются! (Вскрикивает.) Ах!.. В воду... оба! В водопад! www.franklang.ru 397 Помогите! Помогите! (Колени у нее подгибаются, она хватается дрожащими руками за спинку стула и говорит, едва шевеля губами.) Нет... Какая тут помощь... Покойница взяла их. Все помнят русскую народную сказку «Сивка-бурка» — и как Иванушка на коне подлетает к Елене Прекрасной, сидящей в высоком тереме: «Иванушка вышел в чистое поле, в широкое раздолье, свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком: — Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой! Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой как вкопанный. Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез. Стал молодец молодцом и поскакал к царскому двору. Прискакал Иванушка к высокому терему, стегнул Сивку-бурку плеткой... Заржал конь пуще прежнего, ударил о землю копытами, прыгнул — и доскочил до окна! Поцеловал Иванушка Елену Прекрасную в алые губы, снял с ее пальца заветный перстень и умчался. Только его и видели! Тут все зашумели, закричали, руками замахали: — Держи его! Лови его! А Иванушки и след простыл». В. Я. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» пишет об этом элементе сюжета следующее: «Сказка начинается с того, что царь объявляет всенародный клич, обещая руку своей дочери тому, кто на летучем коне допрыгнет до ее окна. Это — один из видов трудных задач. Данная задача может быть объяснена только в связи с изучением волшебного помощника и фигурой старого царя, а помощник обычно добывается в середине сказки». Но можно спустится и на более глубокий уровень объяснения. Тогда данная задача прежде всего может быть объяснена через Шекспира и через Ибсена. www.franklang.ru 398 И через других писателей, которые лично имели дело с двойником и в этой связи со страхом высоты. Иванушка — и Росмер. И Елена Прекрасная. И мифический зверь — териоморфная ипостась Прекрасной Дамы. Интересно, что мифический зверь в русской сказке и в норвежской пьесе один и тот же — конь. Ребекка Вест — «обворожительная морская дева». Она поистине внутренне связана с морской стихией: Ребекка. Это чувство налетело на меня, как морской шквал, как буря, какие поднимаются у нас на севере зимой. Подхватит и несет тебя с собой, несет неведомо куда. Нечего и думать о сопротивлении. Росмер. Так эта же буря и снесла несчастную Беату в водопад? Ребекка. Да, ведь между мной и ею шла тогда борьба, как между двумя утопающими на киле перевернувшейся лодки. У Ибсена даже есть целая пьеса, посвященная женщине — русалке в душе: «Женщина с моря» (1988). Эту женщину зовут Эллида (так назывался корабль Торстена, героя «Саги о Фритьофе» Эсайаса Тегнера). Эллида несколько странная («Право, я не удивлюсь, если она в один прекрасный день возьмет да свихнется», — говорит о ней ее падчерица), кроме того, ее муж Вангель (доктор) дает ей какие-то лекарства, которые делают ее еще более странной. Эллиду жутко влечет к морю («Жутко... это когда тебя и пугает и манит вместе!»). Когда-то она познакомилась с моряком Фриманом (называвшим себя потом в письмах Джонстоном), не совсем норвежцем (квеном — то есть норвежским финном). Вскоре после их знакомства Джонстон зарезал ножом своего капитана и скрылся. До того он успел своеобразно обручиться с Эллидой: Вангель. Ну? Так скажи, в чем дело? www.franklang.ru 399 Эллида. Он вынул из кармана кольцо от ключей и снял у себя с пальца кольцо, которое всегда носил, потом и у меня снял с пальца колечко; надел эти оба кольца на кольцо от ключей и сказал, что мы оба сейчас сочетаемся с морем. Вангель. Сочетаетесь? Эллида. Да, он так сказал. И закинул кольца далеко-далеко в море, в самую глубь. Потом возникает предположение, что Джонстон утонул. После чего он стал представляться Эллиде: Эллида. На том корабле был и Джонстон. Я уверена в этом. Вангель. Из чего ты это заключаешь? Эллида (не отвечая). И он узнал на корабле, что я вышла замуж за другого. В его отсутствие. И вот в этот самый час на меня и напал... Вангель. Этот ужас?.. Эллида. Да. Бывает вдруг, что он встает передо мной как живой. То есть не прямо передо мной, а скорее в сторонке. И никогда не смотрит на меня. Только стоит тут. Вангель. Каким же он тебе представляется? Эллида. Каким я его видела в последний раз. Вангель. Десять лет тому назад? Эллида. Да. Там, на мысе. Всего яснее вижу я булавку в его галстуке — с большой голубоватой жемчужиной. Она напоминает глаз мертвой рыбы. И глаз этот словно глядит на меня в упор. www.franklang.ru 400 Кадр из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». 1959 год. «И как упорно он смотрит!» (E questo insiste a guardare…) Затем этот Джонстон действительно появляется в пьесе — как Незнакомец. То есть его видит не только Эллида. И «глаза его меняли цвет по цвету моря». www.franklang.ru 401 Рене Магритт. Трудное плавание С морским дном, если вы помните, связана и дикая утка в пьесе «Дикая утка» («И, кроме того, она побывала в пучине морской»). Это еще одна ипостась Прекрасной Дамы (уже не конь, а птица). А погружение в водную стихию представляет собой вариант падения с высоты: «Известно... дикие утки всегда так. Нырнут на дно... в самую глубь, старина... вцепятся в траву, водоросли... и во всякую чертовщину там внизу... и уж наверх больше не всплывают». Собственно, и в «Росмерсхольме» герои падают в воду — да еще и в водопад. Обратите внимание на один элемент, о котором мы уже говорили в другом месте. Он появляется не каждый раз, но довольно часто. Это кольцо, передающее взаимодействие героя с двойником, а именно кружение (герой www.franklang.ru 402 → двойник → герой → двойник →…): «Куколка, куколка, кружись! Куколка, кружись, кружись!» Кадр из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Никто не падает, но у Сильвии только что слетела вниз шапочка. А кольцо образует площадь внизу. Подлинное падение произойдет потом, когда застрелится друг героя (и его двойник-антипод) Стейнер (и будет сидеть в кресле с раной на виске — словно некая новая статуя Микеланджело). Перед тем как увидеть эту картину, герой взглядывает вверх в пролет лестницы — и видит небо через сужающиеся ломаные круги шахты. То ли он падает в этот небесный колодец, то ли, уже упав вниз, глядит вверх. И морское «чудовище» в конце фильма, вытащенное рыбаками в сети и вываленное (с переворотом) ими на берег, тоже похоже на упавшее. Сильвия — «Прекрасная Дама» — одновременно пародийная и подлинная — в отличие от той совершенно подлинной, от девушки-ангела, которая www.franklang.ru 403 появляется в самом конце фильма, сразу после морского «чудовища». Герой (танцуя с Сильвией), говорит, что она — всё, что она — мать, сестра, возлюбленная, подруга, ангел, дьявол, земля, дом… Сильвия («лесная») связана и с лесом, и с миром вод (сцена купания в фонтане). Купаясь в фонтане, Сильвия в определенный момент становится похожа на статую, которую и созерцает пораженный герой (до этого воскликнувший: «Сильвия, кто ты?»). (А девушка-ангел, по словам героя, словно явилась с церковной росписи.) Сильвия, как Артемида, связана с животным миром (воет с собаками, подбирает котенка). В танце Сильвию у героя на время «отбивает» актер Фрэнки — своего рода звериный двойник (как и Сильвия, одновременно пародийный и подлинный, в отличие от совершенно подлинного звериного двойника в конце фильма — морского «чудовища»). Фрэнки курчавый, с бородой. Танцуя, он перевертывается и ходит на руках. Затем поднимает Сильвию над собой (едва не перевертывая актрису вниз головой) и кружит ее в воздухе. В это время сбоку мы видим факел — круглую, высокую горящую чашу. (Сравните: «И вот Натанаэль стал метаться по галерее, скакать и кричать: "Огненный круг, крутись, крутись! Огненный круг, крутись, крутись!"») Вместо кольца («заветного перстня») могут быть другие похожие предметы. Офелия, например, хотела сплести гирлянду. Голова Иоанна Крестителя покоится на блюде (после, кстати сказать, танца Саломеи, предполагающего кружение). А Халвар Сольнес из пьесы Ибсена «Строитель Сольнес» (1892) забирается на башню с венком в руках. Заглянем в Википедию: «“Строитель Сольнес” — наиболее значимая из поздних драм Ибсена. Сольнес, как и Ибсен, мечется между высоким призванием и жизненным комфортом. Юная Хильда, напоминающая Хедвигу из «Дикой утки», требует от него вернуться к строительству башен. Пьеса заканчивается падением строителя, до сих пор не истолкованного литературоведами». www.franklang.ru 404 Смешно написано. Думаю, что истолковать подобные вещи может только тот, кто сам их пережил. Если кто-либо не сподобился лично повстречать тролля и сам не чувствует после той встречи страха падения с высоты, то что он может истолковать в «Строителе Сольнесе»? Халвар Сольнес ощущает присутствие тролля внутри себя, а также то, что тролль «вызывает на подмогу внешние силы» — духов: Хильда (совершенно серьезно). Какая-то внутренняя сила неотступно гнала меня, толкала. Манила и влекла сюда. Сольнес (горячо). Вот оно! Вот оно что, Хильда! В вас тоже сидит тролль. Как и во мне. Вот этот тролль внутри нас, видите ли, и вызывает на подмогу внешние силы. И человеку приходится сдаваться... волей-неволей. Хильда. Пожалуй, вы правы, строитель. Сольнес (ходит по комнате). А сколько вокруг нас этих невидимых бесов, Хильда! Без счету! Хильда. И бесов еще? Сольнес (останавливаясь). Злых духов и добрых. Белокурых и черных. Знать бы только всегда, какой это... светлый или черный... захватил тебя! (Опять принимается ходить по комнате.) Хо-хо! Тогда бы все ничего! Халвар Сольнес не встречает черта в натуре, как Иван Карамазов, но он тоже чувствует, что подписал контракт, согласно которому его желания будут исполняться — так, словно он живет не в действительном мире, а в собственном сне. Видя, как исполняются все желания Сольнеса, люди считают его счастливцем. Сам Сольнес, однако, себя счастливцем не считает, так как понимает, что его ждет возмездие116. Более того, возмездие осуществляется уже сейчас: «Поворот наступит. Немного раньше, немного позже. Возмездие неумолимо». Интересно, что Александр Блок взял из этой пьесы Ибсена эпиграф для своей поэмы «Возмездие»: «Юность — это возмездие». 116 www.franklang.ru 405 Хильда (пытливо смотрит на него). Да вы, должно быть, ужасный счастливец. Судя по всему. Сольнес (нахмурясь). Счастливец? И вы повторяете это? Вслед за другими. Хильда. Да, право, мне так кажется. И если бы вы только могли перестать думать о своих малютках, то... Сольнес (медленно). Этих малюток... не так-то легко выбросить из головы, Хильда. Малютки — это мальчики-близнецы, младенцы, сыновья Сольнеса. Лет двенадцать тому назад в старом доме, принадлежавшем жене Сольнеса Алине, случился пожар117. Вследствие пожара у Алины сделалась лихорадка и испортилось молоко. Мальчики в результате этого умерли. А Сольнес желал этого пожара, так как хотел на месте «старого уродливого разбойничьего замка» построить «дома для людей» и стать известным строителем. Нет, он не поджигатель. Он лишь заметил трещину в дымовой трубе и умолчал об этом: Хильда. И вы никому ничего не говорили? Сольнес. Нет, не говорил. Хильда. И не подумали велеть, чтобы ее заделали? Сольнес. Думать-то думал... Но дальше этого не шел. Каждый раз, как я хотел заняться этим, словно кто останавливал меня. Ну, не сегодня, думалось мне, — завтра. Так до дела и не дошло. Хильда. Да зачем же вы так мешкали? Сольнес. Затем, что я все раздумывал... (Медленно и понизив голос.) А что если благодаря этой небольшой черной трещине в дымовой трубе я выдвинусь... как строитель... Хильда (глядя перед собой). Да... в такой мысли должно быть что-то захватывающее. 117 Обратите внимание на стихию огня. www.franklang.ru 406 Сольнес. Донельзя захватывающее, совсем непреодолимое. Но, как выясняется, пожар случился вовсе не из-за трещины в дымовой трубе. Значит, Сольнес не виноват? Сам он так, однако, не думает: Хильда. Но послушайте, строитель. Вы вполне убеждены, что пожар произошел именно от этой небольшой трещинки в трубе? Сольнес. Напротив. Я вполне уверен, что трещина была тут ни при чем. Хильда. Что такое?! Сольнес. Как вполне выяснилось потом, пожар начался в гардеробной — совсем в противоположном конце дома. Хильда. Так что же вы сидите и городите тут о трещине в дымовой трубе! Сольнес. Позвольте мне еще поговорить с вами, Хильда? Хильда. Только если вы намерены говорить разумно... Сольнес. Попробую. (Придвигает свой стул ближе.) Хильда. Выкладывайте все начистоту, строитель. Сольнес (доверчиво). Не думаете ли и вы, Хильда, что есть на свете такие исключительные, избранные натуры, которым дарована сила, власть и способность желать, жаждать чего-нибудь так страстно, упорно, так непреклонно, что оно дается им наконец? Как вы думаете? Хильда (с каким-то странным выражением во взгляде). Если это так, то мы когда-нибудь увидим, принадлежу ли я к числу избранных. <…> Сольнес. Великие дела не бывают делом рук какого-нибудь отдельного человека. Нет, ни в одном таком деле не обойтись без сотрудников и пособников. Но они никогда не являются сами собой. Их надо уметь вызвать... звать долго, упорно... Этак внутренне, вы понимаете? Хильда. Что же это за сотрудники и пособники? www.franklang.ru 407 Сольнес. Ну, о них мы поговорим в другой раз. Теперь займемся пока пожаром. Хильда. А вы не думаете, что пожар все равно случился бы... желали ли вы его или нет? Сольнес. Принадлежи дом старику Брувику118, никогда бы он не сгорел так кстати. В этом я уверен. Брувик не умеет вызывать сотрудников... и пособников тоже. (Встает; нервно.) Так вот, Хильда... значит, это всетаки моя вина, что малюткам пришлось поплатиться жизнью. И не моя ли тоже вина, что Алине не удалось сделаться тем, чем она должна была и могла стать? И чего больше всего хотела сама119. Хильда. Да, но если тут замешались эти сотрудники и пособники?.. Сольнес. А кто вызывал их? Я! И они пришли и подчинились моей воле. (С возрастающим возбуждением.) Так вот что добрые люди зовут счастьем. Но я скажу вам, как дает себя знать это счастье! Как большая открытая рана вот тут, на груди. А эти сотрудники и пособники сдирают кусочки кожи с других людей, чтобы заживить мою рану... Но ее не заживить. Никогда... никогда! Ах, если б вы знали, как она иногда горит и ноет! Хильда (внимательно смотрит на него). Вы больны, строитель. Пожалуй, даже очень больны. Сольнес. Скажите — ума лишился! Ведь вы так думаете. Сольнес совершает преступление при помощи двойника. И он на всем протяжении пьесы чувствует себя «нездоровым» (именно психически нездоровым) и старается понять у окружающих (у жены, у своего приятеля доктора), не считают ли и они его таковым. Заметим и близнецов — как «пустых двойников», то есть как мотив, подчеркивающий основное двойничество (Сольнеса — с троллем). Архитектор, которого Сольнес обошел, «съел» в своем выдвижении вперед и который трудится теперь в конторе Сольнеса вместе со своим сыном Рагнаром — талантливым молодым архитектором, мечтающим о независимой карьере, о собственной конторе. 119 То есть матерью и воспитательницей своих детей. 118 www.franklang.ru 408 Любопытна и Хильда — эта типичная Лолита (с ее свободной манерой и молодежным жаргоном, с ее смелым заигрыванием). Вот как она впервые появляется в пьесе: Доктор. Кто-то стучится. Сольнес (громко). Войдите! Из передней входит Хильда Вангель, девушка среднего роста, гибкая и стройная, слегка загорелая. На ней костюм туристки: подобранная юбка, выпущенный матросский воротник и морская шапочка. За спиной ранец, в руках плед, стянутый ремнями, и длинная альпийская палка. Как видите, она спустилась к Сольнесу с гор. Хильда родственна душой Сольнесу (ею тоже «тролль распоряжается»). Более того, можно сказать, что она и есть его душа, его «дикая утка» («Хильда... вы похожи на дикую лесную птицу»), его Елена Прекрасная. Примечательно, что подчас она похожа на статую («Не стойте же тут, как статуя»; «Теперь вы опять стоите как статуя»). Сходство со статуей — признак богини120. Первая встреча Сольнеса и Хильды состоялась, когда той было «лет двенадцать-тринадцать» (ровно столько, между прочим, сколько гётевской Миньоне121 из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера»). Сольнес Хильд, кстати сказать, — валькирия (это имя означает «сражение»). Ночами Хильд ходит по полю боя и воскрешает павших для нового сражения. 121 Миньона (mignon — миленький, славный /франц./) — Муза. Особенно красиво это проявляется в танце с завязанными глазами среди разложенных на ковре яиц, который она (причем неожиданно, по своей воле) исполняет перед Вильгельмом Мейстером. Миньона вообще чудно танцует, поет и играет на музыкальных инструментах, а вот с речью у нее проблема. Примечательно также, что эта девочка и похожа на мальчика, и является в мужской одежде. Собственно, если точно переводить, ее имя не Миньона (mignonne), а Миньон. Она — из Италии (страны лимонов и апельсинов, как поет она в своей песне, тоскуя по родине), дочь Арфиста и его сестры Сператы. Ее похитила цирковая труппа. Когда Вильгельм обручается у нее на глазах с другой женщиной, она умирает от разрыва сердца. Затем Миньона предстает как «Мертвая царевна» (ее зачем-то бальзамируют и торжественно хоронят). Кроме того, когда Миньона была похищена бродячей труппой, ее мать решила, что девочка упала со скалы в воду. (У Миньоны была естественная потребность забираться на вершины гор, ходить по бортам корабля, а также подражать канатоходцам. Она любила высоту и риск.) Лермонтов сравнивает девушку-контрабандистку в «Герое нашего времени» (в главе «Тамань») с Миньоной. Большое впечатление произвел роман Гёте (и особенно образ Миньоны) на Достоевского. Например, Нелли из романа «Униженные и оскорбленные» похожа на Миньону. Возможно, первый вариант названия романа Достоевского и был — «Миньона». Остается добавить, что в гётовском 120 www.franklang.ru 409 построил башню на старой церкви в городке, где жила Хильда, забрался на нее и повесил венок на флюгер: Хильда. А вы поднялись по лесам наверх. На самый верх. В руках у вас был большой венок. И вы повесили его на самый флюгер. Сольнес (отрывисто). Да, я так делал... в те времена. Это ведь старинный обычай. Хильда. Дух захватывало при взгляде на вас... снизу. Подумать, вдруг он упадет оттуда? Сам строитель!.. Сольнес (как бы желая переменить разговор). Да, да, это могло случиться. Ведь одна из этих белых школьниц — сущий чертенок — так бесновалась и кричала мне оттуда... снизу... Хильда (с сияющим лицом). «Ура, строитель Сольнес»? Да! Сольнес. И так размахивала и вертела своим флагом, что у меня самого голова чуть не закружилась, когда я взглянул вниз. Xильда (тихо, серьезно). Чертенок-то была — я! Так Хильда еще и «чертенок». Затем, застав девочку в комнате одну, Сольнес пошутил, поцеловав ее, назвав своей принцессой и пообещав похитить ее через десять лет (вот она теперь и приехала к нему спустя десять лет, день в день, чтобы напомнить об обещании): Хильда. Вы сказали, что я прелестна в белом платье и похожа на маленькую принцессу. Сольнес. Так оно, верно, и было, фрекен Вангель. К тому же на душе у меня было так легко и радостно в тот день... «романе воспитания» рассказывается о судьбоносной встрече с двойником и о различных судьбообразующих близнецах (мужчинах и женщинах). Один из них (аббат) старается повлиять на судьбу героя («играет судьбу»), подключив для этого своего брата-близнеца (который его «немного выше»). Брат аббата является Вильгельму во время представления как гамлетовский Призрак. (Вильгельм же играет Гамлета.) В общем, прочтите или перечтите этот странный роман. www.franklang.ru 410 Xильда. А еще вы сказали, что когда я вырасту большая, то буду вашей принцессой. Сольнес (посмеиваясь). Вот как... я и это сказал? Xильда. Да. Сказали. А когда я спросила, долго ли мне ждать этого, вы ответили, что вернетесь через десять лет — в образе тролля — и похитите меня. Умчите в Испанию или куда-то в этом роде. И обещали купить мне там королевство. Сольнес (по-прежнему). Н-да, после хорошего обеда не особенно скупишься. Но я в самом деле сказал все это? Xильда (тихо посмеиваясь). Да. Вы даже сказали, как будет называться это королевство. Сольнес. Да ну?.. Хильда. Вы сказали, что оно будет называться Апельсинией122. Впрочем, возможно, поцелуй и обещание — это Хильдина фантазия. Однако Сольнес во время этого разговора вдруг понимает, что фантазия у него и у Хильды — общая, что они видят один и тот же сон: Хильда (пристально глядя на него). Вы взяли да поцеловали меня, строитель Сольнес. Сольнес (с открытым от удивления ртом, встает). Разве? Хильда. Да-да! Вы обняли меня обеими руками, отклонили назад и поцеловали. И не один раз, а много. Сольнес. Но, милая, дорогая фрекен Вангель!.. Хильда (встает). Не вздумаете же вы отрицать это? Сольнес. Именно отрицаю! И здесь опять намек на Миньону — на ее знаменитую песню «Ты знаешь ли страну…», в начале которой упоминаются цитрусовые (лимоны и апельсины): Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn… 122 www.franklang.ru 411 Хильда (пренебрежительно глядя на него). Ах, та-ак? (Поворачивается и медленно идет к печке, возле которой останавливается спиной к Сольнесу, заложив руки назад.) Короткая пауза. Сольнес (осторожно подходит к ней). Фрекен Вангель?.. Хильда молчит и стоит неподвижно. Не стойте же тут, как статуя. То, что вы сейчас рассказывали, вы, верно, во сне видели. (Дотрагиваясъ до ее руки.) Послушайте же... Хильда нетерпеливо отдергивает руку. (Как бы внезапно осененный мыслью.) Или... Постойте! Видите ли, тут кроется кое-что посерьезнее! Хильда стоит по-прежнему неподвижно. (Вполголоса, но подчеркивая слова.) Я, должно быть, думал об этом, стремился к этому, хотел, желал этого... И вот! Не в этом ли разгадка? Хильда по-прежнему молчит. (Нетерпеливо.) Ну, черт возьми, так и быть. Ну да, я сделал и это! Хильда (слегка поворачивая голову, но еще не глядя на него). Так вы признаетесь? Сольнес. Да, во всем, в чем хотите. Хильда является к Сольнесу как Муза-вдохновительница, которая хочет вновь увидеть его на головокружительной высоте: Хильда. Да, вы ведь уже очень много настроили. Сольнес. Много. Особенно в последние годы. Хильда. И много церковных башен? Таких... высоких, высоких? Сольнес. Нет. Я больше не строю ни башен... ни церквей. Хильда. А что же вы строите теперь? Сольнес. Дома для людей. www.franklang.ru 412 Хильда (задумчиво). А вы не могли бы иногда делать над домами надстройки... что-нибудь вроде башен? Сольнес (пораженный). Что вы хотите сказать? Хильда. То есть... что-нибудь такое, что говорило бы о таком же стремлении ввысь... на простор. И тоже с флюгером на головокружительной высоте. Сольнес (задумчиво). Удивительно, что вы предлагаете это. Ведь я сам лучшего не желал бы. Хильда (нетерпеливо). Так почему же бы вам и не строить? Сольнес (качая головой). Нет, люди этого не желают. Xильда. Скажите! Не желают? Сольнес (вздохнув). Но теперь я строю новый дом себе. Здесь, напротив. Xильда. Для вас самих? Сольнес. Да, он почти готов. И на нем — башня. Xильда. Высокая? Сольнес. Да. Xильда. Страшно высокая? Сольнес. Люди, наверное, найдут ее слишком высокой. Для частного дома. Хильда с Сольнесом и сны видят похожие: Хильда. Да. Я видела, что падаю с ужасно высокой, отвесной скалы. А вам не случается видеть таких снов? Сольнес. Да, иной раз... тоже... Хильда. Удивительное ощущение, когда этак... падаешь, падаешь вниз. Дух захватывает. Сольнес. По-моему, сердце стынет. Хильда. А вы тогда поджимаете ноги? Сольнес. Да, как можно больше. Хильда. И я тоже. www.franklang.ru 413 А вот Хильда в виде Елены Прекрасной (из сказки «Сивка-бурка»), то есть в виде принцессы, стоящей на башне: Хильда. Обещали вы мне королевство или нет, — позвольте вас спросить? Сольнес. Да, — как вы говорите. Хильда. Так вот. Вы обещали мне королевство. А ведь в королевстве должен быть замок, я думаю! Сольнес (все более и более оживляясь). Да, да, само собой разумеется! Хильда. Хорошо, так вот и выстройте мне его! Живо! Сольнес (смеясь). Сию минуту? Хильда. Конечно! Десять лет ведь прошло. И я не хочу больше ждать! Итак, подавайте мне мой замок, строитель! Сольнес. Не шутка же очутиться у вас в долгу, Хильда! Xильда. Об этом следовало подумать раньше. Теперь поздно. Итак... (Стучит по столу.) Замок на стол! Мой замок! Сейчас же! Сольнес (придвигаясь еще ближе и кладя руки на стол, серьезно). Каким же вы его представляете себе, Хильда? Хильда (глаза ее мало-помалу точно заволакиваются туманом, и она как будто смотрит внутрь себя; медленно). Мой замок должен стоять на высоте. Страшно высоко. И на полном просторе. Чтобы можно было видеть далеко-далеко вокруг... во все стороны. Сольнес. И, верно, с высокой башней? Хильда. С ужасно высокой. А на самом верху башни — балкон. Там хочу я стоять... Сольнес (невольно хватается за голову). Вот охота стоять на такой головокружительной высоте... Халвар Сольнес построил для себя новый дом (с высокой башней), кто-то теперь должен подняться на самый верх и повесить венок. Это может www.franklang.ru 414 проделать любой работник. Выясняется, что Сольнес теперь не переносит высоты: Сольнес (запальчиво). Невозможно... невозможно... Да! А я все-таки стоял там... на самой вершине! Фру Сольнес. Нет, как же можно так говорить, Халвар? Ты не в состоянии даже выйти на наш балкон, во втором этаже. И всегда ты был таким. Сольнес. Сегодня вечером увидишь, может быть, другое. Под влиянием «принцессы Хильды» строитель решается на это «другое»: Хильда (напряженно смотрит на него). Так это или нет? Сольнес. Что? Что у меня кружится голова? Хильда. Что мой строитель не смеет... не может подняться на ту высоту, которую сам же воздвиг? Сольнес. Так вот как вы смотрите на дело? Хильда. Да. Сольнес. Скоро, пожалуй, не останется в моей душе ни единого уголка, где бы я мог укрыться от вас. Хильда (глядя в окно). Итак, туда, наверх, на самый верх... Сольнес (подходит ближе). На самом верху в башне есть комнатка. Там вы могли бы поселиться, Хильда... И жить как принцесса. Хильда (не то серьезно, не то в шутку). Да вы ведь так и обещали мне. <…> Сольнес. Итак, сегодня вечером мы поднимаем венок, принцесса Хильда! Сольнес поднимается на башню, Хильда машет ему — как тогда, десять лет назад: Хильда. Вот, он стоит на самой верхней доске! На самой вершине! www.franklang.ru 415 Доктор. Никто ни с места! Слышите! Хильда (тихо, торжествующе). Наконец! Наконец! Я опять вижу его великим и свободным! Рагнар (почти задыхаясь). Но ведь это... это... Хильда. Таким я видела его все эти десять лет! Как уверенно он стоит!.. И все-таки... дух захватывает! Посмотрите! Он укрепляет венок на шпице! Рагнар. Это прямо что-то невозможное. Xильда. Да, он как раз совершает теперь невозможное! (С каким-то неопределенным выражением во взгляде.) А видите ли вы там кого-нибудь еще? Рагнар. Там никого больше нет. Хильда. Есть. Есть некто, с кем он спорит теперь. Рагнар. Вы ошибаетесь. Хильда. И вы не слышите пения в воздухе? Рагнар. Это ветер шумит в верхушках деревьев. Хильда. Я слышу пение! Могучий голос! (Кричит в каком-то неистовом восторге.) Вот! Вот! Он машет шляпой! Он кланяется сюда! Отвечайте же ему!.. Ведь теперь, теперь свершилось! (Вырывает из рук доктора белую шаль, машет ею и кричит вверх.) Ура! Строитель Сольнес! Доктор. Перестаньте! Перестаньте! Ради Бога!.. Дамы на веранде машут платками, с улицы доносятся крики «ура!». Вдруг мгновенно все смолкает, и затем толпа испускает крик ужаса. Между деревьями смутно мелькают летящие с высоты обломки досок и человеческое тело. Рагнар (пытается кричать). Ну... что? Жив он? Голос из толпы в саду. Строитель Сольнес мертв! Другие голоса (ближе). Вся голова разбита... Он упал прямо в каменоломню. Хильда (поворачивается к Рагнару, тихо). Теперь я не вижу его больше там наверху. Рагнар. Ах, это ужасно!.. Значит, все-таки у него не хватило силы. www.franklang.ru 416 Хильда (в каком-то тихом, безумном восторге). Но он достиг вершины. И я слышала в воздухе звуки арфы. (Машет шалью и безумно-восторженно кричит). Мой... мой строитель! Последняя пьеса, написанная Ибсеном, — «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899). Прочтите или перечтите ее, пожалуйста. Вы найдете там Прекрасную Даму (она же «бледная дама» — мертвая царевна123, она же статуя, она же натурщица-Муза), кружение (Дамы: «Я стояла на вертящейся подставке в разных варьетэ… И кружила головы мужчинам...»), Тень124 с пронзительным и неотвязным взглядом125, жертвенный нож126, териоморфного двойника-антипода («гадкого медвежатника»127, фавна128), заманивающего в горы. Кончается же все следующим образом: 123 Почти в то же время из павильона выходит Дама в белом и садится за стол. Дама берет стакан с молоком и хочет отпить, но, заметив Рубека, останавливается и смотрит на него безжизненным взглядом. Рубек (остается сидеть у своего стола и серьезно, не отрываясь, смотрит на даму. Наконец встает, делает к ней несколько шагов и тихо говорит). Я узнаю тебя, Ирена. Дама (ставя стакан на стол, беззвучным голосом). Так ты догадался, Арнольд? Рубек (не отвечая). И ты, как вижу, узнала меня. Дама. Тебя — другое дело. Рубек. Почему? Дама. Ты ведь еще жив. Рубек (недоумевая). Жив?.. 124 Рубек. Я взглянул в окно... и увидал там между деревьями светлую фигуру. <…> Инспектор. В высшей степени странно. Кто же это был — мужчина или дама? Рубек. Мне показалось совсем ясно, что это была дама. Но за ней двигалась другая фигура, совершенно темная! Словно тень. 125 «Сестра милосердия держится также очень прямо; она, видимо, прислуживает даме, с которой не спускает пронзительных карих глаз». 126 Ирена (хриплым шепотом). Ты сам произнес себе приговор! (Хочет ударить его ножом.) 127 Ульфхейм. Да. Потому что тут, знаете, сподручно, в случае чего, взяться за нож. (С беглой усмешкой.) Мы оба имеем дело с упорным, упрямым материалом — и я, и ваш муж. Он ведь возится с мрамором, я — с напряженными, бьющимися медвежьими жилами. И оба мы в конце концов одолеваем. Торжествуем над материалом. Не отступаем, пока не сломим непокорного. Рубек (задумчиво). Это вы верно говорите. Ульфхейм. Да, камню тоже есть из-за чего упорствовать. Он мертв и изо всех сил упирается, когда вы молотком вбиваете в него жизнь. Совсем как медведь в берлоге, когда его расшевеливают кольями. 128 Майя (увертываясь и смеривая его взглядом). Знаете, на кого вы похожи, господин Ульфхейм? Ульфхейм. Думаю, что больше всего похож на себя самого. Майя. Именно. Вы живой фавн. Ульфхейм. Фавн? Майя. Он самый. Ульфхейм. Фавн — это лесное чудовище, что ли? Или что-то вроде лешего, так сказать? Майя. Да, да, как раз такой, как вы. У него козлиная борода и козлиные ноги. И рога вдобавок! www.franklang.ru 417 «Вдруг раздается громовой раскат на вершине горы, и рушится лавина. Рубек и Ирена мелькают на минуту в снежном вихре, затем лавина погребает их под собой». Опять двадцать пять. Даже неинтересно. А вот оригинальное решение аналогичной проблемы: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего129. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их130, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему». Иуда же (сатанинский двойник-антипод Иисуса) «низринулся» (как о нем загадочно сказано в «Деяниях апостолов». 130 Ирена (улыбаясь и как бы совсем уйдя в воспоминания). Я видела однажды дивно-прекрасный восход. Рубек. Ты? Где? Ирена. Высоко, на вершине горы, на головокружительной высоте. Ты хитростью сманил меня туда, обещая, что я увижу оттуда все царства мира и славу их, если только... (Вдруг обрывает.) 129 www.franklang.ru 418 Джеймс Тиссо (1836—1902). Искушение Христа www.franklang.ru 419 Причем встреча с троллем и искушение высотой происходит непосредственно после погружения в водную стихию при помощи териоморфного двойника-антипода. www.franklang.ru 420 Джеймс Тиссо. Крещение Христа. Интересно, что и здесь мы видим птицу, которая оказывается связанной с водной стихией Не менее славно решает «трудную задачу» и Иванушка из сказки «Сивкабурка». Ну так как, есть Бог — или нет? Это слова из фильма Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» (1957). 78-летний профессор медицины Исак Борг отправляется на автомобиле (со своей невесткой) из Стокгольма в Лунд на торжество в честь пятидесятилетия его врачебной и научной деятельности. По пути он заезжает в место, где жил в юности, идет к земляничной поляне в виду пустующего ныне дома, ложится в траву и начинает грезить прошлым. Земляничная поляна дословно — «земляничное место» (по-шведски: smultronstället), это идиома, означающая любимое место, заветный уголок. Именно тут профессору и является Изида. В священном месте, полном красных сладких ягод. Является она вполне реалистически — в виде девушки Сары (в черных очках), отцу которой, по ее словам, теперь принадлежит этот дом и эта земля. Она не снится профессору, а, наоборот, пробуждает его от грезы. В грезе профессор видел другую Сару — свою кузину, с которой был обручен в юности и которая потом вышла замуж за его брата. Сара собирала землянику для дядюшки. Обеих Сар играет одна актриса. Узнав, что профессора зовут Исак, Сара вспоминает библейскую историю, путая ее. Она спрашивает, не была ли Сара женой Исаака? Профессор ее поправляет, говоря, что Сара была женой Авраама (а Исаак, соответственно, их сын). Мы уже говорили о том, что Изида выступает по отношению к герою одновременно и как жена, и как мать. www.franklang.ru 421 Сара говорит, что отправляется сейчас в Италию (видимо, автостопом). (Мотив Миньоны.) Профессор шутя говорит, что сочтет за честь ее подвезти. Когда они подходят к машине, там стоят два молодых человека — спутники Сары. В общем, обычный прием путешествующих автостопом. И вот все они сидят на заднем сиденье — и являют собой «сущностную форму», а именно: богиню и двух зверей по ее бокам. Эти разнонаправленные звери — двойники-антиподы. Находящаяся между ними богиня — зеркало, в которое они видят друг друга. Оба молодых человека влюблены в Сару и действительно противоположны: блондин Виктор (будущий врач) и брюнет Андерс (будущий священник). Оба — голоногие (в шортах). В этом, кроме шуток, проявилась их звериность. Примечательно, что Сара, болтая в машине, говорит, что она еще девственница (мол, не смотрите, что я путешествую с двумя парнями). То есть как Артемида (богиня-девственница и покровительница рожениц, а также богиня охоты и покровительница звериного молодняка). www.franklang.ru 422 Статуэтка «Великой богини» из Чатал-Хююка. 7500 г. до н. э. — 5700 г. до н. э. Виктор и Андерс (имена можно перевести как «победитель» и «другой») спорят о существовании Бога. Потом даже, выйдя из машины, слегка дерутся по этому поводу (двойники вообще нередко являются в виде дерущихся мальчиков). Когда они затем возвращаются в машину и вновь усаживаются по бокам Сары, она, веселясь, и задает вопрос: «Ну так как, есть Бог — или нет?» Оба дуются и отворачиваются от нее (и, таким образом, друг от друга). www.franklang.ru 423 Смех же еще и в том, что разговор о возможности трансцендентного происходит внутри «сущностной формы»: между богиней и ее зверушками. Сара, Виктор и Андерс сопровождают профессора на протяжении всего фильма (то есть на протяжении этого дня), после торжества исполняют ему под окном ночную серенаду и отправляются дальше (в Италию). Сара говорит при этом профессору (с которым ранее, в машине, обсуждала, кого ей выбрать из молодых людей), что выбирает его. Когда они еще были в дороге, направляясь в Лунд, они чуть не столкнулись на повороте со встречной машиной. Встречная машина вылетела в кювет и перевернулась. Из нее выбралась супружеская пара (инженер и его жена), которых пришлось взять с собой и подвезти. Это Мефистофель и Мертвая богиня (или богиня смерти). Не случайно они вышли из встречного перевернувшегося автомобиля (то есть из противоположного мира, из мира смерти). Черт и баба-яга начали довольно противно выяснять свои отношения (насмешничая друг над другом), так что пришлось даже их высадить. www.franklang.ru 424 Потом они приснились задремавшему профессору (когда за рулем была его невестка): инженер (Мефистофель) принимает у старика-профессора экзамен и пишет заключение, что тот некомпетентен. Одним из заданий экзамена было поставить диагноз пациентке. Профессор подходит к пациентке, сидящей с закрытыми глазами под сильным светом круглой лампы, который делает ее белой, как статуя. Это та самая супруга инженера. Профессор говорит: «Но пациентка мертва?!» Пациентка открывает глаза и начинает хохотать. Инженер, кстати сказать, в очках. В машине он был в темных очках. В определенный момент инженер роняет свои очки, Виктор их поднимает и передает ему. В первой грезе профессора о его юности определенную роль играют сестрыблизнецы («пустые двойники»), тоже, кстати, в очках. www.franklang.ru 425 Они поют поздравительную песню глухому дядюшке (у него именины), которому мало помогает даже его слуховой аппарат (пародия на библейского Бога). Сара говорит: «Как глупо — сочинить песенку для глухого. Только близнецы могли до этого додуматься!» Во время дремы в машине профессор видит (перед сюжетом с экзаменом) еще раз Сару своей юности, она заставляет его смотреться в круглое зеркальце. Вообще профессор собирался лететь в Лунд самолетом (и уже были куплены билеты), но переменил решение после странного сна, увиденного ночью накануне поездки. В этом сне он забрел в какой-то пустой город, увидел круглые часы без стрелок, причем под циферблатом висело изображение двух глаз. Затем профессор увидел фигуру мужчины в черном пальто и черном котелке, стоящего к нему спиной131. Профессор подошел и тронул Интересно положение двойника-антипода спиной к герою. Таких двойников (иногда умноженных) мы видим на картинах Рене Магритта. Сравните также с библейским текстом: «И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине 131 www.franklang.ru 426 мужчину за плечо. Тот повернулся — и профессор отшатнулся, так как лица у мужчины практически не оказалось (оно было «сжато в кулак»). Затем мужчина упал, шляпа его отлетела, и из головы на мостовую хлынула кровь (обратите внимание на падение). Затем приехал катафалк, запряженный двумя черными конями, и задел колесом за фонарь. Колесо отвалилось и прикатилось к профессору, наполовину при этом развалившись. Опять круг (как мы наблюдаем его и в форме лампы, освещающей оживающую статую, и в форме часов без стрелок), однако дополненный вращением. Фонарь же пошатнулся и чуть не лишился головы (его стеклянный короб сломался и съехал набок). Катафалк кое-как двинулся дальше, но при этом из него выпал гроб и частично развалился (опять падение). Из гроба торчала рука. Рука начала подавать знак (мол, иди сюда). Профессор подошел и увидел в гробу самого себя. Оживший мертвец ухватил своей рукой руку профессора, потянул к себе вниз (в гроб) — и тот проснулся. скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь меня сзади, а лице Мое не будет видимо». www.franklang.ru 427 Рене Магритт. Фантазии прогуливающегося одиночки Мы посмотрели лишь некоторые линии и сочетания. В фильме есть, естественно, и многое другое. Но и все другое есть лишь развертывающаяся, ветвящаяся «сущностная форма». Вне нее ничего нет. Во время приснившегося экзамена доктор Борг спрашивает инженера: «Это все на самом деле?» И слышит в ответ: «Боюсь, что да, профессор». www.franklang.ru 428 Сон о двойнике, вызванная им поездка, увиденные во время нее грезы и сны, а также, конечно, встреча с «Великой богиней» пошли профессору (как человеку) на пользу. Серебряное озеро В рассказе Августа Стриндберга132 (1849—1912) «Серебряное озеро» главный герой (называемый автором «музейщик»), во время своего отдыха на Острове в море, удит рыбу в Приютном озере, и ему сначала не удается добраться до второго озера — Серебряного. (Серебряное озеро же, скажем сразу, есть зеркало.) Затем желание героя осуществляется — и он оказывается там, где хотел: «Ленивый утренний бриз поднял легкую зыбь, и в прибрежных камнях слышен негромкий плеск. В озере отражалась небесная синева, но возле берега вода была зловещего бурого цвета, точно свернувшаяся кровь. Жутковатая идиллия, тем более что все здешнее великолепие казалось необъяснимым, бесцельным. Как возникла эта впадина и откуда взялась вода? Сама котловина, возможно, кратер, а возможно, давний вход в рудник — щебень на дне говорил в пользу последнего предположения. Местное предание рассказывало только, откуда взялось само название. Серебряное озеро якобы получило свое имя в прошлом веке, после бегства от русских, когда обитатели прибрежного архипелага, спасаясь от полного разорения, собрали свое серебро и утопили в этом озере, рассчитывая достать клад, как только установится мир. Однако же серебро не отыскалось, и люди решили, что озеро бездонное. С годами к этой истории Стриндберг относится к тем писателям, которые видели своего двойника. В автобиографической книге «Слово безумца в свою защиту» мы читаем: «Я дошел тогда до такого состояния, что среди белого дня стал всего бояться, не мог оставаться один в комнате, потому что мне чудилось, что я вижу самого себя, и друзья мои были вынуждены по очереди стеречь меня ночи напролет, зажигая по нескольку свечей и разводя огонь в печи». 132 www.franklang.ru 429 добавились россказни о разной чертовщине, якобы происходившей всякий раз, как там пробовали ловить рыбу, в результате на памяти нынешнего поколения таких попыток уже не случалось». Затем музейщик отправляется от озера в обратный путь, домой, но выйти прямо не получается — тропинки заставляют его кружить вокруг озера (и здесь мы видим такой важный элемент, обычно сопровождающий отражение в зеркале и двойничество, как кружение). Кроме того, начинают накладываться одна на другую неприятности — то оса кусает, то гадюка обнаруживается… «Охотнику почудилось, будто он с кем-то единоборствует. Без сомнения, не с самим собою, ведь он держал свою собственную сторону; значит, с кемто другим. Но с кем же? О слепых силах тут речи нет, у них и впереди есть глаза, и сзади, а действуют они расчетливо, целеустремленно и хитро, как он сам, и даже хитрее. Со случаем? Нет, ведь при таком множестве попыток случай мог с одинаковым успехом направить его как на верный путь, так и на неверный, ибо самому понятию «случай» присуще нечто безучастное, ненамеренное, свободное от всех «за» и «против», а тут было одно только «против». Размышляя об этом, он снова двинулся в путь, а когда наконец меж деревьев просветлело, вышел прямо к озеру. Любо-дорого смотреть, но ему оно опостылело, хотелось увидеть что-нибудь новое — что угодно, лишь бы не это озеро! Казалось, обратный путь труда не составит, ведь положение солнца указывало, в какой стороне находится дом, но озеро было хорошо укрыто, и когда нога безотчетно отыскивала ровную тропу, та вела вовсе не по солнцу, а уклонялась то в одну, то в другую сторону, так что путнику мнилось, будто он угодил в вертящееся колесо133, которое постоянно высаживало его на какую-нибудь кочку, окруженную топью». Такое кружение на одном месте, невозможность оторваться от двойника — и в рассказе Толстого «Хозяин и работник». 133 www.franklang.ru 430 Но и выбирается герой из этого «колеса» при помощи своего двойникаантипода. Мы уже не раз видели, как спасительный двойник-антипод является герою в звериной шкуре (варианты: в тулупе, дохе и тому подобное), дарит ему шкуру или меняется с ним тулупом. Здесь же еще интересней: герой спасается тем, что выворачивает свою куртку наизнанку, творя таким образом своего двойника-антипода — своего спасателя — непосредственного из себя самого: «В нем пробуждаются первобытные инстинкты, смешанные с детскими воспоминаниями и приправленные тоскою по всему, что ему принадлежало, но сейчас было недостижимо. И из этого хаоса поднимается однаединственная разумная мысль: я заплутал и должен дойти до дома! А затем проступает давняя память, всплывает, словно большой поплавок, и он хватается за этот поплавок. Вспоминает, как мальчишкой заблудился в лесу и отыскал дорогу, по доброму старому обычаю вывернув курточку наизнанку, и после некоторой внутренней борьбы снимает куртку, выворачивает, но, прежде чем надеть, зорко смотрит по сторонам — не видит ли кто. Потом решительно шагает вперед, будто по широкому прямоезжему тракту. Первое, что он ощутил после переодевания, было что-то вроде недовольства, противоестественности, стесненности, а оттиск, оставленный на изнанке его телом, стал теперь восковым слепком, который облекал его снаружи. Это создавало иллюзию удвоения, ведь он как бы нес сам себя и чувствовал ответственность за того, кем облек свои плечи. С другой же стороны, от чего-то он освободился, содрал с себя кожу и еще теплую от пота нес ее на руке, как летний сюртук; но в этой коже была и толика грубой душевной оболочки, и он испытывал ощущение душевной наготы, легкости, свободы, что усиливало способность чувствовать, думать, желать. Оттого-то ему чудилось, будто он летит вперед, проходит сквозь древесные стволы, парит над топями, просачивается через можжевеловые кусты, течет по лощинам. И уже спустя десять минут он очутился на мельничном холме, окликнул детишек, www.franklang.ru 431 ожидавших внизу, на крыльце домика, и хотел было побежать им навстречу, однако спохватился, вспомнил про куртку. Сгорая от стыда, зашел за мельницу и вывернул куртку налицо, а когда вновь натянул ее, ощутил уют, покой и вместе с тем тягостную будничность и пот. Через две минуты ребятишки повисли у него на шее и все неприятности были забыты». Вывернутая наизнанку куртка действительно дарит музейщику сверхъестественную силу. Некоторое время спустя он все же (вопреки отговорам местных жителей) ловит рыбу в Серебряном озере — и выуживает чудо-юдо, мирового зверя, бога Серебряного озера: «Близится великая минута, когда глубины раскроют свою тайну. Накануне вечером он насторожил четыре уды с ярко раскрашенными поплавками, большими пробковыми дисками. Утром обнаружилось, что один из четырех поплавков перевернулся белой стороною кверху, ровно снулая рыбина, и музейщик смекнул: на крючке что-то есть. А выбирая лесу, почувствовал тяжесть. Осторожный неспешный маневр — и возле борта завиднелось сущее чудовище, спина узорчатая, наподобие удавьей, а с боков отливает старым золотом. Это была громадная щука, он в жизни такой не видывал, вдобавок настолько отличная от своих собратьев и цветом, и рисунком чешуи, что рыбаку стало не по себе и мысли его обратились к вещам простым и незатейливым; он заметил, что на берегу громко стучит желна, что солнце на миг скрылось за тучею и порыв ветра колыхнул лодку. Хотя ни одно дерево на берегу не шелохнулось. По возвращении он показал свою добычу старому рыбаку и его домочадцам, но те не выказали ни удивления, ни радости, ни зависти. А уходя от них, он услышал, как старик пробормотал: «Лучше бы этого не делать!» Музейщик призадумался, в особенности оттого, что рыбак, хозяин Серебряного озера, не последовал его примеру и сам щук ловить не стал, хотя рыба эта встречалась редко и ценилась очень высоко. На вопросы же о www.franklang.ru 432 причине старик отвечал уклончиво. Но то, что умные, толковые, практичные, расчетливые люди поступают вопреки собственной выгоде, говорило о причине серьезной, явно основанной на жизненном опыте. А опыт сей учил: все, кто последними пробовали здесь рыбачить, навлекали на себя неприятности. Вот вам и причина, и следствие. Ведь ответ на вопрос, чем они навлекли на себя неприятности, уже высказан: тем, что здесь рыбачили. Суеверие — так это называется, а поскольку музейщик был человек просвещенный, предостережениями он пренебрег, наоборот, решил подать пример, который нанесет смертельный удар предрассудкам и поверьям. Поэтому ходил на рыбалку каждый день, да и в остальном не мог оторваться от колдовского озера, что взяло его в полон». А затем одного человека, «который два дня назад появился на острове и которого с тех пор никто не видел, нашли мертвым в Приютном озере»: «Продолжать расспросы музейщик не стал, вместо этого предложил всем вместе пойти к озеру, вытащить тело и чин чином положить на гумне, пока не подвернется оказия отвезти покойного в город. Все гурьбой двинулись к озеру, но робость перед покойником была сильнее любопытства, так что к озеру музейщик пришел сам-третей, с двумя рыбаками134. Возле небольшого мыса на мелководье лежал хорошо одетый мужчина — лежал лицом вверх, будто нарочно повернувшись спиною к земле, полуоткрытые глаза глядели в небесную высь. Покоем веяло от его черт, покрытых той благородной бледностью, какою страдание и смерть возвышают даже грубые лица. Музейщик смотрел на мертвеца, а в душе пробуждались воспоминания, и, когда он еще раз спросил об имени, облик и имя соединились. Это был спутник его юности, школьный товарищ, даже имена у них разнились всего одною буквой». 134 Вы замечаете, конечно, «пустых двойников»: «два дня назад», «с двумя рыбаками». www.franklang.ru 433 Наш герой поймал чудо-щуку в Серебряном озере, а в Приютном озере всплыл его двойник-мертвец. Эти два озера соотносятся как два глаза: домашний, обычный (Приютное озеро) — и волшебный, магический (Серебряное озеро). Они родственно связаны, но при этом разнятся, они — двойники-антиподы, рифма. Не будем разбирать все последствия роковой рыбной ловли музейщика и другие ответвления двойничества в рассказе (например, истории с женами двойников), приведем только еще один отрывок, в котором сочетаются страх высоты, множественность-многоочитость (явленная здесь в «огромной туче ворон») и восприятие героем мира как текста, как тайного сообщения: «Опять весна, совсем ранняя, даже почки на деревьях еще не набухли, в каменных расселинах лежит грязный снег. Однако музейщик уже на острове, на сей раз он приехал один и снял жилье на взгорье за мельницей, подходить к которой не отваживается, опасаясь глядеть с обрыва вниз, на протоку, где в узкой зеленой лощине стоят под дубами летние домики. Хозяева приняли его — как-никак постоялец платежеспособный, — но без особой радости, скорее с опаской и неприязнью. Его одиночество они толкуют по-своему, объяснений не требуют. Но сам факт, что он не при семье, производит невыгодное впечатление, бросает на него тень вины. Придя к озеру, он застал там прозрачность, холод, безлистные деревья и ощутил огромное беспокойство. Камыши опалены морозом, листья кувшинок еще не всплыли на поверхность. Пара пролетных нырков села на воду, оглашая безлюдье жалобными криками. Когда же взгляд его упал на каменный уступ, откуда дети впервые в жизни ловили рыбу и где по-прежнему валялась банка из-под червей, перед ним разверзлась черная бездна; все, что он потерял, вдруг отчетливо предстало перед глазами, и он зарыдал — завыл, словно дикий зверь, оттого что душа, кажется, вот-вот разорвет все сосуды и связки телесной оболочки. Постепенно он успокоился, впал в безропотное смирение перед лицом непоправимого и принялся вычерпывать из лодки воду — машинально, без www.franklang.ru 434 всякой задней мысли. Потом выгреб на открытую воду, но все вокруг виделось ему как сквозь завесу дождя, опухшие щеки горели, а тело вновь и вновь сотрясали всхлипывания. Ни забрасывать удочку, ни помышлять о большом улове ему в голову не приходило. Зачем? Ведь дома его никто не ждет, никто приветливо и радостно не устремится навстречу, не станет разглядывать добычу. И стоило подумать об этом, как тотчас же его захлестнуло необоримое ощущение, что жизнь утратила всякий интерес. Пошел дождь, мелкий, пронизывающий, холодный, однако ж музейщик встретил его с глухой яростью и защищаться никак не стал. Ноги скоро оказались в воде, он чувствовал, что носки промокли, а грести все труднее. Наконец лодка ткнулась в берег, он вылез и зашагал наобум по болотам, через городьбу, сшибая наземь и ломая жердины; можжевеловые кусты и молодые сосенки он крушил как щепки и, громко чертыхаясь, несся вперед, будто смертельно раненный лось. Выбравшись из непролазных кустов на сухой каменный гребень, он неожиданно угодил в огромную тучу ворон — сотни птиц метались в воздухе и каркали наперебой, явно возмущенные его присутствием. Для умудренного охотника это оказалось так непривычно, что впервые в жизни его охватил суеверный страх. Он остановился, удивленный и обиженный их наглостью, ведь то, что у него не было при себе ружья, безусловно не давало повода к нападению. Он посмотрел под ноги, нет ли там подходящего камня, и тут взгляд его набрел на странный узор светло-зеленых корковых лишайников, которые плетут свою иероглифическую вязь повсюду, где только найдется ровная скала». Маракулин и пожарный www.franklang.ru 435 Петр Алексеевич Маракулин, главный герой повести Алексея Ремизова «Крестовые сестры» (1910), выпадает из окна пятого этажа и разбивается. На протяжении же повествования ему трижды является его двойник-антипод. Причем в первый и в третий раз — в виде «персианина135» — этого традиционного для русской литературы двойника-инородца (наряду с киргизом и монголом)136. В Маракулине очевидно «запрятан» сам Ремизов (фамилия героя намекает на марание бумаги). Повесть написана в трудную для Ремизова пору жизни. Герой убился, зато автор (благодаря этому) остался жить. Маракулин теряет работу (обнаружилась недостача — видимо, по его небрежности или даже из-за его излишнего добросердечия), вынужден перебраться из собственной квартирки в съемную комнату (в том же доме). Петр Алексеевич в отчаянном положении, другой работы ему найти не удается: такого «замаранного» нигде не берут. Тут-то он и видит своего двойника-антипода — причем наяву, а не во сне. Видит его сразу в трех ипостасях: в виде мучающейся и умирающей кошки (и уже тут — в начале повести — возникает тема падения с пятого этажа, которая к самой кошке, возможно, отношения не имеет, зато делает ее двойником Маракулина), в виде присевшего возле кошки инородца («персианин-массажист», «черный» и «кружит белками» — здесь подчеркнут и особый взгляд двойника), а также в виде зашедшего в этот момент в квартиру нищего старика, в улыбке которого Маракулину чудится та же мяукающая кошка (интересно, что Петр Так у Ремизова — вместо общепринятого написания «персиянин». Тут можно вспомнить и некоторых гоголевских персонажей, и «персидского подданного Шишнарфнэ» из романа Андрея Белого «Петербург», играющего роль двойника-чёрта («и из тьмы перед самым лицом его вдруг сложилось лицо персидского подданного»). В том же романе возникает и двойник-монгол: «Темножелтая пара Липпанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском Острове — цвет, с которым связалась бессонница и весенних, белых, и сентябрьских, мрачных, ночей; и, должно быть, та злая бессонница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазками; то лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой». Да и вообще страх пред «панмонголизмом» на рубеже веков есть не что иное, как страх перед двойником-антиподом. Аналогичный глобальный двойник (двойник-антипод не только главного героя (Ульриха), но и всей цивилизации, в которой этот герой проживает) есть и в романе Роберта Музиля «Человек без свойств»» (1930). Это «убийца женщин Моосбругер». «Чем-то неведомым Моосбругер касался его больше, чем его, Ульриха, собственная жизнь, жизнь, которую он, Ульрих, вел; Моосбругер волновал его как темное стихотворение, где все немного искажено и смещено и являет какой-то раздробленный, таящийся в глубине души смысл». 135 136 www.franklang.ru 436 Алексеевич, глядящий в окно, не видит, как старик входит, а после разговора, задремав, не видит, как старик уходит): «Последний день на старом пепелище выдался для Маракулина памятный. Утром на дворе случилось несчастье: убилась кошка — белая гладкая кошка с седыми усами. Может, она и не убилась, и ни с какой крыши пятого этажа падать не думала, а что-нибудь проглотила случайно: гвоздь или стекло, а то и нарочно, шутки ради, осколком или гвоздиком покормил ее какой-нибудь любитель, есть такие. Мучилась она, и трудно ей было: то на спину повалится и катается по камням, то перевернется на брюхо, передние лапки вытянет, задерет мордочку, словно заглядывая в окна, и мяучит. Обступили кошку ребятишки, бросили свои дикие игры и дикие работы, кругом на корточки присели, притихли, не оторвутся от кошки, а она мяучит. Персианин-массажист из бань, черный, тоже около примостился, кружит белками, а она мяучит. Какой-то дымчатый кот выскочил из каретного сарая, ходко шел по двору через доски по щебню прямо на кошку, но шагах в трех вдруг остановился, ощетинился да с надутым хвостом в сторону. Схватилась одна девочка, за молоком сбегала, принесла черепушку, поставила под нос кошке, а она и не глядит, все мяучит. — Кошка с ума сошла! — сказал кто-то взрослый: тоже, должно быть, как и Маракулин, из окна наблюдавший за кошкой. — Это наша кошка Мурка! — поправила девочка, которая за молоком бегала, личико ее горело, а в голосе прозвучала и обида и нетерпение. И все, казалось, ждали одного: когда конец будет. Маракулин не отходил от окна, не мог оторваться, тоже ждал: когда конец будет. И простоял бы так, не пошевельнулся, хоть до вечера, если бы не почувствовал, что сзади, за его спиной, стоит кто-то, переминается: дверей он давно уж не запирает, вот и вошел кто-нибудь! www.franklang.ru 437 Да так и есть: старик какой-то стоял перед ним, переминался, — всклокоченный старик, длинный, из-под пальто штаны болтаются на ногах, будто не ноги, одни костяшки у старика, в руках шапку теребит и еще что-то... конверт, да, конверт какой-то. Он такого старика никогда не видел, конечно! — но что ему надо? — Что вам угодно? — К вашей милости, Петр Алексеевич, я от Александра Ивановича. — От Александра Ивановича! — От них самих, двери забыли-с запереть, а я тут как тут, а позвонить побоялся, извините. — Старик шевелил губами, теребил шапку. В прежнее время не раз от Глотова приходили всякие люди, — в конторе для вечерних занятий народ надобился, — но как вздумалось Глотову теперь послать к нему человека, ведь Глотов же знает, что он без места, и вот один пятачок у него в кармане! — Сделать для вас я ничего не могу, вам ведь денег надо...137 Двойник-антипод нередко предстает в образе нищего. Например, в стихотворении Ходасевича обезьяна — «нищий зверь». Имеется судьбоносный нищий и в «Избирательном сродстве» Гёте. В драматической трилогии Августа Стриндберга «На пути в Дамаск» (1898—1904) герой (Неизвестный), двойник самого автора, встречает Даму, а затем похожего на себя «странного Нищего» («И скажи мне: ты — это ты, или ты — это я?»). Да и остальные персонажи пьесы — двойники и двойники двойников. Например, Нищий является позже как Доминиканец, как Исповедник. Подобно этому удваиваются и утраиваются другие персонажи. На самом деле в трилогии есть только один персонаж, а именно сам автор, ведущий сам с собой разговор при помощи различных своих отражений. Но и, скажем, у Достоевского мы наблюдаем подобное (Ставрогин говорит: «Я схожу к доктору. И всё это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах и больше ничего».) Как расставляются фигуры в произведении? Автор ставит на доску своего двойника, а затем путем удвоений и утроений (сопровождаемых введением перпендикулярных основным линиям «пустых двойников» и «пустых троиц») расставляет остальные фигуры. Как сказано у Гёте, «Так, друзья, я дроблюсь на части и остаюсь всегда одним и тем же». (Und so spalt’ ich mich, ihr Lieben, / Und bin immerfort der Eine.) Это хорошо заметно в романах «Годы учения Вильгельма Мейстера» и «Избирательное сродство». Например, в «Избирательном сродстве» главный герой говорит: «…но человек — прямой Нарцисс: всюду он рад видеть свое отражение; он точно фольга, которой готов устлать весь мир». (…aber der Mensch ist ein wahrer Narziss; er bespiegelt sich überall gern selbst, er legt sich als Folie der ganzen Welt unter). Философский смысл такого отношения к жизни раскрывают Георг Зиммель в книге «Гёте» (1913) и М. М. Бахтин в книге «Проблемы творчества Достоевского» (1929). И вы понимаете, конечно, это все это не узкая литературоведческая проблема, касающаяся двух старомодных авторов, что речь идет о самом важном для каждого из нас: о том, кто такой для нас другой человек и какова его ценность. Вернемся к Стриндбергу. На голове у Неизвестного — шрам (как и у Нищего). Это брат в детстве хватил его топором. Позже Неизвестный падает со скалы (он угрожал кому-то в облаках, его лихорадило — он оступился) и повреждает бедро, отчего хромает. И оживающий портрет там есть, можете не сомневаться. В наиболее же полном виде вы найдете все наши темы (в том числе воздействие на человека или ситуацию на расстоянии) в автобиографической книге Стриндберга “Inferno” (1897). Которая да послужит вам предостережением. Равно как и моя книга, представляющая собой что-то вроде встречного подкопа. 137 www.franklang.ru 438 Старик засуетился, вытащил из конверта измятую четвертушку, исписанную неровно и крупно. — Я вашей милости прошение138 написал, стыдно просить, так я прошение написал! — Старик тыкал четвертушкой и все улыбался, и такою улыбкой, словно в губах его где-то эта кошка мяукала, Мурка. И сунув старику последний свой пятачок, Маракулин присел к столу и ждал одного, когда уйдет старик, когда конец будет. <…> Я, Петр Алексеевич, торговлишкой занялся бы, чтобы только хоть какнибудь прожить. Без умолку, путано говорил старик, сливались и шипели слова, беспокойный старик. <…> Маракулин вскочил со стула: — Да для чего, скажите, наконец, — крикнул он, — для чего прожить? Но он один был в комнате и больше никого. Кошка мяукала, Мурка мяукала. Он один был в комнате, он заснул под разговор, старик догадался и с пятачком, с его последним пятачком, крадучись, незаметно вышел, как и вошел незаметно. И шапка на полу не валялась. Кошка мяукала, Мурка мяукала. И вдруг Маракулину ясно подумалось, как никогда еще так ясно не думалось, что Мурка всегда мяукала и не вчера, а все пять лет тут на Фонтанке, на Бурковом дворе, и только он не замечал, и не только тут на Бурковом дворе — на Фонтанке, на Невском мяукала и в Москве, в Таганке — у Воскресения в Таганке, где он родился и вырос, везде, где только есть живая душа. И как ясно подумалось, как твердо сказалось, что уж от этого мяуканья, от Мурки никуда ему не скрыться. 138 Все выделения в ремизовском тексте — авторские. www.franklang.ru 439 И как твердо сказалось, как глубоко почувствовалось, что не на дворе там мяукает Мурка, а вот где... — Воздуху дайте! — мяукала Мурка, как бы выговаривала: воздуху дайте! и каталась по камням, глядя вверх к окнам. Тесно, еще теснее кругом ее сидели на корточках ребятишки, забыли свои дикие игры и дикие работы, притихли, насторожились, и тут же черепушка с молоком нетронутая стояла, и персианин-массажист из бань, черный, не уходил прочь, кружил белками. Только к вечеру поздно перебрался Маракулин в свою новую комнату на пятый этаж, где была раньше прачечная». Мы видим здесь, что кошка Мурка — не просто кошка, а жизнь Маракулина в целом. Жизнь его является ему как Мурка, от которой «никуда ему не скрыться». При этом Мурка находится и внутри героя: «как глубоко почувствовалось, что не на дворе там мяукает Мурка, а вот где...» Так, конечно, и должно быть, поскольку жизнь одновременно выходит изнутри человека и приходит к нему извне — как два пешехода из пунктов А и Б в задачнике. www.franklang.ru 440 Судьба — это я! (Le destin c’est moi.) Кадр из фильма Марселя Карне «Врата ночи» (1946). На Судьбе — довольно типичная одежда двойника-антипода: мятая шляпа (символизирующая отрезанную или поврежденную голову) и оборванное, расстегнутое пальто (символизирующее снятую шкуру)139. 139 Важны даже не столько помятость или оборванность, сколько акцентирование внимания на головном уборе и/или верхней одежде персонажа, представляющего судьбу. Например, в пьесе Леонида Андреева «Жизнь человека» (1907) появляется персонаж, аналогичный человеку-Судьбе из фильма Карне (поверхностный символизм, уйдя из литературы, еще долго жил в кино). Посмотрите на его одежду и головной убор: «Неслышно отделяется от стены прильнувший к ней Некто в сером. На Нем широкий, бесформенный серый балахон, смутно обрисовывающий контуры большою тела; на голове Его такое же серое покрывало, густою тенью кроющее верхнюю часть лица. Глаз Его не видно. То, что видимо: скулы, нос, крутой подбородок, — крупно и тяжело, точно высечено из серого камня. Губы Его твердо сжаты. Слегка подняв голову, Он начинает говорить твердым, холодным голосом, лишенным волнения и страсти, как наемный чтец, с суровым безразличием читающий Книгу Судеб». А помните «человека высокого роста в длинном балахоне с кистями»? Который показал свое лицо, «отвернув воротник балахона»? Ну да, Базарова из романа Тургенева «Отцы и дети»? (Потом слуга понесет эту «одеженку», «высоко подняв ее над головою».) Базаров — двойник-антипод Аркадия. Судьбообразующий, если можно так выразиться, двойник. (Интересно также, что, хотя Базаров русский, но и восточной своей фамилией, и своей безвременно оборвавшейся жизнью напоминает Инсарова из романа «Накануне» — экзотического чужеземца: «Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о которой ты мне говорил?» У Инсарова, кстати сказать, изначально как бы нет головы: «…я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть, след раны; но он об этом говорить не любит».) Вспомним также Рошфора из «Трех мушкетеров» — врага-друга Д'Артаньяна (с которым герой романа не только дерется, но и целуется): то он в сильно измятых фиолетовом камзоле и штанах, то закутан в плащ. «Д'Артаньян все это уловил с быстротой тончайшего наблюдателя, возможно также подчиняясь инстинкту, подсказывавшему ему, что этот человек сыграет значительную роль в его жизни». «— Нет ли у него каких-нибудь примет, по которым его можно было бы узнать? — О, конечно! Это господин важного вида, черноволосый, смуглый, с пронзительным взглядом и белыми зубами. И на виске у него шрам. www.franklang.ru 441 Щетина же двойника символизирует его звериность. Еще бы не мешало ему быть каким-нибудь образом восточным чужеземцем. И действительно, перед этим жестом он спрашивает героя: «Почему ты нарисовал китайца?», на что тот отвечает: «Сам ты китаец, чудак!» Итак, Маракулин перебирается в новую комнату на пятый этаж. И тут ему снится сон, в котором он видит то самое умножение глаз (или лиц), что часто следует за появлением двойника (так, например, происходит в гоголевском «Портрете» или в «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» Томаса Де Квинси): «В первую ночь на новоселье приснился Маракулину сон, будто сидит он за столиком в каком-то загородном саду против эстрады — Аквариум напоминает сад, а вокруг все люди незнакомые: лица злые и беспокойные, и все ходят, поуркивают, все шушукаются, на его счет поуркивают и недоброе у них на уме, ой, недоброе! Стал его страх разбирать, а их все больше подходит, и теснее круг замыкается, и уж перестали шушукаться, а так глазами друг другу показывают, понимают друг друга, на него показывают. И уж никакого сомнения: ему дольше тут нельзя оставаться — убьют. Он встал да незаметно к выходу, а они уж за ним: так и есть — убьют они. Убьют они его, задушат они его, куда ему деваться, куда скрыться? Господи, если бы был хоть один человек, хоть бы один человек! А они — по пятам, близко, вот-вот нагонят. Он — в грот, упал ничком на камни. И вдруг, как камень, села ему на спину птица, не орел, коршун, который кур носит, зажал крепко когтями, задрал за спину, всего зажимает, как кур ломит. «Вор, вор, вор!» — стучит клювом. И тяжко-тяжело стало, удробило сердце, оборвалось, опустились руки, и уж никакого сомнения: ему никогда не подняться, не стать на ноги, — и тяжко, и горечь, и тоска смертельная». Тут заметим и такие типичные вещи, как сжимание (до безвыходности) героя двойником-антиподом (здесь — коршуном — вспоминается «Ворон» Эдгара — Шрам на виске! — воскликнул д'Артаньян. — И к тому еще белые зубы, пронзительный взгляд, сам смуглый, черноволосый, важного вида. Это он, незнакомец из Менга!» www.franklang.ru 442 По), ощущение двойника как тяжести и особенно как камня (вспоминается «Голем» Густава Майринка). Типично и растерзывание, раздробление героя. Маракулин заболевает, затем выздоравливает — и обретает новое чувство жизни. Герой прошел испытание двойником, прошел через смерть — и ощущает себя рожденным заново, выбравшимся заново на свет — из тьмы, из-под земли: «— Нехороший сон,— сказала Акумовна, когда наутро Маракулин рассказал Акумовне о ночных людях и птице-коршуне, — видеть его перед болезнью, обязательно заболеете. А уж хвороба-болезнь привязалась, его ломало всего, размогался он, и голову клонит, он уж болен был: поутру стакан чаю едва допил и кусок нейдет в горло. Стояли петровские жары, а его трясло, как в крещенский мороз. Акумовна божественная, так по Буркову двору величали Акумовну божественной, добрая душа, уложила Маракулина в постель, и малиной поила, и горчичники ставила, дни и ночи ходила за ним и выходила. Отвязалась хвороба-болезнь, отошла от него. И все-таки недельки две провалялся. Первое, что он почувствовал, — когда после болезни переступил за порог дома и очутился на улице,— он теперь все видеть как-то стал и все слышал. И еще он почувствовал, что и сердце его раскрывается и душа живет. Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а ему, должно быть, надо было талон написать как-то, да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете и не просто какимнибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем: видеть, слышать и чувствовать! Так сказалось у Маракулина в его первый же день после болезни, так нашел он себе лазейку опять на свет выбраться, так доказал он свое право на существование: www.franklang.ru 443 только видеть, только слышать, только чувствовать! Людей он не боялся, не страшны они ему. И стало ему как-то совсем не важно: вор он или не вор. И беды никакой не боялся. И если бы, думалось ему, упало на него бед в тысячу раз больше, он ко всему готов, он на все согласен, все примет и все претерпит, и жить будет в каком угодно позоре и в каком угодно унижении, все видя, все слыша, все чувствуя, а для чего, сам не знает, только будет жить. Наперекор ли беде — лиху одноглазому, а ему, одноглазому, где тужат и плачут, тут ему и праздник, изморил он беду свою, пустил ее голодную по земле гулять, и одноглазый своим налившимся оком косо посматривает из-за облаков с высоты надзвездной, как в горе, в кручине, в нужде, в печали, в скорби, в злобе и ненависти земля кувыркается и мяучит Муркой… <…> Или он просто будет жить и не наперекор и не назло, и не от разумения и не благодаря свойству своему душевному, а так просто — ни для чего, как ни для чего перед праздником директору отчет переписывал, дни и ночи упорно выводя букву за буквой, нанизывал буквы, как бисер? Так, что ли? Так, в этом роде промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказалось: Ни для чего, — ни для чего, а будет жить! — только видеть, только слышать, только чувствовать». В Маракулине, ради собственного удовольствия переписывающем отчет, мы, конечно, узнаем гоголевского Акакия Акакиевича из «Шинели» — этого предшественника всех модернистов, для которого текст (или, скажем, поэзия) и действительность (правда) были едины140. Затем та же схема (герой → жизнь в целом → двойник → множество лиц) повторяется в повести еще дважды. Во второй раз Маракулину «жизнь в целом» предстает уже не в виде кошки Мурки, а в виде Верочки, которую он любит и которая есть его Прекрасная Дама — «источник его жизни» (Позже он ощутит: «Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы». 140 www.franklang.ru 444 «И ему так горько, горше вечернего, что нет больше Верочки, словно бы в ней-то и заключалась для него вся его необыкновенная радость — источник его жизни».) Она — такое же несчастное, погибающее существо, как и Мурка: «— И вы, Петруша, вы хотели бы, а? — спросила она вдруг с какою-то злостью: — Да что же вы, хотите, да? Маракулин поднялся. — Так вот же вам, — Верочка высунула язык, — не получите-с, нищий! Нищих не принимаю, слышите, не принимаю! — И глаза ее бесстыжие сверкнули, как два ножа, а распустившиеся волосы огнем ее жгли». Примечателен здесь и особый — огненный и ножевой — взгляд Прекрасной Дамы. Сразу же после огненной Верочки Маракулин встречает пожарного — это и есть его главный двойник-антипод: «Не разбирая улиц, шел Маракулин, куда ноги вели. Была декабрьская оттепель, дул теплый ветер, и фонари, как огромные спустившиеся с неба звезды и луны, висели в тумане. Выйдя с Подьяческой на Садовую, стал он переходить на ту сторону и вдруг остановился: у ворот Спасской части, там, где висит колокол, теперь стоял пожарный в огромной медной каске, настоящий пожарный, только нечеловечески огромный и в медной каске выше ворот. И в ужасе Маракулин бросился бежать. Подкатывало и давило горло. И уж дома, очутившись в своей комнате в Бурковом доме один, почувствовал он, что плачет, как только раз в жизни плакал, когда уходила старая нянька». Пожарный является как Тень (которая часто больше героя) — и как оживший медный памятник. Причем «медная каска» свидетельствует о «съемной» (или, по крайней мере, подвижной) голове идола. Совершенно очевидна перекличка с «Медным всадником» Пушкина: www.franklang.ru 445 Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его. Чело К решетке хладной прилегло, Глаза подернулись туманом, По сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. Он мрачен стал Пред горделивым истуканом И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой черной, "Добро, строитель чудотворный! — Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!.." И вдруг стремглав Бежать пустился. Показалось Ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось... И он по площади пустой Бежит и слышит за собой — Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой. И, озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется Всадник Медный На звонко-скачущем коне; И во всю ночь безумец бедный Куда стопы ни обращал, www.franklang.ru 446 За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом скакал. Рисунок Александра Бенуа к поэме Александра Пушкина «Медный всадник». 1916—1918 годы Собственно говоря, Ремизов в другом месте повести и прямо отсылает к «Медному всаднику». Петр Алексеевич Маракулин обращается к своему медному двойнику-антиподу: «Около памятника Петру остановился. www.franklang.ru 447 — Петр Алексеевич, — сказал он, обращаясь к памятнику. — Ваше императорское величество, русский народ настой из лошадиного навоза пьет и покоряет сердце Европы за полтора рубля с огурцами. Больше я ничего не имею сказать! — снял шляпу, поклонился и пошел дальше, по Английской набережной через Николаевский мост на Васильевский остров». Но это чисто литературный момент, а не нечто коренное. Вернемся к пожарному. После того как Маракулин увидел гигантского пожарного, ему ночью привиделись все люди — с Буркова двора и со всего мира, живые и мертвые, причем все лежали на Бурковом дворе (где будет лежать он, когда выпадет из окна). И встал над всем этим тот пожарный — и «тяжело стало» — и Маракулину, и всему «смертному полю»: «И ночью ему привиделось, будто лежит он на Бурковом дворе, но Бурков двор больше действительного, и, хотя сжат он с боков домами, шкапчики-ларьки разносчиков как-то глубже стоят, и каретный сарай, и помойка, и мусорная яма гораздо дальше, и больше сложено всяких кирпичей под окнами и щебню и мусору. И не один он лежал на дворе, с ним вместе лежали все жильцы и с парадного и с черного конца дома, из флигеля и горбачевских углов. И хотя многих не знал он в лицо, но тут догадывался и уж не мог ошибиться, что этот вот господин и дама — Ошурковы, которые десять комнат занимают и всякие вещицы у них, вся квартира заставлена и аквариум с рыбками, а тот вон в цилиндре, подвижной такой, — присяжный поверенный Амстердамский, весельчак, вести умеет дела, в Сенате швейцары, поди, как Пасхи, его ждут. И сам Бурков лежал — бывший губернатор, самоистребитель, но так как его никто не видел, а видели только мундир его, а рядом с мундиром старший Михаил Павлович с супругою, богобоязненной Антониной Игнатьевной, и торговец Горбачев с какою-то девочкой-дочерью, которой в крысином чулане пальцы выламывал, и Вера с Акумовной, и Станислав-конторщик, и Казимирмонтер, и Адония Ивойловна, и артисты Дамаскины, Сергей Александрович и Василий Александрович, Вера Николаевна, Анна Степановна и акушерка Лебедева, покрытая меховой зимней шубой, которую у ней на Рождество украли, www.franklang.ru 448 и швейцар Никанор и студенты, которые панихиду по ночам пели, так и лежали рядышком в студенческих новеньких мундирах и с своим единственным медным краном, и все семь дворников и паспортист Еркин, — дворники с дровами. Еркин с больничными рублевыми марками, весь облеплен марками, и все лицо и руки, и ребятишки в кучу лежали, и персианин-массажист из бань, и та девочка, которая кошке Мурке молока принесла, с черепушкой лежала, и сапожники, и пекаря, и банщики, парикмахеры, портнихи, белошвейки, сиделка из Обуховской больницы, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтичники, щеточники, приказчики, водопроводчики, наборщики и разные механики, техники и мастера электрические с семьями, с тряпками, с пузырьками, с банками и тараканами, и всякие барышни с Гороховой и Загородного, и девицы-портнишки, и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования, и старуха, торгующая у бань подсолнухами и всякою дрянью, и кухарки без места, и маляр, и столяр, и сбитенщик, и все разносчики, обложенные финиками и постным сахаром, пахнущим поганками, — словом, весь Бурков дом — «весь Петербург». А когда Маракулин, узнав всех своих бурковских, зорче стал вглядываться, то увидел и не бурковских — мать свою, отца и сестер, старика Гвоздева, Александра Ивановича Глотова, Аверьянова бухгалтера, Чекурова, и Лизавету Ивановну и Марию Александровну, Ракова с выигрышным билетом в двести тысяч, и Лещева, и Павлину Поликарповну, и всех блаженных и юродивых, старцев и братцев, и всяких бельгийцев и немцев, скучены были немцы вокруг доктора Виттенштаубе, который лечит от всех болезней рентгеновскими лучами, и, наконец, всю бродячую Святую Русь. Так лежали на Бурковом дворе, как на смертном поле, но не кости, живые люди, не сухие кости, живые люди, у всех жило и билось сердце. И звери с людьми лежали, красивый рыжий губернаторский пес Ревизор на своей стальной докучливой цепочке высоко поднимал то тут, то там свою умную морду, где-нибудь и Мурка лежала, только застил ее какой-нибудь дымчатый кот. www.franklang.ru 449 А рядом с Маракулиным генеральша Холмогорова лежала, вошь. И низко фонари, как огромные спустившиеся с неба звезды и луны, висели над Бурковым двором в тумане. «Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко!» — нескладно, точно спросонья, потянул носом, заросшим конским волосом, Горбачев. И вот забренчало что-то, как шашкой, и из шкапчика-ларька вышел пожарный, нечеловечески огромный, в огромной медной каске, и пошел, застучал сапогами. И ходко, сразу перемахнув через всех маляров, и слесарей, и разносчиков, приближался к Маракулину и, дойдя до него, стал. Это был самый обыкновенный пожарный — красная рожа. И тогда-то Маракулин почувствовал, как стало ему тяжело, ни ногой, ни рукой пошевельнуть не может и уж знает, что ему недолго осталось и только говорить еще свобода, и также почувствовал он, что и всем — всему смертному полю тяжело стало и ногой не пошевельнуть и рукой и только говорить еще свобода, и чувствуя последние минуты свои, слышал, как по Фонтанке гудят автомобили. А над ним неподвижно стоял пожарный. Это был самый обыкновенный пожарный — красная рожа». Перед тем как та же схема проявляется в повести в третий раз, в ней возникает довольно комическое видение отрезанной головы (связанное с еще одним — второстепенным — двойником Маракулина — Павлом Плотниковым): «Ему снилось, будто подходит к нему Павел Плотников и робко говорит ему: «Самое лучшее, самое рациональное, самое психологичное для твоей жизни, если тебе отрезать голову!» А Маракулин будто отвечает: «Как же так без головы я буду, ведь без головы быть — это же страшно?» «А что поделаешь!» — возражает Плотников и начинает убеждать его, что больно не будет, а самое большее, что может быть, чудно и странно. И хотя убеждает он как-то по-своему робко, но и возражений не допускает. «Ну, режь!» — соглашается Маракулин. www.franklang.ru 450 И Плотников берет бритву и начинает ему резать шею, и действительно, ни чуточку не больно, а уж голова совсем запрокинулась, так, на ниточке держится. «Еще одно маленькое решительное движение, и голова будет прочь отрезана», — говорит Плотников, чиркая бритвой. И голова падает на пол. А Маракулину будто и без головы все видно: он видит, как упала его голова и покатилась по полу и куда-то исчезла, и в то же время из горла широкой струей, выбивая вверх — прямо в потолок, хлынула густая вишневая кровь. Весь пол залит, и весь он в крови, живого местечка нет. А потом будто кровавый вишневый фонтан ослабевать начал, все тише, не брызжет кровь, и уж скоро не стало крови, и лишь маленькая струйка вилась по жилетке к полу. И подходит будто Маракулин к зеркалу и безголовый, а смотрит на себя в зеркало, и чудно и странно ему кажется, нет головы, — одно горло красное. «Как же это я без головы буду?» — плюнул он и проснулся». Но это так, чтобы разрядить обстановку, чтобы отдохнуть душой. Вернемся к трагическому. При третьей реализации схемы вместо кошки Мурки мы видим девочку Марью: «На Бурков двор зашли бродячие музыканты: гармонья и бубен. На гармонье играл какой-то из мастеровых — не то слесарь, не то водопроводчик — высокий, черномазый, а бубном пристукивала девочка в матросской рубашечке и шапочке, так лет двенадцати девочка, не разобрать точно: у девочки ноги не было, одна нога. Она опиралась на палку и на согнутом колене держала бубен. Девочка пела под гармонью. Она пела какую-то фабричную песню, в которой шли вперемежку и стихи вроде: «Я опущусь на дно морское, я полечу за облака» — и из цыганских всяких троек и жгучих очей, и чувствительные слезинки, и вдруг прорывало стариной старинной. Выговаривала она чисто, все можно было расслышать, каждое слово. Но дело не в слове. www.franklang.ru 451 Широким грудным альтом пела девочка, постукивая бубном. Степною ширью и морским раздольем упоена была песня. И бубен падал, как падает сердце. Обступили музыкантов ребятишки, бросили свои дикие игры и дикие работы, кругом стали, притихли и, не отрываясь, глядели на одноногую девочку, как когда-то на кошку Мурку, катающуюся по камням от боли. А девочка пела. Персианин-массажист из бань, он всегда около ребятишек, тут же примостился, кружил белками. А девочка пела. Широким грудным альтом пела девочка, постукивая бубном. Степною ширью и морским раздольем упоена была песня. И бубен падал, как падает сердце. Ребятишки все теснее придвигались к одноногой девочке, словно не хотели отпускать ее от себя. И закрыли ее всю собою, так что ее не видно стало, и казалось, что земля пела, степь пела, море пело — ширь и раздолье, сердце земли. И было страшно, вот кончится песня, вот кончит петь девочка и уйдет. Не хотелось, чтобы она уходила. Но пение кончилось. Играла одна гармонья. Девочка, опираясь на палку, заковыляла по щебню и, словно кружилась по двору с своим протянутым бубном и без улыбки открытым чистым лицом, глядела вверх к окнам, как тогда кошка Мурка, катаясь по камням от боли, глядела вверх к окнам. Акумовна как-то по-детски горько заплакала, все, должно быть, вспомнив, все свое: катучим камнем коло белого света! Маракулин бросился на улицу и уж за воротами догнал музыкантов. — Как зовут тебя, девочка? — тронул он ее за руку. — Марья, — ответила девочка, без улыбки глядя на него открытым чистым лицом. Гармонист тоже остановился, приподнял картуз, должно быть, отец, черномазый, щербатый». www.franklang.ru 452 Двойник здесь — черномазый гармонист, но и персианин зашел на всякий случай, для подкрепления, — из первого проявления схемы. А Марья — это сама жизнь, жизнь в целом, как и Мурка. Это и Прекрасная Дама, и мифический зверь. И кружение Марьи по двору сопоставлено с катанием Мурки по камням от боли. И пение Марьи (как и мяуканье Мурки) — это пение всего мира, земли и моря, а ее самой как бы и нет вовсе («И закрыли ее всю собою, так что ее не видно стало»). Потому что она — богиня. Ночью же Маракулин вновь видит сон, в котором опять скапливаются и толпятся люди и в котором ему является смерть в виде «курносой, зубатой, голой старухи»: «И ночью, в эту семицкую ночь, приснилось Маракулину, будто сидит он у стола за самоваром, в какой-то большой заставленной комнате, и все разбросано и раскидано, как после сборов перед отъездом, и люди все незнакомые — усталые какие-то, понурые в комнате. А по соседству с ним, и это он с отвращением заметил, курносая, зубатая, голая и с нею еще кто-то в темном — нагнулись над рухлядью, разбирают тряпки. И в досаде, схватив стакан, он наметил пустой голый череп. А она, курносая, зубатая, голая, поднялась да к двери: «В субботу, — стучит зубами, смеется, — ты не забудь дать фунт Акумовне, — стучит зубами, смеется, — а мать будет в белом!» — смеется зубатая. «Чего фунт, крупы, что ли? или серебра? — заспорил он с ожесточением, словно бы оспаривая какое-то последнее право свое не подчиняться никаким срокам, никакой субботе: — Да ну же, не дурачься! настоящий фунт стерлингов, да?» «В субботу!» — смеется курносая, зубатая, голая и, не оглядываясь, стучит уж по каменной лестнице вниз во двор. А на дворе — полон двор. Да это Бурков двор, высыпали жильцы из всех квартир и из флигеля и горбачевских углов: все семь дворников — старший Михаил Павлович и Антонина Игнатьевна, и паспортист Еркин, Станислав-конторщик с www.franklang.ru 453 откушенным носом, и Казимир-монтер, швейцар Никанор и Ванюшка, Никаноров сын, приговоренный ребятишками к смертной казни через повешение, и ребятишки, приговорившие Ванюшку, и персианин-массажист из бань, и та девочка, которая Мурке молока принесла, и сапожники, пекаря, банщики, парикмахеры, портнихи, белошвейки, сиделка из Обуховской больницы, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтичники, щеточники, водопроводчики, наборщики, и разные механики, и мастера электрические с семьями, и всякие барышни с Гороховой и Загородного, и девицы-портнишки, и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования, и старуха, торгующая у бань подсолнухами и всякою дрянью, и кухарки без места, и маляр, и столяр, и сбитенщик, и все разносчики, — словом, весь Бурков дом — «весь Петербург». И все глядят вверх к окну. Как глядела кошка Мурка, катаясь на камнях от боли, как глядела бродячая певица-девочка Марья, кружась по двору на одной ноге с своим бубном». Автор вновь нажимает на кружение (подчеркнутое образом бубна) — столь типичное для темы двойничества и падения вниз («И бубен падал, как падает сердце»). Перед тем как перейти к самому падению, поглядим еще и на «пустых двойников» повести, то есть на двойников, как бы перпендикулярных к основной двойнической линии, подчеркивающих ее. Вот два жулика, представляющиеся студентами: «В семьдесят седьмом — тоже соседняя квартира — одно время жили два студента — Шевелев и Хабаров. На вид из состоятельных, и одевались они богато, и деньги вперед за месяц заплатили. Жили замкнуто, никто к ним не приходил, никаких гостей не бывало, не бывало и шуму в их квартире, прислуги своей не держали. Обыкновенно с утра они уезжали и лишь поздним вечером возвращались домой: занимались они сбором денег в пользу своих бедных товарищей, как сами объясняли, когда обходили со сбором бурковские концы — и парадный и черный. И только одно было от них неудобство: часто по ночам и не www.franklang.ru 454 громко, но все-таки слышно они пели, и почему-то пели они панихиду — «Со святыми упокой» — «Надгробное рыдание» — «Вечную память». И ночное похоронное пение приводило соседей если не в трепет, то, во всяком случае, в некоторое волнение. И что же? Через какой-нибудь месяц оказалось, что вовсе они и не студенты и по фамилии не Шевелев и Хабаров, а Шибанов и Коченков — воры самые настоящие, а квартира их, как нежилая, — пусто, хоть бы стул какой безногий,— ничего, один стеариновый огарок в пивной бутылке да какойто медный кран, больше ничего. А нагрели они немало, их и арестовали». Эти загробные (судя по их песнопениям), призрачные («а квартира их, как нежилая») двойники-студенты, являющиеся вместе с тем двойниками двойниковворов, не случайно живут в квартире с двойническим номером (77). Затем там же поселяется другая пара «пустых двойников»: «На место студентов в семьдесят седьмом поселились артисты — два брата Дамаскины: Сергей Александрович из балета — экзамен на двенадцать языков сдал и все законы произошел, как говорили по двору, и Василий Александрович, клоун из цирка, или клон по-бурковски: огоньки пускает и ничего не боится, на летучем шаре летал! <…> Василий Александрович клоун — тело у него, как чайная чашка. Сергей Александрович — тоненький и аккуратный, как барышня шестнадцати лет…» И далее идет сопоставление-противопоставление этих двойников-антиподов (по образцу сопоставления гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича). Третья же пара «пустых двойников» — два поляка, неоднократно появлющихся в повести (сходную роль — перпендикулярного двойничества — играют два поляка и в «Братьях Карамазовых» Достоевского): «Станислав-конторщик, все равно как монтер Казимир, приятель Станислава, искони известны тем, что по ночам лазают по всем лестницам, и ни одна кухарка и никакая горничная, еще не было случая, чтобы устоять могла». Помимо этих трех пар «пустых двойников» отметим и то сопоставлениепротивопоставление Маракулина и Глотова, с которого начинается повесть. (Глотов, кстати сказать, — это тот самый, который потом пошлет к Маракулину www.franklang.ru 455 нищего старика.) Они сопоставляются как перпендикулярные двойникиантиподы: «Маракулин дружил с Глотовым вовсе не потому, что служебное дело их одно с другим связывалось тесно, один без другого обойтись не мог: Петр Алексеевич талоны выдавал, Александр Иванович кассир. Порядок известный: Маракулин только чернилами напишет, а Глотов точно то же только золотом отсчитает. И оба они такие разные и непохожие: один узкогрудый и усы ниточкою, другой широченный и усы кота, один глядит изнутри, другой расплывается. А все-таки приятели: хлеб-соль одна». Маракулин — главный герой, alter ego автора, а Глотов хотя и двойник — все же не главный, ему далеко до персианина или пожарного, увиденных сквозь Мурку, Верочку, Марью. Глотов оттеняет Маракулина: как успешный — неуспешного, как удачник — незадачливого. Как экстраверт («расплывается») — интроверта («глядит изнутри»). Как деловой человек — писаку: «Порядок известный: Маракулин только чернилами напишет, а Глотов точно то же только золотом отсчитает». Или так скажем: Маракулин лишь марает бумагу, а Глотов все заглатывает. Маракулин выпадает из окна в воскресенье (то ли отрицая тем самым возможность другой жизни, то ли переходя в другую жизнь), увидев Прекрасную Даму (она же — березка, то есть древо жизни, Мировое Древо): «Кончилась суббота, — началось воскресенье. — Акумовна, двенадцать пробило? — робко Маракулин. — Двенадцать, ровно двенадцать. — Настало воскресенье? — Воскресенье, воскресный день, спите спокойно. Господь с вами! Акумовна, оставив певучий журавлевский самовар, пошла себе на кухню спать. А разве он может спать? www.franklang.ru 456 Выждав, пока Акумовна угомонилась, и прикрыв самовар, Маракулин взял подушку и, положив подушку на подоконник, как делают бурковские жильцы, летующие лето в Петербурге, прилег на нее и, держась руками за подоконник, перевесился на волю. Нет, он не заснет, он во всю ночь не заснет: суббота кончилась, настало воскресенье! Было пусто на дворе, ни одного человека, и ни одного человека в окнах, только он один. И вдруг он увидел на мусоре и кирпичах вдоль шкапчиков-ларьков от помойки и мусорной ямы к каретному сараю все зеленые березки, — весь Бурков двор уставлен был березками, — и зеленые такие, зеленые листики. И почувствовал он, как медленно подступает, накатывается та самая прежняя необыкновенная его потерянная радость: ключом выбивала откуда-то из-под сердца эта его необыкновенная радость горячая, и росла, наполняя сердце, и, горячая, заполняла грудь. Уж ничего не видел он, только видел он березки, и вдоль березок, сама как березка, та Вера — Верушка — Верочка... и слипались ее руки с листьями, от листка к листку пробиралась она к сараю, будто по воздуху, и словно земля проваливалась по следу ее. И вот перепорхнуло сердце, переполнилось, вытянуло его всего, вытянулся он весь, протянул руки — И, не удержавшись, с подушкой полетел с подоконника вниз... И услышал Маракулин, как кто-то, точно в трубочку из глубокого колодца, сказал со дна колодца: — Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко. Вот как у нас, лежи! Одним стало меньше, больше не встанешь. Болотная голова. Маракулин лежал с разбитым черепом в луже крови на камнях на Бурковом дворе». www.franklang.ru 457 Древо жизни, лев, единорог и символическая стража сундука. Рисунок на сундуке. Северная Двина. 1688 год В. Н. Топоров в статье «О «Крестовых сестрах» А. М. Ремизова: поэзия и правда» отмечает, что мотив падения проходит сквозь всю повесть. Так, например, в конце повести чуть не падает с крыши того же дома Акумовна, полезшая на чердак за бельем. Или о Глотове в самом начале повести сообщается странное: «Года три, кажется, назад Глотов жену свою законную с третьего этажа на мостовую выбросил, и у бедняжки череп пополам, и не три года, нет, пожалуй, уж все четыре будет, впрочем, все равно, дело совсем не в Глотове, а в Маракулине, о Маракулине Петре Алексеевиче речь». Другой сквозной мотив повести, также отмеченный Топоровым, — мотив пожара, причем пожар и огонь в повести связан с жизнью каждой из трех Вер: «В «Крестовых сестрах» тема огня и пожара не случайно связана с тремя Верами — Верой Николаевной Кликачевой141, Верой Ивановной Вехоревой142 «Жила она с матерью в уезде в старом уездном городе Костринске, домишко свой был и сгорел, все добро пропало». «Но Вера Николаевна ничего не ответила, только глаза ее потерянные — бродячей Святой Руси стали как два костра…» 142 «И глаза ее бесстыжие сверкнули, как два ножа, а распустившиеся волосы огнем ее жгли». 141 www.franklang.ru 458 (Верочкой) и Верой (Верушкой), «чудотворной», как называла ее Акумовна. Верушка143 — девочка-подросток, одна из “крестовых сестер”». От себя добавлю, что три Веры — это три норны (богини судьбы), часто появляющиеся вместе с двойником-антиподом. Что же до огня и пожара, то не случайно центральный двойник-антипод повести — пожарный (и он не столько тушитель пожара, сколько ответственный за пожар — так сказать, хозяин пожара). Далее Топоров (не связывая напрямую огонь и падение), приводит случай из детства Ремизова — как «правду» жизни автора, породившую «поэзию» «Крестовых сестер»: «Рассказывая в книге «Подстриженными глазами» о своем детстве, Ремизов вспоминает о событии, которое предопределило многое в нем самом и в его жизни. Однажды утром он был разбужен необычайным шумом, вскочил с кровати и бросился в соседнюю комнату, «откуда из окон видно — через сад — торчали две огромные кирпичные трубы с иглой громоотвода» (ср. трубы Бельгийского завода144) и рядом фабричный корпус сахарного завода Вогау. Мальчик увидел, что горит завод и жар обдает все вокруг. «И вдруг жгучая мысль [...] с болью пронзила меня, я понял что-то — вспомнил, как вспоминается давно когда-то бывшее, глубоко скрытое, вдруг вспыхивающее пожаром, и, горя, я поднял руки к огню, — пламень взвивался надо мной, и пламень вырезался из сердца — пламя окружало меня...» И тут же как непосредственное продолжение: «Если бы не решетка, загораживающая окно, я упал бы на каменные плиты и проломил бы себе череп. Но я только ткнулся носом в подоконник. Дочь няньки подхватила меня и подняла к себе на руки. И на руках ее я очнулся. Жмурясь от боли смотреть на свет, я горячо обнял ее шею и, прижавшись к ее лицу, горько заплакал [...] — это были первые мои слезы». «И никуда из комнаты не выпускали <…>. Плакала, да что же, только смеются. И вышла Вера из комнатки от буфетчика одним чудом. Счастливая случайность: пожар — загорелось в гостинице. А то бы пропала. Выскочила она в суматохе из комнатки своей да бежать». 144 Из повести «Крестные сестры»: трубы Бельгийского завода видит Маракулин из своего окна. 143 www.franklang.ru 459 Мы с вами уже знаем (и видели, например, у Гофмана и у Блока), что падение вниз связано с пробуждением стихии огня — через двойника, через пожарного. То, что это не только творческая фантазия Ремизова, но и на самом деле с ним случилось, удивительно. И, между прочим, свидетельствует о том, что пожарный вполне реален. Или о том, что не вполне реален Ремизов (а является персонажем некоей книги). Поэзия, так сказать, — и правда. Машина Офелия В повести Юрия Олеши «Зависть» (1927) у главного героя, Николая Кавалерова, есть двойник-антипод, сродный «Медному всаднику»: «Тогда снова я поднялся на носки и <…> послал в ту недостижимую сторону звенящий вопль: — Колбасник! И еще раз: — Колбасник! И еще много раз: — Колбасник! Колбасник! Колбасник! Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными. Помню желание закрыть глаза и присесть за барьер. Не помню, закрыл ли я глаза, но если закрыл, то, во всяком случае, самое главное еще успел увидеть. Лицо Бабичева обратилось ко мне. Одну десятую долю секунды оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были две тупо, ртутно сверкающие бляшки пенсне. Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное сну. Я видел сон. Так мне показалось, что я сплю. И самым страшным в том сне было то, что голова www.franklang.ru 460 Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой». Двойничество подтверждается здесь и образом оживающей статуи, и отсутствием глаз на лице, и пенсне145, и «состоянием, подобное сну». В другой момент Бабичев, взлетев на специальном (фантастическом) приспособлении, кажется Кавалерову монументом: «Но происходит вот что. Я должен пригнуться, иначе меня сметет. Я пригибаюсь, хватаюсь руками за деревянную ступеньку. Он пролетает надо мной. Да, он пронесся по воздуху. В диком ракурсе я увидел летящую в неподвижности фигуру — не лицо, только ноздри я увидел: две дыры, точно я смотрел снизу на монумент. — Что это было? Я покатился по лестнице. Он исчез. Он улетел. На железной вафле он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет. Он стоял на железной штуке, с лязгом и воем описавшей полукруг. Мало ли что: техническое приспособление, кран. Площадка из рельсовых брусьев, сложенных накрест. Сквозь пространства, в квадраты, я и увидел его ноздри. Я сел на ступеньке. — Где он? — спросил я. Рабочие смеялись вокруг, и я улыбался на все стороны, как клоун, закончивший антре забавнейшим каскадом. — Это не я виноват, — сказал я. — Это он виноват». Ноздри здесь — вместо невидящих (или, наоборот, видящих насквозь, видящих невидимое), страшных глаз146. Любопытны также кружение, Причем где очки (двойнический предмет), там и любовь к всяческим созвучиям (к двойничеству слов), что я уже отмечал в другом месте: «— Моя молодость совпала с молодостью века, — говорю я. Он не слушает. Оскорбительно его равнодушие ко мне. — Я часто думаю о веке. Знаменит наш век. И это прекрасная судьба — правда? — если так совпадает: молодость века и молодость человека. Слух его реагирует на рифму. Рифма — это смешно для серьезного человека. — Века — человека! — повторяет он. (А скажи ему, что только что он услышал и повторил два слова, — он не поверит.)» 145 www.franklang.ru 461 железный лязг (сравните с делающим какое-то страшное дело в железе мужиком из снов Вронского и Анны у Толстого), а также образы полета и падения («покатился по лестнице», «забавнейший каскад» — то есть акробатический прием, имитирующий падение с чего-либо). Или вот, Кавалеров пишет Бабичеву в письме: «С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили. Вы сели на меня. Вы стоите в кальсонах. Распространяется пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться, увеличивается торс, — выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния, идола. Я готов закричать. Кто дал ему право давить меня?» Двойник-антипод неудачника, «шута» Николая Караулова — подавляющий его удачливый советский функционер и предприниматель Андрей Бабичев. У Андрея Бабичева также есть свой антипод — его брат Иван Бабичев, «инженер»-чудак, неудачник, изобретающий какую-то странную «машину Офелию». (Этот персонаж продолжает, конечно, гофмановскую линию мастера-создателя живой куклы. При этом такой мастер является для героя судьбообразующим двойником-антиподом, а кукла — Прекрасной Дамой в ее губительном и разрушительном аспекте, роковой статуей147.) Вот как Иван появляется: «На улице, под балконом, кто-то кричит: — Андрей! Он поворачивает голову. — Андрей! Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью. — Андрюша! Дорогой! В другом месте повести: «Я видел надвигающегося на меня Бабичева, грозного, неодолимого идола с выпученными глазами. Я боюсь его. Он давит меня. Он не смотрит на меня — и видит насквозь. Он на меня не смотрит. Только сбоку я вижу его глаза, когда лицо его повернуто в мою сторону, взгляда его нет: только сверкает пенсне, две круглые слепые бляшки. Ему неинтересно смотреть на меня, нет времени, нет охоты, но я понимаю, что он видит меня насквозь». 147 Вспомните «Лже-Марию» из фильма Фрица Ланга «Метрополис». 146 www.franklang.ru 462 Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широкоплечий человек. — Добрый вечер, Андрюша. Как поживаешь? Как «Четвертак»? (Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне.) Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише: — Отчего ты молчишь? Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется «Офелия». Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается вбок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада. Он садится за стол. Барабанит пальцами по пластине. — Берегись, Андрей! — слышен крик. — Не заносись! Я погублю тебя, Андрей... Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на город. — Против кого ты воюешь, негодяй? — говорит он. Затем сотрясаются перила. Он ударяет кулаком. — Против кого ты воюешь, негодяй? Убирайся отсюда. Я велю тебя арестова-а-ать! — До свидания, — раздается внизу. Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором (котелок? Кажется, котелок?), вежливость его аффектированна. Андрея на балконе уже нет; человечек, быстро сея шажки, удаляется серединой улицы. — Вот! — кричит на меня Бабичев. — Вот, полюбуйтесь. Братец мой Иван. Какая сволочь! Он ходит, кипя, по комнате. И вновь кричит на меня: — Кто он — Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек. Его надо расстрелять!» www.franklang.ru 463 Обратите внимание на активную тень Андрея Бабичева при его разговоре с двойником-антиподом. И на возникновение между двойниками «машины Офелии» (хоть и не в действительности, а только в речи). И на головной убор Ивана Бабичева — на котелок148. Котелок двойника — символ съемной головы149. Дальше в тексте на котелке Ивана все время сосредоточено внимание автора. Например, когда Кавалеров во второй раз видит Ивана Бабичева (и в первый раз с ним знакомится): «С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи150. Переулок болеет мною. Маленький человечек в котелке шел впереди меня. <…> Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди. Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомнив машину для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался. «Правда, похоже?» — едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову. Котелок. Он снимает его и несет, как кулич, обняв». «…неизвестный гражданин (в котелке, — указывались подробности, — потертый, подозрительный человек — не кто иной, как он, Бабичев Иван)…» 149 Проблемы с головой есть и у Андрея Бабичева: «Вечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. Абажур (так видно мне) уничтожает верхнюю часть его лица, ее нет. Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа на глиняную крашеную копилку». 150 А вот Андрея Бабичева вещи любят: «Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посредине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)» Тут интересно еще, как двойственность пенсне переходит в двойственность подтяжек, металлические пластины которых также предстают некими суперглазами. 148 www.franklang.ru 464 Рене Магритт. Терапевт. Здесь, помимо птичек-антиподов, очевидны как нечеловеческая природа двойника, так и некоторые характерные его приметы: шляпа (вместо снятой головы, ту же роль играет и продолговатая котомка внизу на земле), трость (вместо жертвенного ножа) и покрывало (аналогичное по роли плащу, шубе, расстегнутому www.franklang.ru 465 пальто — ипостасям съемной и подлежащей обмену звериной шкуры)151. Роль звериной шкуры в повести Олеши играет одеяло — один из сквозных образов произведения152. Позже Иван Бабичев появится из зеркала, в которое смотрится Кавалеров: «Я докажу, что я не комик. Никто не понимает меня. Непонятное кажется смешным или страшным. Всем станет страшно. Я подошел к уличному зеркалу. Я очень люблю уличные зеркала. Они возникают неожиданно поперек пути. Ваш путь обычен, спокоен — обычный городской путь, не сулящий вам ни чудес, ни видений. Вы идете, ничего не предполагая, поднимаете глаза, и вдруг, на миг, вам становится ясно: с миром, с правилами мира произошли небывалые перемены. Нарушена оптика, геометрия, нарушено естество того, что было вашим ходом, вашим движением, вашим желанием идти именно туда, куда вы шли. Вы начинаете думать, что видите затылком, — вы даже растерянно улыбаетесь прохожим, вы смущены таким своим преимуществом. — Ах... — тихо вздыхаете вы. Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по торту. Соломенная шляпа, повисшая на голубой ленте через чью-то руку (вы сию минуту видели ее, она привлекала ваше внимание, но вы не удосужились оглянуться), возвращается к вам, проплывает поперек глаз. 151 Сравните с костюмом двойника-антипода в рассказе Олеши «Любовь»: «По дорожке медленно, держа на заду руки, со степенностью ксендза и в одеянии вроде сутаны, в черной шляпе, в крепких синих очках, то опуская, то высоко поднимая голову, шел неизвестный мужчина. Он подошел и сел рядом с Шуваловым. — Я Исаак Ньютон, — сказал неизвестный, приподняв черную шляпу. Он видел сквозь очки свой синий фотографический мир. — Здравствуйте, — пролепетал Шувалов». 152 Кавалеров с самого начала признается: «С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения». Или вот: «И немедленно Кавалеров стал собираться. Анечка спала в сидячем положении под аркой, оцепив руками живот. Он осторожно, дабы не потревожить ее, совлек одеяло и, надев его, как плащ, предстал перед Иваном. — Ну и отлично, — сказал тот. — Вы сверкаете, как ящерица. В таком виде вы и покажетесь народу. Идемте, идемте! Надо торопиться». www.franklang.ru 466 Перед вами открывается даль. Все уверены: это дом, стена, но вам дано преимущество: это не дом! Вы обнаружили тайну: здесь не стена, здесь таинственный мир, где повторяется все только что виденное вами, — и притом повторяется с той стереоскопичностью и яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля. Вы, как говорится, заходитесь. Так внезапно нарушение правил, так невероятно изменение пропорций. Но вы радуетесь головокружению... Догадавшись, вы спешите к голубеющему квадрату. Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет естественные формы, оно одно — частица, сохранившаяся от правильного мира, в то время как все рухнуло, переменилось и приобрело новую правильность, с которой вы никак не освоитесь, простояв хоть целый час перед зеркалом, где лицо ваше — точно в тропическом саду. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо. Вы никак не скажете наверняка (пока не отвернетесь от зеркала), в какую сторону направляется пешеход, наблюдаемый вами в зеркале... Лишь повернувшись... Я смотрел в зеркало, дожевывая булку. Я отвернулся. Пешеход шел к зеркалу, появившись откуда-то сбоку. Я помешал ему отразиться. Улыбка, приготовленная им для самого себя, пришлась мне. Он был ниже меня на голову и поднял лицо. Спешил он к зеркалу, чтобы найти и скинуть гусеницу, свалившуюся на далекую часть его плеча. Он и скинул ее щелчком, вывернув плечо, как скрипач. Я продолжал думать про оптические обманы, про фокусы зеркала и потому спросил подошедшего, еще не узнав его: — С какой стороны вы подошли? Откуда вы взялись? — Откуда? — ответил он. — Откуда я взялся? (Он посмотрел на меня ясными глазами.) Я сам себя выдумал. www.franklang.ru 467 Он снял котелок, обнаружив плешь, и преувеличенно шикарно раскланялся. Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие люди. И, как у бывшего человека, мешки под глазами свисали у него, как лиловые чулки. Он сосал конфетку. Немедленно я осознал: вот мой друг, и учитель, и утешитель. Я схватил его за руку и, едва не припав к нему, заговорил: — Скажите мне, ответьте мне!.. Он поднял брови. — Что это... Офелия? Он собирался ответить. Но сквозь уголок губ сладким соком прорвался флюс леденца. Чувствуя восторг и умиление, я ждал ответа». Трамвай как нож мы встречаем и в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»153. Трамвай (или поезд) могут быть восприняты как некое соединение жертвенного ножа и роковой для героя куклы. Собственно, такова придуманная Иваном Бабичевым машина Офелия. Обратите здесь внимание и на свисающую шляпу (самостоятельную, не на голове находящуюся, проплывающую поперек глаз), и на то, как растворяется стена, открывая «таинственный мир». И, конечно, на головокружение («Но вы радуетесь головокружению»). А еще Иван похож здесь на нищего. Нищий вообще часто бывает двойникомантиподом, знаком и проводником судьбы. В «Записках писателя» Олеши мы читаем: «Вот уже год, как думаю о романе. Знаю название — "Нищий". <…> Этой зимой проходил как-то по Невскому. Нищий стоял на коленях на вершине лестницы, уходящей в подвальный, ярко освещенный магазин. Трамвай сочетается с отрезанной головой и в некоторых известных стихотворениях: «Заблудившийся трамвай» Гумилева, «Берлинское» Ходасевича. 153 www.franklang.ru 468 Я увидел нищего не сразу. Я пронес кисть руки на уровне его губ, как будто хотел, чтобы рука моя была схвачена им и поцелована. Он стоял на коленях, выпрямив туловище, черный, неподвижный, как истукан. Я боковым зрением, на ходу воспринял его как льва, и подумал: "А где же второй лев?" Оглянулся: нищий. Он стоял, подняв лицо, черты которого, сдвинутые темнотой, слагались в нечто, напоминающее черную доску иконы. Я испугался». Второго льва нет, но Олеша видит в нищем своего двойника-антипода и поэтому ему мерещится, что нищий — сам двойной. Причем он, подобно двум львам154, обрамляет вход в подвал, является воротами, за которыми — лестница, ведущая вниз. Любопытна и звериная ипостась двойника, просвечивающая здесь в нищем. В книге «Прыжок через быка» я рассказываю о значении двух зверей, обрамляющих вход. Говоря коротко: это символ поедания героя двойником (вход — пасть). Это «украшение» унаследовано цивилизацией от первобытного обряда посвящения. 154 www.franklang.ru 469 Рене Магритт. Тоска по родине Перейдет теперь к «Прекрасным Дамам». «Прекрасная Дама» — это Валя, шестнадцатилетняя дочь Ивана Бабичева (соответственно, племянница Андрея Бабичева). Валя для Кавалерова — самая настоящая Прекрасная Дама («Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев»), его возвышенная любовь и символ всего самого www.franklang.ru 470 лучшего в эпохе. Андрей Бабичев перетягивает Валю в свое «колбасничество». Кавалерову от этого даже мерещится, что тот хочет буквально развратить девушку («Он развращает девочку. Племянницу свою, Валю. Поняли?») Но Андрей побеждает, а Кавалеров терпит поражение: «...Я нашел такое существо. Возле себя. Валю. Я думал, что Валя просияет над умирающим веком, осветит ему путь на великое кладбище. Но я ошибся. Она выпорхнула. Она бросила изголовье старого века. Я думал, что женщина — это наше, что нежность и любовь — это только наше, — но вот... я ошибся. И вот блуждаю я, последний мечтатель земли, по краям ямы, как раненый нетопырь...» «Прекрасная Дама» — это и вдова Прокопович. Кавалеров видит ее как Хозяйку зверей и богиню смерти: «Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду из маленького города в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там грустное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют «Анечка». Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине — плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце — маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину. Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне женской улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы. www.franklang.ru 471 Вдова Прокопович — символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкорукая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалею. А?» А вот интересный момент, где, во-первых, вдова Прокопович обнаруживает свое родство с ведьмой из «Золотого горшка» Гофмана, во-вторых, сразу после упоминания о ней появляется множественный двойник — причем в виде нищих, напоминающих герою обезглавленных, но оживающих восточных чужеземцев: «Я решил не возвращаться к нему. Мое прежнее жилище уже принадлежало другому. На дверях висел замок. Новый жилец отсутствовал. Я вспомнил: лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок155. Неужели снова она вступит в мою жизнь? Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось надо мною. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. Они лежали скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук». Лицо-замок вдовы напоминает старуху-ведьму из повести Гофмана «Золотой горшок», пытающуюся отпугнуть студента Ансельма от двери дома архивариуса Линдгорста: «Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти…» 155 www.franklang.ru 472 Рене Магритт. Голконда. Бесконечным двойникам здесь соответствует и «многоочитый» дом. Важно и то, что двойники находятся в воздухе, передавая видящему это страх падения, бесконечно умноженный. Кончается повесть «сущностной формой»: два двойника и между ними — «Прекрасная Дама»: «Вдова жгла над плитой лучину. Она посмотрела на него из-за виска и самодовольно улыбнулась. Он вошел в комнату. На угол шкафа надет был котелок Ивана. Иван сидел на кровати, похожий на брата своего, только поменьше. Одеяло окружало его, как облако. На столе стояла винная бутылка. Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся; лицо его еще не выровнялось после сна, и еще сонно почесывался он где-то под одеялом. www.franklang.ru 473 — Что это значит? — задал Кавалеров классический вопрос. Иван ясно улыбнулся. — Это значит, мой друг, что нужно нам выпить. Анечка, стакан! Анечка вошла. Полезла в шкаф. — Ты не ревнуй, Коля, — сказала она, обняв Кавалерова. — Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею. — Что это значит? — тихо спросил Кавалеров. — Ну, чего заладили? — рассердился Иван. — Ничего не значит. Он слез с кровати, придерживая исподнее, и налил Кавалерову вина. — Выпьем, Кавалеров... Мы много говорили о чувствах... И главное, мой друг, мы забыли... О равнодушии... Не правда ли? В самом деле... Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Кавалеров! Взгляните! Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие. Ура! За Анечку! И сегодня, кстати... слушайте: я... сообщу вам приятное... сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!» Третья «Прекрасная Дама» — это «машина Офелия», которую изобретает Иван Бабичев: «Но больше пива не дали, компанию вытолкали в темь и проповедника Ивана гнали вслед — самого маленького из них, тяжелого, трудно поддающегося выпроваживанию человека. От упорства и гнева он внезапно обрел тяжесть и мертвенную неподвижность железной нефтяной бочки. Постыдно нахлобучили на него котелок. По улице он пошел, шатаясь в разные стороны — точно передавали его из рук в руки, — и жалобно не то пел, не то выл, смущая прохожих. — Офелия! — пел он. — Офелия! — Одно только это слово; оно носилось над его путем, казалось, летело оно над улицами быстро выплетающей самое себя, сияющей восьмеркой. В ту ночь он посетил своего знаменитого брата. <…> — Ты пьян, Ваня, — сказал брат. www.franklang.ru 474 — Я тебя ненавижу, — ответил Иван. — Ты идол. — Как тебе не стыдно, Ваня! Ложись, спи. Я тебе дам подушку. Сними котелок. — Ты не веришь ни одному моему слову. Ты — тупица, Андрей! <…> Почему ты не веришь в существование «Офелии»? Почему ты не веришь, что я изобрел удивительную машину? — Ты ничего не изобрел, Ваня! Это у тебя навязчивая идея. Ты нехорошо шутишь. Ну как тебе не стыдно, а? Ведь ты меня за дурака считаешь. Ну что это за машина? Ну разве может быть такая машина? И почему «Офелия»? И почему ты котелок носишь? Что ты — старьевщик или посол?» Машина Офелия, хоть и не созданная наяву, появляется во сне Кавалерова, гонится за ним (срывая с него одеяло), разрушает построенный Андреем Бабичевым «Четвертак» — «дом-гигант», «величайшую столовую» (то ли Вавилонскую башню, то ли Хрустальный дворец) и в конце концов пронзает своего создателя — Ивана Бабичева: «Дальнейшего Кавалеров не увидел. Внезапный ужас охватил его. Странная темь вдруг выдвинулась перед ним. Он, леденея, медленно оборотился. На траве, позади него, сидела Офелия. — А-а-а! — страшно закричал он. Он ринулся бежать. Офелия, звякнув, схватила его за одеяло. Оно соскользнуло. В постыдном виде, спотыкаясь, падая, ударяясь челюстью о камень, он взбирался по лестнице. Те смотрели сверху. Нагнувшись, стояла прелестная Валя. — Офелия, назад! — раздался голос Ивана. — Она не слушает меня... Офелия, стой! — Держите ее! — Она убьет его! — О! — Смотрите! Смотрите! Смотрите! www.franklang.ru 475 Кавалеров с середины лестницы оглянулся. Иван делал попытки вскарабкаться на стену. Плющ обрывался. Толпа отхлынула. Иван повис на стене на широко раскинутых руках. Страшная железная вещь медленно двигалась по траве по направлению к нему. Из того, что можно было назвать головой вещи, тихонько выдвигалась сверкающая игла. Иван выл. Руки не выдержали. Он сорвался, котелок его покатился среди одуванчиков. Он сидел, прижавшись спиной к стене, руками закрыв лицо. Машина двигалась, срывая на ходу одуванчики. Кавалеров поднялся и полным отчаяния голосом закричал: — Спасите его! Неужели вы допустите, чтоб машина убила человека?! Ответа не последовало. — Мое место с ним! — сказал Кавалеров. — Учитель! Я умру с вами! Но было уже поздно. Заячий вопль Ивана заставил его свалиться. Падая, увидел он Ивана, приколотого к стене иглой. Иван тихо наклонился, поворачиваясь вокруг страшной оси». Оба двойника (Иван и Андрей) во сне Кавалерова погибают, причем и тот и другой — довольно типичной для двойников смертью. Иван пронзается, а Андрей падает и оказывается раздавленным своим «домом-гигантом» (который разрушила машина Офелия). Есть в повести и еще один двойник Кавалерова — юноша Володя. Володя — воспитанник и юный друг Андрея Бабичева. Андрей подобрал Кавалерова, лежащего на улице, когда тот чем-то напомнил ему об уехавшем на время Володе: «В тот год весной Володя уехал на короткий срок повидаться с отцом в город Муром. Отец работал в муромских паровозостроительных мастерских. Прошло два дня разлуки, и в ночь на третий день ехал Андрей домой. На повороте шофер уменьшил скорость, светало, и Андрей увидел лежащего под стеной человека. Напоминание об отсутствующем слетело к нему с того, лежащего на решетке. Оно приказало ему дернуться и нагнуться к шоферу. «Да ничего www.franklang.ru 476 же нет между ними общего!» — едва не воскликнул Андрей. И действительно, никакого не было сходства между лежащим и отсутствующим. Просто он живо представил себе Володю. Он подумал: «А вдруг что-либо заставило Володю принять такую же жалкую позу». И просто он сделал глупость, дал разыграться чувствительности. Машина остановилась. Николай Кавалеров был поднят, были выслушаны бредовые его слова. Андрей привез его к себе, втащил на третий этаж и уложил на диване Володи, устроил ему постель и укрыл пледом по шею; тот лежал навзничь с вафельным следом решетки на щеке. Хозяин отошел ко сну в благодушии: диван не пустовал. В ту же ночь ему приснилось, что молодой человек повесился на телескопе». В конце повести Кавалерова весьма похоже подберет вдова Прокопович: «Сперва ничего Кавалеров не понял. Как пьяница-нищий в комедии, подобранный богачом и принесенный во дворец, он лежал, очумелый, среди незнакомой роскоши. Он увидел небывалое свое отражение в зеркале — подошвами вперед. Он великолепно лежал, загнув руку за голову. Солнце освещало его сбоку. Точно в куполе храма парил он в широких дымящихся полосах света. А над ним свисали виноградные гроздья, плясали купидоны, из рогов изобилия выкатывались яблоки, — и он почти слышал исходящее от всего этого торжественное органное гудение. Он лежал на Анечкиной кровати. — Ты мне напоминаешь его, — жарко прошептала Анечка, склонившись над ним. Над кроватью висел застекленный портрет. Висел мужчина, чей-то молодой дедушка, торжественно одетый, — в одном из последних сюртуков эпохи. Чувствовалось: у него крепкий, многоствольный затылок. Лет пятидесяти семи мужчина. Кавалеров вспомнил: отец переодевает рубашку... www.franklang.ru 477 — Ты мне очень напомнил мужа, — повторяет Анечка, обнимая Кавалерова». Вернемся обратно. Кавалеров живет у Андрея Бабичева. Спустя некоторое время возвращается из своей поездки Володя. При этом он сначала возникает в воображении (или даже во сне наяву) Кавалерова — как некий таинственный музыкант на колокольне (то есть в высоте, на башне), а затем и взаправду входит в дверь: «Я вышел на балкон. На углу кучка людей слушала церковный звон. Звонили в невидимой с балкона церкви. Эта церковь славится звонарем. Зеваки задирали головы. Им была видна работа знаменитого звонаря. Однажды и я добрый час простоял на углу. В пролетах арки открывалась внутренность колокольни. Там, в копотной темноте, какая бывает на чердаках, среди чердачных, окутанных паутиной балок, бесился звонарь. Двадцать колоколов раздирали его. Как ямщик, он откидывался, нагибал голову, может быть, гикал. Он вился в серединной точке, в центре мрачной паутины веревок, то замирал, повисая на распростертых руках, то бросался в угол, перекашивая весь чертеж паутины, — таинственный музыкант, неразличимый, черный, может быть, безобразный, как Квазимодо. (Впрочем, таким страшным малевало его расстояние. При желании можно было бы сказать и так: мужичок распоряжается посудой, тарелочками156. А звон знаменитой колокольни назвать смесью ресторанного и вокзального звона.) Я слушал с балкона. — Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том Вирлирли. Некий Том Вирлирли реял в воздухе. Том Вирлирли, Том с котомкой, 156 Опять таинственный толстовский мужичок из «Анны Карениной». www.franklang.ru 478 Том Вирлирли молодой! Всклоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том — удар большого колокола, большого котла. Вирлирли — мелкие тарелочки. Том Вирлирли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом. Музыкальная фраза превратилась в словесную. Я живо представлял себе этого Тома. Юноша, озирающий город. Никому не известный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Вирлирли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний. Котомка за спиной юноши. Он сделает все. Он — это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний. <…> Так в романтическую, явно западноевропейского характера, грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церковки. Я оставлю письмо на столе, соберу пожитки (в котомку?) и уйду. Письмо, сложенное в квадратик, положил я на стеклянную пластину, по соседству с портретом того, кого считал я товарищем по несчастью. В дверь постучали. Он? Я открыл. В дверях, держа котомку в руке, весело улыбающийся (японской улыбкой), точно увидевший сквозь дверь дорогого, взлелеянного в мечтах друга, застенчивый, чем-то похожий на Валю, стоял Том Вирлирли. Это был чернявый юноша, Володя Макаров». Любопытно, что за некоторое время до появления Володи Кавалеров рассматривал его фотографический портрет — «портрет того, кого считал я товарищем по несчастью» (как потом, подобранный во второй раз, будет www.franklang.ru 479 рассматривать фотографический портрет покойного мужа вдовы Прокопович). Любопытно и то, что Володя похож на Валю. Двойник, просвечивающий через Прекрасную Даму. Володя и Валя (и даже сами имена их созвучны) собираются пожениться. Все это лишь подчеркивает тот факт, что перед нами андрогин — мужская и женская ипостась молодой эпохи. Володя — футболист, и в повести ярко описан футбольный матч, в котором он участвует. Где двойник — там часто происходит игра, а особенно часто — игра с мячом. (О мяче как отрезанной голове жертвы я рассказываю в книге «Прыжок через быка».) Кавалеров в своей жизни упал и убился (образно, пышно выражаясь). Он упал в кровать (еще один сквозной образ повести) вдовы Прокопович, которая предстает герою горным миром, равно как символом смерти и пропасти: «На орган походила Анечкина кровать. Полкомнаты было занято ею. Вершины ее таяли в сумраке потолка. Кавалеров думал: «Будь я ребенок, Анечкин маленький сын, — сколько поэтических, волшебных построений создал бы мой детский ум, отданный во власть зрелищу такой необычайной вещи! Теперь я взрослый, и теперь лишь общие контуры и лишь кой-какие детали улавливаю я, а тогда я умел бы... ...А тогда, не подчиняясь ни расстояниям, ни масштабам, ни времени, ни весу, ни тяготению, я ползал бы в коридорах, образовавшихся от пустоты между рамой пружинного матраца и бортами кровати; таился бы за колоннами, что теперь кажутся мне не больше мензурок; воображаемые катапульты устанавливал бы на барьерах ее и стрелял бы по врагам, теряющим силы в бегстве по мягкой, засасывающей почве одеяла; устраивал бы под зеркальной аркой приемы послов, как король только что прочитанного романа; отправлялся бы в фантастические путешествия по резьбе — все выше и выше — по ногам и ягодицам купидонов, лез бы по ним, как лезут по статуе Будды, не умея охватить ее взором, и с последней дуги, www.franklang.ru 480 с головокружительной высоты, срывался бы в страшную пропасть, в ледовитую пропасть подушек...»» Убился не только Николай Кавалеров, то же самое произошло с поэтической эпохой его юности: «Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно... Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь убился. Летательные машины перестали быть похожими на птиц. Легкие, просвечивающие желтизной крылья заменились ластами. Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала промышленностью!» На качелях В романе Теодора Фонтане «Эффи Брист» (1895) — одной из вершин немецкой прозы — молоденькая, жизнелюбивая Эффи выходит замуж за и принципиального, честолюбивого барона фон Инштеттена, а затем изменяет ему с майором Крампасом. Затем Инштеттен получает важный пост в Берлине — и Эффи расстается с Крампасом. Инштеттен, узнав по прошествии нескольких лет об измене, стреляется с Крампасом и убивает его. Затем Инштеттен разводится с Эффи, дочь остается с отцом, мать старается повидаться с дочерью… Словом, немецкая «Анна Каренина». Пройдемся пунктиром по этому роману. Измена еще не произошла, Эффи с Крампасом сидят на берегу моря (пикник во время прогулки верхом), и вот майор рассказывает историю, перекликающуюся с сюжетом романа Фонтане, а значит (для Эффи, www.franklang.ru 481 Крампаса и Инштеттена, живущих внутри этого романа) и с самой жизнью. Более того, эта история предсказывает, чем все кончится: «— Это приготовил Крузе157. Ах, ты тоже здесь, Ролло158. Но наши запасы не рассчитаны на тебя. Что мы с ним будем делать? — Я думаю, его надо угостить. Я, со своей стороны, хотел бы это сделать из благодарности. Видите ли, дражайшая Эффи... Эффи посмотрела на него. — Видите ли, сударыня, Ролло напомнил мне о том, что я хотел рассказать вам как продолжение истории Вицлипуцли159 или в связи с ней, только гораздо пикантнее, потому что это — любовная история. Слышали вы когда-нибудь о некоем Педро Жестоком160? — Очень немного. — Это своего рода Синяя борода. — Вот и хорошо. Слушать такие истории интересней всего. <…> — Итак, при дворе дона Педро был один красавец, смуглый испанский рыцарь, носивший на груди крест Калатравы, приблизительно равноценный орденам «Черного Орла» и «Pour le mérite»161 вместе взятым. Этот крест был неотъемлем у всех, снимать его не разрешалось, и вот этот рыцарь ордена Калатравы, которого, разумеется, тайно любила королева... — Почему «разумеется»? — Потому что речь идет об Испании. — Ах, да. — Так вот, этот рыцарь ордена Калатравы имел удивительно красивую собаку, ньюфаундленда. Хотя тогда их еще не знали; это ведь было за сто лет до открытия Америки. Ну, скажем, такую же великолепную собаку, как Ролло... Ролло залаял, услышав свое имя, и завилял хвостом. Слуга Инштеттена. Собака Инштеттена, ньюфаундленд. 159 «Вицлипуцли» — стихотворение Гейне (сборник «Романцеро»). 160 О Педро Жестоком рассказывается в стихотворении Гейне «Испанские Атриды» (сборник «Романцеро»). 161 Ордена «Черного орла» и «Pour le mérite» («За достоинство = заслуги») — высшие прусские ордена. 157 158 www.franklang.ru 482 — Так проходило время. Но тайная любовь, которая, естественно, осталась не совсем тайной, превысила терпение короля. И поскольку он вообще не любил красавца рыцаря — потому что не только отличался жестокостью, но был еще и завистливым бараном, или (если это выражение не совсем подходит для короля и еще менее для ушей моей милой слушательницы) был просто завистником, — то он приказал тайно казнить рыцаря за его тайную любовь. — Не могу поставить это ему в вину. — Не знаю, сударыня. Но слушайте дальше. Самое интересное впереди, хотя я нахожу, что король превысил всякую меру. Итак, дон Педро лицемерно объявил, что хочет устроить празднество в честь бранных и других подвигов рыцаря. Был накрыт длинный-предлинный стол, за него уселись все гранды государства, а в самом центре — король. Как раз напротив него было приготовлено место для виновника торжества, то есть для рыцаря ордена Калатравы. Но он не появлялся, хотя прошло уже много времени; тогда решили начать пир без него, а его место, место против короля, так и осталось незанятым. — Ну и что же? — Так вот, представьте себе, сударыня. Когда король, этот самый Педро, хотел подняться, чтобы лицемерно выразить свое сожаление по поводу отсутствия его «дорогого гостя», на лестнице послышались ужасающие вопли слуг, и, прежде чем успели опомниться, какое-то существо промчалось мимо длинного стола, вскочило на пустое кресло и положило на стол перед собой отрубленную голову. Ролло недвижно уставился на короля, тот сидел как раз напротив. Пес сопровождал своего господина в последний путь, и в тот момент, как топор опустился, преданное животное подхватило падающую голову, и вот теперь он, наш друг Ролло, сидит у длинного праздничного стола и обличает убийцу — короля. Эффи притихла, потом сказала: www.franklang.ru 483 — Крампас, в своем роде это занимательно, и только поэтому я вам прощаю. С вашей стороны было бы любезнее рассказывать истории иного рода. И о Гейне тоже. Гейне писал стихи ведь не только о Вицлипуцли, доне Педро и вашем Ролло. Мой не способен на это. Подойди ко мне, Ролло! Бедное животное, теперь я не могу на тебя смотреть, не думая о рыцаре ордена Калатравы, которого тайно любила сама королева... Позовите, пожалуйста, Крузе, чтобы он собрал посуду и уложил в сумку. На обратном пути вы обязательно расскажете мне что-нибудь другое, совсем другое». Но в романе дальше будет не другое, а как раз то самое. Итак, мы видим здесь короля Педро, Прекрасную Даму, рыцаря без головы (а заодно и жертвенный топор). Точнее, одну голову, принесенную псом. Эта голова есть как бы оживший мертвец, приглашенный и пришедший на пир. (И взгляд умирающего Крампаса останется жить в душе Инштеттена.) И этот же мертвец есть пес — то есть зверь, териоморфный двойник. Где териоморфный (скажем проще: звериный) двойник, там и съемная шкура, то есть шуба. Когда Эффи, возвращаясь из свадебного путешествия, приезжает с Инштеттеном на место его службы в Кессин (вымышленный городок на берегу Балтийского моря), то первый человек, им встретившийся, одет в меховую шубу: «Коляска миновала железнодорожный переезд, пересекла многочисленные рельсы запасных путей и выехала на шоссе, возле гостиницы «Князь Бисмарк». Как раз в этом месте путь разветвлялся. Направо шла дорога на Кессин, налево — на Варцин. У дверей гостиницы стоял широкоплечий среднего роста человек в меховой шубе и такой же шапке, которую почтительно снял, увидев проезжающего мимо господина ландрата. — Кто этот человек? — спросила Эффи. Ее интересовало все, что она видела вокруг, и уже по одной этой причине была в прекрасном настроении. — Настоящий староста, хотя, по правде говоря, я ни одного старосты в глаза не видела. www.franklang.ru 484 — Это не так уж плохо, Эффи. Все же ты верно подметила. Он в самом деле похож на старосту, да он и в действительности нечто в этом роде. Зовут его Голховский: он наполовину поляк; во время здешних выборов и на охоте он всегда на высоте положения. Говоря откровенно, это весьма ненадежный субъект, которому я не рискнул бы встать поперек дороги. Но разыгрывает из себя вполне лояльного человека и, когда сюда приезжают господа из Варцина, готов разорваться перед их каретами на части. Я знаю, князь его не любит, но что делать? Мы не можем портить с ним отношения. Он числится зажиточным человеком, весь здешний край у него в кармане, и никто другой не умеет проводить выборы так, как он. Помимо всего прочего, Голховский одалживает деньги под проценты, чего обычно поляки не делают. Как правило, бывает наоборот — они сами любят брать в долг. — У него приятная внешность. — Да, внешность у него приятная. Здесь многие обладают этим достоинством. Красивая порода людей. Но это единственно хорошее, что можно о них сказать». Этот Голховский появляется перед Эффи дважды: когда она приезжает первый раз в Кессин и когда она навсегда уезжает из него. Такой человекдверь, человек-ворота. Другой роли в романе у него нет. Человек надел шубу — так уж сразу и двойник-антипод? Нет, конечно. Нужны еще ниточки. И они есть. Майор Крампас — тоже наполовину поляк. Вот как о нем беседуют Эффи и Инштеттен: «— Ты считаешь его плохим человеком? — Не то чтобы плохим, пожалуй наоборот. Во всяком случае, у него есть хорошие стороны. Но он, как бы это сказать, наполовину поляк, и на него ни в чем нельзя положиться, особенно, если дело касается женщин. Прирожденный игрок. Но не за игорным столом, он — азартный игрок в жизни, и за ним нужно следить, как за шулером. — Хорошо, что ты предупредил. Я буду с ним осторожней». www.franklang.ru 485 Тут интересно и то, что и Крампас (как, видимо, и Голховский) — «игрок в жизни». Крампас отражается в Голховском. А до своего непосредственного появления в романе Голховский уже незримо присутствовал в желании Эффи иметь шубу перед поездкой в Кессин: «— Милая мама, что мне на это сказать? Собственно говоря, у меня есть все, что нужно, то есть все, что нужно здесь. Но, поскольку предстоит ехать на север... должна заметить, я ничего не имею против и даже рада, что увижу северное сияние и яркий блеск звезд... Но раз уж так суждено, хотелось бы иметь шубу. — Но, Эффи, дитя, это же чистое сумасбродство. Ты ведь едешь не в Петербург и не в Архангельск. — Нет, но еду-то я в ту сторону. — Конечно, дитя. Едешь в ту сторону: ну и что из этого? А если отсюда едешь в Науэн? Это ведь тоже на пути в Россию. Впрочем, раз ты хочешь, будет у тебя шуба. Но позволь мне лишь заметить, что этого я не советую. Шуба более к лицу пожилым людям, даже твоя старенькая мама слишком молода для шубы. И если ты в свои семнадцать лет появишься в кунице или норке, кессинцы примут это за маскарад». Полуполяк — это чужак, точнее, получужак, что очень кстати для двойникаантипода. Есть в романе и другой чужак — таинственный китаец. Его привез в Кессин один капитан, поселившийся то ли с племянницей, то ли с внучкой в том доме, который потом занял Инштеттен. Китаец умер при, как говорится, таинственных обстоятельствах. Капитан выдавал свою внучку замуж за другого капитана — и вот: «Вечером были танцы, и невеста танцевала со всеми. Последним из танцевавших с ней был китаец. Вдруг разнеслись слухи, что невеста исчезла. И она действительно куда-то исчезла, до сих пор неизвестно куда. А через четырнадцать дней умер китаец». Умерший китаец теперь работает привидением в доме, куда Инштеттен привозит Эффи. Инштеттен запугивает им Эффи: призрак нужен ему для www.franklang.ru 486 того, чтобы сделать жизнь молодой женщины (в захолустье, с малоодаренным в любви мужем) интересной, а также «в воспитательных целях» (объяснение Крампаса). Однако фокус в том, что этот придуманный призрак оказывается существующим. Он не приходит к нашим героям наяву, говоря «Здрасте!», но направляет течение их жизни. Вот первое упоминание китайца в разговоре между Геертом (Инштеттеном) и Эффи: «— Но ведь это же восхитительно, Геерт! Ты все время твердишь о захолустье, а по-моему, если ты не преувеличиваешь, здесь совсем новый мир. Мир, полный экзотики. Не правда ли, ты это имел в виду? Он кивнул головой. — Я и говорю, это — совсем новый мир. Здесь можно увидеть негра, турка или даже китайца. — Да, и китайца. Как хорошо ты умеешь угадывать. Очень может быть, что у нас действительно еще есть китаец, во всяком случае был таковой. Теперь он умер и похоронен на маленьком, обнесенном решеткой клочке земли, рядом с кладбищем. Если не боишься, я при случае покажу тебе его могилу. Она между дюнами, там, где ни на секунду не умолкает рокот моря. Вокруг все голо и пустынно, и лишь кое-где пробиваются стебельки иммортелей. Очень красиво и вместе с тем страшно. — Так страшно, что мне захотелось знать об этом немножко больше. Хотя лучше не надо. А то, чего доброго, меня будут преследовать разные призраки и кошмары. Мало удовольствия сегодня же ночью пробудиться от крепкого и, надеюсь, приятного сна и увидеть китайца, которому вздумается подойти к моей кровати. — Этого он делать не станет. — Не станет? Ты не находишь, что это звучит странно? Будто это возможно! Тебе хочется заинтересовать меня своим Кессином, но ты явно пересаливаешь. И много таких иностранцев у вас в городе?» www.franklang.ru 487 Типичный прибалтийский пейзаж (Померания, возле города Свинемюнде — прототипа города Кессина в романе). «Между дюнами, там, где ни на секунду не умолкает рокот моря». Это отразится в месте дуэли, на которой будет убит Крампас (что объединяет его с китайцем): «В конце концов мы выбрали одно место за дюнами. Оно находится почти у самого берега, там в передней дюне есть углубление с видом на море. Инштеттен улыбнулся. — Конечно, Крампас выбирал прежде всего красивое место. Он всегда отличался пристрастьем к подобным вещам». Крампас был застрелен, оружие все-таки развивается. Однако по сути он погиб от топора — того самого топора, которым отрубили голову рыцарю по приказу короля Педро. (Нечто подобное происходит и в романе Пушкина: Онегин убивает Ленского выстрелом, однако во сне Татьяны закалывает друга ножом162.) Но жертвенный топор (или жертвенный нож) появляется 162 Спор громче, громче; вдруг Евгений Хватает длинный нож, и вмиг Повержен Ленский; страшно тени Сгустились; нестерпимый крик www.franklang.ru 488 еще в одной своей ипостаси, а именно в рассказе Розвиты (служанки и своего рода «двойницы» Эффи) о том, как она согрешила, забеременела — и как на это среагировал ее отец: «— Ну, рассказывай. Как это было? Говорят, у вас в деревне всегда одно и то же. — Я и не говорю — у меня, дескать, было что-то особое. Вначале все шло как у всех. Но потом, когда стало заметно, и мне сказали об этом... словно обухом по голове... Пришлось, хочешь не хочешь, признаваться. Вот тут, я вам скажу, и пошло. Мать еще туда-сюда.. Но отец — он ведь был кузнецом, таким злым и строгим, — как узнал, схватил из горна раскаленную железную палку и помчался за мной, хотел меня тут же на месте убить. Я закричала изо всех сил, понеслась на чердак, спряталась там, сидела и все время дрожала, едва дозвались потом». И затем история об угрожающем «раскаленной железной палкой» кузнеце проходит красной нитью через весь роман (Розвита то и дело о ней заговаривает). Это аналогично тому, что видит в кошмаре Анна Каренина, которая «чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею»163. Во время отъезда Инштеттена (по делам) ночами Эффи то мерещится, то снится китаец, но он не подходит к ее кровати, к кровати вместо него подходит Ролло: «Некоторое время Эффи спала очень крепко. Но вдруг вскрикнула и проснулась. Да, она отчетливо слышала свой крик и лай Ролло: гав, гав, — лай отдался в передней глухо и решительно. Ей казалось, что сердце у нее останавливается, и не хватало сил позвать на помощь. В этот момент что-то шмыгнуло мимо, и дверь в вестибюль распахнулась. Но этот наиболее страшный миг принес ей облегчение, вместо чего-то неведомого и Раздался... хижина шатнулась... И Таня в ужасе проснулась... Мне симпатична идея Фрейда, что все эти палки, ножи, карандаши и тому подобное означают фаллос. Но я думаю, что фаллос — частный случай жертвенного ножа. Кроме шуток. 163 www.franklang.ru 489 ужасного к ней подошел Ролло, отыскал своей головой руку Эффи и, найдя ее, улегся на коврик, разостланный у кровати». Значительно позже, уже после измены, мы видим китайца, заглядывающего в зеркало через плечо Эффи: «Как-то вечером, находясь в своей спальне, она очутилась перед зеркалом. В комнате горела неяркая лампа, в углах притаились тревожные тени. Вдруг по дворе послышался лай. И ей показалось, что у нее за спиной кто-то стоит и пытается заглянуть ей в лицо. Но она быстро опомнилась: «Нет, нет, я знаю, это не он (она невольно взглянула вверх, в сторону комнаты с привидением). На сей раз это другое... Моя совесть... Бедная Эффи, ты погибла!» Но и дальше все оставалось по-прежнему: сорвавшаяся лавина неудержимо катилась вниз, один день протягивал руку другому». Тут примечательно и то, что одновременно с призраком китайца звучит лай Ролло. Любопытны и «пустые двойники» — подружки Эффи: «Эффи бросилась к матери, бурно обняла ее и расцеловала. — О, только не так дико, Эффи, не так пылко... Я всегда беспокоюсь, когда вижу тебя такой... И мама, кажется, действительно собиралась выразить на лице своем чувство беспокойства и опасения. Но не успела она исполнить свое намерение, как в то же самое мгновение железная калитка в кладбищенской стене отворилась, и в сад вошли три молоденьких девушки, которые направились по усыпанной гравием дорожке мимо площадки с солнечными часами прямо к их столу. Помахав Эффи зонтиками в знак приветствия, они поспешили к госпоже фон Брист и поцеловали у нее руку. Хозяйка дома задала им несколько прозаических вопросов, а потом пригласила девушек на полчасика составить им компанию или по крайней мере Эффи. — Молодежи всегда приятно побыть одной, а у меня и так много дел... Желаю вам весело провести время! www.franklang.ru 490 И она пошла по ступенькам, ведущим из сада во флигель. И вот молодежь осталась действительно одна. Две девушки — миниатюрные, кругленькие создания, к рыжеватым локонам которых так удивительно шли веснушки и неизменно веселое настроение, были дочерьми кантора Янке, страстного поклонника Ганзы, Скандинавии и Фрица Рейтера. Из симпатии к мекленбургскому земляку и любимому писателю он, по примеру Мининг и Лининг, назвал своих дочерей-близнецов Бертой и Гертой. Третьей гостьей была Гульда Нимейер — единственная дочь пастора Нимейера. Анемичная блондинка, она несколько более походила на даму, чем обе ее подруги, но зато у нее был скучающий вид и излишнее самомнение, а ее близорукие, несколько навыкате глаза, казалось, вечно чтото искали. «Похоже, будто она каждую минуту ждет архангела Гавриила», — пошутил раз по этому поводу Клитцинг». Подруг три, они появляются в самом начале романа — как раз тогда, когда Эффи должна принять или отвергнуть предложение барона Инштеттена. Это норны, богини судьбы. Две из них (Берта и Герта) — «пустые двойники», третья (Гульда) — двойник-антипод. Они и дальше в романе сопровождают Эффи (большей частью незримо — в мыслях героини и в ее тоске по родине). В конце романа, в разговоре Эффи с отцом Берты и Герты, эти девушкиблизнецы превращаются в два древних жертвенных камня — на берегу озера, зовущегося «озеро Герты»164: «— <…> Но на острове Рюген я все же побывала. Вам было бы, наверное, очень интересно увидеть Аркону. Там, говорят, сохранились следы огромного военного лагеря вендов. Я, правда, там не была, но зато я побывала на озере Герты, где плавает столько белых и желтых кувшинок. Я все время вспоминала там вашу Герту. — Герту... да... Но ведь вы хотели рассказать об озере Герты... — Ах, да... Представьте себе, прямо у озера лежат два огромных жертвенных камня, они кажутся отполированными, и на них видны еще 164 И в тех же краях Эффи с ужасом обнаруживает деревню с названием «Крампас». www.franklang.ru 491 следы желобков, по которым стекала кровь. Бр... с этих пор у меня появилось даже отвращение к вендам». Наконец, упомянем качели Эффи, о которых речь идет уже в первом абзаце романа (при описании родительского дома): «Рядом с прудом стояли качели. Их столбики успели уже покоситься, а сиденьем служила простая деревянная доска, подвешенная на двух веревках». Затем на сцене появляется Эффи с мамой, затем — подружки. В беседе Эффи как с мамой, так и с подружками мы различаем нашу тему — соблазн высоты, полета. (Тут сквозь образ Эффи просвечивает гётевская Миньона.) Причем в разговоре с матерью этот соблазн связан с искусством (с цирком), а в разговоре с подружками — с морем: «— Знаешь, Эффи, ты могла бы стать наездницей. Всегда на трапеции, всегда дочь воздуха. Мне даже кажется, что тебе хочется нечто в этом роде». «Этот разговор продолжался бы целую вечность, если бы Гульда вдруг не спохватилась: — Тебе пора идти, Эффи: у тебя такой вид... как будто... ну, как бы это сказать... Ну, как будто ты только что рвала вишни... все на тебе растрепано, помято. Это полотно вообще быстро мнется, а твой широкий белый воротник... одним словом... теперь, кажется, я нашла правильное сравнение... ты похожа на корабельного юнгу. — На мичмана, с вашего позволения, — поправила Эффи. — Должна же я хоть чем-нибудь попользоваться от своего дворянского происхождения. Но мичман или юнга — папа все равно недавно обещал мне поставить здесь около качелей мачту, — с реями и веревочной лестницей. Не скрою, мне и в самом деле будет очень приятно самой поднять вымпел. А ты, Гульда, взберешься на мачту с другой стороны и там наверху, в воздухе, мы крикнем «ура» и поцелуемся. «Попутного ветра!» — мне очень нравится это выражение. www.franklang.ru 492 — «Попутного ветра!» — как это у тебя звучит. Ты говоришь действительно как мичман. Но избави меня бог лезть за тобой. Я не такая отчаянная. Янке был совершенно прав, когда говорил, что ты слишком много унаследовала от Беллингов, от своей матери. А я всего лишь дочь пастора. — Ах, полно. В тихом омуте — черти водятся! Помнишь, как мой кузен Брист приезжал сюда, когда был кадетом, впрочем он уже был совсем взрослым — и ты тогда свалилась с крыши сарая. А почему? Ну ладно, ладно, не буду выдавать. Пойдемте лучше покачаемся на качелях; по двое с каждой стороны. Надеюсь, что веревка выдержит. Но у вас так вытянулись физиономии, что, видно, моя затея вам не нравится. Тогда давайте играть в палочку-выручалочку. В моем распоряжении еще четверть часа, и мне не хочется сейчас идти домой только для того, чтобы приветствовать какого-то ландрата, да к тому же еще ландрата из Нижней Померании. Человек он пожилой, мне чуть ли не в отцы годится, а если он и впрямь живет в приморском городе — я слышала, что Кессин стоит на берегу моря, — то я ему больше понравлюсь в матросском костюме». Позже Эффи говорит (и тут мы видим, что прелесть полета неотделима от страха падения с высоты): «Я больше люблю лазать по деревьям и качаться на качелях, а еще приятнее, когда есть опасность что-нибудь разорвать, сломать или сорваться вниз. Не будет же это стоить мне головы!» И еще позже, посетив родительский дом после рождения дочери: «Но истинное удовольствие ей доставляли старые качели, она снова стояла на взлетающей в воздух доске с чувством страха, своеобразно щекочущим и вызывающим сладкую дрожь». И еще позже, в конце романа: «Однажды, когда они вместе гуляли, вдали закуковала кукушка, и Эффи принялась было считать, но вдруг, взяв Нимейера за руку, она сказала ему: www.franklang.ru 493 — Слышите? Кукушка. Я почему-то не хочу больше считать. Друг мой, скажите, что вы думаете о жизни? — Ах, дорогая Эффи, какой философский вопрос. Ты лучше обратись с ним к ученым профессорам или объяви конкурс на каком-нибудь факультете. Что я думаю о жизни? И хорошо и плохо. Иногда очень хорошо, иногда очень плохо. — Вот правильно! Это мне нравится. Больше ничего и не нужно. В это время они подошли к качелям в саду. Легко, как в те дни, когда она была совсем молоденькой девушкой, Эффи вскочила на перекладину, взялась за веревки и, то приседая, то выпрямляясь, ловко принялась раскачивать качели. И не успел старый пастор прийти в себя от изумления, как она уже взлетала высоко в воздух и стремительно падала вниз. Держась одной рукой за веревку, она другой сорвала с шеи шелковый платочек и, счастливая, принялась шаловливо махать им. Потом замедлила движение качелей, остановилась, спрыгнула и снова взяла Нимейера под руку. — Эффи, ты все еще такая, как прежде. — Нет, не такая, к великому моему сожалению. Все прошло навсегда. Только мне вдруг захотелось попробовать еще раз. Ах, как там хорошо, сколько воздуха! Казалось, я лечу прямо на небо...» А в середине романа, перед самой изменой, когда Эффи едет в санях вдоль моря, происходит следующий разговор: «Эффи закрыла глаза и притворилась спящей, все больше и больше склоняя голову налево. — Сударыня, не слишком наклоняйтесь. Можно легко вылететь из саней, стоит им зацепиться за камень. Не забывайте, что у ваших саней нет кожаного фартука, и, как я вижу, нет даже крючков для него. — Да, я не люблю кожаных фартуков; по-моему, в фартуках есть какая-то проза. А вылететь — это еще интересней, только уж прямо в морские волны. Не беда, если придется принять холодную ванну... Впрочем, вы ничего ке слышите? www.franklang.ru 494 — Нет. — Разве вы не слышите музыки? — Какой? Органной? — Нет, не органной. Это море, хотя нет, то что-то другое. Мне слышится вдалеке беспредельно нежный звук, почти человеческий голос... — Обман чувств, больше ничего, — изрекла Сидония, сообразив, что настал подходящий момент завязать разговор. — У вас, сударыня, расстроены нервы. Вам уже чудятся голоса! Молите Бога, чтобы это были праведные голоса! — Я слышала... мне показалось... Пусть это глупо, но мне послышались голоса морских сирен... А там, что там такое? Взгляните туда, вы видите, как в небе сверкает. Это, должно быть, северное сияние? — Ну конечно, — сказала Сидония, — а вам, сударыня, мерещатся чудеса. Откуда им быть?» Написано зимой 2014/15 года в Москве www.franklang.ru 495