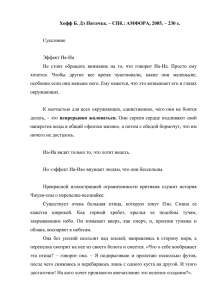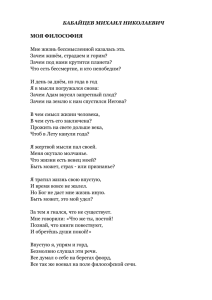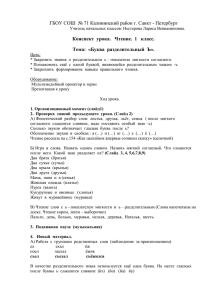Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
advertisement
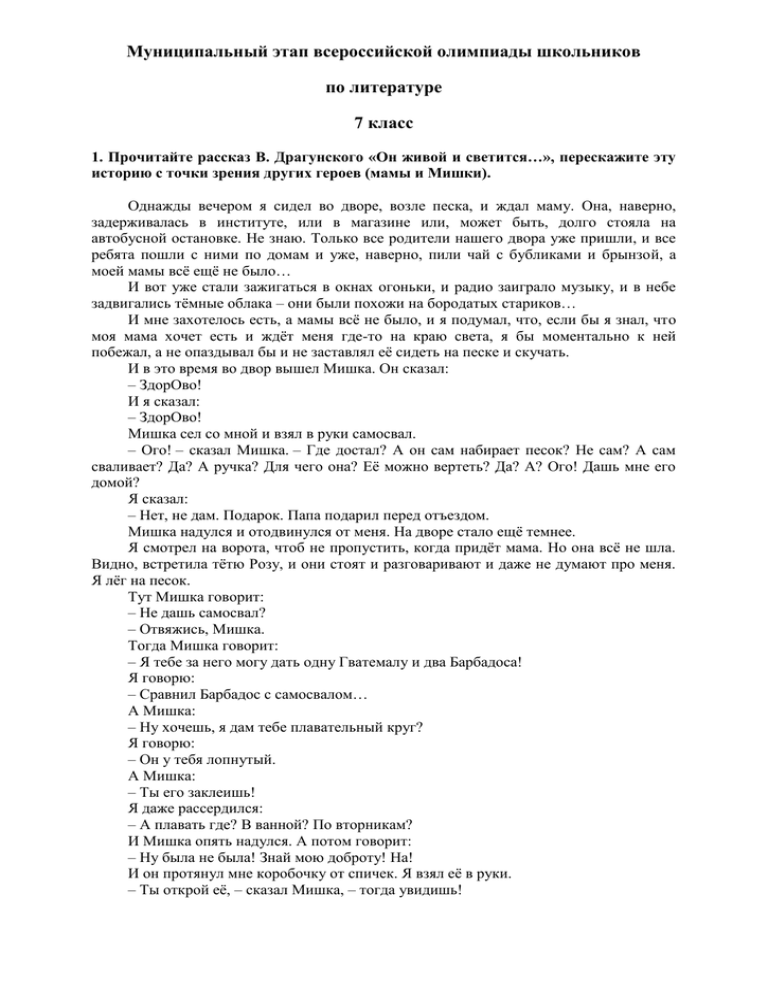
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 7 класс 1. Прочитайте рассказ В. Драгунского «Он живой и светится…», перескажите эту историю с точки зрения других героев (мамы и Мишки). Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверно, задерживалась в институте, или в магазине или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы всё ещё не было… И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались тёмные облака – они были похожи на бородатых стариков… И мне захотелось есть, а мамы всё не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждёт меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял её сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал: – ЗдорОво! И я сказал: – ЗдорОво! Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. – Ого! – сказал Мишка. – Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Её можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой? Я сказал: – Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом. Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало ещё темнее. Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придёт мама. Но она всё не шла. Видно, встретила тётю Розу, и они стоят и разговаривают и даже не думают про меня. Я лёг на песок. Тут Мишка говорит: – Не дашь самосвал? – Отвяжись, Мишка. Тогда Мишка говорит: – Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса! Я говорю: – Сравнил Барбадос с самосвалом… А Мишка: – Ну хочешь, я дам тебе плавательный круг? Я говорю: – Он у тебя лопнутый. А Мишка: – Ты его заклеишь! Я даже рассердился: – А плавать где? В ванной? По вторникам? И Мишка опять надулся. А потом говорит: – Ну была не была! Знай мою доброту! На! И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял её в руки. – Ты открой её, – сказал Мишка, – тогда увидишь! Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зелёный огонёк, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звёздочка, и в то же время я сам держал её сейчас в руках. – Что это, Мишка, – сказал я шёпотом, – что это такое? – Это светлячок, – сказал Мишка. – Что, хорош? Он живой, не думай. – Мишка, – сказал я, – бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звёздочку, я её домой возьму… И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он зелёный, словно в сказке, и как он, хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека… И я не мог ровно дышать, и я слышал, как быстро стучит моё сердце, и чуть-чуть кололо в носу, как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила: – Ну, как твой самосвал? А я сказал: – Я, мама, променял его. Мама сказала: – Интересно! А на что? Я ответил: – На светлячка! Вот он, в коробочке живёт. Погаси-ка свет! И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоём смотреть на бледно-зелёную звёздочку. Потом мама зажгла свет. – Да, – сказала она, – это волшебство! Но всё-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка? – Я так долго ждал тебя, – сказал я, – и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. Мама пристально посмотрела на меня и спросила: – А чем же, чем же именно он лучше? Я сказал: – Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!.. 2. Назовите образы животных в русской литературе XVIII – XXI вв. Раскройте разность использования данных образов в сказке, басне и прозе, аргументируйте свой ответ на примере 2 – 3 произведений. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 8 класс 1. Прочитайте рассказ А.И. Куприна «Ю-ю», перескажите эту историю с точки зрения кошки. Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички... Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: "Ю-ю". Точно свистнул. И пошло - Ю-ю. Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и белорозовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей. - Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг - палец в рот! Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами... да пыль от колес и копыт... Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ерш!.. Ника, спусти с колеи Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать... Вот так. А самое замечательное в ней было - это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто - не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой - своя особенная душа, свои привычки, свои характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей... Ну, скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками... И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, - его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел - животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: "Этого я не могу. Делай со мной что хочешь". И можно бить его сколько угодно - он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь - совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия... Говорят еще: глуп, как гусь... А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору - гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор - сейчас же гусиный переполох: "Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?" А какие они... Ника, не жуй бумагу. Выплюнь... А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала. Птенцов высиживают поочередно - то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, по женскому обыкновению, - господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с! И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он, хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке, вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит лад землею, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом. А за гусем - гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды - не веришь тому, что вырастут и станут как папаша. Маменька сзади. Ну, ее просто описать невозможно - такое вся она блаженство, такое торжество! "Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь". И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается... И вся семья гусиная - точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке. И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее, трудно даже решить. Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так - дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке... За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя? А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, - конечно, если только она в хороших, понимающих руках. У арабов - лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залягает. А если чумазый ребятенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: "Не лазай, дурачок, куда не следует". И умирают иногда лошади в тоске но хозяину, и плачут настоящими слезами. А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине. Лежит он мертвый среди поля, а Вокруг его кобыльчина ходе, Хвостом мух отгоняв, В очи ему заглядае, Пырська ему в лице. Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?.. Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота. А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды... Ну, ладно, долой верблюдов, давай о кошке. Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло. Когда дом начинал просыпаться, - первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною. Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: "Муррм". За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук "муррм". Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое "муррм" всегда означало: "Иди за мной". Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении. Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желтозелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее. Чуть слышное признательное "мрм", S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, и Ю-ю скользнула в детскую. Там - обряд утреннего здорованья. Сначала - почти официальный долг почтения прыжок на постель к матери. "Муррм! Здравствуйте, хозяйка!" Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная. "Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?" - Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька! И голос с другой кровати: - Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка рассадник микробов... Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает. Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома - бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом - кляк! - ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше - легко. Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но - молча. Мальчуган - веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-к" не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд - и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее - всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет. Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги - здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю. "Мрум!" Это значит: "Идите, я хочу пить". Разгибаюсь с трудом. Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорных точки для трех лап - четвертая на весу для баланса, - взглядывает на меня через ухо и говорит: "Мрум. Пустите воду". Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком. Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке. Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором. "Муррум! Бросьте ваши глупости!.." И несколько раз тычет носом в кран. Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует. Или еще: Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю: "Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно просить я не буду". Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу - только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся - и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках. Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады. Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла. Поворочается немного на столе, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною, у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу. Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше. Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли? И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, черных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева. За окном уже можно различить мутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле. Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели. У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так, тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто девять скажут: "Кошка - животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку". Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь! Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет чтонибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой: - Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно... Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие... И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, - кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала "мрм", спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!.. Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой - немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учтивой. Друзья же порою говорили прямо: "Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?" А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло. Встал с постели Коля худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая - человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский. Ю-ю с отъездом двух своих друзей - большого и маленького - долго находилась в тревоге и в недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: "Мик!" Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: "Что случилось? Где они? Куда пропали?" И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос. Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван - она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя? Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторней я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю. Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных; животные людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами. Я подумал: "Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого". Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих. И еще. Был у нас знакомый очень непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик - будь это через две недели, через месяц и даже больше, - стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью. "Так что же мудреного в том, - думал я, - что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?" Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху. Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой. И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу: - Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова. - Какие слова? Я не знаю никаких слов, - скучно отозвался голосок. - Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее. - Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна? - Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить. - Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл. В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки: - Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются. Легкий стук, и телефонное шипение умолкло. Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным "муррум". Вот и все про Ю-ю. Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз. 1927 2. Каково значение эпизодических образов в русской литературе XVIII – XXI вв., на примере 2 – 3 произведений аргументируйте свой ответ. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 9 класс I. На выбор проанализируйте один из предложенных текстов (прозаический или поэтический). 1. Проанализируйте рассказ А.И. Куприна «Пиратка». Он был известен под именем нищего с собакой. Более обстоятельных сведений: биографических, фамильных и психологических, о нем никто не имел, впрочем, никто им и не интересовался. Это был высокий, худой старик с лохматыми седыми волосами, с лицом закоренелого и одинокого пьяницы, трясущийся, одетый в самое рваное лохмотье, насквозь пропитавшийся запахом спирта и нищенских подвалов. Когда он входил робкою походкою в какой-нибудь из кабачков самого низшего разбора и за ним, поджав хвост и приседая от робости на ноги, вползала его коричневая подслеповатая собака, то завсегдатаи заведения сразу его узнавали. — А, это тот, что с собакой! Старик оглядывался кругом, выбирал какой-нибудь столик, за которым, по его мнению, сидела наиболее веселая, пьяная и щедрая компания, и заискивающим голосом спрашивал: — Господа почтенные, дозвольте нам с собачкой представление показать? Случалось, что на свое робкое предложение он получал в ответ только грубое ругательство, но чаще всего перспектива собачьего представления пленяла охмелевших и потому нуждающихся в новых впечатлениях посетителей. — А ну, валяй! Посмотрим, что это за представление выйдет! Тогда кабачок обращался в импровизированный театр, где артистами являлись старик и его коричневая собака, а зрителями — посетители, половые и даже сам хозяин, толстый и важный, выглядывающий с презрительным любопытством из-за своей стойки. — Пиратка, иси! — командовал старик. — Иси, подлец ты этакий! Пиратка подходил к хозяину неуверенной походкой, слабо помахивая хвостом. — Куш здесь! Пиратка с глубоким вздохом ложился на пол и, протянув прямо перед собой лапы, глядел на старика с вопросительным видом. Старик брал небольшой кусочек хлеба, клал его собаке на нос и, отойдя на два шага и грозя пальцем, произносил медленно и внушительно: — А-аз, буки, веди, глаголь, добро… Пиратка, удерживая носом равновесие, с напряженным вниманием смотрел на хозяина. Старик делал длинную паузу, во время которой закладывал руки назад и обводил зрителей лукавым взглядом, и потом вдруг громко и отрывисто вскрикивал: — Есть! Пиратка нервно вздрагивал, подбрасывал кусок хлеба кверху и, громко чавкнув, ловил его ртом. Затем нищий приказывал собаке сесть на стул и изысканно учтивым тоном спрашивал ее: — Может быть, вы, господин Пиратка, папиросочку покурить желаете? Пиратка молчал и, моргая глазами, отводил морду в сторону. Он знал, что приближается самый ненавистный для него номер программы. — Так желаете папиросочку? Попросите, может, вам господа пожертвуют? Просите же, просите, не бойтесь. Да проси же, собачий сын! Ну-у? Пиратка отрывисто и принужденно лаял, что должно было выражать его просьбу. «Господа» великодушно жертвовали папиросу. — Служи! — приказывал старик. Пиратка садился на зад, подняв передние ноги на воздух. Папироска втыкалась ему в зубы и зажигалась. Если же дым попадал собаке в нос и она, к великому удовольствию зрителей, чихала, старик предупредительно спрашивал: — Может быть, вам табачок не по вкусу? Вы к дюбеку больше привыкли? Ничего, покурите, покурите! Затем Пиратка ползал, скакал через стулья, приносил брошенные вещи, изображал лакея, ходил на задних лапах. Самый блестящий номер, носивший оттенок сатиры, выполнялся неизменно в конце представления и всегда вызывал шумный восторг публики. — Умри! — приказывал старик Пиратке. И Пиратка ложился на бок, бессильно протянув лапы и голову. — Ну вот, умник, Пиратушка, молодчина! — одобрял старик. — Ну довольно, вставай, пойдем. Вставай же, говорят тебе! Но Пират не двигался, тяжело дышал и моргал глазами. Старик начинал приходить в отчаяние. — Пиратушка, миленький, да будет притворяться! Ну, пошутил — и будет. Вставай! Вставай же, голубчик! Пират не шевелился. Тогда старик от мер кротости переходил к запугиванию. — Слышь, Пиратка, вставай! Солдат идет… Пират на это предостережение не обращал никакого внимания. — Вставай, Пиратка, — дворник идет! Пират продолжал лежать. Нищий пробовал после солдата и дворника пугать Пиратку и собачьей будкой, и пьяным купцом, и хозяином заведения, и многими другими лицами и учреждениями, имеющими власть. Но угрозы оказывались безуспешными. Пират был мертв. Тогда внезапно старика осеняла блестящая мысль. Он наклонялся к самому уху собаки и говорил испуганным шепотом: — Городовой идет! Это слово магически действовало на Пирата. Он вскакивал, как встрепанный, и начинал с громким лаем носиться по комнате. Посетители кабачка, так или иначе довольно часто сталкивавшиеся с полицией и имевшие с нею более или менее печальные недоразумения, видели в последнем номере Пираткина искусства ядовитый намек на некоторые темные стороны современной общественной жизни и самым шумным образом выражали свое одобрение. Пользуясь этой удобной минутой, старик всовывал в зубы Пиратке козырек своего рваного картуза, и Пиратка, держа высоко голову, обходил поочередно все столы. Зрители бросали в картуз медную мелочь, а старику подносили стакан водки. Впрочем, попадалась иногда и такая компания, которая, с удовольствием посмотрев на представление, не только прогоняла старика, но еще и угрожала дальнейшими враждебными действиями. — Ступай, ступай, не проедайся. Ишь, тоже выдумал с собакой по трактирам шляться. Вот скажу хозяину, так он тебя и с твоей собакой выкинет за двери. В этих случаях старик молча надевал картуз и выходил из трактира, сопровождаемый Пираткой, робко жавшимся к его ногам. Он шел в другой трактир искать счастья. Выпадали очень часто тяжелые, ненастные дни для нищего и его собаки. Посетители все, точно сговорившись, были грубы и скучны, и старик с Пираткой возвращались, голодные, дрожащие от холода, домой. Это были ужасные дни. В углу сырого подвала, где старик платил полтинник в месяц за ночлег, жались они друг к Другу, чтобы хоть немного согреться. Голод с каждой минутой становился мучительней. Еще Пиратка был счастливей своего хозяина. Ему иногда удавалось найти где-нибудь на заднем дворе, возле помойной ямы, старую кость, давно уже обглоданную и с пренебрежением брошенную другими собаками. Озираясь пугливо по сторонам, сгорбившись, поджав хвост между ногами, он жадно хватал зубами находку, забирался в какой-нибудь темный, недоступный конец двора и там долго грыз и лизал ее, стараясь обмануть свой аппетит. Старику приходилось гораздо хуже. Он не мог даже в эти тяжелые минуты одолжиться копейкой или куском хлеба у своих соседей по подвалу. Его не любили и чуждались, может быть, за его молчаливость, может, за неприятное сожительство с собакой, права которой на ночлег старику приходилось ежедневно отстаивать ожесточенной руганью и даже иногда кулаками. Но ужаснее страданий голода были страдания нравственные. В такие неудачные дни старик был трезв, и вся его нищенская, полная унижений и позора жизнь восставала перед ним особенно ярко и неумолимо. Вспоминалась и прежняя жизнь, когда он был еще не кабацким шутом и нищим, не обитателем гнилых подвалов — этих вертепов бедности и порока, а честным тружеником и счастливым семьянином. Случалось, целую зимнюю ночь, длинную и холодную, лежал старый нищий без сна, с тяжелыми мыслями в голове, но страданий своих никогда и никому он не поверял, да его и слушать бы не стали. Во всем мире было только одно существо, привязанное к нему, это — Пиратка, которого он нашел еще щенком, замерзающим на улице, и из жалости отогрел и выкормил. Зато в удачные дни оба они были сыты, а старик вдобавок пьян и, против обыкновения, разговорчив… Но так как в этом настроении он не находил другого слушателя, кроме Пиратки, то к нему обыкновенно и обращался с длинными рассуждениями и рассказами. — Ты только посмотри, Пиратка, что я за человек есть, — говорил старик, лежа на своей плоской соломенной подстилке рядом с собакой и гладя ее. — Пьянствуем мы с тобою, народ по кабакам смешим, нищенствуем. Так нешто это жизнь человеческая? Нас с тобою и за людей-то никто не считает. Третьего дня вот купец Поспелов рожу мне горчицей вымазал в трактире. Ему, понятно, это лестно, потому что оно действительно смешно: как это у живого человека вдруг вся его рожа горчицей вымазана? А ты думаешь, мне это весело? Отнюдь! Может быть, у меня от этой горчицы вся душа перевернулась! Потому что ведь не всегда же мы с тобой, дурашка, такими гнусными да пьяненькими были. Ведь не сразу же мы себя потеряли? Ты вот спроси-ка про меня на литейных заводах господина Мальцева: был ли когда лучший модельщик, чем я? Никогда. Ты думаешь, у нас жены не было? Детей? Угла своего? Ну, положим, жена с приказчиком убегла; тут и удивительного нет ничего: он, приказчик, и на гитаре, и обращение тонкое, и спиртные напитки в руках, шоколад, лимонады разные. Я и запил. А там уж, как детки мои любезные подросли, так они от своего папеньки, срамного да пьяного, отказались. Потому что никак невозможно: благородную линию держат. Вот мы с тобой и остались вдвоем на белом свете. Пиратка: ты да я, вместе и околевать будем. Дай я тебя, друг мой, поэтому сейчас обниму и поцелую. И он тащил к себе Пиратку за голову, причем собака жалобно взвизгивала, обнимал ее и громко и жарко целовал ее в холодный, мокрый нос. Пиратка старался вырваться, но делал это по возможности деликатно, чтобы не обидеть хозяина. Однажды — это было зимою, во время трескучих рождественских морозов — старик зашел со своею собакою в трактир «Встроча друзей». Там как раз оканчивала праздничный загул большая купеческая компания. Старик и Пиратка проделали все номера своего репертуара, закончив их, по обыкновению, язвительной сатирой на недостатки современного общественного строя. Зрители шумно выражали свое одобрение. Один из них, бакалейный купец Спиридонов, как потом узнал старик, особенно сильно пленился Пираткиным искусством, и тут же ему пришла в голову пьяная блажь: во что бы то ни стало приобрести ученую собачку. Он поил старика и все приставал к нему с просьбой продать Пиратку. — Послушай, любезный человек, — говорил пьяный купец, — ну на что тебе собака? Ведь «оба вы с голоду подохнете. Продай ты ее мне, прошу я тебя. Теперь у меня, положим, к амбарам три пса приставлено; псы настоящие: мордастые, злые. Однако мне все-таки любопытно, чтоб у меня еще ученая собачка была. Ну, говори, сколько за нее берешь? Хотя старика развезло от водки и хотя то обстоятельство, что богатый гордый купец Спиридонов упрашивает его, сильно льстило ему, однако Пиратку продавать он не решался. — Благодетель мой, — говорил нищий коснеющим языком, — ну как я с Пираткой расстанусь, когда я его вот этаким маленьким выкормил и воспитал? Ведь это все равно что друга продать. Нет, никак на это моего согласия не может быть, чтобы Пиратку продавать. Несогласие нищего еще более разохотило купца приобрести собаку. — Дурень ты этакий, — сказал Спиридонов, — ведь я же тебе за нее такие деньги дам, каких ты и издали не видал. Можешь ты это понимать или нет? — Нет, ваше степенство, обидеть вас не желаю, а собачка у меня не продажная. — Хочешь получить два с полтиной? — Не могу, ваше степенство! — Три? — Не могу. — Пять? — Нет, ваше степенство, лучше и говорить не будем. Но когда купец Спиридонов вынул из толстого бумажника новенькую десятирублевку, старик поколебался. Вид красной ассигнации подействовал на него лучше всяких доводов и упрашиваний. Перспектива сухой, теплой квартиры и горшка горячих щей с мясом ежедневно — окончательно решила судьбу Пиратки. Старик еще продолжал упорствовать, но слабо и нерешительно, и, наконец, сдался совсем, когда купец набавил еще три рубля. — Бери… твоя, — сказал нищий глухим голосом, жадно скомкал ассигнации и почти бегом выбежал из трактира. Прошло пять дней. Старик не пил, спрятал свои деньги и сильно тосковал по Пиратке. На шестой день собака прибежала с обрывком веревки на шее. Старик ей страшно обрадовался, ласкал, целовал ее и пошел уже было в соседнюю лавочку за хлебом и мясом для собаки, как ему на улице навстречу попался один из молодцов Спиридонова, посланный за Пираткой. Собаку увели. Старик тяжело и безнадежно запил. Он потерял и сознанье, и память, и представление о времени и месте. Сколько времени это продолжалось, он не знал: может быть, неделю, может быть, две, может быть, целый месяц. Смутно, точно сквозь сон, вспоминал он потом, что опять держал в своих объятиях Пиратку, что собаку у него отнимали, что собака рвалась и скулила. Но когда и где это было, он не мог сообразить. Он очнулся в больнице после жестокой белой горячки. Сначала больница ему очень понравилась: чисто так, светло, доктора на «вы» говорят, кормят хорошо. Только мысль о Пиратке, первая здоровая мысль, пришедшая ему в голову после нелепой, чудовищной фантасмагории запоя, не давала ему покоя. Мало-помалу страстное желание во что бы то ни стало хоть раз увидеть собаку так овладело стариком, что он с нетерпением ожидал выписки. Когда он вышел из больницы, был один из тех зимних теплых дней, когда в поле и на улице начинает пахнуть весной. Опьяненный этим пахучим, радостным воздухом, нетвердо ступая ногами, за время болезни отвыкшими от ходьбы, пошел он к дому Спиридонова. Неуверенно, робко отворил он калитку и остановился в испуге. Прямо ему навстречу грозно зарычала большая коричневая собака. Старик отступил на два шага и вдруг весь затрясся от радости. — Пират… Пиратушка… Родимый мой, — шептал старик, протягивая к собаке руки. Собака продолжала рычать, захлебываясь от злости и скаля длинные белые зубы. «Да, может быть, это и не Пиратка вовсе? — подумал нищий. — Ишь какой жирный стал да гладкий. Да нет же, — конечно, Пират: и шерсть его коричневая, и подпалина на груди белая, вот и ухо левое разорванное». — Пиратушка, миленький мой! Чего же ты сердишься-то на меня, глупый?… Пират вдруг перестал рычать, подошел к старику, осторожно обнюхал его одежду и завилял хвостом. В ту же минуту на крыльце показался дворник, громадный рыжий детина в красной канаусовой рубахе, в белом переднике, с метлой в руках. — Тебе чего, старик, надобно здесь? — закричал дворник. — Иди, иди, откедова пришел. Знаем мы вас, сирот казанских. Пиратка! Пойди сюда, чертов сын! Пиратка сгорбился, поджал хвост и заскулил, переводя глаза то на дворника, то на своего хозяина. По-видимому, он был в большом затруднении, и в его собачьей душе совершалась какая-то тяжелая борьба. — Пиратка, сюда! — возвысил голос дворник и хлопнул себя ладонью по ляжке, призывая собаку. Пиратка еще раз взглянул жалобными глазами на старика, сгорбился больше прежнего и виноватой походкой пополз к дворнику. Старик, шатаясь, вышел на улицу. В час ночи на спиридоновском дворе вдруг раздался Пираткин вой, заунывный, настойчивый вой, в котором слышалось осмысленное отчаяние и горе. Спиридонов проснулся от этих зловещих звуков, и ему стало жутко. — Ишь ты, пес проклятый, — проворчал он, чувствуя, как у него по спине и голове бегают мурашки, — точно смерть чью-нибудь накликает, право. После этого Спиридонов напрасно старался заснуть. Прошло полчаса, час… Пират все не прекращал своего ужасного воя. Купец встал с постели, надел шлепанцы и, спустившись в кухню, приказал дворнику исследовать причину собачьего воя, а самую собаку отпустить, чтобы спать не мешала. Дворник оделся и вышел на двор. Было темно, дул ветер, а с неба из быстро и низко несущихся туч сеял мелкий, теплый весенний дождь. Пират тотчас же узнал дворника, подошел к нему, лизнул его руку и побежал вперед, изредка останавливаясь и тихим визгом зовя за собою дворника. Дойдя до запертой садовой калитки, Пиратка остановился и опять начал свой отчаянный вой. Сначала дворник, пока его глаз не привык к темноте ночи, не мог ничего разобрать, но потом вдруг он испустил неистовый вопль, окаменев на месте от безумного ужаса, сковавшего его члены. На ближайшей к решетке развесистой липе слабо качался, едва не касаясь ногами земли, страшный, вытянувшийся человеческий силуэт… Это покончил все жизненные расчеты бывший Пираткин хозяин. ‹1895› 2. Рассмотрите своеобразие художественного воплощения темы поэта и поэзии в стихотворении В. Набокова «Я на море гляжу из мраморного храма…». *** Я на море гляжу из мраморного храма: в просветах меж колонн, так сочно, так упрямо бьет в очи этот блеск, до боли голубой. Там благовония, там — звоны, там — прибой, а тут, на вышине,— одна молитва линий стремительно простых; там словно шелк павлиний, тут целомудренность бессмертной белизны. О, муза, будь строга! Из храма, с вышины,— гляжу на вырезы лазури беспокойной,— и вот восходит стих, мой стих нагой и стройный, и наполняется прохладой и огнем, и возвышается, как мраморный, и в нем сквозят моей души тревоги и отрады, как жаркая лазурь в просветах колоннады. <1923> II. Каково значение ремарок в драматическом произведении, аргументируйте свой ответ на примере 2 – 3 произведений русской литературы XVIII – XXI вв. Составьте систему ремарок для одного прозаического текста. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 10 класс II. На выбор проанализируйте один из предложенных текстов (прозаический или поэтический). 1. Проанализируйте рассказ А. Грина «Сердце пустыни», рассмотрите своеобразие использования в данном произведении романтической традиции. 1 Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума, — три художественные натуры, — три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть зерно. Разными путями пришли они к тому, что видели одну шелуху. Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так, например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалов шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О'Нэль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс стал думат ь о Стелле и застрелился. Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке из дыма крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь, подобно авгурам; бледные, несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего. Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз. Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон. Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь — зеркала, пианино, красного дерева буфет. Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стиль. 2 Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорит и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться. Консейль, мягко качнув головой, посмотрел на сухое уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться. Несколько дней назад Стиль сидел, пил и говорил с ними, и они знал и его. Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, — с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает внимание; но Стиль даже не подозревал, что его вышутили. — Это он, — сказал Консейль. — Человек из тумана, — ввернул Гарт. — В тумане, — поправил Вебер. — В поисках таинственного угла. — Или четвертого измерения. — Нет; это искатель редкостей, — заявил Гарт. — Что говорил он тогда о лесе? — спросил Вебер. Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес: — Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия. — Положим, — сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина, — положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: «в лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего неизвестного впечатления, некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно». И если бы он знал, как разыскать этот з ен ит , — он бы пошел туда. — Вот странное настроение в Кордон-Брюне, — заметил Консейль, — и богатый материал для игры. Попробуем этого человека. — Каким образом? — Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно устой чиво . От вас требуется лишь говорить «да» на всякий всякий вопросительный взгляд со стороны материала . — Хорошо, — сказали Вебер и Гарт. — Ба! — немедленно воскликнул Консейль. — Стиль! Садитесь к нам. Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул. 3 Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи. — Ленивец, — сказал Консейль, — вы, Стиль! Огребли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы? — Давно уже, — спокойно ответил Стиль, — но нет желания предпринимать чтонибудь еще в этом роде. Как новинка прииск мне нравился. — А теперь? — Я — новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему меня потянет внутри. — Особый склад вашей натуры я приметил по прошлому нашему разговору, — сказал Консейль. — Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща в роскошной полутьме своей неожиданно пересекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему послышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстилаться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности — большей заброшенности среди почти недоступных недр конечно трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни — охота; единственно охотой промышляли они, сплавляя добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек. Как попали они туда, как подобрались, как обустроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день, — он не более, как вспышка магния среди развалин, — поймано и ушло, быть может, самое существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, — что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись петь. И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева — маленькая рука, махающая с балкона, впереди — солнце и рай. Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит отрывком, полным очарования, вырванной из неизвестной книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы не вошли в эту жизнь, и потому овеяна она странной поэзией. Так было и с Пелегрином. Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля. — Я вижу все это, — просто сказал он, — это огромно. Не правда ли? — Да, — сказал Вебер, — да. — Да, — подтвердил Гарт. — Нет слов выразить, что чувствуешь, — задумчиво и взволнованно продолжал Стиль, — но как я был прав! Где живет Пелегрин? — О, он выехал с караваном в Ого. Стиль провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то. — Как называлось то место? — спросил он. — Как его нашел Пелегрин? — Сердце Пустыни, — сказал Консейль. — Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт? — О, нет. — Еще подробность, — сказал Вебер, покусывая губы, — Пелегрин упомянул о трамплине, — одностороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг. — Скат переходит в плато? — Стиль повернулся всем корпусом к тому, кого спрашивал. Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе посматривал на него, насвистывая: «Куда торопишься, красотка, еще ведь солнце не взошло…» Однако ничего не случилось. Стиль выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд проснувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить по его наружности, что он думает, — то был человек сложных движений. — Откуда, — спросил Консейль Вебера, — откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности? — Отчет экспедиции Пена. И моя память. — Так. Ну, что же теперь? — Это уж его дело, — сказал смеясь Вебер, — но поскольку я знаю людей… Впрочем, в конце недели мы отплываем. Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стиль. — Я вернулся, но не войду, — быстро сказал он. — Я прочел порт на корме яхты. Консейль — Мельбурн, а еще… — Флаг-стрит, 2, — так же ответил Консейль — И… — Все, благодарю. Стиль исчез. — Это, пожалуй, выйдет, — хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказало что-то каждому из них по-особому. — И он найдет вас . — Что? — Такие не прощают. — Ба, — кивнул Консейль. — Жизнь коротка. А свет — велик. 4 Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный лет; но наконец и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом, к едкому наслаждению одиночеством без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознавать. Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминавшую Кордон-Брюн. — Я принимаю, — сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканной неприятности своего положения живительное и острое любопытство. — Пусть войдет Стиль. Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажен огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, присматриваясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись. — Кордон-Брюн, — любезно сказал Консейль. — Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе, — я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навевает тайны вселенной. — Да, — Стиль улыбался. — Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там. — Я виноват, — сухо сказал Консейль, — но мои слова — мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль. Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней. — Да нет же, — вскричал он, — не то. Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли чудаком — все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, что этот лес. Голод… и жажда… один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался мне цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня — смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было, как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, — есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, — только звенит… — Дальше, — тихо сказал Консейль. — Нужно было, что бы он был там, — кротко продолжал Стиль. — Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал со станционером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я не мог не найти, раз есть такой я, — это понятно. Так вот, поедемте взглянуть, видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, так ли вы представляли. Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории. Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное волнение по диагонали зала, потом остановился, как вкопанный. — Вы — турбина, — сдавленно сказал он, — вы знаете, что вы — турбина. Это не оскорбление. — Когда ясно видишь что-нибудь… — начал Стиль. — Я долго спал, — перебил его сурово Консейль. — Значит… Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а? — Советую, — сказал Стиль. — Но его не было. Не было. — Был. — Стиль поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах. — Он был. Потому, что я его нес в сердце своем. Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины. Стиль улыбнулся, и Консейль понял его улыбку. <1923> 2. Рассмотрите своеобразие художественного воплощения темы поэта и поэзии в стихотворении В. Набокова «Если вьется мой стих, и летит, и трепещет…» в контексте предшествующей литературной традиции. *** Лишь то, что писано с трудом — читать легко. Жуковский Если вьется мой стих, и летит, и трепещет, как в лазури небес облака, если солнечный звук так стремительно плещет, если песня так зыбко-легка, ты не думай, что не было острых усилий, что напевы мои, как во сне, незаметно возникли и вдаль поспешили, своевольные, чуждые мне. Ты не знаешь, как медлил восход боязливый этих ясных созвучий — лучей... Долго-долго вникал я, бесплотно-пытливый, в откровенья дрожащих ночей. Выбирал я виденья с любовью холодной, я следил и душой и умом, как у бабочки влажной, еще не свободной, расправлялось крыло за крылом. Каждый звук был проверен и взвешен прилежно, каждый звук, как себя, сознаю, а меж тем назовут и пустой и небрежной быстролетную песню мою... 23 августа 1918 II. В чем заключается значение использования в художественном тексте дневника героя, приведите примеры. На примере одного текста русской литературы XVIII – XXI вв. составьте воображаемый дневник одного из персонажей. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 11 класс III. На выбор проанализируйте один из предложенных текстов (прозаический или поэтический). 1. Проанализируйте рассказ И.А. Бунина «Туман», рассмотрите специфику взаимодействия эпического и лирического начал в данном произведении. Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и серым небом. Была зима, но все последние дни стояла оттепель. На Кавказских горах таяли снега, а море дышало обильными предвесенними испарениями. И вот ранним сумрачным утром машина внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотом ног по палубе, полусонные, озябшие и встревоженные, один за другим стали появляться у рубки. Шел беспорядочный говор, а серые космы тумана, как живые, медленно ползя по пароходу. Помню, что вначале это сильно беспокоило. Колокол почти непрерывно звонил на баке, из трубы с тяжким хрипом вырывался угрожающий рев; и все тупо смотрели на растущий туман. Он вытягивался, изгибался, плыл дымом и порою так густо окутывал пароход, что мы казались друг другу призраками, двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Потом туман сделался немного светлее, ровней и, значит, безнадежнее. Пароход снова шел, по так робко, что дрожь от работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, он направлялся теперь все дальше от берегов, к югу, где непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими сумерками, - тоскливой аспидной мутью, за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая пустыня пространства. С рей, с навесов и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летевшая из трубы, черным дождем сыпалась возле нее. Хотелось хоть что-нибудь рассмотреть в ненастной дали, но туман окутывал, как сон. притуплял слух и зрение; пароход был похож но воздушный корабль, перед глазами была серая муть, на ресницах - холодная паутина, и матрос, который курил невдалеке от меня, обсасывая мокрые соленые усы, казался мне порою таким, точно я видел его во сне... В шесть часов мы снова стали. Вспыхнуло сквозь туман живым глазком электричество в фонаре на мачте, черными клубами величаво повалил дым из жерла тяжелой и приземистой трубы и повис в воздухе. Колокол без смысла и однообразно звонил на носу где-то мрачным и тоскливым голосом простонала "сирена"... может быть, и не существующая, а созданная напряженным слухом, которому всегда чудится что-нибудь в таинственной безбрежности тумана... Туман темнел все угрюмее. Вверху он сливался с сумраком неба, внизу бродил вокруг парохода, едва касаясь воды, которая слабо плескалась в пароходные бока. Наступала долгая зимняя ночь. Тогда, чтобы вознаградить себя за тоскливый день, истомивший всех ожиданиями беды, пассажиры сбились вместе с моряками в кают-компании. Вокруг парохода была уже непроглядная тьма, а внутри его, в нашем маленьком мирке, было светло, шумно и людно. Играли в карты, пили чай, вина, лакеи бегали из буфета в буфет, хлопая пробками. Я лежал внизу, в своем помещении, слушал топот ног, раздававшийся над головою. Кто-то заиграл манернопечальный модный вальс на пианино, и мне захотелось на люди. Я оделся и вышел. Должно быть, всем было весело в тот вечер. По крайней мере, казалось так, и было приятно, что вечер прошел незаметно. Все забыли про туман и опасности, танцевали, пели, ходили с сияющими глазами. Потом устали и захотели спать... И большая, душная и жаркая кают-компания, в которой уже болезненно-ярко блестели огни, наконец опустела. А когда я заглянул туда через полчаса, то там был Уже полный мрак, как почти и всюду на пароходе. Сверху доносился иногда звон колокола и был очень странен в наступившей тишине. Потом и он стал слышен все реже и реже... И все точно вымерло. Я прошелся внизу, по коридорам, посидел в рубке, прислоняясь к холодной мраморной стене... Bдруг и в ней погасло электричество, а я сразу точно ослеп Внутренне напевая то, что пели и играли в этот вечер, я ощупью добрался до трапа, поднялся на несколько ступеней к верхней палубе - и остановился, пораженный красотою и печалью лунной ночи. О, какая странная была эта ночь! Был уж очень поздний, - может быть, предрассветный час. Пока мы пели, пили, говорили друг другу вздор и смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба, тумана и моря взошла кроткая одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь... совершенно такая же, как пять десять тысяч лет тому назад. - Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлому мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге... что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине, - во всей этой ночи, в пароходе и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением. Медленно поднялся я на последние ступеньки трапа и прислонился к его перилам. Подо мной был весь пароход. По выпуклым деревянным мосткам и палубам тускло блестели кое-где продольные полоски воды, - следы тумана. От перил, канатов и скамеек, как паутина, падали легкие дымчатые тени. В середине парохода, в трубе и машине, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть, в мачтах - высота и зыбкость. Но весь пароход все-таки представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледно освещенной прогалине среди тумана. Вода низко и плоско лежала перед правым бортом. Таинственно и совершенно беззвучно колеблясь, она уходила в легкую дымку под месяц и поблескивала в ней, словно там появлялись и исчезали золотые змейки. Блеск этот терялся в двадцати шагах от меня, - дальше он мерцал уже чуть видно, как мертвый глаз. А когда я смотрел кверху, мне опять чудилось, что этот месяц - бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина тайна, часть того, что за пределами познаваемого... Внезапно зазвонили на баке в колокол. Звуки уныло побежали один за другим, нарушая молчание ночи, и тотчас же послышался где-то впереди смутный шум и ропот. Мгновенно предчувствие опасности заставило меня впиться глазами в сумрачный туман, и вдруг кровавый сигнальный огонь, похожий на крупный рубин, вырос из тумана и стал быстро приближаться к нам. Под ним мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цепью освещенные окна, а в шуме колес, который был похож сперва на приближающийся шум каскада, уже выделялись звуки быстро вертящихся лопастей, и можно было различить, как шипит и сыплется вода. Вахтенный на нашем пароходе с поспешностью очнувшегося от сна человека машинально и нескладно забил в колокол, а затем тяжко захрипела труба, и из нее с трудом пробился пробился широкий и мрачный гул потрясающий весь остов парохода. Из тумана раздался тогда ответный голос, похожий на гулкий крик паровоза, но он быстро затерялся в тумане, а за ним медленно стал таять и шум колес, и красный сигнальный огонь. В этом крике и шуме чувствовалось что-то задорное и суетное, - верно, и капитан встречного парохода был молод и дерзок, - но что значила эта суетная смелость перед лицом такой ночи! "Где мы?" - пришло мне в голову. Вахтенные, вероятно, уже снова дремлют, пассажиры спят непробудным сном, - туман сбил меня с толку... Я не представляю себе, где мы, потому что в этих местах на Черном море я никогда не бывал... Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, как и вообще ничего не понимаю в жизни. Я совершенно одинок, я не знаю, зачем я существую. И зачем эта странная ночь, и зачем стоит этот сонный корабль в сонном море? А главное - зачем все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения? Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бывает на земле, я отдавался в ее полную власть. На мгновение мне почудилось, что в невыразимой дали где-то прокричал петух... Я усмехнулся. "Этого не может быть", подумал я с какой-то странной радостью; и все, чем я жил когда-то, показалось мне таким маленьким и жалким! Если бы в этот час выплыла на месяц наяда, - я не удивился бы... Не удивился бы, если бы утопленница вышла из воды и, бледная от месяца, села в лодку, спущенную около окон пассажирских кают... Теперь месяц смотрит прямо в эти круглые окошечки и озаряет угасающим светом спящих, а они лежат, как мертвые... Не разбудить ли кого-нибудь? Но нет, - зачем? Мне никто не нужен теперь, и я никому не нужен, и все мы чужды друг другу... И невыразимое спокойствие великой и безнадежной печали овладело мною. Думал я о том, что всегда влекло меня к себе, - о всех живших на этой земле, о людях древности, которых всех видел этот месяц и которые, верно, казались ему всегда настолько маленькими и похожими друг на друга, что он даже не замечал их исчезновения с земли. Но теперь и они были чужды мне: я не испытывал моего постоянного и страстного стремления пережить все их жизни, - слиться со всеми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и бесследно скрылись во тьме времен и веков. Одно я знал без всяких колебаний и сомнений, - это то, что есть что-то высшее даже по сравнению с глубочайшею земною древностью... может быть, та тайна, которая молчаливо хранилась в этой ночи,.. И впервые мне пришло в голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно называют смертью, заглянуло мне в эту ночь в лицо, и что я впервые встретил ее спокойно и понял так, как должно человеку... Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что пароход идет полным ходом и что в открытый люк тянет теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова полный бессознательной радости жизни. Я быстро умылся и оделся и, так как по коридорам парохода громко звонили, сзывая к завтраку, распахнул дверь каюты и, весело стуча ярко вычищенными сапогами по трапу, побежал наверх. Улыбаясь, я сидел потом на верхней палубе и чувствовал к кому-то детскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и ценил утро. А утро было ласковое и солнечное, - ясное бирюзовое небо весны сияло над пароходом, и вода легко бежала и плескалась вдоль его бортов. <1901> 2. Рассмотрите своеобразие художественного воплощения темы России в стихотворении В. Набокова «Вьюга» в контексте предшествующей литературной традиции. Тень за тенью бежит - не догонит, вдоль по стенке... Лежи, не ворчи. Стонет ветер? И пусть себе стонет. Иль тебе не тепло на печи? Ночь лихая... Тоска избяная... Что ж не спится? Иль ветра боюсь? Это - Русь, а не вьюга степная! Это корчится черная Русь! Ах, как воет, как бьется - кликуша! Коли можешь - пойди и спаси! А тебе-то что? Полно, не слушай... Обойдемся и так, без Руси! Стонет ветер все тише и тише... Да как взвизгнет! Ах, жутко в степи... Завтра будут сугробы до крыши... То-то вьюга! Да ну ее! Спи. 30 августа 1919 II. В чем заключается общность и различие жанров сказки, фантастики и фэнтези. Приведите примеры использования элементов этих жанров в русской литературе XVIII – XXI вв. Раскройте на примере 2 – 3 текстов их значение для выражения авторской идеи и влияние на сюжетное и композиционное построение произведения.