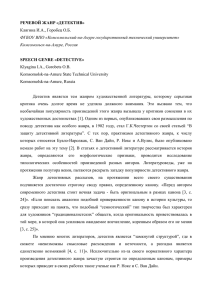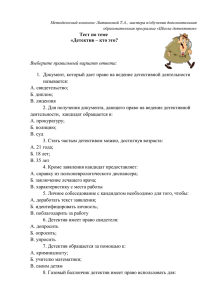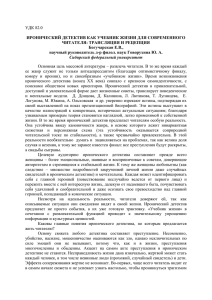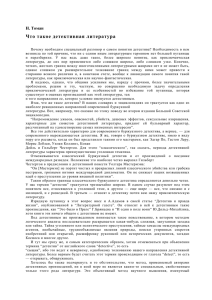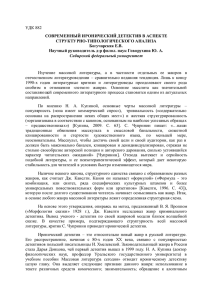Классический детектив: поэтика жанра
реклама
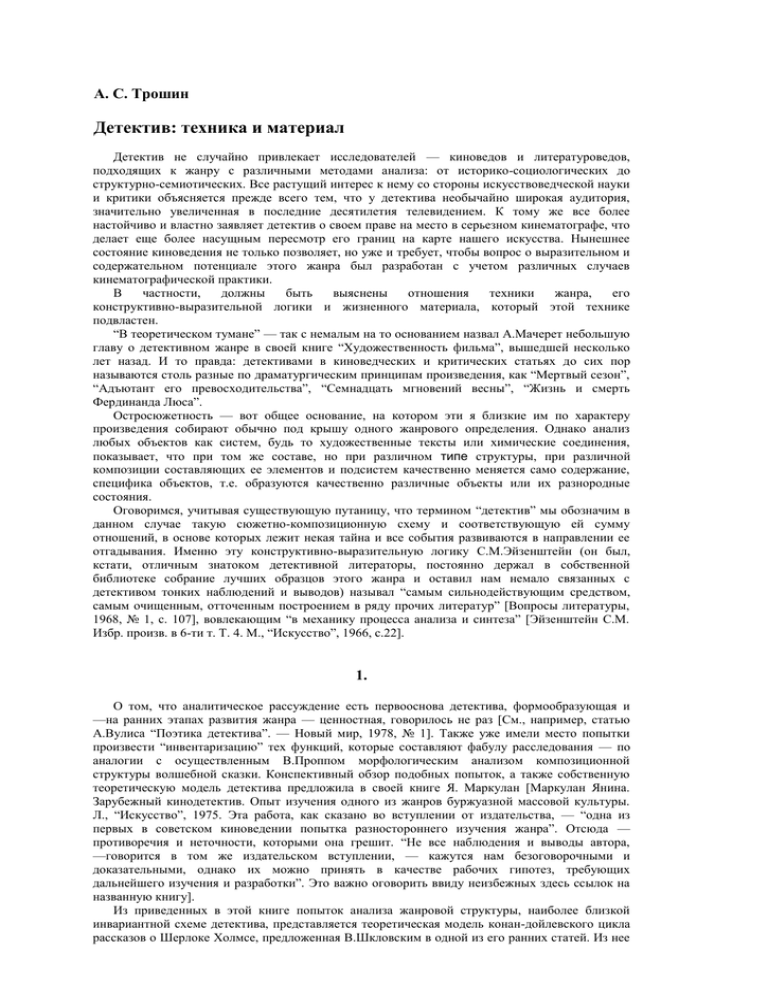
А. С. Трошин Детектив: техника и материал Детектив не случайно привлекает исследователей — киноведов и литературоведов, подходящих к жанру с различными методами анализа: от историко-социологических до структурно-семиотических. Все растущий интерес к нему со стороны искусствоведческой науки и критики объясняется прежде всего тем, что у детектива необычайно широкая аудитория, значительно увеличенная в последние десятилетия телевидением. К тому же все более настойчиво и властно заявляет детектив о своем праве на место в серьезном кинематографе, что делает еще более насущным пересмотр его границ на карте нашего искусства. Нынешнее состояние киноведения не только позволяет, но уже и требует, чтобы вопрос о выразительном и содержательном потенциале этого жанра был разработан с учетом различных случаев кинематографической практики. В частности, должны быть выяснены отношения техники жанра, его конструктивно-выразительной логики и жизненного материала, который этой технике подвластен. “В теоретическом тумане” — так с немалым на то основанием назвал А.Мачерет небольшую главу о детективном жанре в своей книге “Художественность фильма”, вышедшей несколько лет назад. И то правда: детективами в киноведческих и критических статьях до сих пор называются столь разные по драматургическим принципам произведения, как “Мертвый сезон”, “Адъютант его превосходительства”, “Семнадцать мгновений весны”, “Жизнь и смерть Фердинанда Люса”. Остросюжетность — вот общее основание, на котором эти я близкие им по характеру произведения собирают обычно под крышу одного жанрового определения. Однако анализ любых объектов как систем, будь то художественные тексты или химические соединения, показывает, что при том же составе, но при различном типе структуры, при различной композиции составляющих ее элементов и подсистем качественно меняется само содержание, специфика объектов, т.е. образуются качественно различные объекты или их разнородные состояния. Оговоримся, учитывая существующую путаницу, что термином “детектив” мы обозначим в данном случае такую сюжетно-композиционную схему и соответствующую ей сумму отношений, в основе которых лежит некая тайна и все события развиваются в направлении ее отгадывания. Именно эту конструктивно-выразительную логику С.М.Эйзенштейн (он был, кстати, отличным знатоком детективной литераторы, постоянно держал в собственной библиотеке собрание лучших образцов этого жанра и оставил нам немало связанных с детективом тонких наблюдений и выводов) называл “самым сильнодействующим средством, самым очищенным, отточенным построением в ряду прочих литератур” [Вопросы литературы, 1968, № 1, с. 107], вовлекающим “в механику процесса анализа и синтеза” [Эйзенштейн С.М. Избр. произв. в 6-ти т. Т. 4. М., “Искусство”, 1966, с.22]. 1. О том, что аналитическое рассуждение есть первооснова детектива, формообразующая и —на ранних этапах развития жанра — ценностная, говорилось не раз [См., например, статью А.Вулиса “Поэтика детектива”. — Новый мир, 1978, № 1]. Также уже имели место попытки произвести “инвентаризацию” тех функций, которые составляют фабулу расследования — по аналогии с осуществленным В.Проппом морфологическим анализом композиционной структуры волшебной сказки. Конспективный обзор подобных попыток, а также собственную теоретическую модель детектива предложила в своей книге Я. Маркулан [Маркулан Янина. Зарубежный кинодетектив. Опыт изучения одного из жанров буржуазной массовой культуры. Л., “Искусство”, 1975. Эта работа, как сказано во вступлении от издательства, — “одна из первых в советском киноведении попытка разностороннего изучения жанра”. Отсюда — противоречия и неточности, которыми она грешит. “Не все наблюдения и выводы автора, —говорится в том же издательском вступлении, — кажутся нам безоговорочными и доказательными, однако их можно принять в качестве рабочих гипотез, требующих дальнейшего изучения и разработки”. Это важно оговорить ввиду неизбежных здесь ссылок на названную книгу]. Из приведенных в этой книге попыток анализа жанровой структуры, наиболее близкой инвариантной схеме детектива, представляется теоретическая модель конан-дойлевского цикла рассказов о Шерлоке Холмсе, предложенная В.Шкловским в одной из его ранних статей. Из нее легко извлекается инвариантная повествовательная композиция, остающаяся без изменений при всех последовавших метаморфозах жанра. В инвариантной схеме, в свою очередь, легко выделить следующие звенья: 1. Сигнал тайны. Он служит завязкой расследования. Внезапное происшествие, непонятное явление ставят в мире детектива на грань катастрофы привычный порядок вещей. Следовательно, завязке должна предшествовать экспозиция “порядка”. Но экспозиция часто в детективе лишь подразумевается или имеет вид беглого эскиза, обрастающего подробностями непосредственно в ходе расследования. В развернутой экспозиции детективное произведение нуждается тогда, когда неидентичны мир “в кадре” и действительность “за кадром” (скажем, если роман или фильм опрокинут в прошлое, к которому нам не подступиться с нынешними представлениями о порядке вещей). В этом случае развернутая экспозиция должна представить азбуку норм, на фоне которой читатель или зритель детектива легко воспримет любое нарушение и приобщится к удивлению и страху героев, населяющих мир данного произведения. Еще уточним: под словом “порядок” мы понимаем вовсе не соблюдение правовых норм, соответствие поступков персонажей юридическим законам — это сразу ограничило бы жизненный материал детектива. “Порядком” в данном случае мы обозначаем бессюжетную расстановку сил, всякую изначальную статику, привычное, ничем не нарушенное течение жизни. Примечательно, что “сигнал тайны” нарушает в детективе повседневный распорядок и того, кто ведет расследование, даже если он является профессионалом и получать подобные “сигналы” входит в его обязанность и привычку. В том-то и дело, что в художественном мире детектива расследование лишено будничного автоматизма. Здесь и у опытного сыщика, и у робкого новичка, и у горячего энтузиаста “со стороны” равные шансы на удачу и поражение. 2. Сбор фактов. Или, по слову С.Эйзенштейна, стадия “физиогномического” восприятия загадки [См.: Эйзенштейн С. М. О фольклоре. — ЦГАЛИ, ф. 1923, опись 2, ед. хр. 1082]. Осмотр места происшествия, опрос свидетелей выстраивают лабиринт фактов, по которому на ощупь движется в поисках истины субъект расследования. “Множественность улик уничтожает их, если следы идут во все стороны” (В.Шкловский) [Шкловский Виктор. Тетива. О несходстве сходного. М., “Советский писатель”, 1970, с. 199]. Поэтому разрозненность фактов в детективе только кажущаяся. Такой она представляется лишь читателю и зрителю, поскольку ему неизвестна тайна. Авторы детективных произведений стремятся до поры до времени спрятать детали, поворачивающие действие, и наоборот — ложному следу придать наиболее логичный и убедительный вид. Ложный след — это сюжетный тормоз, благодаря которому расширяется жизненное пространство, заключенное в рамки произведения. 3. Версии. Или гипотезы таинственного События. Собственную версию случившегося имеет практически каждый, кто помещен в круг детективного расследования. В детективе версии становятся невольными самохарактеристиками персонажей. Они проговариваются о себе, когда судят о других. Сосуществование разных версий заключает в себе, кроме того, мотив относительности любой точки зрения, известной ограниченности индивидуального опыта и миропредставления. Сосуществование версий лежит в основе принципа “многоголосого сказа”, используемого в литературе и кино, о чем писал еще С.М.Эйзенштейн, ссылаясь на роман У.Коллинза “Женщина в белом”. “В этом случае важно акцентировать, — комментировал он пространную цитату из романа, — не столько самый факт того, что действие развертывается путем группировки “показаний” отдельных действующих лиц — выслушивание показаний — непременный атрибут внутри любого детективного романа — но там это происходит именно внутри повествования, то есть не в формах обнаженной полифонии, как это имеет место здесь. Здесь же интересно, что принципы полифонии и контрапункта выведены в самую структуру этой вещи в целом...” [Эйзенштейн С.М. Избр. произв. в 6-ти т., т. 3, с. 301-302]. Аналогичный кинематографический пример, который приводит Эйзенштейн, — фильм О.Уэллса “Гражданин Кейн”, где обнажен принцип полифонии. Позднее к классическому “Кейну” прибавился еще один образец использования принципа “многоголосого сказа” — фильм А. Куросавы “Расемон”. 4. Выбор и продвижение одной версии. С момента, когда из множества версий выбрана одна, детективное расследование принимает поступательный характер. “Сопротивление среды падает, время убыстряется, пространство расширяется. Метроном действия качается быстро и широко” (Д. Лихачев) [Вопросы литературы, 1968, № 8, с. 83]. Наперекор поступательному действию, авторы детективных произведений разнообразно мотивируют используемые приемы торможения. Так, в фильмах, где ведется судебное разбирательство, т.е. пройден этап предварительного расследования и уже известно, кто виновен, усложняется задача: вместо вопросов “кто виновен?” и “почему это произошло?”, встает — на правах детективной тайны — вопрос “почему это могло произойти?”. В фильме “Обвиняются в убийстве” (сцен. Л.Аграновича, реж. Б.Волчек, 1969) на скамье подсудимых оказываются четверо молодых ребят, посягнувших на жизнь своего сверстника. Первый эпизод, увертюра к суду, сделал нас свидетелями нелепой гибели юноши. Что еще, казалось, может открыть нам судебное разбирательство: вина парней и суровое наказание неоспоримы... Процесс судебного дознания вовлекает зрителей в раскрытие куда более важной тайны, связанной с корнями преступной психологии и социальными причинами, которые прямо или косвенно привели к трагическому случаю. Судебная драма — так часто называют эту разновидность детектива. Ее специфическая черта — открытое противостояние субъекта расследования носителю тайны. Здесь требуется доказать чью-либо вину или правоту, как и в первом случае сопоставляя улики, свидетельские показания, строя гипотезы и подтверждая их. Эмоциональные эффекты в судебной драме нередко связаны с неопровержимыми уликами и вескими доказательствами, возникающими неожиданно или приберегаемыми намеренно до поры до времени участниками интеллектуального и психологического поединка. 5. Раскрытие тайны. Оно требует “физиогномического” обеспечения: вот вещь, которую искали, вот имя и лицо преступника, вот как совершалось событие, ключ к которому был утерян ... Однако это необязательное условие, как необязателен в детективе хэппи энд. Нельзя согласиться с Я. Маркулан, считавшей, что в детективе “не бывает non finita — отсутствия завершающего финала”, что “детектив всегда (за редким исключением) имеет happy end” [Маркулан Янина. Зарубежный кинодетектив, с. 29]. Вспомним, что говорит один из персонажей Г.Честертона, оставившего блистательные образцы нетрадиционного использования детективной техники: “Крупная рыба может оборвать леску и уйти”. И то правда: в политическом детективе, который пережил свой звездный час в западном кино в конце 60-х—начале 70-х гг., “крупная рыба” нередко обрывала леску. Нам сплошь и рядом предлагались финалы, в которых тайна — в ее юридическом аспекте — оставалась нераскрытой, истина —недосказанной, хоть и мерцавшей в лабиринте трудных поисков. Вместе с тем адрес критических стрел проступал тут достаточно ясно (например, в фильмах итальянского режиссера Д. Дамиани). В конце концов тайна в детективе — всего-навсего, манок, композиционный прием, мотивирующий обостренное внимание к явлениям реальности. Действительно, у родоначальника жанра Эдгара По непостоянство и незначимость тайн даже нарочиты. В рассказе “Убийства на улице Морг” тайна скрывает поступок не человека, а сорвавшегося с цепи органгутанга, т.е. стихию, к которой не подступиться с опытом общественной жизни и законами человеческой психологии. В новелле “Похищенное письмо” Дюпен уже в середине повествования выкладывает перед изумленным государственным сыщиком вещь, которую тот тщетно искал. В “Тайне Мари Роже” длинную цепь своих умозаключений Дюпен неожиданно обрывает, предложив только ключ к разгадке. А дверь... Да бог с ней, с дверью! — как бы говорит нам рассказчик, пускаясь, вместо последнего шага к тайне, в отвлеченные рассуждения о “страсти добираться до истины”. Полагают, будто тайна в детективе непременно связана с преступлением, убийством, жестокостью, кровью. Так, по крайней мере, утверждало первое, 1935 года, отечественное издание Краткой литературной энциклопедии. Этому заблуждению отдают дань и сегодня, видя в преходящей традиции детектива его внутренний закон. Но то вещи разные: традиция и закон. “... В каждую из ... эпох постоянные признаки жанра обрастают большим количеством других черт, которые, однако, рассматриваются как менее важные и, следовательно, не влияющие на отнесение произведения к тому или иному жанру” (Ц.Тодоров) [Тодоров Цветан. Поэтика. — В кн.: Структурализм: “за” и “против”. М., “Прогресс”, 1975, с. 100]. Если все же авторы детективных романов и фильмов предпочитают в качестве мотивировки именно преступление (хотя, повторяем, это необязательное условие), то потому только, что оно, превосходно действуя на первую сигнальную систему, обостряет наше восприятие окружающей действительности. Итак, принципиальная схема детективного расследования выглядит следующим образом: 1. Сигнал тайны. 2. Сбор фактов. 3. Версии. 4. Выбор и продвижение одной версии. 5. Раскрытие тайны. Сопоставляя эту инвариантную композицию — а именно она является несущим элементом детективной конструкции, каркасом формы, ни на секунду не забываем, что константы жанра не покрывают все его возможные явления. Часто к типологически отмеченным признакам детектива относят такие характеристики его внутреннего мира, как нагнетание опасности, всепроникающая атмосфера страха и т. п. Однако это уже не собственно жанровый уровень произведения, а то, что в современной формальной поэтике определяется понятием “дискурс”. Данный термин подразумевает такие уровни произведения, которые накладываются на линию повествования в узком смысле слова, на интригу. “... В детективном рассказе распределение и комбинация признаков, указывающих на виновного в преступлении, относятся к плану интриги, в то время как нагнетаемая атмосфера страха относится к плану дискурса, то есть не к фабульной, а к сюжетной организации текста” [Структурализм: “за” и “против”, с. 453]. 2. Прежде чем перейти к проблеме материала, с которым принципиальная схема расследования может быть соединена, задержимся немного на различиях детектива и приключения. Вопрос этот недостаточно прояснен в теории, что приводит к недоразумениям в критике, когда фильм одного жанра судят по законам другого. Я. Маркулан в этой связи цитирует французского исследователя Роже Кайуа, писавшего, что “детективная повесть напоминает фильм, который демонстрируется от конца к началу. Она обращает вспять течение времени и меняет хронологию. Ее исходным пунктом является... убийство, завершающее неизвестную драму, которая постепенно будет восстановлена, а не рассказана сначала. Таким образом, в детективной повести повествование идет за открытием. Оно исходит из события, которое является конечным, замыкающим, и, преобразуя его в повод, возвращается к причинам, которые вызвали трагедию. Постепенно находит различные перипетии, которые приключенческая повесть рассказала бы в той очередности, в которой они происходили. Поэтому очень легко детективную повесть преобразовать в приключенческую и наоборот — достаточно их перевернуть... Исключительная роль детективной повести в литературе заключается именно в обращении хронологии вспять и в замене порядка событий порядком открытия” [Цит. по кн.: Маркулан Янина. Зарубежный кинодетектив, с. 30]. Время — наиважнейшая координата детектива. О реальном — календарном — времени здесь много говорят, потому что оно входит в систему доказательств (“Где вы находились в час убийства? ...”), но по нему не живут. “Прямое”, событийное время, сбора фактов, ожидания и опроса свидетелей, время умозаключений прослаивается прошлым, включает его разорванные мгновения, сбивается оживающими версиями уже свершившегося события. Отдельные мгновения прошлого субъекту расследования вольно расчленить, повторить. В современном кинодетективе важную роль приобрели механизмы припоминания, при котором образы прошлого наплывают один на другой, переплавляются, взаимопроникают, разнообразно трансформируются в сознании субъекта расследования. Время воспоминаний не знает линейного порядка событий. Так, в фильме “Гражданин Кейн” время одной человеческой жизни не только сжато отбором значительных вех, но и перетасовано. Субъект детективного расследования имеет дело с распавшимся временем. Ретроспекции, диалоги-дознания, монологи-исповеди — все это элементы, из которых собирается цельная картина. Если принципиальную разницу между детективом и приключением выразить коротко, то подойдет почти афористическая формула из книги М.Туровской “Герои “безгеройного времени”: “Бонд меньше всего герой расследования, которое всегда процесс, он в лучшем случае герой приключения, которое есть эксцесс” [Туровская М. Герои “безгеройного времени”. Заметки о неканонических жанрах. М., “Искусство”, 1971, с. 88. Дополним ее следующим замечанием И.Фрадкина, автора статьи “Тривиальный роман и пути его распространения в ФРГ”: “При развитии детективного романа в таком направлении, когда аналитическая мысль героя уступает его ловкости и отваге в погонях и схватках, существенно деформируется его жанровая природа”. — В кн.: Массовая литература и кризис буржуазной культуры Запада. Сборник статей. М., “Наука”, 1974, с. 127]. “Какой детективный фильм обходится без погони!” — восклицают за кадром авторы комедии “Берегись автомобиля!”. Если говорить всерьез — никакой. Потому что погоня входит в арсенал другой жанровой структуры. Что же до тех детективных фильмов, где погоня и впрямь является кульминацией действия, то это, думается, следствие междужанровой маяты, вообще характерной для кино. “Здесь (в детективе — А. Т.) неизмеримо меньше кинематического действия, чем в вестерне, шпионском, гангстерском, костюмно-историческом фильме (погони, драки, головоломные трюки в детективе бывают значительно реже), — справедливо отметила Я.Маркулан, — место его занимает логический ход рассуждений, что рождает особые трудности при экранизации тех произведений детективной литературы, которые отличаются скупостью внешних событий, богатством логических построений. При экранизации поэтому часто видоизменяется сюжет литературной первоосновы. Одна и та же фабула может быть использована для построения совершенно непохожих произведений” [Маркулан Янина. Зарубежный кинодетектив, с. 67-68]. Не детектив, а приключение — с его приматом кинетики — непосредственно наследует традиции авантюрного романа. Детектив — его ответвление. У героя приключения, как правило, много задач и много способов их решить. “Каждое твое сообщение о ставке будет представлять для нашего командования неоценимое значение. Каждое, даже мелкое”, — напутствуют героя в фильме “Подвиг разведчика” (сцен. М.Блеймана и М.Маклярского, реж. Б.Барнет, 1947). Задания и цели, когда их много, не имеют такой власти над героем, какую имеет одна всепопоглощающая задача — раскрытие тайны в детективе. Задачи в мире приключения как бы сами уничтожают друг друга. Они призваны единственно для того, чтобы оправдать риск, которому подвергается герой приключения. Риск — главная ценностная величина этого жанра. В ореоле риска повышается цена всех качеств героя: мужества, ловкости, находчивости, сообразительности, силы. В детективе композиция по сути своей центростремительна. В приключении — центробежна. Герой приключения всегда в фокусе внимания, он всегда герой в изначальном смысле этого слова. В нем при любых испытаниях остается запас нереализованного личностного “может быть”. Герой, приключения ближе, чем субъект расследования, стоит к фольклорным персонажам. Как они, он в огне не горит, в воде не тонет, пуля его не берет, на каждом километре сюжета ему всей логикой жанра гарантирована удача. В.Б.Шкловский упрекал распространившиеся романы с разведчиком (модификация приключения) в том, что их герой мало видит: “с ним происходят приключения, но он не использован как разведыватель жизни” [Шкловский В.Б. Повести о прозе. Размышления и разборы. Т. 1. М., “Худож. лит.”, 1966, с. 312]. Верно: у героя приключения иная точка зрения, нежели у субъекта расследования. Герой приключения принципиально “мало видит”, так как озабочен лишь тем, чтобы показать себя. Разведчик, когда он выступает героем приключения, сам является носителем тайны, и это гораздо важнее, чем те тайны, которые иногда ему приходится попутно раскрывать. Таким образом, приключенческий жанр не анализирует действительность. Герой приключения — всегда преследуемый или преследующий. Удачливый разведчик, действующий без страха и упрека в тылу врага, ловкий ковбой, рыцарь плаща и шпаги, потрошитель банков, чудовищный преступник — все они, сколь бы ни различалась нравственная подоплека их поступков, творцы интриги. Они пребывают в стихии физического действия. Они убегают, но их бег — это бег по кругу. В новых сериях меняются цели, города и страны, противники и помощники, но самого героя приключения мы находим неизменным [О поэтике приключенческого фильма см. сообщение В.Михалковича на научно-практической конференции “Проблема жанров на современном этапе развития советского киноискусства”. — Стенограмма конференции. Научно-исследовательский институт теории и истории кино Госкино СССР. М., 1977, с. 231—241]. Линейное построение детектива — в отличие от циклического приключения —характеризуется строгой отмеченностью начала и конца. Субъект расследования не обязательно является фокусом произведения, не всегда может быть назван героем. Он даже не всегда “в кадре”. Находясь на периферии сюжета, он своим номинальным присутствием лишь оправдывает специфический ракурс жанра, мотивирует определенную конструкцию. Например, журналист Томпсон в фильме “Гражданин Кейн”, которому поручено раскрыть тайну предсмертных слов заглавного героя, — всего-навсего персонаж-функция. Он связывает разрозненные фрагменты биографии. Таков анонимный судейский чиновник, находящийся за кадром в фильме “Расемон”: его задача мотивировать череду оживающих на экране версий. В обоих случаях мы имеем дело с формализацией некогда содержательных элементов структуры расследования, превращением их в своего рода синтаксис жанра. Однако наблюдаются и обратные процессы: персонажи-функции перестают быть сугубо формальными организаторами повествования и получают новую смысловую нагрузку, воспринимаемую нами на фоне их традиционных значений. В детективе — права Я.Маркулан — расследованием может заниматься любой: инспектор полиции, любитель, журналист, жертва (такое случается), подозреваемый, наконец ребенок. “Можно представить себе детектив, сосредоточенный на поисках убийцы, причем в конце убийцей оказывается персонаж, который на протяжении всего действия выступал в качестве носителя авторской точки зрения (психологической) и — соответственно — в мир мыслей и чувств которого мы все время были посвящены. Понятно, что подобная композиция будет неудачна. Однако в менее откровенной форме она встречается не так редко” (Б. Успенский) [Успенский Б. Поэтика композиции. М., “Искусство”, 1970, с. 126]. Нельзя не привести в пример в связи с этим чеховскую “Драму на охоте”, где убийцей оказывается следователь, который затем в описании формально проведенного расследования опустил некоторые существенные, могущие его изобличить детали. Введение нового героя в качестве субъекта расследования служит, как мы убедимся далее, обновлению детектива, расширению его смысловых пределов. Классическую модель детектива нет-нет да и объявляют устаревшей, и если не вовсе отжившей, то во всяком случае переживающей мутацию, эволюционирующей либо в сторону освоения мистической и иррациональной стихии, либо к поэтизации авантюры, гангстеризма, т.е. к перемене декораций внутри жанра [См. например: Михалкович В. Триллеры, или Мистер Джонс в ореоле мученика. — Искусство кино, 1974, № 7]. О кризисе классического детектива свидетельствует, мол, тот факт, что традиционная схема расследования давно уже стала достоянием пародии. Говорят, пародия — симптом вырождения жанра. Но не доказывала ли творческая практика обратное, не служила ли пародия воскрешению и обновлению старой художественной формы, не указывала ли она на возможность новых соединений, обогащающих новыми значениями элементы устоявшейся жанровой структуры? Пародия не разрушает жанр, а “учит использовать его и в то же время идет дальше, приспосабливая уже известные структурные формы к новому содержанию” [Фрейлих С. Чувство экрана. М., “Искусство”, 1972, с. 112] В фильме Э.Брагинского и Э.Рязанова “Берегись автомобиля!” парадокс переосмысливает классическую схему. Юрий Деточкин, рыцарь справедливости и агент Госстраха по совместительству, угонял частные машины, принадлежавшие разнокалиберным мошенникам. Он на свой страх и риск восстанавливал справедливость. А следователю Максиму Подберезовикову приходилось по иронии судьбы защищать формальные права “потерпевших”. Ситуация-перевертыш отстранила [остранила?] старую “идею” жанра расследования, сдвинула его привычные границы. Широкое хождение в статьях о детективе получил пример с романами Достоевского. На них ссылался в свое время C.M. Эйзенштейн. “В детективе есть любопытнейшие вещи, — говорил он, — когда структура этого жанра начинает обрастать высококачественным литературным материалом. Кто из писателей? Достоевский. Почти каждая вещь Достоевского — типичный уголовный роман с сыском, с чем хотите. “Преступление и наказание”, “Братья Карамазовы” — по схеме типичные уголовные романы. По сюжетному ходу, по сюжетным заданиям здесь взяты максимально действенные схемы, причем очень глубинного порядка — в “Карамазовых” — убийство родителей, — и посажены на абсолютно верно воздействующий материал. Поэтому читать такой материал и рассматривать его в сравнительном анализе, смотреть, как это сделано, чрезвычайно интересно” [Вопросы литературы, 1968, № 1, с. 108]. Обратим внимание: Эйзенштейн четко различал структуру жанра, в основе которой лежит “максимально действенная схема”, и материал. Это, по Эйзенштейну, самостоятельные уровни произведения, хотя и соотнесенные друг с другом. Нельзя терять из виду данное обстоятельство. Однако теряем. Терял его и сам Эйзенштейн — доказательство тому можно найти в том же фрагменте лекций. “На протяжении истории кинематографа, — рассуждал он, — неоднократно пробовали уложить в традиционные детективные формы материал большевистского подполья. Ничего не выходит. Это пробовали делать и в 20-х, и в 30-х годах, но получилось не смыкание рядов, а почти голый конструктивизм, ибо в несерьезную форму втискивалось глубокое, серьезное содержание” [Там же, с. 107]. Очевидно, вывод, который сделал Эйзенштейн, опираясь на современную ему кинематографическую практику, был правомерен для той поры, но уже не столь безоговорочен сегодня. Можно назвать целый ряд фильмов, в которых произошло “смыкание рядов” —соединение материала большевистского подполья и традиционного (Эйзенштейн называл его “несерьезным”) детективно-приключенческого построения. Традиционное детективное построение вступает в контакт, конечно, не с любым материалом, а с таким, который в неумирающей жанровой архаике находит нечто себе родственное. И все же, пытаясь порой жестко закрепить за каким-либо жанром узкую территорию, мы рискуем ошибиться. Замечено, что в искусстве любой конструктивный принцип, сформировавшись на одной территории, ищет затем для себя новые области, новый материал. Тынянов называл это “империализмом” конструктивного принципа. Одним из классических примеров “империализма” сюжетно-композиционной схемы расследования является, как уже сказано, “Гражданин Кейн”, в котором детектив как жанр завоевал для себя новую территорию — биографию. Пример поновее — демонстрировавшийся несколько лет назад на наших телеэкранах итальянский многосерийный телефильм “Жизнь Леонардо да Винчи” реж. Р.Кастеллани. Он тоже построен по схеме расследования — от загадок через разрозненные, противоречивые факты и гипотезы к цельному представленпю о судьбе художника. Ни тот, ни другой фильм — не детективы в привычном представлении, но и тут, и там имеется тайна, есть аналитическое рассуждение, организующее сюжет. Можно было бы привести еще примеры из фонда мирового кино, доказывающие, что сумма детективных элементов, наличествующих в произведении хотя бы рудиментарно, на правах сюжетных мотивировок и связок, обеспечивая беспроигрышную эмоциональность и напряженный зрительский интерес, в состоянии явиться одновременно мощным инструментом анализа и познания действительности. Степень художественности такого познания находится в прямой зависимости от несовпадения между формализованной динамической схемой детективного расследования и теми внутренне-смысловыми значениями, которые элементы детективной схемы принимают в каждом конкретном случае. Какой зрительской потребности отвечают особенности детективного построения? На этот вопрос литературный критик И.Шайтанов ответил следующим образом: в детективе “оказывается очень непосредственно и резко обозначенной модель современного мышления, по крайней мере одна из его существенных потребностей. Сфера жизни современного человека отличается небывалым многообразием. В течение самого короткого времени он совершенно меняет ситуацию, формы своего общения, сталкивается с людьми, для понимания которых у него нет ни готового шаблона, ни общего языка. Современное общество в принципе утратило внешнюю определенность социальной иерархии, при которой социальный статус, профессия человека накладывали на его личность неизгладимый, бросающийся в глаза отпечаток. Внешний облик гораздо меньше говорит о современном человеке. Резко увеличился и ритм жизни, ритм общения. Отсюда повышенная потребность в оперативном мышлении, наблюдательности, в умении оценивать ситуацию, людей по имеющимся данным, а не по типовым примерам” [Шайтанов И. Литературные мечтания детектива. — Литературное обозрение, 1975, № 9, с. 59]. Этой потребности отвечает схема расследования, т.е. такой способ организации материала, когда при участии читателя или зрителя устанавливается связь между случайными на первый взгляд вещами, между разрозненными фактами действительности. Проследим, как работает данная схема, например, в судебной драме с формальным воспроизведением в ней всех процессуальных моментов, с ее напряженным поиском решения, с ее поляризацией позиций и неотразимой аналитичностью. Форма фильма-суда, фильма-дознания введена в обиход мирового кино и укоренилась в нем довольно прочно. Достаточно назвать “Нюрнбергский процесс” С.Креймера и “Двенадцать разгневанных мужчин” С.Люмета, чтобы стали очевидными возможности экранной судебной драмы. Открыв любой фильмографический справочник, где перечислены по алфавиту фильмы 60—70-х гг., мы увидим, сколь многие названия начинаются с интригующего слова “процесс”. И не удивительно: ведь рождение детектива состоялось, по выражению итальянского философа-марксиста А. Грамши, “на задворках литературы, посвященной “громким процессам ” [Грамши А. Избр. произв. в 3-х т. Т. 3. М., Госполитиздат, 1954. с. 530]. Стенограммы судебных процессов и сегодня кладезь для кинематографиста. Какие сюжеты, какие проблемы! И все это “сочинила” сама жизнь. Жаль, что наши сценаристы и режиссеры нечасто заглядывают в стенограммы судебных процессов, а если и заглядывают, то, как правило, затем, чтобы выудить там еще один сюжет о поисках преступника. А дело-то не в поимке преступника — эта тропинка истоптана кинематографистами донельзя. Дело в том, что стенограммы суда часто содержат анализ — скрупулезный и всесторонний — значительного социально-психологического конфликта. В судебной драме, следующей как бы по стенограмме, естественно сочетаются искомая острота ситуации и дотошная социологичность. В судебной драме в непривычном ракурсе представляют явление жизни. Судебное дело раскрывает проблемные стороны действительности. Именно этим привлекает, например, азербайджанский фильм “Допрос” (сцен. Р.Ибрагимбекова, реж. Р.Оджагов, 1979). В его основе подлинные события — не так давно нашумевшее дело неких “промышленников”, в котором были замешаны очень влиятельные и высокопоставленные в Азербайджане лица. Львиную долю экранного времени занимает в “Допросе” поединок следователя Сейфи Ганиева и подследственного Мурада Абиева, в прошлом известного спортсмена, а ныне обвиняемого в незаконном производстве и реализации товаров. Свою вину он безоговорочно принял, но выдать тех, кто за ним стоит, категорически отказывается. Все берет на себя. Следователь же понимает — и даже располагает фактами, — что обвиняемый — только ширма, за которой скрываются воротилы покрупнее. Иные из них занимают высокие посты. Но как это доказать, если подследственный упирается — то ли боится кого-то, то ли представление о порядочности у него извращено. Следователь бьется с этим человеком за него же, за его будущее. За социалистическую законность, которой он, Сейфи Ганиев, бескорыстно служит. Не во всем эта картина удалась. Довольно условен в ней весь второй план: сослуживцы героя, его жена, его знакомые, в частности те, кто пытается впутать Сейфи Ганиева в круговую поруку. Однако, несмотря на целый ряд упрощений, фильм вызывает волнение, потому что в нем названо своим именем социально-общественное зло: коррупция. Механика дознания направлена здесь на реальное и, заметим, неизжитое (как бы ни успокаивали нас вступительные титры в этом фильме) негативное явление, которому не положишь конец, установив конкретного виновника. “Допрос” заканчивается многоточием, оставляющим нас с тревогой, взывающим к нашему гражданскому чувству. Многим обязан этот фильм Александру Калягину, который исполняет роль следователя. Его герой переживает отчаяние, смятение, когда сроки и обстоятельства (на него давят сверху) вынуждают закрыть дело, не доведя его до конца. Затем вновь обрушивает он всю силу негодования на своего подследственного за то, что тот покрывает негодяев. А когда неколебимый Мурад Абиев вдруг дрогнул при виде фотографий, компрометирующих его жену, у следователя заблестели глаза и от волнения стал срываться голос. В эту минуту он подобен охотнику, которому удалось заманить долго подкарауливаемую птицу в капкан. Скажут: он нарушает процессуальные нормы. Наверное нарушает. Конечно же, нарушает, пойдя, по сути, на шантаж. И это тоже — проблема, которую невзначай задевает фильм и от которой не отговориться ссылкой на соответствующие параграфы инструкций. Буквальное воспроизведение процессуальных моментов суда и следствия, как это происходит в фильмах “Обвиняются в убийстве” и “Допрос”, — не единственно возможный облик судебной драмы как жанра. Она может принимать и другие, подчас неожиданные облики. У суда, у следствия может быть одолжена лишь его форма. Пример тому — “Премия” (сцен. А.Гельмана, реж. С.Микаэлян, 1974), где, выражаясь словами Ю.Тынянова, суд как факт быта “оживает своей конструктивной стороной” [Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., “Наука”, 1977, с. 268]. Здесь мы становимся свидетелями скрупулезного исследования причин, приведших к бесхозяйственности и очковтирательству на большой стройке. Вся жанровая архаика в “Премии” налицо, — многие рецензенты указали на известное сходство построения этой картины с “Двенадцатью разгневанными мужчинами”. Есть тайна: причина, по которой бригада Потапова отказалась от премии. Эту тайну сменяет другая: кто в конечном итоге виноват? Есть тут решительное обвинение и неуверенная защита. На стол неожиданно выкладываются две пухлые тетрадки, в которых ребята из бригады подсчитали все простои на стройке и убытки. Эти тетрадки привели в некоторое замешательство участников поединка. В критический момент дознания является “свидетель”, которого недоставало: компетентный экономист Миленина — она одним своим появлением авторитетно удостоверила верность цифр в тетрадках. Как видим, консервативную схему судебного дознания разомкнул нетрадиционный, острый жизненный конфликт. Испытанная техника жанра ожила в соединении с непривычным для нее материалом. “Премия” показывает, сколь гибкой может быть схема расследования, как вообще сложна бывает связь между материалом, проблематикой и жанровой структурой фильма. Похоже, с оглядкой на “Премию”, а также с оглядкой на “Обвиняются в убийстве” задумывалась белорусская картина “Воскресная ночь” (сцен. А.Петрашкевича, реж. В.Туров, 1977), где во время ночной рыбалки между руководителями района — председателем райисполкома, секретарем райкома партии, главным прокурором района, редактором газеты и судьей — возникает диспут, поводом для которого стало случившееся по пьянке убийство одного тракториста. Точнее, поводом явились те “частные определения”, которые суд, разбиравший это уголовное дело, адресовал разным инстанциям — от правления колхоза до райисполкома. Кое-кто считает, что с “частными определениями” вышел перебор, брошена тень на район, поставлено под сомнение его руководство. Диспут, таким образом, обращается в суд над судьей. Схема, заимствованная у “Премии”, как будто обещала столкновение позиций, раскрытие характеров, выход к вопросам, не решаемым в одночасье, да и не знающим однозначных решений. Однако зрительские ожидания не оправдались, ибо авторы фильма не доверились до конца конструктивно-выразительной логике расследования, забежали вперед, предвосхитили выводы, которые им надлежало открыть вместе со зрителем. Идет игра в открытые ворота, причем ведется она в основном уныло-резонерскими монологами, которые пересыпаны цитатами. Но какие бы неудачи не случались на этом пути, наводить мосты между детективом как генератором напряжения и увлекательности, с одной стороны, и серьезным, проблемным кинематографом, с другой, можно и нужно — в интересах зрителя, в интересах нашего искусства. Конструкции же таких мостов, разумеется, могут быть разными. Это может быть строго юридический анализ события, где наблюдения, свидетельские показания, компетентные комментарии к разрозненным фактам, стянутые в узел сакраментальными в детективе вопросами “Кто виновен?” или “Кто он?”, помогают препарировать многообразные жизненные конфликты. Но это может быть и “жанр в жанре”, когда детективная схематика становится ядром “производственного фильма”, как в “Премии”, или исторического анализа, как, например, в одном из лучших произведений венгерского кино 60-х гг. — “Двенадцать часов” Золтана Фабри по роману Ференца Шанты. Или социально-психологического эксперимента, как в польском фильме “Комната с видом на море” (сцен. М.Карпиньского, реж. Я.Заорский, 1978). Неизвестный молодой человек (это персонаж-функция; мы так и не увидим его в лицо, не узнаем его настоящего имени) намерен покончить с жизнью, бросившись из окна многоэтажного стеклянного “коробка”, занимаемого каким-то учреждением. Вот он уже стоит на узком парапете, уцепившись руками за оконный переплет, и, по-видимому, пытается подавить в себе колебания и страх. До тех пор, пока не обретет полную решимость, он не подпускает к себе никого. Случай из ряда вон выходящий, загадочный, и на место происшествия прибывает полиция с прокурором, который возглавит многочасовое следствие-спасение. Чтобы предотвратить трагедию, нужно во что бы то ни стало установить с самоубийцей контакт. Для этого срочно вызваны два психолога: старый, уже списанный в обоз, к тому же приверженец “архаичных” психологических концепций, и молодой, преуспевающий в своей науке, уверенный в себе. Он — адепт той из психологических школ, которая чересчур самонадеянна в отношении человеческой души, готова ее “вычислить”, располагая минимумом сведений о среде воспитания и существования индивида. С помощью полиции молодой специалист пытается установить личность потенциального самоубийцы, чтобы после нажать на все рычаги: разыскать и привести сюда родителей этого парня, любовницу, товарищей по работе, комсомольского вожака... След, однако, оказывается ложным — в установлении личности произошла роковая ошибка. И следствие-спасение остается на нулевой отметке (если не считать результата, которого мало-помалу добивается старый психолог, разговаривая со своим подопечным, как терпеливый и доброжелательный исповедник). Ложный след, ошибочные версии, с которыми так или иначе входит в фильм почти каждый персонаж, не продвигают нас ни на шаг к тайне детективной, но мотивированные ею, они раздвигают пространство криминальной истории, обогащают ее социальным анализом. Приведем еще несколько примеров нетрадиционного использования детективной техники. Сдвиг значений оживил “автоматизованную” (термин Ю.Тынянова) форму суда в двухсерийном телефильме реж. В. Жалакявичюса “Авария” по известной повести Ф.Дюрренматта (1975). И прежде в своих творческих исканиях В. Жалакявичюс предпочитал механику расследования, обеспечивающую максимальное психологическое напряжение [В.Демин в статье “Театр парадоксов Витаутаса Жалакявичюса” (в сборнике “Режиссер на телевидении”. М., “Искусство”, 1978), сопоставляя телефильм “Авария” с прочими работами этого режиссера, доказывает их принципиальное родство и в плане поэтики, и в плане идей]. Он заявил о себе фильмом “Хроника одного дня” (1964), начинавшимся в суде, а затем строившимся как развернутое во времени и пространстве дознание. Собирая веские доказательства, сопоставляя факты, проводя аналогии, мысленно и наяву привлекая разных свидетелей, живых и мертвых, судья-коммунист Римша вершил моральный суд над обывательской трусостью, над позицией невмешательства. Там элементы судопроизводства служили мотивировками и связками. Здесь, в “Аварии”, у взаправдашнего суда заимствованы его ритуалы, его неукоснительная логика и нетерпимость к половинчатым решениям. Здесь в суд “играют”, поверяя понятиями юриспруденции человеческие поступки, суду не подлежащие. “Авария”, к слову сказать, оказалась уместной на телеэкране, которому самой его природой назначено пережить натиск детектива и детективных конструкций. Телевизионному экрану органически близко специфически детективное построение. Перекрестком легких соблазнов и серьезных, покуда не вполне реализованных возможностей детективного жанра явился в эфире цикл “Следствие ведут Знатоки”. Детектив по форме, он в лучших своих выпусках вплотную подходил, не теряя художественности, к социологическому анализу, препарируя очередным следствием по “делу” калейдоскопическую действительность. Тут нередко заполнялись пустые клетки на карте нашего социологического знания. Схематика судебной драмы, аналитическая по своей сути, открыта вопросам морально-этическим в фильме “Слово для защиты” (сцен. А.Миндадзе, реж. В.Абдрашитов, 1977). Стержнем здесь явилась история простая и страшная в своей простоте. Девушка с почты Валентина Костина обвиняется в покушении на убийство. Мотив ее поступка — не ревность, нет, и не обида, что тот, кого она горячо любила “(“Виталиком” будет называть его Валентина до самого финала, “потерпевшим Федяевым” нарекут его в суде), ради кого жертвовала чем только могла, ушел к другой. Такое она снесла бы. И любя, оправдала бы своего Виталика: что ж, надоела, бывает ... Но вот предательство — элементарное, неприкрыто-расчетливое — этого она уже вынести не смогла. Состав преступления, если выражаться языком юридическим, ясен с самого начала. Но есть и тайна, без которой жанр расследования немыслим. Не сразу понятны адвокату, ровеснице подсудимой мотивы довольно странного поведения ее подзащитной во время следствия и на суде. Не сразу ясна сущность “потерпевшего Федяева”. Не только о нем и о своей подзащитной узнает адвокат в ходе пристального изучение дела. Но и о себе тоже. Она оглядывается вокруг себя и невольно сопоставляет жизнь своей подзащитной с собственной, ее душевный порыв со своим и своих друзей покоем. В этих сопоставлениях “наращивается” сюжет фильма. Рекламные щиты в Москве представляли “Слово для защиты” как картину — цитирую дословно — о “женщине-адвокате, восстанавливающей справедливость на судебном процессе”. И они не обманывали, фабула здесь именно такова. Но масштаб у фильма иной. “Короткофокусная оптика” дознания направлена авторами в гущу действительности. От судебного дела, как от камня, брошенного в стоячую воду расходятся круги, и последний задевает по касательной нас с вами и наших друзей. Ни этот, ни другие фильмы, приведенные здесь в качестве примеров, детективами в собственном смысле слова не назовешь. Но детективная схематика в них очевидна, она выполняет свою важную работу. Авторы не просто “закручивают” сюжет, а исследуют при помощи отточенной сюжетно-композиционной схемы, этого сверхмощного генератора эмоционального напряжения, сложные жизненные явления. Они стремятся сблизить “правила игры” — специфические законы детективного построения — с требованиями, общими для всего искусства. Вывод напрашивается сам собой. Мы обедним наше искусство, если ограничим сферу влияния и задачи детектива, если недооценим его широкие возможности в анализе действительности, если, озабоченные повышением коэффициента занимательности фильмов, мы упустим из виду, что так называемые “тривиальные” формы и серьезный, проблемный кинематограф — это сосуды сообщающиеся. Текст дается по изданию: Приключенческий фильм. Пути и поиски. Сборник научных трудов. (Всесоюзный НИИ киноискусства). М. 1980, с. 38-58