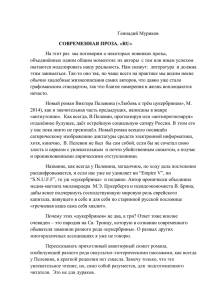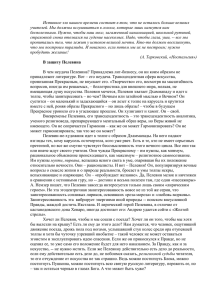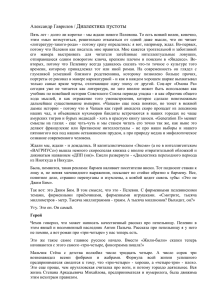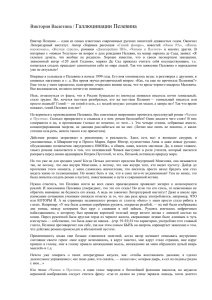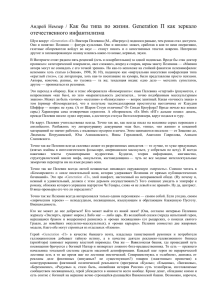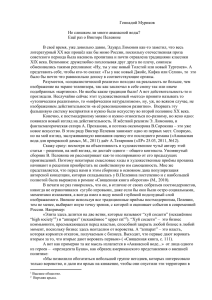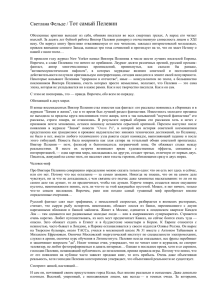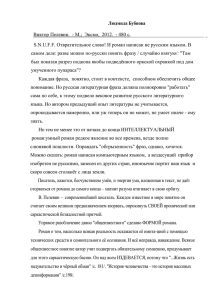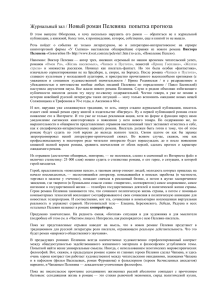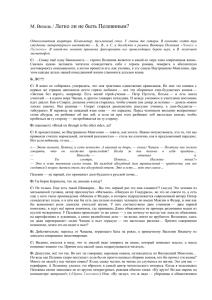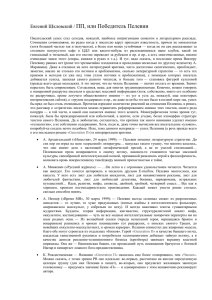Записи эпохи первоначального накопления кармы Терваган /
реклама

Терваган / Записи эпохи первоначального накопления кармы Виктор Пелевин. Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. Москва, «Эксмо», 2003 Всяких там живых классиков принято при выходе новой книги «пробовать на зуб». Поносить последними словами, — дескать, и автор уж не тот, и годы его не те, и исписался бедолага. Это потом, года три пройдёт, цитаты из той же книги интеллектуалы сделают своим паролем. Когда все пооботрутся и попривыкнут. Есть такая традиция. Не знаю, почему. Наверное, от новой книги беспокойства бывает много. А этого наши культурные люди не любят. У них всё, что надо, на полках стоит. Вон вашего Пелевина, к примеру, упаковали красиво и с любовью. А тут он сам, собственной персоной, куда-то выпрыгнул. И чего от него ждать — неизвестно. Замысловатое заглавие заставляет вспомнить разное — и Уильяма Морриса, и роман Лескова «Некуда». Кроме того, он намекает на основополагающий для Пелевина мотив Пути. Нет-нет, это не образ дороги из «Мёртвых душ», знаменитый по школьным сочинениям (о гоголевской теме — чуть позже). Это — даосский Путь, первоначало мироздания, о котором по определению (точнее, по его принципиальному отсутствию) вообще ничего нельзя сказать. У него нет ни качеств, ни признаков, и образа тоже быть не может. Так что Пелевин попал. Все пишущие и поющие поклонники восточных философских учений рано или поздно либо удалялись от свого предмета, либо вступали в неперодолимое противоречие сами с собой. Ибо как выразить то, что по существу своему не подлежит словесному выражению? Пелевин пытается решить эту задачу, особым образом организовав пространство подтекста, сделав невысказанное главной канвой книги. Новый том включает роман «Числа», повесть «Македонская критика французской мысли», стихотворение и несколько рассказов. Большая часть произведений связана общим кругом персонажей, и всю книгу скрепляет единый замысел. Поэтому читать её лучше подряд. Роман «Числа» не зря посвящён Зигмунду Фрейду и Феликсу Дзержинскому. В нём полно и немилосердно отражена та гремучая и немыслимая смесь карьеризма, зверства, духовных исканий и сексуальных комплексов, которая привычно сопровождает российского человека. На этот раз на писателя могут обидеться люди не только культурные. Тут разные организации упоминаются — «Имущие вместе», например. Или «Эскадроны жизни». От щедрот едкой пелевинской иронии перепало, впрочем, и неким левотворческим кругам. Уж я не знаю там, ДвУРАКовцам или кому-то вроде. Пелевина на политике не зарубает, но равнодушно он мимо неё не проходит. Потому как всем на свете интересуется. И роман «Числа» у него, как всегда, и социальный, и философский, и мистический одновременно. Всё сфокусировано так, что расчленению не поддаётся. При этом интонация автора довольно загадочна. Он, очевидно, не всё время шутит, но не предупреждает, когда именно. Читая историю довольно интеллектуального (но в границах правдоподобия) нового русского Стёпы Михайлова, так и не понимаешь до конца, что перед тобой. То ли медицински-точное описание шизофрении, то ли всамделишный мистический боевик. И в этом, наверно, тоже есть некий смысл. Заметьте: Пелевин (в отличие от большинства писателей) и не думает условливаться о том, что же именно считать реальностью. Потому что перед собой он видит слишком много людей, уверенно принимающих за реальность свои представления (каждый раз абсолютно другие). Над людьми автор издевается вволю — не столько зло, сколько честно. Меня-то удивляет другое. Искусство стёба, умеренного и неумеренного цинизма и так уже слишком давно остаётся в моде. А вот что поражает — это умение Пелевина внезапно преобразить фарс в подлинную трагедию. Он вправду сопереживает и Стёпе, и Ослику Семь Центов, и Кике — герою «Македонской критики…», словно вывернувшему наизнанку коллизию «Мёртвых душ». Кика всерьёз уверовал, что в денежных потоках воплощаются души умерших людей, чей труд стал когда-то экономической основой этих потоков. Картина действительно жуткая: «Человек, наделённый способностью к духовному зрению, увидит гулаговских зэков в рваных ватниках, которые катят свои тачки по деловым кварталам мировых столиц и беззубо скалятся из витрин дорогих магазинов…» Это — о капиталах, вывезенных из России. Что бы ни сказали культурные люди, кое-что и меня напрягает. В «Чапаеве и Пустоте», помимо философии мироздания, была ещё и широкая социальная панорама Москвы 90-х, была живая её атмосфера. В новом же томе действуют сплошь новые русские и ФСБшники. Буржуев, правда, Пелевин и разит не в бровь, а в пах. И даёт понять, что какая-то неведомая жизнь течёт за пределами их мира. Эта неведомая жизнь выплывает в сюжет лишь дважды: в мимолётной и беглой кртинке из жизни московского вуза и в образе странноватого буддиста-алконавта в поезде. Но ведь и то, и другое — из «прежнего» Пелевина. Хотелось бы надеяться, что классовая однородность персонажей — лишь часть особого творческого замысла, а не результат смещения перспективы авторского зрения. А ополчается Пелевин не на один общественный строй — на весь миропорядок, ощущаемый как тюрьма. А потом герой рассказа «Запись о поиске ветра» внимательно вглядывается в себя и видит вдруг, что тюрьмы — нет. Её стены неспособны его удержать.