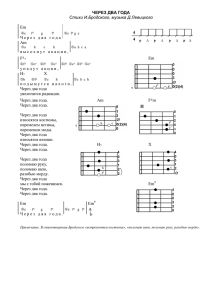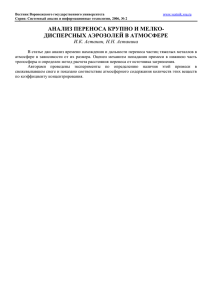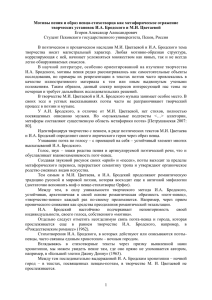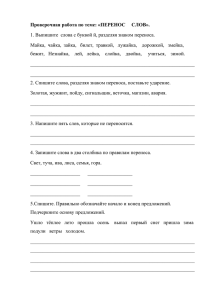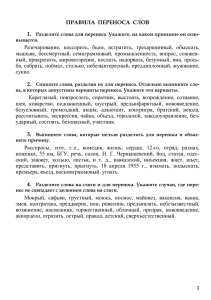О семантике переноса: замечания к проблеме А. Г. Степанов
advertisement

А. Г. Степанов О семантике переноса: замечания к проблеме Стихотворный перенос принадлежит к числу наиболее важных и специфических категорий поэтики стихотворного текста. На его содержательную роль, связанную с разрывом интонационной линии [О принципах выделения и классификации переносов на основе “тесноты” синтаксических связей имеется обширная литература. Укажем некоторые из источников: Taranovsky K. Some problems of enjambement in Slavic and Western European verse // Intern. J. of Slavic linguistics and poetics, 1963, 7, p. 80-87 (русский перевод статьи см.: Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000, c. 364-371); Бадретдинова Л.Г. Структура стихотворной строки и способ реализации синтаксических связей в конце ее // Синтагматика, парадигматика и их взаимоотношения на уровне синтаксиса: Материалы науч. конф. Рига, 1970, c. 8-10; Дозорец Ж.А. Соотношение стихотворной строки с речевым звеном и предложением: (на материале стихотворений А.С.Пушкина): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1972; Лузина Л.Г. Лингвистическая природа стихового переноса и его стилистические функции: (на материале английской поэзии XIX века): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1972; Лобанова М.С. К вопросу о стиховом переносе (фр. enjambement) // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2: История, язык, литература. 1981. Вып. 1, c. 67-73; Thomson R.D.B. Towards a theory of enjambement: With special reference to the lyric poetry of Marina Cvetaeva // Russ. Lit., 1990, 27, p. 503-532; Гаспаров М.Л., Скулачева Т.В. Ритм и синтаксис в свободном стихе // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993, c. 191-193; Матяш С.А. Стихотворный перенос: К проблеме взаимодействия ритма и синтаксиса // Русский стих: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика: В честь 60-летия М.Л.Гаспарова. М., 1996, c. 191-195], влекущей за собой “окказиональные отличия значений стиховых слов от их прозаических двойников” [Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924, c. 66], неоднократно указывалось в исследовательской литературе [См., напр.: Зубова Л.В. Языковой сдвиг в позиции поэтического переноса: (на материале произведений М.Цветаевой) // Проблемы структурной лингвистики 1985-1987. М., 1989, c. 229-246; Лосев Л. Значение переноса у Цветаевой // Марина Цветаева: Тр. 1-го междунар. симпозиума (Лозанна, 30.VI. - 3.VII.1982). Bern, Berlin, Frankfurt/M., N.Y., Paris, Wien, 1991. (Slavica Helvetica; Vol. 26), p. 272-283; Его же. Перпендикуляр: (Еще к вопросу о поэтике переноса у Цветаевой) // Марина Цветаева 1892-1992. Нортфилд (Вермонт), 1992. (Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре; Т.2), c. 100-109; Иванова-Разумник Г.Н. Когнитивный характер ритмики стихов М.Цветаевой // Язык как творчество: Сб. ст. к 70-летию В.П.Григорьева. М., 1996, c. 164-170; Федотов О.И. Основы русского стихосложения: Метрика и ритмика. М., 1997, c. 237-261; Левинтон Г.А. Три разговора: о любви, поэзии и (анти)государственной службе (I. Наблюдения над “Снежной границей”; II. От всего человека вам остается часть / речи (Три заметки о Бродском). III. Попытка политического дискурса (о диссидентстве семидесятых годов).) // Россия / Russia. Вып. 1[9]: Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.; Венеция, 1998, с. 213-288. Из содерж.: (О семантике переносов у Бродского), с. 256-284]. Еще Ю.Н.Тынянов в “Проблеме стихотворного языка” показал, как в условиях “единства и тесноты стихового ряда” синтаксически не мотивированный enjambement становится “семантическим средством выделения слов”. Он способен, в частности, перераспределять основные и “колеблющиеся” признаки значений, оживлять стертую, языковую метафору, “восстанавливать в правах” служебное слово, возвышая его “до степени равноправных слов” [Об этом подробнее см.: Тынянов Ю. Указ. соч., c. 63-70]. После Тынянова перенос стал рассматриваться в ряду других средств создания ритмического перебоя [См.: Холшевников В.Е. Перебои ритма как средство выразительности // Холшевников В.Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991, c. 209-224; об экспрессивной роли переносов см., в частности: Тимофеев Л.И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, с. 43-48]. Так, В.М.Жирмунский, говоря об переносе, отмечал, что “всякое несовпадение синтаксического членения с метрическим есть художественно рассчитанный диссонанс” [Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975, c. 157]. Эффектной иллюстрацией миметической способности enjambement’а может служить хрестоматийный пример из пушкинского романа в стихах — сильный строфический перенос в конце 3-й главы, реализующий смятение Татьяны при встрече с Онегиным, получившим письмо: …мигом обежала Куртины, мостики, лужок, Аллею к озеру, лесок, Кусты сирен переломала, По цветникам летя к ручью. И, задыхаясь, на скамью XXXIX Упала… “Здесь он! здесь Евгений! О боже! что подумал он!” Возникающий здесь ритмический перебой не просто усиливает эмфатическое напряжение, он стремится к перформативности, т.е. фактически равен действию, которое благодаря enjambement’у приобретает пластическую завершенность. “Диссонирующая”, расподобляющая функция переноса, позволяющего дифференцировать две контрастные темы, наиболее ярко представлена у Пушкина в “Медном всаднике”. Г.А.Гуковский убедительно продемонстрировал, что основная тема поэмы — столкновение личности с государством — затронула и ритмико-синтаксическую организацию текста. Тема Петра и тема маленького человека воплотились, в частности, “в противостоянии победоносно-маршевой четкости ритма стихотворных строк, замкнутых синтаксически, – для темы кумира, и настойчиво повторяющихся переносов, спотыкающегося ритма прозаизированных стихов – для темы Евгения” [Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки о методике. Тула, 2000, c. 124; cм. также: Тимофеев Л.И. Указ. соч., c. 394-397, 401-403]. Однако приведенные примеры enjambements, граничащие с иллюстративностью и “художественным натурализмом” (В.М.Жирмунский), в поэзии Пушкина не так уж часты. В большинстве случаев переносу отводится более скромная роль. В поэмах, например, как отмечает С.А.Матяш, “он маркирует наиболее эмоциональные и/или особенно значимые для сюжетного действия эпизоды” [Матяш С.А. Композиционные функции переносов (enjambements) в восточных поэмах Жуковского и Пушкина: (“Пери и ангел” и “Бахчисарайский фонтан”) // Актуальные проблемы изучения творчества А.С Пушкина: Жанры, сюжеты, мотивы: Матер. Всерос. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Новосибирск, 21-23 сент. Новосибирск, 1999, с. 25] или выступает в функции “визитного” переноса, т.е. сопровождает появление персонажа. Исключение составляет enjambement в “Бахчисарайском фонтане”, где его функция, подобно переносу в “Медном всаднике”, заключается в противопоставлении характеров Марии и Заремы по принципу небесное / земное (о земной страсти Заремы говорится стихами с переносами, а о небесной любви Марии – без переносов), а в более широком контексте речь может идти о противопоставлении западной и восточной культур, что составляет философскую проблематику “Бахчисарайского фонтана” [Там же, с. 32-33; Матяш С.А. Структура и функция переносов (enjambement) в поэме А.С.Пушкина “Бахчисарайский фонтан” // Онтология стиха: Сб. ст. памяти Владислава Евгеньевича Холшевникова. СПб., 2000, с. 142-144]. Роль переноса в классической поэзии XIX века была, таким образом, описана достаточно полно. Неклассическая поэзия XX века значительно расширила представления о возможностях enjambement’а. Она со всей очевидностью показала, что, с точки зрения прагматической логики, перенос не просто избыточен, он алогичен. Выступая в функции ритмического перебоя, он дестабилизирует речевую структуру, сталкивая два кода – стиховой и языковой. В этом качестве перенос есть вторжение случайного в порядок и гармонию, конституированные ритмом. Вместе с тем enjambement есть обнажение приема, он демонстрирует “сопротивление материала”, позволяя острее пережить “уплотненность” стиховой ткани, подобно тому, как сбивающийся с шага солдат вынужден восстанавливать ритм, чтобы не стать помехой строю. Преодолевая автоматизм стихотворной формы, enjambement в поэзии XX века выступает “в качестве фермента эмфатического напряжения в поэтической системе” [Федотов О.И. Указ. соч., c. 240]. Особенно отчетливо это проявилось в творчестве М.Цветаевой, которая сделала перенос доминантой своего поэтического мышления. Регулярность и функциональность этого приема у Цветаевой дали основание некоторым литературоведам полагать, что “перенос, задуманный как разрушение ритмической инерции”, устанавливает в свою очередь новую инерцию, на фоне которой синтаксически завершенные строки воспринимаются как значимое нарушение “инерции переносов” [См.: Эткинд Е.Г. Строфика Цветаевой: Логаэдическая метрика и строфы // Эткинд Е.Г. Там, внутри. О русской поэзии XX века: Очерки. СПб., 1996, c. 384-385]. Е.Г.Эткинд иллюстрирует это положение стихотворением “Ты, меня любивший фальшью…”, где три переноса, задающих читательское ожидание, внезапно сменяются ритмико-синтаксическим тождеством, обнажающим трагедию любовной измены: Ты, меня любивший фальшью Истины – и правдой лжи, Ты, меня любивший – дальше Некуда! – За рубежи! Ты, меня любивший дольше Времени. – Десницы взмах! Ты меня не любишь больше: Истина в пяти словах. [Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1997. Т. II: Стихотворения; Переводы, c. 235] В цикле “Стол” двойной (сначала строчный, затем – строфический) enjambement материализует власть стола, возвращающего героиню к творчеству, подобно тому, как убегающая не столько от Онегина, сколько от себя Татьяна падает на скамью: К себе пригвоздив чуть свет – Спасибо за то, что – вслед Срывался! На всех путях Меня настигал, как шах – Беглянку. Назад, на стул! Спасибо за то, что блюл И гнул. [Там же, c. 310] Но у Цветаевой можно встретить enjambements, которые не передают моторного ощущения действия, не создают повышенной экспрессии, а скорее служат “средством реализации в том же самом контексте дополнительно возможных высказываний” [Лосев Л. Значение переноса у Цветаевой, c. 277]. Новаторство Цветаевой в этой области определяется тем, что она сделала перенос лингвистически и семантически ориентированным, заставив его выполнять роль “стрелочной службы сознания” [Там же, c. 275]. Позиция переноса интенсифицирует слово у Цветаевой, заставляя его полнее проявлять свои грамматические и семантические свойства. Нагляднее всего это можно проследить на примерах окказиональных переходов слов из одной части речи в другую, результатом чего становится “повышение ранга морфологической категории” [Зубова Л.В. Указ. соч., c. 240]. В “Попытке ревности”, например, прилагательное, оказавшееся в позиции переноса, контекстуально субстантивируется, выдвигаясь семантически: Как живется вам с простою Женщиною? Без божеств? Государыню с престола Свергши (с оного сошед)… <…> Как живется вам с чужою, Здешнею? Ребром – люба? Стыд Зевесовой вожжою Не охлёстывает лба?... [Цветаева М. Указ. соч., c. 242] Установка на смысловое обогащение переноса, материализующего развитие поэтической мысли, свойственна многим поэтам модернистской ориентации. Не меньшим, чем у Цветаевой, “лица необщим выражением” отличается поэтическая система Б.Пастернака, где перенос также может принимать на себя значительную смысловую нагрузку. Одно из самых показательных в этом отношении стихотворений Пастернака — “Метель”. Так, Н.Асеев обратил внимание на то, что здесь “строфически обусловленная строка передвигается как конвейер, подставляя под удар созвучия новые части предложения” [Асеев Н. Наша рифма // Асеев Н. Дневник поэта. Л., 1929, c. 96]: В посаде, куда ни одна нога Не ступала, лишь ворожеи да вьюги Ступала нога, в бесноватой округе, Где и то, как убитые, спят снега, – Постой, в посаде, куда ни одна Нога не ступала, лишь ворожеи Да вьюги ступала нога, до окна Дохлестнулся обрывок шальной шлеи…. [Пастернак Б. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Л., 1990. Т. I, c. 94] В произведении выражены “непознаваемость мира” и круговое движение, которое в немалой степени обусловлено самим синтаксическим строем стихотворения. Регулярные строчные переносы создают ощущение исключительной монотонности, выдвигая слова, тематически связанные с идеей бесконечного, почти иррационального кружения. Говоря о содержательной роли enjambements в “Метели” Пастернака, И.П.Смирнов справедливо указывает на то, что “монотония повторяющихся переносов становится ритмической метафорой топтания на месте” [Смирнов И.П. Б.Пастернак “Метель” // Поэтический строй русской лирики. Л., 1973, с. 250]. Этот опыт, направленный на повышение семантической роли “внешних” уровней поэтической формы, не прошел незамеченным для художников, получивших прививку модернистской поэтики. Одним из них, вероятно, можно считать И.Бродского [Б.Шерр склонен усматривать в переносах Бродского влияние англо-американской поэтической традиции и, прежде всего, поэзии У.Х.Одена и Р.Уилбера (см.: Scherr B.P. Beginning at the end: Rhyme and enjambment in Brodsky’s poetry // Brodsky’s poetics and aesthetics. Basingstoke, London, 1990, p. 176-193)]. Семантическая основа его переносов уже отмечалась исследователями. В одной из строк стихотворения “Шиповник в апреле” enjambement “как бы подчеркивает кривизну, о которой говорится, а составная рифма создает почти физическое ощущение неудобства от присутствия какого-то постороннего, мешающего прямо расти объекта, – эффект, достигаемый, по-видимому, тем, что данная составная рифма является одновременно и переносом” [Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor, 1984, c. 17]. С момента переезда в США (1972) – что не замедлило сказаться на творчестве поэта – переносы становятся его яркой стилевой приметой, своеобразной “визитной карточкой”. Уже в “Сретеньи”, чей разветвленный синтаксис воплощает торжественность, значительность встречи Нового со Старым, многочисленные enjambements подчеркивают сакральность слов, конституированных ритмом: Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, Святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии; и три человека вокруг Младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро, затеряны в сумраке храма…. [Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 6 т. / Под общ. ред. Я.А.Гордина. СПб., 2001-2000 (Т. VI - ). (Изд. продолжается). Т. III, c. 13 (далее цитаты даны по этому изданию с указанием тома и страницы)] Немаловажно, что запрет на строфический перенос осуществляется только в четырех начальных строфах, где описываемое событие (композиционно ни с кем из участников не соотносимое) подается как факт, лишенный сакрального смысла. Нарушение этого запрета связано с личностью Симеона, который призван преодолеть ограниченность ветхозаветного мировосприятия, утвердив новое понимание истории: А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем Сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: “Сегодня, реченное некогда слово храня, Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, затем что глаза мои видели это дитя: он – Твое продолженье и света источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем”… (III, 13). Семантизация переноса, как видим, идет по линии, прочерченной Пушкиным: строфический enjambement маркирует появление персонажа – носителя новой “точки зрения” на происходящее — и одновременно фиксирует поворот в сюжете евангельского эпизода. Сверх того, Бродский включает перенос в систему философских представлений о бытии, что позволяет говорить о концептуализации этого элемента стихотворной формы в его поэтике. Из классической традиции Бродский наследует миметическую, подражательную функцию enjambement’а. Резкие переносы, усиленные краткостью самого размера (2–3-стопный ямб) в стихотворении “Бабочка” словно имитируют неравномерный, пульсирующий полет бабочки: I Сказать, что ты мертва? Но ты жила лишь сутки. Как много грусти в шутке Творца! едва могу произнести “жила” – единство даты рожденья и когда ты в моей горсти рассыпалась, меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня (III, 20). Бабочка мертва, в то время как сама стихотворная форма, чья динамическая упругость не в последнюю очередь создается сильными enjambements, производит впечатление особой легкости, элегантной прозрачности, материализующей эфемерную красоту насекомого. Так переносы, преодолевая печальную неопровержимость факта (“ты мертва”), позволяют в самом строении текста совершить эстетический акт воскрешения бабочки. Не менее выразительны enjambements в небольших стихотворениях Бродского (объемом 12–16 стихов), создающих однократное сильное “напряжение между языковой сегментацией текста и его стиховым членением” [Левинтон Г.А. Указ. соч., c. 260]. Здесь природа стихотворного языка с провозглашенной формалистами установкой на максимальную ощутимость формы реализуется наиболее полно. Приведу только два структурно тождественных примера rejet, в которых интонационный разрыв семантически мотивирован. Это финальные строки из известного стихотворения “…и при слове ‘грядущее’ из русского языка”, входящего в цикл “Часть речи”, и стихотворения “Только пепел знает, что значит сгореть дотла…”: ...Жизнь, которой как дареной вещи, не смотря в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи (III, 143). …“Падаль!” – выдохнет он, обхватив живот, но окажется дальше от нас, чем земля от птиц, потому что падаль – свобода от клеток, свобода от целого: апофеоз частиц (III, 305) Разрыв тесной синтаксической связи на границе строк (“часть / речи”) фактически превращает enjambement в автометаописание: прием вербализуется, получая лексическое обоснование. Перенос разбивает фразу на части и располагает их по разные стороны соседних стихов. Одна часть речи отрывается от другой, моделируя тем самым экзистенциальную участь человека в представлении Бродского. Во втором случае rejet разрывает компоненты, не допускающие дальнейшего членения на синтаксическом уровне (предлог и полнозначное слово: “от / целого”). В результате такого синтаксического разлома предлог “высвобождается” из-под власти существительного, активизируя, наряду с философской проблематикой, и политический подтекст (отчасти — благодаря полисемии словосочетания “свобода от клеток”). Здесь мы вплотную подходим к возможности неожиданных семантических сдвигов, создаваемых переносами Бродского. Дело в том, что синтагматическое прочтение стихотворного текста всегда опережает парадигматическое, собственно стиховое его прочтение. Отсюда – многозначность стихотворной речи, ее повышенная смысловая емкость, которых не знает проза как речь, разворачивающая только в одном направлении – по горизонтали. Проиллюстрируем это примерами из стихотворения “Муха”: Совсем испортилась твоя жужжалка! Но времени себя не жалко на нас растрачивать. Скажи спасибо, что – неспесиво, IX что совершенно небрезгливо, либо – не чувствует, какая липа ему подсовывается в виде вялых больших и малых пархатостей. Ты отлеталась… (III, 284). Словами “больших и малых” предложение вполне могло бы закончиться, но поэт его продолжает, используя неожиданный словесный образ, насыщенный богатством ассоциативной семантики. Слово “пархатость” отсылает сразу к нескольким словообразовательным источникам: во-первых, к бранному словосочетанию “жид пархатый” (ср. в “Представлении”: “‘Над арабской мирной хатой / гордо реет жид пархатый’” (III, 298)); во-вторых, к парше, заразной кожной болезни (соседство с мухой здесь вполне уместно); в-третьих, через паронимическую связь — к глаголу “порхать” с его значением неполноценного полета, что также согласуется с обессилившей мухой, которая “отлеталась”. XVII Снаружи пасмурно. Мой орган тренья о вещи в комнате, по кличке зренье, сосредотачивается на обоях. Увы, с собой их узор насиженный ты взять не в силах… (III, 287–288). Ритмико-синтаксический сдвиг в одной из характерных перифраз Бродского влечет за собой сдвиг в семантике, обнажая эротический план фрагмента. В условиях эсхатологической направленности бытия традиционный атрибут жизненной силы – мужской репродуктивный орган — редуцируется до механической детали (“орган тренья”), преимущество же отдается зрению как более трезвому и объективному “органу” познания, осуществляющему контакт холодного ума с действительностью. Кроме того, “Муха” содержит интересные примеры автометаописания переносов. Г.А.Левинтон связывает этот тип переноса с темой поворота, перемещения за угол, края, конца, границы, половины и т.д. [Там же, c. 267-272]. Семантика поворота (кружения, возвращения, метаморфозы), т.е. нелинейности, обнаруживается, в частности, в лексическом воплощении enjambement’а: XIV Надеюсь все же, что тебе не больно. Боль места требует и лишь окольно к тебе могла бы подобраться, с тыла накрыть. Что было бы, видимо, моей рукою. Но пальцы заняты пером, строкою… (III, 286). Мотив края, черты, границы может лексически трансформироваться в понятие времени, которое переводится в формальный план, давая толчок многочисленным переносам, акцентирующим рельефность и контурность окружающего мира: Что цвет есть время или стремление за ним угнаться, великого Галикарнасца цитируя то в фас, то в профиль холмов и кровель (III, 288–289). Мотив границы и ее перехода составляет одну из основных тематических констант поэзии Бродского. Причем проявляться он может на всех уровнях организации текста: от графики и строфики до проблематики [См.: Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского // Russ. Lit. 1995, 37, No. 2/3, p. 320-321; Венцлова Т. О стихотворении Иосифа Бродского “Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова” // Новое литературное обозрение, 1998, № 33, с. 214-216]. Но, пожалуй, наиболее захватывающий вариант преодоления границы представляет собой случай ритмико-синтаксического жеста (enjambement), чья функциональность лежит в основе поэтического мышления Бродского [Разумеется, эта семантическая мотивировка не является открытием Бродского. По наблюдению А.К.Жолковского, “образ ‘черты, границы’ - один из тех излюбленных поэтами мотивов, которые поддаются прямой проекции в формальный план, а именно - в виде переноса, акцентирующего стиховые и синтаксические границы” (Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994, с. 26)]. Отмечаемый многими исследователями парадокс состоит в стремлении поэта к созданию структурно осложненных строфических и гиперстрофических конструкций (их письменная репрезентация становится здесь принципиальной) и одновременно — к построению “спокойно прозаической, по ученому разветвленной фразы”, которая “движется вперед, невзирая на метрико-строфические препятствия” [Эткинд Е.Г. Материя стиха. СПб., 1998, c. 114]. На наших глазах “материя стиха как бы вступает в борьбу со стихотворной формой, стремится преодолеть ее от- и раз-граниченность, заполнить собой (не важно – словом ли, синтаксической ли конструкцией или просто россыпью букв) зияющую пустоту ее пробелов” [Лотман М.Ю. Указ. соч., c. 321]. Думается, такая постановка вопроса позволит аргументированно и корректно описать семантическую природу переноса у Бродского, для которого, как и для его любимого поэта – Цветаевой, этот факультативный прием превратился в один из главных ресурсов приращения смысла. [2002] Опубликовано в книге: Архетипические структуры художественного сознания. Выпуск 3. Памяти В.В.Короны. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. Александр Геннадьевич Степанов - филолог. Тверской государственный университет, каф. теории литературы. poetics@yandex.ru http://poetica1.narod.ru/sbornik/stepanov.htm