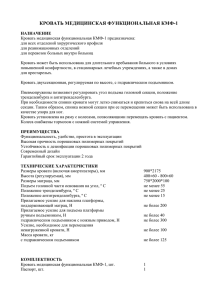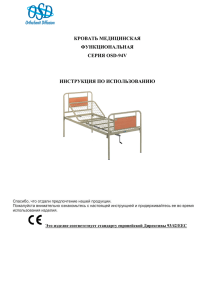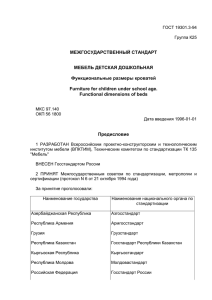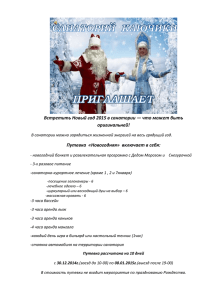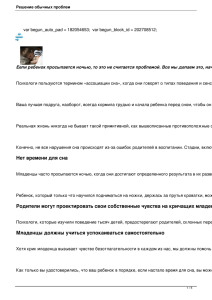Шепшелович - Александр и Лев Шаргородские
реклама

Александр и Лев Шаргородские ШЕПШЕЛОВИЧ ПОВЕСТЬ Восемнадцать месяцев своей жизни Шепшелович провел под кроватями. - Это были самые плодовитые годы, - вспоминал он. – Под кроватями я учил иврит, Тору и впервые почувствовал, насколько глупы люди. – Он тяжело вздыхал. – Лучше встретить медведицу, лишенную детей, чем глупого с его глупостью. Рома лежал под кроватями, на которых сопели и потели представители всех слоев самой передовой страны мира – партийные бонзы, ученые, латыши, биндюжники, атеисты, русские, следователи, евреи, безграмотные, украинцы и поэты – и все они несли чушь и мешали ему сосредоточиться. Он заметил, что почему-то именно в этом месте у него возникали оригинальные идеи, на которых хотелось бы сосредоточиться. Когда Рома наконец вылез из-под кроватей и стряхнул многомесячную пыль, то не задумываясь, только по скрипу, мог определить какого кровать века, где сделана и кто на ней лежит. - Под ученым, - объяснял он, - кровать поет совершенно иначе, чем под каким-нибудь счетоводом, хотя болтают они об одном и том же. Впервые под кровать Рома попал летом пятьдесят первого года, когда вся огромная страна поздравляла генералиссимуса и отца всех народов с семидесятилетием. Институты и молочные фермы, академики и доярки, колхозы и совхозы, акыны и просто поэты в стихах и прозе отправляли ему послания, полные любви и восхищения. Все газеты были заполнены поздравлениями. Короче – «Сталин наша слава боевая, Сталин нашей юности полет…» Послал свое пожелание и Шепшелович. Оно было кратким и выразительным: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Чтоб ты сгорел!» Письмо чуть было не опубликовали – в редакции никто их не читал. Обращали внимание только на первое слово – и если этим словом было «дорогой», «любимый» или в крайнем случае «родной» - тут же отдавали в печать. Хватился наборщик – его смутила краткость и первое слово – «чтоб». Никто не начинал своих посланий с этого слова. Он несколько раз перечитал текст, снимал очки, протирал и снова натягивал, потом вскрикнул и отключился. Подбежавшие мастер и начальник цеха не знали, что предпринять. Сначала они хотели порвать послание Шепшеловича, но потом мастер испугался, что начальник цеха его выдаст, начальник цеха испугался, что выдаст мастер и оба не знали, что предпримет наборщик, когда очухается. Было решено показать послание главному редактору. Редактор был оперативен: он позвонил жене – напомнил, что любит ее, сказал, чтобы она его не забывала, сообщил, что надеется лет через десять с ней встретиться и попросил упаковать теплые вещи. Потом он позвонил в КГБ, и в тот же день в Ленинград вылетела команда отборных чекистов для захвата зарвавшегося еврея – кто же еще мог пожелать конопатому горцу сгореть? Письмо пришло из Куйбышевского района – Шепшелович бросил его в почтовый ящик около своего дома – и чекисты тут же приступили к его прочесыванию. Евреев в районе было около тридцати тысяч, включая записанных русскими и татарами. Было решено отбросить стариков после восьмидесяти лет, детей до десяти, больных рассеянным склерозом, безруких и Абрама Розина – он трудился следователем в Большем доме и прислал генералиссимусу сразу две поздравительные телеграммы. На всякий случай. Шепшелович решил не испытывать судьбу и в тот же вечер укатил на поезде на Рижское взморье, к своему другу Зовше. Изя Зовша подарил Шепшеловичу несколько счастливых часов. Лучшие мгновения своей жизни он провел на его железной кровати, ржавой и скрипучей, стоявшей в маленькой каморке на Рижском взморье. Потому что Зовша давал ему ключ от этой конуры, он появлялся там с красотками – и отправлялся на седьмое небо. - Зовша, - говорил Рома, - я разбогатею и поставлю тебе бронзовый памятник. При жизни. «Дарившему счастливые мгновения», напишу я. - Это будет уже семнадцатый, - меланхолично ответил Зовша. – Все собираются ставить памятники. И все бронзовые... Когда придешь следующий раз – принеси «Рислинг» сам – у меня кончились деньги. И вот сейчас Шепшелович решил у Зовши прятаться. Он пробрался к окну каморки и заглянул в него. Изя ставил на стол бутылку «Рислинга». Потом водрузил туда два граненых стакана. Подумав, положил рядом палку копченой колбасы. Потом отломал пол-палки и спрятал обратно в шкаф. Затем сорвал 2 простыню с кровати, встряхнул несколько раз и снова постелил. Взбил две ватных подушки. «Не вовремя я, - подумал Шепшелович, - он кого-то ждет». Потом распахнул окно и вспрыгнул в комнату. Зовша вздрогнул, обернулся и обнял Рому. - Рад тебя видеть, - сказал он, - но учти – все расписано на месяц вперед. Разгар сезона. Ни одного свободного часа… Шепшелович оттолкнул Зовшу и полез на корточках под кровать. - Ты куда? – опешил Изя. - Туда, - ответил Шепшелович, - ты что – не видишь? - Подожди, у меня там носки, тапочки, чемоданы. Чего тебе там делать? - Жить, - твердо ответил Шепшелович. – Я хочу жить! Зовша был несколько обескуражен. - И долго? – на всякий случай уточнил он. – Сколько ты там собираешься жить? - Надеюсь, скоро вылезу, - ответил Рома, - сразу же, как он сдохнет. Зовша был заинтригован. - И кто же должен сдохнуть? - Усатый, - объяснил Шепшелович, - горец. Изя все понял. - Он бессмертный, - предупредил он Шепшеловича. - Ну, что ж , тогда останусь здесь навсегда, - ответил тот. – Я надеюсь, ты сможешь приютить друга под кроватью? - Что ты уже натворил? - Я поздравил нашего вождя и учителя с юбилеем. Зовша почесал затылок. - Я знаю, - сказал он, - у нас сажают за все. Разве за это тоже начали? - Я его поздравил не так, как все, - уклончиво объяснил Рома. – Я несколько разнообразил поздравления. А то все пишут одно и то же. - Теперь все понятно, - покачал головой Зовша. – Ты попросил его сдохнуть. Или сгореть. И зачем ты это сделал? - Облегчил душу, - сознался Шепшелович. – Написал то, что думаю. Имею я право хоть раз высказать наболевшее? - Хохом балайлэ! – разозлился Зовша. – Все так думают, но никто не пишет. Мог бы сказать это мне, я – тебе, мы оба были бы довольны. И потом – приехать на взморье в разгар сезона, когда здесь все шишки, все бонзы! Ты что – не знаешь, что летом все сволочи устремляются сюда? - У меня кроме тебя никого нет, - ответил Шепшелович. – А в Ленинграде нельзя – там исследуют каждый угол, каждый подвал. 3 Изя стал печален. - Ты что, не знаешь, что моя конура принадлежит народу? Что я почти не вижу своего ключа, который гуляет от Лиелупе до Вайвари? Про ключ Зовши ходили легенды – он выручал друзей и знакомых, у которых было «кого», было «чем», но не было «где». Кто только не пользовался кроватью Зовши и бутылкой «Рислинга» на столе. - Ты же знаешь – ты всегда был привилегированным, - сказал Изя.– Ты получал ключ по первому требованию. Но сейчас… Он взглянул на Шепшеловича. Тот, положив руку под голову, тихо посапывал под кроватью. - И в такой момент он может посапывать! – удивился Изя… Шепшелович отличался от всех многочисленных друзей Зовши – у него был загадочный, печальный взгляд. За этот необыкновенный взгляд его любили почти все женщины взморья. Его обожали блондинки и брюнетки, молодые и постарше, страстные и даже не слышавшие слова «оргазм». Когда в поле зрения изиной компании попадалась богиня, ни на кого из них не реагировавшая, проходившая, не поворачивая головы, даже мимо атлета и красавца Баруха, не моргнувшая при виде сексбомбы Кранца – ее проверяли «по Роме». - Рома, - говорили ему, - тебе придется поработать. Она слева, на красной подстилке, отсюда метров сто, длинная коса, длинные ноги… Шепшелович не спеша поднимался и направлялся к длинным ногам. Объект он находил безошибочно, усаживался рядом, произносил «здрасьте» - и начинал смотреть. Рома не был красавцем, не был бомбой, не блистал остроумием – он тихо и печально смотрел в глаза жертвы – и та, вначале удивленная, шокированная, возмущенная его молчаливой наглостью, где-то на третьей минуте сдавалась. Самые стойкие и выносливые сдавались на четвертой. Очевидно, что-то им виделось в его глазах необычное, загадочное, манящее. Чемпион Москвы по бегу на короткие дистанции Жора всегда включал хронометр, как только Рома начинал гипнотизировать – и за все годы только одна продержалась шесть минут, и то потому, что была подслеповатая и не сразу заметила, что Рома пристально на нее смотрит. Вскоре Шепшелович тихо уводил свою жертву – и Зовша всегда успевал незаметно всунуть в его руку заветный ключ. Все провожали его завистливыми взглядами. Иногда ему не хотелось идти. Он не был сексуальным бандитом. Иногда он бы лучше полежал на пляже. Но слава требовала. 4 Но однажды случился срыв – сколько Шепшелович не пялился – пышногрудая не реагировала. А это, как назло, был один из тех случаев, когда Рома жаждал реакции. И как можно более быстрой. И взгляд у него был самый загадочный за последние два года. Наконец, вспыхнув, красавица дала ему пощечину и ушла в сторону моря. А Рома, не произнося ни слова, схватил свои шмотки, и, не одеваясь, покинул пляж. Он не появился ни на следующий день, ни на второй, ни на третий. Компания была в шоке – решено было приступить к поискам. Через несколько дней сексбомбе Кранцу удалось обнаружить его в Меллужи, в ветхом домике, недалеко от пляжа. Перед домиком потный Шепшелович кряхтя выжимал тяжелую штангу. Он качал мускулы. Сексбомба удивленно наблюдала за ним, скрывшись за сосной. Наконец Рома положил штангу, направился к морю – и поплыл! Кранц не верил своим глазам – Шепшелович не умел плавать! Он вышел из воды, растерся махровым полотенцем, взял толстую книгу, лежавшую рядом со штангой и углубился в чтение. Изумленный Кранц тихо икнул, отделился от сосны и бросился к вокзалу. - Он в Меллужи, - доложил он компании, - качает бицепсы, плавает, читает толстую книгу. Что-то будет! А через пару недель на пляже появился Шепшелович. Его было не узнать – он стал легким, быстрым, мускулистым. Он непринужденно приблизился к той самой пышногрудой и, жестикулируя, начал что-то быстро говорить. И она смеялась! Все были удивлены, все поняли, что Шепшелович острит – этого раньше за ним не наблюдалось! Через час Рома попросил у Зовши ключ… Вскоре пышногрудая улетела в родной Мозырь – но женщины, все женщины взморья стали относиться к Шепшеловичу так же, как и ко всей остальной компании. Никого больше не покорял его взгляд. Возможно, потому, что в его глазах исчезла печаль. Кое-кто это объяснил тем, что мускулы и печаль в глазах несовместимы. Хотя загадка осталась. Видимо, для молниеносного соблазнения ее было недостаточно. Но Рома не унывал. Он валялся на пляже, прохаживался вразвалочку, плавал в море – и никто не посылал его клеить длинноногих красавиц. Постепенно у него восстановился тот знаменитый, загадочный, печальный взгляд… -…Кончай сопеть, - сказал Зовша, - через полчаса придет Арвид. Ты должен быть невидим и неслышим. Шепшелович встрепенулся, приподнял голову, треснулся о пружины кровати, воскликнул «ой!» - Кто такой Арвид? – произнес он, почувствовав неладное. - Капитан, следователь местной прокуратуры. Большая сволочь! 5 - Что?! – Рому затрясло. – Ты пускаешь в это святое святых подонков?! Раньше ты так низко не опускался! - Ша, не ори. Он будет в гражданском, а потом – голый. Ты что, боишься голого следователя? Я задвину тебя ящиком с антоновкой. Это же, кажется, твои любимые яблоки. - Не надо антоновки! – скомандовал Шепшелович. – Я не удержусь и начну грызть… Ровно в полночь пришел Арвид-белый, с мускулистыми ногами, грязными пальцами и рваными, попахивающими носками, которые бросил Шепшеловичу под нос. - Ирма, - сказал он, - поторопитесь, у меня ночной допрос, времени мало, сегодня вы разденетесь сами или как? Больше он не говорил – он пыхтел, потел, крякал, отдавал порывистые команды. Шепшелович изловчился и отбросил пахнущие носки в другой угол комнаты. Скрипучая кровать стонала под ним и, казалось, что она надтреснутым голосом поет «Вот солдаты идут…» «Неужели она так и подо мной пела?!» - ужаснулся он. Временами у Шепшеловича возникало ощущение, что Арвид вместе с Ирмой вот-вот обрушатся на него – и следователь тут же, не вставая и не натянув трусы, начнет допрос. Наконец Арвид упал с кровати. - Сука, - выругался он, - этот еврей мог бы купить кровать и пошире. Надо бы ему влепить пятнадцать суток! Потом он снова забрался, снова пыхтел и снова рухнул. Затем вскочил и забегал по комнате. - Если бы эта проклятая страна не захватила бы нас добровольно в сороковом году, - орал он, - мы бы не бегали к этому грязному еврею в его вшивую конуру! Мы бы были на нашей вилле в Дзинтари! - А почему мы сейчас не могли туда поехать? – поинтересовалась наивная Ирма. - Потому что эти подонки ее экспроприировали! Потому что там сейчас живет мой шеф, генерал, который перетрахал на моей любимой кровати всех секретарш! - Почему бы нам не встречаться у тебя в кабинете? – спросила Ирма. – Там стоит шикарный диван. - Дура, - зло ответил Арвид, - а микрофоны? - Ну и что? Трахаться – разве это антисоветский поступок? - Кретинка! Я не могу трахаться – и не проклинать эту власть! И не нервируй меня, у меня ночной допрос. Будем допрашивать 6 одного типа, который, видимо, знает, кто отправил Сталину пожелание. Этот еврей скрывается где-то здесь. Шепшелович сжался и превратился в камбалу. - Откуда ты знаешь, что он еврей? – удивилась Ирма. - А кто же еще может пожелать Сталину такое? - Дети разных народов. Почти все. И ты в первую очередь. - Но кто осмелится? Только еврей! У них иногда бывают заскоки. - С чего вы взяли, что я на взморье?! – хотелось крикнуть Шепшеловичу. – Почему бы вам не поискать на других просторах вашей необъятной родины? - Если бы он не был евреем – я бы его не ловил, - задумчиво произнес Арвид. – Но я их не люблю еще больше, чем советскую власть. После поимки я наверняка получу медаль, премию и десятидневный отпуск. Куда махнем? «Ин дер эрд ты махнешь!» - чуть было не ответил Рома. - В Палангу, - ответила Ирма. – Я давно туда хочу. Там, говорят, сексуальная сила достигает своего апогея. - Апогея она достигает на Кавказе, - объяснил Арвид, - туда и махнем! Он уже оделся и искал носки. - Где носки, - орал он, - я опаздываю! - Почему это еврея нельзя допрашивать без носков? – удивилась Ирма. Арвид ползал по полу, рычал – наконец нашел носки – и они вылетели из комнаты. - Иди, иди, - бросил вдогонку Шепшелович, - допрос не ждет. Апогея тебе, сука, захотелось!.. После этой пары Рома вздремнул и проснулся от ржавчины, которая свалилась на него. На кровати происходило баталище. Там, видимо, работал спортсмен-тяжеловес. Шепшелович неохотно вспоминал то, что он вытворял с какой-то Нинель Кузьминичной. В пылу страсти он вскакивал с кровати и с ревом выжимал все – шкаф, буфет, стол и дважды пытался выжать кровать. И дважды Шепшеловичу голосом Нинель Кузьминичны пришлось крикнуть: «Ой, не надо! Лучше меня!» И спортсмен кидался на обезумевшую от страсти Нинель Кузьминичну. Потом он ее выкинул в окно. И выпрыгнул сам… На взморье под кроватью Шепшелович многое узнал – Зовша уважал науку, сам чуть было не защитился – и давал ключ многочисленным кандидатам наук, младшим научным сотрудникам и даже одному члену-корреспонденту. Членкор был стар, он улегся в 7 брюках и пиджаке. Сусанна была бела и грудаста. Она заняла всю кровать, и членкор пристроился где-то с краю. Вместо того, чтобы заниматься любовью, он рассказывал Сусанне про болезни земли – он был доктором геолого-минералогических наук. - Сусанночка, - говорил он, - вы, наверное, думаете, что земля круглая и гладкая? - Да, именно так я думаю, - отвечала она и удивлялась: А разве это не так? - Так, так, - успокаивал членкор, - но в земле есть трещины, на них и возле жить не рекомендуется – человек плохо себя чувствует, у него ломит тело, кружится голова, нет сил, ему плохо. - Как я вас понимаю, - бормотала Сусанночка. Шепшелович лежал под кроватью и думал, что он все время живет на трещине, и не пора ли ему перебраться туда, где трещин нет, и пожить немного нормальной жизнью. Но где она – эта земля без трещин? - В Израиле, - донеслось с кровати. – Я изучаю этот вопрос тридцать лет и нашел такое место – Израиль! Там нет ни одной даже самой маленькой трещины! - Григорий Морицович, мы с вами, слава Богу, не в Израиле, сказала Сусанна и перекрестилась, - мы встречаемся пятый раз и все время вы читаете какие-то странные лекции. Мы не в Университете, Григорий Морицович, мы в постели. Может, вам стоит попробовать снять брюки? Без брюк другой эффект, поверьте мне. Я уже спала с мужчинами на трещинах, на холмах, во впадинах – и все получалось. - Я их, конечно, могу снять, - печально отвечал членкор. – Я это делаю довольно быстро. Но разве в них дело?.. Это был удивительный человек. Благодаря ему Шепшелович узнал всю нашу землю и все ее камни, и для чего тот и этот. - Александрит, Сусанночка, - вещал он где-то в три часа ночи, замечательный камень, он от сердца, нефрит – от почек, аметист… Григорий Морицович, - вдруг вспоминала Сусанна, - у меня что-то такое с сердцем. Что-то не то… И вскоре членкор притаскивал ей перстень с александритом. - Григорий Морицович, что-то почки начали пошаливать. Ни с того, ни с сего… - Ах, бедняжка! – вскрикивал ученый и во время следующей встречи одевал ей на руку нефритовый браслет. Однажды Сусанночке понадобился жемчуг. - Зачем он вам? – удивился членкор. – Он от простаты. - Мне кажется, она у меня есть, - сообщила Сусанна… Больше они на кровати не появлялись. Шепшеловичу было тоскливо без членкора. - Куда подевался Григорий Морицович? – спросил он Зовшу. 8 Изя стал печален. - Он таки попал в трещину, - объяснил он. - Как?! – удивился Рома. - Он сделал доклад в Академии Наук, в котором доказывал, что в Израиле нет трещин. Больше его никто не видел… Регулярно по средам приходил мужик с глухим голосом, видимо, чокнутый. - Давненько я не раздевал баб, - ржал он, - вы не подскажете, как расстегнуть лифчик? После половых актов его тянуло на откровенность. Он выпивал бутылку пива, закуривал, бросал спичку под кровать – прямо на Шепшеловича, и начинал. - Аделаида, - говорил он, - я должен вам открыть один секрет. - Я готова, - отвечала Аделаида. – Открывайте! - Но одно ваше неосторожное слово – и мы никогда больше не сомкнемся в объятиях. - Могила! – отвечала Аделаида. – Я хочу смыкаться! Чокнутый понижал голос: - Я убил Троцкого! – заявлял он. - К-как?! – вздрагивала Аделаида. - А вот так, - спокойно отвечал Кукорин и принимался душить Аделаиду. В следующий раз все повторялось. - Аделаида, я должен вам раскрыть секрет. Но одно ваше слово – и… Я убил Распутина! - К-как?! – вопила Аделаида. - А вот так, - и Кукорин с наслаждением душил ее. В общей сложности он прикончил человек двадцать, в том числе царя Николая II. После цареубийства Аделаида исчезла. На кровати лежал голый Кукорин и со злобой повторял: - Монархистка проклятая! Царя она, видите ли, мне простить не может! Кольку кровавого! Как-то вечером Зовша сообщил Шепшеловичу: - Расширяю географию. Скоро появится иностранец. Веди себя достойно – не урони честь советского человека. - Поляк, чех? – деловито поинтересовался Рома. - Не из нашего лагеря. Этих я понимаю, - ответил Зовша. – Интеллигент! – Он задумался. – Нет, этот точно не из нашего лагеря! Вскоре появился интеллигент. Но вначале Шепшелович увидел высокую блондинку, с трудом протиснувшую свой бюст в двери. 9 «Габариты прибывающих растут, - подумал Рома, - надо бы Изе заменить двери». Следом за ней появился маленький, худой и печальный иностранец. - Натали, - лепетал он по-французски, - позвольте вас увезти в Париж. Этот сказочный город создан для вас, для нашей любви. - Мишель, - жеманно пропела Натали, - я не понимаю, чего вы там бормочете. Но я догадываюсь. Я уже десять лет догадываюсь – и еще ни разу не ошиблась. И она ловким движением сбросила платье. Мишель умоляюще взглянул на нее и воздел руки к потолку. - Не торопитесь, - запричитал он, - ла кроват – это замечательно, я очень люблю ла кроват, но сначала дайте мне ваше согласие – и мы сольемся в объятиях. Но Натали уже барахталась в «ла кроват», хохоча и маня пухлой ручкой печального француза. Шепшеловичу захотелось вылезти из-под кровати и объяснить этой рижской дуре, что французик в нее втрескался, что он предлагает ей свою роскошную кровать в самом прекрасном городе мира. Он хотел перевести ей слова этого печального парижанина, и даже добавить кое-что от себя, чтобы эта кретинка вылезла из кровати, обвила своими руками тонкую шею Мишеля и сказала: «Мой милый, я согласна, я люблю тебя, вези меня в свою «ла кроват». И чтобы сказала она ему это по-французски – он бы помог ей объясниться. Потому что Шепшелович знал французский язык. Когда ему было одиннадцать, мама каждый день занималась с ним языком. Мама спасала семью от ссылки… - Ну что ты тянешь, котик, - доносился с кровати лепет Натали, твоя птичка не любит ждать. «Стерва ты, а не птичка!» - подумал Шепшелович и перенесся в далекий тридцать восьмой, в маленькую квартирку на Владимирском, к круглому столу под красным абажуром с бахромой, и еще совсем молодым маме и папе. Папа листал газету, мама проверяла тетрадки, а он о чем-то думал. В те далекие времена он часто думал. Гораздо чаще, чем теперь… Папа отложил «Правду» и что-то собирался сказать ему, он уже открыл рот – но Рома вдруг схватил газету с огромным портретом Сталина на первой странице и изорвал ее в клочья. Несколько неожиданно для самого себя. Мама оторвала глаза от тетрадок и чуть не потеряла сознание. До этого «Правду» рвал только папа, в полном одиночестве, и тут же бросал ее в пылающую печь. - Зачем ты это сделал? – спросила мама слабеющим голосом. - Мне не нравятся его усы! – ответил Рома. Мама тихо отключилась, и тут вступил папа. - Мало кому что не нравится! – орал он. – Мне не нравится моя зарплата, как ты учишься, мамино красное платье, наконец! 10 - Так порви его, - посоветовал Рома. Папа забегал по комнате, схватил красное платье, чуть не порвал его– но вовремя опомнился. - Чтобы ты не смел больше брать газету в руки! – крикнул он. – Руки прочь от «Правды»! На его усы надо молиться! И на его добрую, мудрую улыбку. И даже на его уши. Понимаешь – молиться! Папа аккуратно склеил разорванного Сталина и положил его в шкаф, между пододеяльниками, где он и пролежал до пятьдесят третьего… Вскоре в квартире появился маленький, испуганный человек. - Могу я говорить с вами, как еврей с евреем? – осторожно спросил он папу. - А вы еврей? – уточнил папа. - Увы, - тяжело вздохнул гость. – Мне кажется, можно было бы не уточнять. - Тогда говорите, - разрешил папа. Гость затянул на окнах занавески, накрыл подушкой телефон, зажег примус и поставил на него чайник. - Пусть шипит, - пояснил он. Папа с удивлением следил за его действиями. - Простите, - произнес он, - это вы уже говорите? - Я принимаю некоторые меры предосторожности, - пояснил гость и понизил голос. – У вас хороший слух? Потому что я буду шептать. - Шепчите уже, - раздраженно прошептал папа. - Ваш сын, - прошептал гость, - сказал сегодня моей дочке, что дорогой товарищ Сталин – грузин! - А что – это не так? – зашептал в ответ папа. - Но он объяснил – какой, - гость приблизился вплотную к папе и впился губами в его ухо. – Он сказал – грязный! Надеюсь, вы понимаете? Папа отодвинулся, достал платок и прочистил ухо. - Что будем делать? – уточнил гость. – А? - Отмывать! – брякнул папа и добавил: - Я надеру ему уши! Я набью ему морду! Я вырву ему язык! Я… - что делать еще с сыном, он не знал. – Он никогда больше не подойдет к вашей дочке. Он будет ее оббегать! Я обещаю! Как ее зовут? - Мириам, - испуганно сообщил гость. – Но дома мы зовем ее Мара. А в школе она Зина. Запомнили? - Как ее зовут на катке? – уточнил папа. - Вы еще шутите, - покачал головой гость. – Я не шучу с двадцать восьмого. Или даже с двадцать шестого… Короче, я к вам не приходил. И вообще вы меня никогда не видели. - А вы – меня? – прокричал вслед гостю папа. Но тот уже несся вниз по лестнице… 11 - Я надеялся, что ты будешь несколько умнее, - сказал вечером папа Роме. – При таких родителях, как у тебя, это раз плюнуть. Мне казалось, что ты любишь Ленинград и нашу квартиру. И своих друзей. И булку с маслом и сахаром. Зачем же ты хочешь, чтобы мы все переехали в магаданские бараки? Причем в разные. Возможно, ты заметил – наши соседи по площадке туда недавно отправились. Рома слушал молча, сосредоточенно, и даже пару раз кивнул головой – и папе показалось, что он его убедил. Но вскоре его вызвала учительница. - Анна Михайловна, - сказал папа, - мне кажется, что вы хотите говорить со мной, как еврейка с евреем. - Сегодня я не еврейка, - Ефим Наумович, - отрезала учительница и тряхнула головой, как бы стряхивая остатки своего еврейства. – Я не могу ей быть, когда они вытворяют такое… - И не надо, - разрешил папа, - не будьте. - Я рассказывала на уроке об этих ничтожествах из троцкистского блока, - Анна Михайловна скривилась, продемонстрировав, как они ей отвратительны, - обо всех этих бандитах, которые хотели свернуть нас с ленинского пути… - И сталинского, - напомнил папа. - Да, да, и сталинского, - добавила Анна Михайловна. – А он… А он… - Я ему надеру уши, - пообещал папа. – Скажите мне, что сказал этот паршивец, и я выдерну из штанов ремень! И папа расстегнул пиджак и выразительно показал на широкий ремень с толстой бляхой. - Он ничего не сказал, - сообщила учительница, - он меня разглядывал. Он впился в меня глазами. Он смотрел на меня, как на круглую дуру! Анна Михайловна была похожа на скумбрию, стоящую вертикально. - Ну какая же вы круглая! – возмутился папа. – Я ему покажу смотреть на вас, как на круглую! И он начал вытаскивать из штанов ремень. - Дома, - предложила Анна Михайловна, - достанете ремень дома. И подозрительно взглянула на папу. - А вообще-то, Ефим Наумович, яблоко от яблони… - Я не яблоня, - оборвал ее папа, - я вижу себя скорее пальмой. Или эвкалиптом. Я еще не решил… Вскоре папа заметил, что соседи по дому стали на него странно посматривать. Некоторые перестали здороваться, кое-кто вообще отворачивался, профессор из второго подъезда, приподнимавший при встрече галантно шляпу, сейчас при виде папы ее нахлобучивал, а проститутка Тоня с третьего этажа показала ему свой обложенный язык. «Раньше ты хотела мне показать другое», - вспомнил папа. 12 Дома его уже поджидал директор школы. - Хотите, я поставлю на плитку чайник? – спросил папа. - Зачем? – не понял директор. - Чтобы шипел, - объяснил он. Директор подозрительно взглянул на папу. - Сегодня ваш сынок, - начал он, - задал вопросик. «Если наша власть такая замечательная – почему у нее столько врагов? И почему их становится все больше и больше?» - А действительно, почему? – поинтересовался папа. - Как, и вы не понимаете? – удивился директор. - Честно признаться – нет. Директор тяжело опустился на стул, забросил ногу на ногу и попросил папу поставить чайник. - Выпьем с вами чайку, Ефим Наумович, - предложил он. И закурил. Я – историк, я – кандидат наук, я чуть не стал депутатом – но я тоже не знаю, откуда их берется столько, этих врагов. Только в нашем подъезде уже выявили четверых, причем одна – выжившая из ума девяностолетняя старуха, которая давно уже не знает, при какой власти она живет. Я, стареющий мудак, не понимаю, что происходит вокруг меня. Но одно я знаю точно – я хочу умереть в своей постели. Лет через двадцать-тридцать. Я не тороплюсь. Вы не против, чтобы я отдал концы в своей постели? - Я – за, - растерянно ответил папа. – В конце концов, это законное право каждого человека отдавать концы там, где он хочет: на войне, на дуэли, на виселице, в постели. - Я не сомневался, что вы меня поймете, - облегченно вздохнул директор. – Значит, с завтрашнего дня мы вашего Рому больше не увидим? - Где? – не понял папа. - В нашей школе, мы же договорились. Его с удовольствием возьмут в любую другую. Директор полез в карман пиджака и достал оттуда сложенный листок бумаги. - Это характеристика, - пояснил он. – Вот, пожалуйста, - он развернул листок: «Умный, находчивый, сообразительный: оригинально мыслящий, схватывающий все на лету, удивительные математические способности». Математика – для отвода глаз. Если что-то не устраивает – перепишите сами, я подпишу. Директор поднялся, обнял папу, пустил слезу. - Такого ученика теряю, - бросил он и исчез. - Чайку попить забыли, - крикнул папа вдогонку… Вечером он принес из подвала три запыленных саквояжа и молча начал паковать вещи. Каждому – в свой саквояж. 13 Мама, оцепенев, следила за его действиями. - Дай ему несколько кусков мыла, - попросил папа. – Пусть он хоть там моется, паршивец! - Фима, - тихо прошептала мама, - ты чокнулся. - Не спорю, - согласился папа, - очень может быть. В наше время это неудивительно. – Он вздохнул. – Пойми, есть такой тип людей, которых не остановить. Они говорят, что думают – а потом уже думают, что сказали. Он весь в деда! Тот отправился в Сибирь в тридцать четвертом, этот нас отправит туда в тридцать восьмом… Подай-ка лучше мои тапочки! И тут мама взорвалась и бешеный огонь загорелся в ее глазах. - Не смей трогать моего отца! – крикнула она. – И распаковывай саквояжи! Не мни вещи! Мне некогда их гладить! Я заставлю этого паршивца выучить французский! Папа отпрянул от саквояжей. - По-моему, чокнулась ты, - сказал он. – Причем тут французский? Или они с ним не ссылают? “Parlez-vous français?” – уточняют они, и если ты отвечаешь: “Oui, je parle” – они извиняются и оставляют тебя в покое? - Этот кретин будет задавать свои идиотские вопросы пофранцузски, - объяснила мама. – Я выработаю в нем условный рефлекс, как у павловской собаки: хочешь что-то не то брякнуть – брякай по-французски! И никто ничего не поймет! Растеряется, удивится – но не поймет. И мы будем спасены! Даже на Анну Михайловну он будет у меня смотреть пофранцузски! В новой школе Рома учился отлично, полностью соответствовал директорской характеристике, но случалось, что учителя вдруг переставали его понимать. - Ты что-то спросил, - растерянно произносили они и добавляли: вроде не по-русски. Но Шепшелович уже очухивался, он уже приходил в себя. - Я не понимаю, почему тела при нагревании расширяются? – произносил он с невинным видом. Иногда он спрашивал, когда кончился ледниковый период, залезал ли Архимед в ванну, чтобы открыть свой закон и чему равен куб гипотенузы. Учителя странно смотрели на него, грустно улыбались и продолжали урок. - У него бывают заскоки, - говорили они, - что вы хотите – талантливый! Талантливые все чуть-чуть того… …Кровать дрожала, пружины скрипели и изредка прижимали Шепшеловича к полу. - “Encore, - стонала Натали, - Encore, mon chéri!” «Заговорила по-французски», - удивился Шепшелович. 14 - Ты таки блядь, Натали! – тяжело дыша, прохрипел Мишель. Порусски… Иногда на кровати с чувихой появлялся Зовша. Никто не помнил случая, чтобы он с кем-нибудь переспал. Зовша вел в постели интеллектуальные беседы. Шепшелович засыпал под теории доктора Фрейда и просыпался под Сальвадора Дали. Но однажды Изя долго говорил о любви, читал Петрарку и, наконец, тяжело запыхтел. Несколько минут спустя девичий голос пропел: - Вы сегодня были восхитительны! - Я всегда такой, - с гордостью ответил Зовша. – Если желаете – можем повторить. Двенадцать раз они любили друг друга. Шепшелович никогда бы не мог подумать, что в Зовше спит такой сексуальный гигант. - Еще, - просил девичий голос. – Ну, пожалуйста, что вам стоит. - Вы какая-то ненасытная, - недовольно произнес Изя, - зачем вам столько? Это разрушает ваш неокрепший организма… И вообще я не в духе. - Что такое, любимый? - Вы разве не знаете, - удивился Зовша, - что на свете живет одна сволочь, которая пожелала нашему дорогому товарищу Сталину, чтоб он сгорел? - Не может быть! – взвизгнула девица. - И эта сволочь, - продолжил Зовша, - под нашей кроватью! И мечтает о земле без трещин! Кровь ударила в голову Шепшеловича. Это говорил человек, которому он собирался поставить бронзовый памятник! - Ай, что вы говорите! – пискнула девица. – Его надо немедленно вытащить и отрезать ему… - Ах ты подонок, предатель, изменник, - Шепшелович выскочил из-под кровати, – я тебя сейчас… На кровати лежал один Зовша с томиком Петрарки и дико ржал, корчась от смеха. - За такие шутки тебе следовало бы действительно отрезать..., обиженно начал Шепшелович. Но в двери уже стучались Арвид с Ирмой. Шепшелович залез под кровать, Зовша, прихватив томик Петрарки, ушел. Арвид явно торопился, запутался в штанах, повалил трюмо, повалился сам. - У меня времени мало, - ворчал он, вставая, - вы разденетесь сами или как? 15 - Опять допрос? – печально спросила Ирма. – И где вы столько людей находите, чтобы допрашивать? - Сегодня берем еврея, который пожелал этому подонку сгореть. Он в Майори, где-то в лесу, на дереве, с автоматом Калашникова. Возможно, придется стрелять. Арвид взобрался на Ирму, начал сопеть, пыхтеть и снова упал с кровати. - На правую руку, - стонал он, - а именно ею придется стрелять. Потом он встал, закрыл глаза, положил руку на лоб. - Стрелять или не стрелять – вот в чем вопрос, - задумчиво произнес он. – Стрелять в того, кого я ненавижу, чтобы спасти того, кого бы я убил? Над ответом Арвид мучился недолго. - Стрелять! – решил он и попросил Ирму помочь ему натянуть штаны. - Как бы тот еврей не бежал из леса, пока мы здесь с вами трахаемся, - добавил он. Как-то в хате Зовши появились трое мужчин. - Вылезайте, Шепшелович, - торжественно произнес один из них. – Мы вас давно ищем! Шепшеловича бросило в пот, он тихо произнес «Шма, Исраэль» молитву, которую когда-то слышал от деда – и вылез. Мужчины отдали честь и застыли. Шепшелович удивился. - Ну, и долго мы будем так стоять? – поинтересовался он. – Берите меня и ведите. Я только сбегаю в туалет. Я давно уже туда хочу. Он сбегал, потом положил в сумочку бутылку «Рислинга» и пару яблок. - Вы не против? – спросил он. – А то я тут под кроватью пристрастился к вину. Да и яблочки люблю погрызть. И Шепшелович двинулся к двери. - Вы куда, Шепшелович? – спросили его. - Я не понимаю – мы идем или нет? - Ночью, - ответили все трое. Хором. - Так чего же вы пришли сейчас? – удивился Шепшелович. – Вот и появились бы ночью! - Надо кое-что обсудить. Откуда начнем. Что будем брать вначале – Совмин, почту или телеграф? Шепшелович испугался, но виду не подал. - Почему решили обсудить именно со мной? – строго спросил он. 16 - Потому что только такой мужественный человек, как вы, может возглавить нас, - объяснили ему. – Мы бы давно выступили – не было вождя. «Двинутые, - испугался Шепшелович, - как они меня нашли? Сдвинутым иногда доступно то, о чем нормальные и не мечтают. Однако, надо взять себя в руки. Надо помнить, что я – вождь». И Шепшелович гордо задрал голову. - Господа, - произнес он. – Я надеюсь, что мы будем говорить друг другу «господа», а не «товарищи»? - Мы делаем это уже полгода, - сообщили чокнутые. – За «товарища» штрафуем. Банкой пива. - Слабо, - недовольно заметил Шепшелович, - надо жестче! Надо бы, - он задумался, - штрафовать икоркой! И не меньше одного килограмма за одного «товарища»! Шепшелович обожал икорку, хотя почти никогда не мог ее себе позволить. - Будет сделано, - отрапортовали господа. - То-то! – бросил почему-то Шепшелович. – Кто выступает вместе с нами? - Дети разных народов. Есть даже пару эскимосов. - Это хорошо. Правильным путем идете, господа, - одобрил он и вдруг с ужасом заметил, что начал картавить. – Они нам пригодятся, батеньки. А как обстоят дела с коренной национальностью? Не забудьте – она и только она решает все! - Латыши с нами! – отрапортовали господа. – И Заедонис, и Лацманис. Шепшелович заложил руки за спину и быстро зашагал по комнате. - И никакого Совмина, господа! – бросил он. – Вначале берем вокзал и аэропорт. И правительственные гаражи, - добавил он. Предложение Шепшеловича явно нарушало планы заговорщиков. - Мы думали их брать во вторую очередь, - сообщили они. - В первую – и только в первую! – прокартавил Шепшелович. – Чтобы никто не успел удрать. Убежавшие частенько возвращаются назад, батеньки! Такие случаи уже встречались в мировой истории. Нам это не нужно! Правильно я говорю? Заговорщики согласно закивали головами. - Но учтите, господа, я не умею стрелять, - добавил Шепшелович. – Я, как вам, наверно, известно, занимался несколько другими проблемами. И он, хитро прищурив глаза, взглянул на гостей, давая понять, какими именно проблемами он занимался. - Мы тоже не умеем, - успокоили господа. – Это нам не понадобится. Будем брать тихо. Без единого выстрела. - Мудро! – заметил Шепшелович, приблизился к одному из господ и долго смотрел ему в глаза. 17 - А вы, кажется, нездоровы, батенька мой, - произнес он. – Отправим в санаторий. Обязательно отправим. Вот освободим республику – и махнете… Когда планируете брать город? - Утром город должен быть нашим! – отрапортовали господа. - Расплывчато, батеньки, расплывчато, - Шепшелович был недоволен. – Рано утром! – он поднял вверх палец. – До рассвета. До первых петухов. Когда товарищи еще спят. Просыпаются – а они уже не товарищи, они – господа! Шепшелович хитро улыбнулся. Заговорщики восторженно зааплодировали. - Но сегодня рано, - добавил Шепшелович, сунул пальцы подмышки и задумался. – И завтра тоже рано! - А когда же не рано? – удивились господа. - Э-ээ, батеньки мои, - произнес Шепшелович и постучал костяшками пальцев по лбам господ, - думать надо, думать. Чтобы была гарантия успеха – выступаем в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое! Это уже проверено! И он вновь сощурил глаза и изобразил на лице хитрую улыбку. Господа были в шоке. - Как мы раньше об этом не догадались, - пробормотали они. - Первое заседание подпольного революционного комитета считаю закрытым, - объявил Шепшелович. – Собраться всем двадцать пятого! В полночь! Около зовшиной хаты справа. Выступать будем отсюда. Члены ревкома отдали Шепшеловичу честь и удалились. Вечером Шепшелович рассказал Зовше о происшедшем. - Я должен срочно сматываться, - закончил он, - сегодная рано, но двадцать пятого будет поздно! Зовша предложил ему солнечную Грузию – в Тбилиси жил его друг Гурам. - Я согласен, - сказал Шепшелович, - когда выезжаю? - Откуда я знаю, - раздраженно ответил Зовша. – Ты можешь ехать поездом, лететь самолетом? Тебя надо вести тайно, как контрабанду, как наркотики. Как революционного вождя, наконец! Я должен задуматься! Он взял на работе три дня за свой счет и начал носиться по Риге в поисках приятелей, которые помогут тайно перевезти Шепшеловича. Кто-то предложил отвезти его в Тбилиси в багажнике своей машины. - Отпадает, - сказал Шепшелович, - не доеду. Задохнусь, у меня слабые легкие. Мне нужен простор. Да и милиция может остановить машину на любом перекрестке. Открывает багажник – а там Шепшелович! 18 И тогда Зовша нашел милиционера. Он пообещал ему десять ночей в своей хате – и тот взялся доставить Шепшеловича в Тбилиси в коляске мотоцикла. - Не пойдет, - отрезал Шепшелович, - я схвачу ангину на двадцатом километре! У меня слабое горло. Зовша заметался и каким-то образом вышел на Чрезвычайного представителя Грузии в Латвии товарища Кобелидзе. - Отправлю его в запломбированном вагоне, - пообещал Кобелидзе, - с дипломатической почтой. Черт его знает, что Зовша пообещал ему за эту услугу. - Только чрезвычайные обстоятельства заставили меня пойти на это, - туманно сообщил он. – Скажи мне кто-то минутой раньше, что я могу пойти на подобное – я бы набил ему морду! Хотя и не бил никогда в жизни. Да, - добавил он, - жизнь заставляет человека многое делать добровольно. Я бы ради мамы и папы этого не сделал. И даже для любимой девушки! Хотя любимой девушки у него почему-то никогда не было… Шепшелович уже готовился влезть в вагон, он даже попросил Зовшу узнать, будут ли на него, Шепшеловича, ставить пломбу – но тут выяснилось, что почты у Грузии мало, на вагон не тянуло, и ее отправят в нескольких мешках. Отправляться в мешке Шепшелович категорически отказался. Даже с пломбой… Пока Зовша носился по Риге, на его кровати появился лысый майор милиции. Он пришел с молодой грудастой дамой и тут же начал командовать. - Младший лейтенант Урусова, я вам даю на все необходимые приготовления тридцать секунд, - строго произнес он и засек время. Младший лейтенант начала лихорадочно скидывать одежды. В кровать она прыгнула через двадцать восемь секунд. Майор не торопясь расстегивал китель. Через несколько минут забрался и он. Майор знал двадцать семь различных поз любви, и все они были пронумерованы. - Младший лейтенант Урусова, - скомандовал он, - займите четырнадцатую позу! Минут через десять он приказал сменить четырнадцатую позу на третью. - Что-то мне надоела эта четырнадцатая, - прохрюкал он. – Она какая-то неэстетичная и требует большого физического напряжения. Займите-ка третью – и побыстрее! 19 - Товарищ майор, - пискнула Урусова, - что вы все время командуете? Мы же не в отделении милиции. Можете и попросить. Не отпадет у вас… - Не забывайтесь, младший лейтенант, - прорычал майор. – В данный момент вы выполняете срочное оперативное задание! И запомните – там, где я – там и милиция. Сейчас она в кровати! Они сменили еще пару поз, после чего майор объявил, что оперативное задание с успехом выполнено и приказал одеваться. Уже уходя, Урусова сообщила майору, что у нее есть веские основания опасаться мужа. - Полрайона знает о нашей связи, - сказала она, - не сегодня-завтра узнает и он. А он горячий… - В моем районе можешь никого не опасаться, - произнес майор, и они покинули хату. Фраза, брошенная майором, показалась Шепшеловичу знакомой. От кого-то он уже слышал ее. Он напрягся и вспомнил – от Зовши! А Зовше эту фразу говорил капитан милиции – и неоднократно… - Сегодня на кровати был тот самый капитан, - подтвердил Зовша. – Сейчас он майор. Его повысили за четкое выполнение оперативных заданий. Если хочешь, за доблесть… А в чем дело? - Жопа, - раздраженно произнес Шепшелович, - я должен все помнить! Ты познакомился с ним благодаря колбаскам твоего дяди. А твой дядя может все! Он может меня отправить в Тбилиси в машине с крупным рогатым скотом. Двадцать четвертое уже на носу! Зовша схватился за голову, прокричал: «Какой я мудак!» и бросился к дяде. Дядя Зовши Наум Степанович работал начальником транспортного цеха на рижском мясокомбинате. Он обожал своего племянника и откармливал его. Каждый день в разбухшем потертом портфеле он тащил ему копченые колбаски, сосиски, шпикачки, окорока. Все было отменного качества, в магазинах не появлялось и предназначалось исключительно для членов ЦК. - В чем-то я живу не хуже, чем член, - говаривал Зовша. Наум Степанович люто ненавидел всю эту мелуху и твердо заявлял, что он ничего не крадет – он мстит. - Как я еще могу им отомстить за все наши цорес? – говорил он. – Если я скажу хоть слово – я замолчу навсегда. Все эти вынесенные шпикачки – это им мой кукиш, мое презрение, моя ненависть. 20 Он был далеко не единственным на комбинате, кто мстил советской власти. Этим занималась добрая половина сотрудников. Короче, кто мог – тот и мстил… Зовша был популярен в Риге не только благодаря своей взморской даче, но и потому, что у него всегда можно было раздобыть одну-две колбаски или связку сосисок. Близким приятелям он обеспечивал торжества, именины, свадьбы. - Старик, - намекали ему, - через пару недель у меня свадьба. Надеюсь, ты не забыл? Будешь почетным гостем – посажу по левую руку от невесты. На свадьбе женихи поднимали за него тосты и иногда даже при крике «горько!» позволяли вместо себя целовать невест. Летом пятидесятого Зовшу прихватили. Он сидел с двумя приятелями на дюнах, жевал колбаски и запивал кагором. И в этот самый момент над ними навис неизвестно откуда появившийся капитан милиции. Все как по команде перестали жевать, а у одного даже застрял кусок в горле, и Зовша бил его ладонью по спине. Капитан долго и подозрительно разглядывал приятелей, втягивал носом воздух и наконец решительно произнес: - Такое купить нельзя! Такое можно только стащить! Откуда стащили? Зовша принялся путанно объяснять, что вчера вечером эту вкуснятину выбросили в магазине на Лачплешиса. - Этого никогда не было и скорее всего не будет, - философски заметил капитан и вновь втянул носом воздух. – Так пахло только на даче Лациса, шестого февраля, когда я ее охранял. Это пахнет… Капитан задумался. - Восхитительно! – подсказал Зовша. - …минимум пятью годами с последующим поселением, закончил капитан. И попросил пройти с ним. Зовша побледнел. - Мы пройдем, - пообещал он, - но давайте сначала закончим. Чтобы не таскаться. Присаживайтесь. И капитан присел. Шпикачки с колбасками он не ел – он заглатывал их целиком. Потом запил бутылкой кагора. - Я – добрый, - сообщил он и несколько раз икнул. – Мама мне всегда говорила: «Коленька, сынок, - меня звать Николаем, - будь добр с людьми, и они тебе отплатят тем же». - Правильно говорила мама, - подтвердил Зовша, - конечно тем же. - Вы еще молодые, - продолжил капитан, - зачем вам пять лет… минимум… и еще это поселение. Там же холодно. Пурга, вьюга, ураган. Вас может унести… 21 - Вы правы, - поддакнул Зовша, - нам это не нужно. Мы не хотим, чтобы нас унесло. Капитан глубоко задумался. А, возможно, и вздремнул. Он открыл глаза минут через пятнадцать. - Кажется, я нашел выход, - сообщил он. – Свяжитесь с моей женой. Она имеет на меня огромное влияние. Если вам удастся ее убедить, что вас не надо сажать, что вы – полезные члены нашего общества, - он выразительно взглянул на Зовшу, - так и быть, буду добрым, как просила мама. И капитан пустил слезу. - За такую маму надо выпить! – твердо произнес Зовша. - Ее уже нет. - Все равно, - настаивал Зовша, - есть, нет – не имеет никакого значения! Он разлил по стаканам, все выпили, капитан оставил телефончик, расцеловал всех, распихал по карманам оставшиеся колбаски – и удалился. А Зовша бросился к телефону, позвонил дяде и сделал большой заказ. - Кинахоре ныт! – обрадовался дядя, - хорошо кушаешь! Он не знал, что Зовша раздает колбасу приятелям, а вот сейчас коечто подбросит доброму капитану с такой доброй мамой… Очевидно, жена действительно имела огромное влияние на капитана, потому что уже через день, при встрече капитан отдал ему честь и заявил: «В моем районе можешь никого не бояться!» Потом он повторял эту фразу довольно часто – то ли для того, чтобы Зовша, не дай Бог, не забыл об этом, то ли намекая, что он может быть смелым в его районе при определенном условии… Через час Зовша уже был в Риге, на мясокомбинате, у дяди. - Ну, что же, будем спасать, - сказал Наум Степанович, - мудаков тоже надо спасать. - Почему, - удивился Зовша, - почему Рома – мудак? - Кто же так борется с этой властью? – ухмыльнулся дядя. Очевидно, свой путь борьбы он считал более эффективным… - Я ведь уже одного спас, - сообщил Наум Степанович, - тоже мудака. Дал по харе полковнику ракетных войск. Тот ему что-то сказал – то ли «жидовская морда», то ли «пархатый» - он и размахнулся. Полковник заорал на весь Латвийский военный округ: «Евреи хотят обезглавить нашу армию и военно-морской флот!» и грозил ему трибуналом. Пришлось срочно вывозить. Дядя открыл толстую тетрадь, лежавшую на столе. 22 - Ближайший транспорт в Тбилиси в среду, двадцать четвертого, сказал он. – Машина будет у дачи в шесть утра. Скажи мудаку – пусть будет осторожен. Крупный рогатый скот не любит, когда человек с ним заигрывает. Едой на дорогу обеспечу. Рано утром Шепшелович вылез из-под кровати, отряхнулся, обнял Зовшу, передал пламенный привет членам революционного комитета и побрел к машине. Он начал неумело забираться в кузов, но тут племенной бык ловко подхватил его рогами и забросил в середину. Рома чуть не потерял сознание. - Не бойся! – крикнул ему Зовша, - дядька сказал, что не забодают. Это проверено. Сядь в самый угол и не заигрывай с ними. Они этого не любят! И действительно – за весь долгий путь ни одна скотина его не тронула. И вообще Шепшеловичу понравилось их общество – они не занимались все время совокуплением, не произносили пошлостей, среди них не было ни одного следователя или антисемита. За всю свою скотскую жизнь они никому не причинили зла – и их должны были зарезать. А товарищ Сталин уничтожил столько людей – и его воспевали в песнях и гимнах. - Ну, так скажите мне, где справедливость? – спросил Шепшелович у молодой телки. - Му-у, - ответила телка и печально взглянула на него своими большими коровьими глазами. - Вот именно, - он грустно покачал головой. – Му-у… В Тбилиси Шепшелович ехал с удовольствием. Он любил Грузию, потому что Грузия любила евреев. Вот уже две тысячи шестьсот лет. А любить в течение двух тысяч шестисот лет – пусть даже евреев – дело нелегкое. Он знал, что евреи ходят там с поднятой головой. Как грузины. Там вообще головы носили гораздо выше, чем в России, и плечи были более расправлены, и в глазах горел огонь – и Шепшеловичу это нравилось. К тому же с первого класса его лучшим другом был Отарий Петровели. И если вдруг, иногда, кому-то не нравился нос Ромы, или его длинные уши, или походка – Отарий тут же бросался на обидчика. У него были самые большие кулаки в классе. Отец Отария заведовал винным подвальчиком «Грузинские вина» на Владимирском проспекте, напротив дома Шепшеловичей, и на их столе по праздникам всегда красовалось пару бутылок «Киндзмараули». - В этом вине живет солнце, - говорил папа Ромы. – Когда я его пью, солнце перетекает в меня. «Киндзмараули» предназначалось только для ленинградских боссов, так же, как шпикачки – для рижских, а у Петровели-старшего было много друзей и, случалось, что солнечного вина боссам не доставалось. Боссы 23 разгневались и посадили его в тюрьму, а когда он вышел, то послал Ленинград в жопу – он так и сказал: «Пусть идет в жопу этот город трех революций!» - и укатил в Тбилиси. Естественно, вместе с сыном. И вот сейчас Рома надеялся встретиться со своим старым другом. На набережной Куры, поздно ночью, он раздвинул брезент и выпрыгнул из грузовика. Гурам встречал его на пороге квартиры. Не говоря ни слова, он обвил его своими мощными руками и долго тискал, и извивающийся Шепшелович подумал, что Гурам его с кем-то спутал. - Я – Шепшелович, - выдавил он, - возможно, вы ошиблись, с кемто спутали… Но Гурам вместо ответа внес Шепшеловича на руках в квартиру. - Пожалуйста, поставьте меня, - попросил Рома, - я не люблю, когда меня мужчины носят на руках. Да никто никогда и не носил. - Ты не представляешь, как я тебя люблю, - произнес Гурам и облобызал Шепшеловича. Но на пол все-таки поставил. Шепшелович испугался. - А вот этого не надо, - пробормотал он, - пусть меня любят только женщины. - Что ты такое говоришь, - вскричал Гурам, - я тебя люблю как человека! Скажи мне – может один мужчина любить другого мужчину как человека? - Как человека может, - согласился Шепшелович. - И как героя! – добавил Гурам. – Ты для меня герой! О тебе поэты будут песни слагать. Вот увидишь! - Ну какой же я герой, - запротестовал Рома, - не будем преувеличить. - Ты – дважды герой! – сообщил Гурам. – Мы тебе на родине бюст поставим! Какую прекрасную телеграмму дал! «Чтоб ты сгорел!» Ты только прислушайся! Это же музыка! Моцарт! «Чтоб ты сгорел!» Гурам бросился к столу и достал оттуда открытку. - Вот, смотри - «Чтоб ты сдох!» Это я написал ему. Но я не отправил, потому что я трус. А ты бесстрашный! «Безумству храбрых пою я песню!» - прокричал он и почему-то затянул «Сулико». Растерянный Шепшелович начал неуверенно подтягивать. - Где же ты, моя Сулико, - блеял он. Возможно, сказывалось длительное пребывание со скотом в закрытом пространстве. Гурам кончил петь, слезы были на его глазах. 24 - Мою маму звали Сулико, - сказал он. – Она была самой красивой женщиной в Тбилиси. И он ее убил! И папу тоже. И старшего брата. Бешеная ненависть плескалась в глазах Гурама, и Шепшелович даже попятился. А Гурам вытащил из буфета пачку открыток с изображением Сталина, начал яростно рвать их, бросать на пол и топтать ногами. - Если бы я этого не делал, - сказал он, - я бы давно задохнулся от ярости. Я скупил все его фотографии… Подожди минутку, рубашку поменяю. Весь мокрый… Гурам вернулся в черной шелковой рубахе. - Я ношу только черное, - пояснил он, - и всю жизнь буду носить… Пойдем к столу, помянем. На больших блюдах лежали шашлыки из молодой баранины, сациви, чебуреки. В центре высилось несколько бутылок «Киндзмараули». И Шепшелович вспомнил о Петровели. Гурам их знал. - Я бы хотел увидеть Отария, - сказал Рома. - Не получится, дорогой, - произнес Гурам. – Сидит. - А отец? - И он сидит. Всех посадил, сволочь! – Гурам трахнул кулаком по столу. Потом взял бутылку «Киндзмараули» и разлил по бокалам. - Давай по очереди, - сказал он. – Сначала помянем маму. Сулико. Красавицу. Потом поминали папу, брата, двух двоюродных, тетю… Сталин не пощадил семью Гурама, и через полчаса Шепшелович уже не держался на ногах. - Может, мне того, - пролепетал он, - пора под кровать? Гурам помог Шепшеловичу подняться, повел его в спальню и указал на кровать. - Ну, как она тебе нравится? Кровать была царской – широкой, красного дерева, покрытой персидским ковром. Она была полна достоинства и гордости. - Я не достоин лежать под ней, - пробормотал Шепшелович. - Я ее купил специально к твоему приезду, - торжественно объявил Гурам. – Я целый месяц за ней гонялся. Ты знаешь, кто на ней лежал? Шепшелович не знал. - На ней лежала наша гордость, - объяснил Гурам. – Наши замечательные писатели Чавчавадзе и Церетели… - Что, они были… эти? – заплетающимся голосом уточнил Шепшелович. - В разное время и в разных домах, - пояснил Гурам. – А еще на ней любила сама легендарная царица Тамар. Но это по непроверенным данным. Сейчас уточняются. 25 - Спасибо, - прочувствованно поблагодарил Шепшелович, - но я-то буду лежать «под». Ты понимаешь – «под». Гурам помрачнел. - Прости меня, дорогой, - сказал он, - это Зовша поздно предупредил. Я бы ключи от квартиры у всех забрал. А то гуляют они по всей Грузии. И даже по всему Закавказью. Но прошу тебя об одном – кто бы ни был на кровати – считай, что над тобой царица Тамар. Тебе будет легче. Гурам подстелил под кровать ковер. Шепшелович улегся на него, повернулся на левый бок и даже успел закрыть глаза – но тут раздался крик Гурама: - Вылезай! - Зачем? – пробормотал он. – Мне хорошо. - Вылезай, говорю! Я про бабушку чуть не забыл! Он же бабушку тоже убил! Шепшелович с трудом выполз и выпил за упокой души бабушки Гурама. Два бокала. Гурам натянул черный пиджак и обнял его. - Ну, мне пора идти. Через полчаса придут. Полезай… И помни – над тобой всегда царица Тамар… В Тбилиси дышали жарче и кровать пела уже не задумчивую «Вот солдаты идут…», а «На холмы Грузии легла ночная мгла…» Более того, кровать часто танцевала и чаще всего «танец с саблями». Страстные грузины, если у них что-либо не получалось, моментально хватались за саблю. Дикие завывания наполняли комнату. Однажды пришел какой-то Гоги со Светочкой. Гоги был печален, хмур, усы обвисли, он чуть не плакал. Светлана требовала любви. И немедленно. - Хочу тебя сейчас же, - требовала она, - всего! - Ты как блядь, Светлана,ты нэ понимаешь, что я сэгодня нэ магу! - Как это ты не можешь? – удивилась Светочка. – Всегда мог, а сегодня, в мой день рождения, нет! То, что Гоги назвал ее блядью, она как-то не заметила. - Мне сегодня по секрету сообщили, - сказал Гоги, - что одна сволочь пожелала нашему любимому Сталину, чтоб он сгорел. И ты хочешь, чтобы я после этого любовью занымался?! Чтобы он горел – а я ей занымался? Позор, Свэта! Я бы этого гада лично зарэзал, вот так! Шепшелович услышал, как сабля засвистела в воздухе. - На кус-ки! На кус-ки! Мимо кровати летали части шкафа, стола, трюмо. Светлана от ужаса полезла под кровать. Шепшелович от ужаса начал скребсти ковер. - Мыши! – завопила Светлана и выскочила. Гоги продолжал крошить мебель и, наконец, приступил к кровати. 26 Сабля периодически протыкала ее. Шепшелович извивался, ускользал, но три раза сабля все же коснулась его. «Почему-то евреи всюду должны быть первыми…, - промелькнуло в голове. – Никто еще не погибал от сабли, лежа под кроватью». И тут его спасла Светлана. - Гоги, родной, - сказала она, - успокойся. – Я вспомнила – Сталин несгораем. Как несгораемый шкаф! И Гоги вдруг успокоился. Он сел на кровать, свесил волосатые ноги и отбросил саблю. - Как я это сразу не вспомнил? – удивился он. – Маладэц, умный женщин! Ты какой факультет кончала? - Философский, - сообщила Светлана, - с отличием. - Гэгэля читала? - Читала, - ответила Светлана. – И Фейербаха тоже! - Ну, что ж, - задумчиво произнес Гоги, - тогда ложись. Философский… Шепшелович облегченно вздохнул. В Тбилиси Шепшелович впервые оказался под двумя мужчинами. Для него это, быть может, было самое тяжелое испытание. Они мычали, они ласкали друг друга до утра, они произносили такие слова, что Шепшелович никогда не решался их повторить. Он затыкал уши, пил «Киндзмараули», но любовные игры были бесконечны и громки. Когда один из них узнал, что другой ему изменяет, началось настоящее сражение. Он, очевидно, решил зарезать неверного, вскочил с кровати и сорвал со стены пару висевших там кинжалов. - Смэрть – за измену! – кричал он. - Я тэбя больше не лублю! – кричал другой. - У-у, звэрь! – кидался на него первый. - Нэ баюсь! – отвечал тот. – рэжь мэня, бэй мэня, нэ лублу я тэбя, нэ хачу я тэбя! - Признавайся, кого хочешь, сабака! – первый приставил кинжал к горлу. – Фамылия или смерть! - Гаприндашвили, - выдавил второй, - женщину хачу! - Извращенец! – зарычал первый и вновь бросился с кинжалом на второго… Как-то в полдень появился высокий грузин с озабоченным видом. Он внимательно осмотрел комнату, затянул занавески, выключил из сети телефон. Вскоре пришла женщина, которой хотелось отдаться, даже не спросив имени. - Опаздываешь, - строго сказал мужчина, - приступим к делу. И что-то достал из кармана пиджака. - Зураб, - взмолилась женщина, - может, полежим сначала. Недолго, а? 27 - Ты сошла с ума, Мария! – воскликнул Зураб. – Какое полежим? Ты что, забыла, что у тебя это место святое? - Оно у всех женщин святое! – ответила Мария и бросилась Зурабу на шею. Но тот властно отстранил ее. - Не сравнивай, Мария, прошу тебя! У всех оно служит для удовольствия, а у тебя – для спасения нации. У тебя это место – дипкурьер!.. Сними-ка трусы! Она послушно стянула трусы, и ошарашенный Шепшелович увидел, как Зураб аккуратно вставляет маленькую круглую коробочку. В то самое место! «Члены грузинского ревкома, - догадался он. – В каждой республике свои члены…» Вдруг захотелось вылезти и спросить: «Когда выступаем, генацвале?» Спросить – и вновь залечь. - Я не понимаю, - Мария чуть не плакала, - почему я не могу его использовать в разных направлениях? Зураб схватился за голову. - О чем ты говоришь, Мария?! – он воздел руки к небу. – А если ты забудешь, что именно в данный исторический момент спасаешь нацию и окунешься в удовольствия? Я тебя знаю, Мария, ты страстная!.. Забудь об этом! Потерпи. Уже недолго. Мы тебе за это наших лучших мужчин выделим. Компенсируем… Ну, иди, иди. Натяни трусы – и ступай. Тебя уже ждут… Печальная Мария ушла, Зураб налил стакан «Киндзмараули» и выпил его одним залпом. - Не узнаю себя! – воскликнул он. – Чтобы Зураб отказался от такой женщины! Вай-вай! Господи, видишь ли ты, на что я только не иду ради свободы моего народа! Он присел к столу и начал что-то лихорадочно писать. - «Все, как один…» - время от времени выкрикивал Зураб, - «Не позволим сатрапам!..», «Мы – гордый народ!..» Шепшелович понял, что Зураб готовит воззвание к свободолюбивому грузинскому народу… Гурам вернулся поздно ночью, мрачный, злой. Шепшелович кожей почувствовал, что с Марией что-то случилось. - Что, - спросил он Гурама, - скажи мне, что с богиней? - Она не богиня, - бросил Гурам, - она дура! Вместе с Зурабом! Ее затащил в постель старший следователь! Шел человек себе домой после тяжелого трудового дня – увидел красавицу и затащил! Скажи, можно его в чем-то обвинять? 28 - Не знаю, - пожал плечами Шепшелович, - я лично после трудового дня никого не затаскивал. Я тихо шел домой, мылся, пил чай с вареньем… - Что ты сравниваешь, - прервал его Гурам, - ты что, жил в Тбилиси? Ты жил на болоте! У нас, дорогой, затаскивают! Это так же естественно, как мир, особенно после трудового дня. И об этом надо помнить, если что-то свергаешь! Какая, скажи мне, умная женщина прячет в Тбилиси что-нибудь в это место? И какой умный мужчина прячет ей туда? Лучше бы ей в карман положил, в сумочку! Все дело завалил, мудак! Гурам рассказал, что старший следователь был очень удивлен. - Что-то у вас там не так, как у всех женщин, - удивился он, - чтото у вас там твердое. Позвольте взглянуть! Мария сопротивлялась, уверяла, что у всех женщин по-своему, что она исключительная, оригинальная. И если этот следователь хочет ее любить – пусть любит такую, как она есть, с этим твердым. Но он все-таки взглянул… - Такую красавицу в тюрьму отправил, - печально закончил Гурам.– Ноги его больше здесь не будет!.. Шепшеловичу было жалко богиню, двое суток он пил вино, просил Бога помочь Марии и не замечал, что происходит на кровати. На третий день в спальне появился подпольный бизнесмен. - Понимаете, Нателла, - сказал он, входя в комнату с черноволосой красавицей, - мы с вами живем в удивительной стране. В ней куча тайных миллионеров. Они одеваются в лохмотья, они никогда не ходят в рестораны, они не летают на курорты – потому что они боятся. И правильно делают. Если узнают, что у них есть огромные деньги – их обязательно расстреляют. Потому что больших денег у советского человека быть не должно. По определению. Вы согласны? - Вы такой умный, Гриша, - ответила Нателла. - Ну, тогда слушайте дальше. Что же остается делать этим миллионерам? Вы можете сказать – пусть держат деньги в чулках. Но они там, наверху, тоже не мудаки. Хотя и мудаки. Они каждый год денежную реформу проводят. И получается одностороннее движение – положить в чулок еще можно, а вытаскивать уже нечего. И поэтому эти миллионеры переводят деньги в золото, бриллианты и мои яйца! Шепшелович под кроватью вздрогнул. Переводить деньги в тухлые яйца этого старика?! Да и как это возможно? Гриша подошел к буфету, достал бутылку коньяка, налил в рюмку и удобно устроился в кресле. 29 - Люблю грузинский коньяк, - сказал он, - меня будоражит, он меня возвращает в молодость. Хотя в молодости я его не пил. Хотите попробовать? И он протянул рюмку Нателле. - Я не дикий самец, - продолжил Гриша, - я не тащу бабу сразу в постель. Я люблю с ней побеседовать. Она должна знать, кого она будет любить. Вот вы – хотите это знать? - Давайте побеседуем, - вяло ответила Нателла и взглянула на часы. - Женщины меня начали любить где-то после пятидесяти, - сообщил Гриша, - после того, как я занялся яйцами. Раньше я даже не знал об их существовании. Я случайно зашел в музей – и вдруг увидел их под толстым, пуленепробиваемым стеклом. «Яйца Фаберже» - было написано рядом с ними. Скажу вам честно – они мне очень понравились. А потом я узнал, сколько они стоят.., - он многозначительно покачал головой. – И я подумал: если какой-то там Фаберже мог такое сделать, неужели я, Гриша Вассерман, не смогу? Короче, Нателла, если бы вы видели мои яйца – вы бы сказали, что Фаберже со своими может спрятаться. Если вы, конечно, видели его яйца. Гриша отпил коньяк и задумался. Нателла нетерпеливо ждала, когда он, наконец, решит, что она уже может его любить. - Первые свои яйца я продал одной красавице, - вспоминал Вассерман. – Ее муж делал левые ондатровые шапки. Я ей отдал их почти даром, раз в пятнадцать дешевле, чем у этого Фаберже. И она была счастлива. - Спасибо вам за ваши замечательные яйца, - сказала она и взяла меня под руку. И повела меня в ресторан. Да, сначала мы пошли в ресторан. Гриша загадочно улыбнулся и закатил глаза. Очевидно, он вспоминал, что было после ресторана. - Как вы видите, Нателла, я небольшой красавец. Нос мог бы быть поменьше, а глаза, наоборот, побольше. А живота вообще могло бы не быть. Когда мне было тридцать и даже двадцать – меня никто не брал под руку. Хотя с животом все было в порядке. Его не было. Правда, рост был тот же. Красавицы вообще не приближались ко мне. Скорее, удалялись. А я уже и тогда был мастером. На текстильной фабрике. Я обслуживал пятнадцать ткацких станков – и ни одной красавицы. Хотя вокруг их было немало. - Гриша, - нерешительно вступила Нателла, - может, вы доскажете в кровати? - В постели я не разговариваю, - сообщил Гриша. – Когда я люблю – я не говорю. Или-или… Короче, за мои яйца меня любили 30 лучшие женщины Москвы, Ленинграда, Киева… И я понял, как хорошо жить в такой прекрасной стране, как наша. Он поднялся и подошел к Нателле. - Нателла, - торжественно произнес он, - я вам предлагаю натуральный обмен: десять встреч – одно яйцо. Или два яйца за пятнадцать. - Лучше деньгами, - заметила Нателла. – Ваши яйца даже не сваришь. А я обожаю хорошо поесть и красиво одеться. Вы, мужчины, не любите плохо одетых женщин. - Это верно, - согласился Гриша, - особенно для меня важны трусики. Я им придаю первостепенное значение. На вас какие? - Сейчас увидите, - хихикнула Нателла и быстро стянула платье. Гриша одобрительно покачал головой и пару раз цокнул языком – и Шепшелович понял, что трусики его удовлетворили. Вскоре они ушли, а через несколько дней Гриша вновь появился – на сей раз с Изабеллой. Он рассказал Изабелле всю эту удивительную историю про свои яйца, но когда заговорил о натуральном обмене, то предложил за одно яйцо двенадцать встреч. «Яйца Вассермана дорожают», - подумал Шепшелович. Далее произошло нечто непонятное. Когда Изабелла стянула платье, Гриша вдруг схватился за голову, заторопился, вспомнил, что его ждет министр культуры для конфиденциальной беседы – и они умчались, даже не дойдя до кровати. Шепшелович долго ломал голову, почему они ускакали, и, наконец, понял: трусики Изабеллы не соответствовали изысканному вкусу Вассермана. «Однако, - подумал он, - эстет!» Под кроватью в Тбилиси было невероятно жарко и душно, пролетали какие-то диковинные мухи, ползали загадочные жучки. Шепшелович совершенно одурел от этого, к тому же танцы с саблями продолжались. Не только Гоги, но и другие товарищи любили время от времени рубануть по кровати, сабля частенько свистела возле уха. Чтобы как-то расслабиться, Шепшелович часто попивал «Киндзмараули» и впадал в легкий сон… Однажды – стояла золотая осень и в окне можно было видеть ветку с хурмой – завыли сирены, что-то загудело, засвистело, в комнату ворвались автоматчики с оружием наперевес – и Шепшелович понял, что это за ним. Он поднял руки, правда, невысоко – под кроватью особо не поднимешь – и вдруг в комнату, во френче, при орденах, с горящей трубкой в зубах скрипя сапогами вошел товарищ Сталин. Автоматчики три раза гаркнули «Ура!», и Сталин подошел почти вплотную к Шепшеловичу. При желании Шепшелович мог бы укусить сапог отца всех народов. 31 Отец задумчиво постоял около кровати, затем несколько раз обошел ее, нежно поглаживая. - Кра-ват, - мечтательно произнес он, - крават моей юности. - Ура! – проорали автоматчики. - На нэй я скрывался от царской охранка, - продолжал Сталин. - Ур-ра! – завыли солдаты. - И даже пару раз под ней. Сталин попытался согнуться и заглянуть под кровать. Шепшелович перестал дышать. - Старый стал ваш отец, - печально объявил Сталин автоматчикам.– Раньше заглянуть мне было раз плюнуть. И даже залезть! Он распрямился и вновь погладил кровать. - Ты помнишь меня молодым джигитом, крават, - вздохнул он. – А ну-ка, Пинхадзе, сними с дорогого товарища Сталина сапоги. Ноги ломит. Подскочил молодой полковник и ловко стянул со Сталина кожаные сапоги. - Надо будет сделать тэбя гэнэралом, - сказал Сталин. – Ну ладно, покажи, какиэ пончики ты менэ приготовил. - Ввести пончики! – рявкнул Пинхадзе. В комнату ввели десять девушек, одна прекраснее другой, и выстроили вдоль стенки. Сталин в шерстяных носках начал принимать парад. - Здравствуйте, дэвушки, - сладко произнес он. - Здравия желаем, товарищ Сталин! – хором рявкнули красотки. - Всэ комсомолки? – осведомился отец. - Так точно! - Вот вам, товарищи, доказательство тэх легэндарных измэнений, которые произошли в нашэм обществэ, - обратился товарищ Сталин к автоматчикам, указывая на девушек. – Кто приводил товарищу Сталину комсомолок, когда он скрывался от охранки? Никто, потому что их еще нэ было! Блядей тогда товарищу Сталину приводили! Вот в такое страшное врэмя мы жили! - Спасибо родному товарищу Сталину за наше счастливое детство! – проорали автоматчики. - Пожалуйста, - ответил Сталин и повернулся к комсомолкам. – Раздевайтесь, товарищи! Девушки неловко разделись, и Пинхадзе раздал каждой флажок с надписью: «Спасибо вам, родной товарищ Сталин, за то, что вы живете на земле!» - И вам спасибо, что вы тоже живете, - расчувствовался Сталин. – Дэыствэнныцы, пожалста шаг вперед. Все гордо шагнули. - Нэ врэте? – лукаво поинтересовался Сталин. – Нэужэли всэ? 32 - Честное комсомольское! – девушки отдали салют. - А до революцыи я нэ одной дывствэнныцы нэ встрэчал, прочувствованно произнес генералиссимус. – Вот что вам дала наша совэтская власть, товарищи! - Ура! – заорали все, а один автоматчик даже выстрелил в воздух. - В каких классах учытэсь, школныцы? – уточнил Сталин. - В десятом! – хором ответили девушки. - А товарищ Сталин кончил только чэтырэ, - он печально покачал головой. – Хотэл было пойти в пятый – но рэволюцыя позвала. Ах, рэволюцыя, рэволюцыя, лубов моя… У кого пятерки по истории партии – два шага впэрёд! Шагнули несколько девушек, но Сталин подошел к одной из оставшихся и взял ее за локоть. - Как тэбя звать, красавица? - Л-людмила, - ответила та. Ноги ее тряслись. - Тогда пойдем, Людмыла, с товарищем Сталиным, - и он повел ее к кровати. - Товарищ Сталин, - крикнул Пинхадзе, - позвольте вам напомнить: у нее по истории партии не пятерка! Не отличница она! - Товарищ Сталин сам решаэт, кто атлычница, а кто – нэт! – напомнил товарищ Сталин. – Полковник, нэмэдлэнно раздэньте товарища Сталина! Пинхадзе бросился снимать с генералиссимуса китель, галифе, трусы. При виде гениталий отца всех народов Шепшеловичу стало дурно. - Пачему, дэвочка, ты пэрвый лезэшь на кроват? – донеслось до Шепшеловича. – Гдэ тэбя этому учили? Помоги сначала товарищу Сталину. Раздались стоны, кряхтенье, наконец над Шепшеловичем что-то бухнулось. - Спасыбо, - сказал генералиссимус, - балшое сталинское спасыбо! Тэперь сама начинай падъём. Юное тело легко взлетело на кровать. Сталин начал раскуривать трубку. - Скажи мэнэ, - задумчиво произнес он, - в каком мэсяце проызошла вэликый октябрскы рэволюцыя? - В э-этом, - Людмила вся дрожала от страха. – В м-марте. - Правылно, дэвочка, - Сталин остался доволен. – А ысторическы мартовскы плэнум? - Мартовский? – испугалась Людмила. – В… в июле. - Маладэц! Сам товарищ Сталин нэ знал этого до рэволюцыи! Странно, что у тэбя нэ пятерка по ыстории партыи. Прыдется расстрэлять учытэла! Потом он молча курил трубку и о чем-то напряженно думал. Людмила, сжавшись в комок, сидела в другом конце кровати. 33 - О чем вы думаете, товарищ Сталин? – неожиданно спросила она. - О чем можэт думат товарыщ Сталин, - ответил он. – Он может думат толко о народе. Жила бы страна родная – и нэту других забот… Покажи-ка что-ныбуд, дэвочка. - Я комсомолка, товарищ Сталин, - Людмила зарделась. - А что, комсомолки нэ показывают? – удивился Сталин. – Сколько тебе лэт, дэвочка? - Скоро восемнадцать. - А мнэ – сэмдэсат два! А посмотри на мэня – еще джигит! А?! - Вы самый лучший джигит в мире! – подтвердила Людмила. - Скажы, камсомолка, ты поздравила мэня с юбилеем? - А как же, товарищ Сталин! Я два письма написала – на русском и грузинском. - Что ты мэнэ пожелала? - Здоровья, счастья и чтобы вы были бессмертны на радость всем нам! - Бессмэртный – это харошо! А вот какая-то сволочь, одна сволочь из наших двухсот замэчательных миллионов пожелала мэнэ, чтоб я сгорел. Это случайно нэ ты, дэвочка? - Что вы, товарищ Сталин! – Людмила подскочила почти до потолка. - А почэму же тогда, дэвочка, он на тэбя нэ встает? С Людмилой начало происходить что-то ужасное, она задыхалась. - Я - комсомолка, - лепетала она, я – верный ленинец. На верного ленинца он должен… это… - Нэт, дэвочка, ты – враг народа, - перебил ее Сталин. - У мэня только на врагов народа нэ встает!.. Товарищ Пинхадзе, арестуйте школницу-комсомолку. Людмила заревела. Кровь бросилась в лицо Шепшеловичу. Из-за него должно будет погибнуть невинное создание! Он не мог промолчать! Откинув полог, Шепшелович выскочил из-под кровати. - Немедленно освободите девочку! – крикнул он. – Это я пожелал вам сгореть! Она не виновата! Отпустите девочку и арестуйте меня! Шепшелович протянул руки для наручников и закрыл глаза. Так он простоял минут пять – наручников не надевали, его не били. Он открыл глаза – на кровати никого не было. В комнате стоял сильный запах «Герцеговины Флор»… Шепшелович задрал голову к потолку. - Господи, - прошептал он, - если усатый в ближайшее время не сдохнет, - я тронусь. Выбирай, кто Тебе дороже – этот изверг и убийца или честный еврей, никогда не причинивший никому зла. Я валяюсь уже больше года под кроватями – а он пьянствует в Кремле и развратничает. Мне кажется, что с этим пора кончать. Прошу Тебя – не медли, кончай! 34 После обращения Шепшелович вновь залег. Вскоре появился взвинченный Гурам. - Рома, - сказал он, - светоч ты мой, если бы ты знал, как я не хочу с тобой расставаться! - А что – уже пора? – встревоженно уточнил Шепшелович. - В Тбилиси неспокойно, со дня на день ждут прибытия кремлевского убийцы. Всюду ведутся обыски, в том числе и под кроватями. – Гурам понизил голос. – Тебе я могу сказать – я его убью! Вот увидишь! И он показал Роме маузер. - Я целый год занимался в тире! Я попадаю в десятку – и я его прикончу с первого выстрела. Следи за газетами! Шепшелович принялся его отговаривать. Сказал, что Гурама укокошат раньше, чем он генералиссимуса, а Шепшеловичу он дорог – он прекрасный человек, а их почти не осталось. - Таких, как ты, надо заносить в Красную книгу, - заявил Рома. Гурам перенес убийство усатого на следующий раз, на озеро Рица, куда тот должен был прибыть летом. - Так и быть, - сказал он, - потренируюсь еще в тире. Следи за газетами!.. А тебе надо бежать сейчас! - Куда? – спросил Шепшелович. – Я знаю, что под кровать, но куда? - В Киев, - сообщил Гурам. – Там у меня приятель живет. Вино любит, цветы любит, грузин любит. - А евреев? – насторожился Шепшелович. - А евреев не любит, - печально произнес Гурам. – Но у меня другого нет. Ты уж прости… В Киев Шепшеловичу не хотелось. Как-то не сложились у него отношения с этим городом. Пару лет назад он был там в командировке, всего неделю – и за это время его трижды обзывали жидом. Из них два раза – пархатым. Получалось в среднем раз в два дня, в то время, как в Ленинграде он слышал это слово не более одного раза в год. И то произносили его стеснительно, потупив глаза. Да и не похож он был на еврея по местным стандартам – светлый, глаза карие, нос прямой. Он даже не картавил! Правда, где-то лет до четырех он картавил – еще и как! Но мама сказала: «В этой стране можно делать все – воровать, хулиганить, чужих жен соблазнять, даже институт не кончать – но картавить нельзя! С дерьмом смешают!» Полтора года она ничего себе не покупала – все деньги уходили на логопеда, который кричал, что у него это – врожденное, как у других 35 врожденный порок сердца – и ему суждено с этим умереть. Мама плюнула на логопеда, сообщив ему попутно, что он врожденный кретин, и принялась сама ставить эту антисемитскую букву «р». Она заставляла Рому касаться языком нёба, резко опускать его вниз, вибрировать, цокать. И однажды, когда мама жарила лук на сковороде, он подошел к ней и гордо произнес: «На горе Арарат растет крупный виноград!» И это был тот самый «Арарат», о котором мама мечтала целых два года… С одним из киевских антисемитов Шепшелович решил даже побеседовать. Не то, что на путь истинный наставить, а просто поинтересоваться, как он распознал в нем еврея. - Не будете ли вы столь любезны сказать мне, как вы узнали, что я еврей? – спросил он. И тот загоготал, заблистал фиксами: «Я вас со спины узнаю, через штаны, ночью, через стены…» Не хотелось ему в город, где его, незнакомого, узнают со спины. - Под кроватью не узнают, - пообещал Гурам… В Киев Шепшелович летел самолетом, но в трюме, в ящике для цветов. Друг Гурама вез их на центральный рынок по пять рублей за штуку. Среди красных роз лежал белый от испуга Шепшелович. Он задыхался от аромата, шипы кололи во все места. Он их возненавидел и больше никогда никому не подарил ни одной розы. В Киеве его принял Богдан, огромный, пьяный, с ветвистыми усами. - Ваш ключ тоже гуляет? – уточнил Шепшелович. - А як же, - ответил Богдан, - от Киева до Одессы. Воистину это было братство ключников, но выбирать не приходилось, и Шепшелович вновь полез под кровать. Ничего более безвкусного он не видел – стальная, с набалдашниками, она была со всех сторон покрыта вышитыми покрывалами, наволочками, салфеточками с бахромой, с кошечками, собачками и сладкой надписью «Ласкаво просимо». Ко всему прочему кровать в Киеве была такая же, как ее хозяин – антисемитской, то есть на ней пребывали в основном юдофобы. Многие так ненавидели евреев, так их поливали, что забывали, зачем они сюда приходили. - Еврэи не дают нам жить! – басил кто-то с кровати, - они всюду – на земле, в небесах и на море! Мне даже кажется, что под нами есть какой-то еврэй, Гандзя. - Да что вы говорите глупости, Апанас Петрович! - У меня нюх на них! Втяните воздух. Гандзя начинала тяжело дышать, усиленно втягивать воздух, выдыхать. Занавески на окнах колыхались. - Ну? – уточнял Апанас Петрович. - Не чую! Но за окнами, по-моему, один прошел… 36 Апанас Петрович был доволен. - А, как чую?.. Ну, да ладно, сымайте штаны… Другие объясняли, как распознать еврея. - Слушай, Галушка, це просто – если у чоловика отвислы уши, горбатый нос и утиные ноги – то це еврей. - Боже мой, - вскрикивала Галушка, - так это ж вылитый вы, Остап, честное слово. Слышался сильный удар. Галушка ревела… После половых актов на кровати начинались мечтания. В основном– о погромах. - Ах, Анфиса Порфирьевна, - мечтал один, - поймать бы сейчас жидёнка да вспороть ему перину. Ах! Шепшелович затыкал уши, старался уйти в пол. «Я еще мог понять, почему все совокупляются, - размышлял он. – «Плодитесь, размножайтесь!» - сказал нам Бог. Правда, если бы Он видел, кто размножается… Но почему все антисемиты?» - Потому, что евреи режут баранов, - доносилось с кровати, - они травят воду в водопроводной сети и куличи на пасху. - Что вы говорите, Мыкола Николаевич! - А як же – они и Сталина хотели отравить, врачи эти жидовские, они чуму нам прививают, холеру, а як же, Марычка. - Боже мой, - вскрикивала Марычка, - это не они вам импотенцию, гадюки, привили? - Они, Марычка, они. «Какой черт занес меня сюда, - думал Шепшелович, - столько в России городов! Почему я не в Таллине, с его соборами, там хотя бы звучит Бах, улицы узкие и вкусный кофе… Впрочем, какие улицы, какой кофе, опять кровать, но на эстонской кровати хотя бы говорят поэстонски, и я бы ничего не понимал и думал бы, что это о прекрасном, о любви…» Одна встреча на кровати чуть не стоила Шепшеловичу жизни. Как-то под Новый год пришел Тарас с Оксаной Васильевной. Сначала пели «Гляжу я на небо…» и Тарас мечтал стать соколом, потом погрызли кукурузу, поливая всех знакомых, затем залегли. Тарас громко рыгал, других звуков с кровати не поступало. Затем Оксана Васильевна обозвала Тараса «козлом». У него чего-то там не получалось, и он был уверен, что во всем виновата кровать, вернее, ее расположение. Он кричал о каких-то подземных электромагнитных потоках, которые якобы пересекают кровать, а заодно и его – и начисто лишают потенции. Тарас отчаянно схватил кровать и начал ее переставлять. Шепшеловичу ничего не оставалось, как присосаться к ней ногами и руками на манер обыкновенной пиявки. - Шлюха! – орал Тарас, - какая тяжелая! Сколько в ней, падле, веса! 37 Он швырял кровать с обезумевшим Шепшеловичем из угла в угол, бросал на нее бедную Оксану Васильевну, бросался сам – но, видимо, ничего не получалось. Потому что после звериного рыка кровать опять летала по комнате, возносилась к потолку и рушилась вниз. Шепшелович держался из последних сил. Он подключил даже зубы, но вот-вот был готов рухнуть. Кровать продолжала летать. - Всюду электромагнитные потоки, - вопил Тарас, - евреи и потоки! Я чувствую, как они проходят через мой пах! Шепшелович уже не понимал, кто проходит – евреи или электромагнитные волны. - Я чувствую, как они пронзают пах мой, Оксана Васильевна. У вас они ничего не пронзают? - У вас вообще какой-то странный пах, - заметила Оксана Васильевна, - он всюду притягивает потоки. Не пах, а магнит какой-то. А вот у Валентина Николаевича например… Эхо звонкой оплеухи донеслось до ушей Шепшеловича. - Вы моего паха не касайтесь, - строго произнес Тарас, - вы еще не знаете, на что он способен! Это не пах – это генератор! Он снова начал носиться по комнате, ища место, свободное от подземных потоков. - Всюду потоки, - вопил он, - евреи и потоки! Шепшелович заткнул пальцами уши, осторожно повернулся на правый бок, чтобы не видеть беснующегося – и вдруг заметил, как прямо перед его окном приземлился огромный космический корабль. Неземное излучение исходило от него – и Рома тихо ахнул и потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил рядом с собой двух инопланетян в комбинезонах. - Сматываемся отсюда, Шепшелович, - сказали они ему, - быстро одевайся и улепетываем! - Подождите! – остановил он их, - айн момент! Не будем спешить. Сначала объясните, кто вы и как сюда втиснулись. Под кровать? Он даже хотел потребовать документы, но потом передумал. - Мы умеем сжиматься, - объяснили пришельцы. – Сматываемся! - Возможно, вы этого не знаете, - произнес Шепшелович, - но я не вылезаю из-под кровати уже больше года. По независящим от меня обстоятельствам. Так что о полете не может быть и речи!Он внимательно оглядел пришельцев. – Ребята, - удивленно произнес он, - что вы мне пудрите мозги! Какие вы инопланетяне, когда вы так похожи на евреев! - Мы и есть евреи. Мы с планеты евреев! - Что, уже есть такая планета? – удивился Шепшелович. – Уже появилась? 38 - Мудила, - разозлился один из инопланетян, - она появилась на сто миллионов лет раньше вашей! - Не шуми, - остановил его второй, - видишь, человек не в курсе дела. Надо объяснить. Понимаешь, Шепшелович, когда-то давно и у нас были и мусульмане, и христиане. Все было как у вас. Но они все перешли в иудаизм. Потому что они были очень умные – у нас атмосфера этому способствует. Они сообразили, что мы их духовно превосходим – и перебежали. Шепшелович задумался. - Ребята, - сказал он, - а что, если и на земле всех в иудаизм перевести? Чтобы был мир и покой. У вас уже есть опыт. Займитесь, а? И он с надеждой взглянул на инопланетян. - Нет, - ответили они, - это не получится. Время упущено. Вы слишком далеко зашли. Мы пойдем другим путем. Понимаешь? И оба многозначительно посмотрели на Шепшеловича. - Может, не надо? – осторожно спросил он. - Почему это – не надо? – удивились евреи. - Это мы уже сделали. Мы уже им пошли. Видите, что получилось? - Земля есть земля, а еврейская планета есть еврейская планета, и нам непросто понять друг друга, - опечалились инопланетяне. – Видишь ли, Шепшелович, мы хотим забрать евреев отсюда на нашу планету. Соображаешь? - А, так вы из Израиля, ребята, - догадался Шепшелович, - что же вы сразу не сказали? Это же Израиль хочет собрать всех евреев! - Шепшелович, - строго сказали инопланетяне, - ты слишком долго лежишь под кроватью. И это не прошло бесследно. Ты узко мыслишь, Шепшелович! Израиль слишком мал, к тому же он на этой грешной земле… Ты никогда не задумывался, почему вас здесь не любят? - Что значит - не задумывался?! – обиделся Рома. – Еще как задумывался! Нас, если хотите знать, ненавидят из зависти. Мы – народ, который не спит сам и не дает никому заснуть. - А ты не дурак, - заметили пришельцы. – Но зачем вы мешаете спать тем, кто не хочет просыпаться? Зачем вы будите их… Вы с другой планеты – поэтому вас и не любят. Вы когда-то сюда случайно залетели – сбились с курса, в космосе это раз плюнуть – и забыли вовремя убраться. Вы принесли на эту землю все, что можно было ей дать – Бога, мораль, цивилизацию – уже хватит! Уже можно сматываться. Генуг! - Может, вы и правы, - задумчиво ответил Шепшелович, - но лично я хочу еще немного задержаться здесь. Я хочу увидеть, как сгорит этот горец. Я хочу улететь отсюда удовлетворенным. Вы не против, если я улечу удовлетворенным? - Твое дело, - сказали пришельцы, - мы никого не заставляем. 39 Хотя ваши самые мудрые евреи уже с нами. Уже акклиматизировались. Шепшелович наморщил лоб, что-то вспоминая. - Скажите, - неуверенно начал он, - а Зельцер с Фонтанки 54, второй этаж… Что-то я его давно не видел… - Мой сосед, - кивнул головой один из инопланетян, - ходим друг к другу в гости. По шабатам. - Мерзавец! – разозлился Шепшелович. – Все повторял: я без тебя никуда, я без тебя ни шагу! - Не было времени предупредить, - объяснил сосед Зельцера, - надо было срочно улепетывать. За фарцовку взяли – куртку у иностранца купил… Первое время мы с ним намучались. Тору не знал. Мы все по Торе живем. - Мы тоже, - улыбнулся Шепшелович, - по сталинской. - А ты Тору знаешь? – строго спросил сосед. Шепшелович откашлялся. - Заповеди. Все девять. Или десять. - Соблюдаешь? - Сейчас – да. - Почему именно сейчас? – уточнил сосед Зельцера. - Под кроватью это легче, - признался Шепшелович. – Ну, например, «Соблюдай день субботний – не делай никакого дела». Я и не делаю ничего в субботу. Правда, и в остальные дни тоже. Или, например, «Не прелюбодействуй». Как я мог здесь, скажите мне, прелюбодействовать? Тут это надо мной все время делают. Украсть, сами понимаете, тоже невозможно. Я этим и раньше не занимался. И жену ближнего не желаю – зачем зря распаляться? - Если хочешь на нашу планету, - сурово сказали пришельцы, чтобы Тору назубок выучил! И все мицвоты. - А сколько их? – поинтересовался Рома. - Шестьсот тридцать. Триста шестьдесят пять запрещающих по числу дней в году и двести сорок восемь повелений по числу человеческого тела. - Запрещающих больно много! – расстроился Шепшелович… Да и как соблюдать мне все предписания, если Богдан только свинину и жрет! И меня ей кормит! Инопланетяне нахмурили брови. - Надо лететь, пока мы твоего Богдана с его гостями не придавили, - сказали они. – Больно уж хочется, а мы, как-никак, в гостях. Как вы говорите, в братской республике… Через мгновение ока они уже были за окном. - Эй, - закричал им вслед Шепшелович, - как с вами связаться? Адресок оставьте! 40 Но инопланетяне уже взлетели, неземной свет озарил Шепшеловича, он вновь потерял сознание, а, очнувшись, увидел мечущегося по комнате Тараса… - Всюду потоки, - продолжал вопить Тарас, - евреи и потоки! Наконец он забрался в шкаф, несколько минут там мычал, ворочался, потом раздался победный вопль. - Оксана Васильевна, - раздалось из шкафа, - немедленно сюда! Здесь, кажется, их нет. Бегом! В шкафу происходило что-то страшное – он ходил ходуном, взлетал к потолку, падал и вновь взмывал. Наконец, из него выпали совершенно обессиленные Тарас и Оксана Васильевна. Они лежали на полу, на уровне Шепшеловича, и прерывисто дышали. - Ну, - произнес Тарас, - каков у меня пах, Оксана Васильевна, когда нет потоков?!.. Весь этот бред и гнусность разбавлял маленький, старый еврей, с длинной бородой и пейсами. О нем шла слава полового гиганта. Его всегда видели с тремя прелестными девицами, восхищенно смотревшими на него. Попытки молодых красавцев, почти принцев, отбить девиц у старика всегда заканчивались полным провалом. Прелестницы не обращали на них никакого внимания. - Мальчики, - снисходительно и непонятно говорил им Арон Яковлевич, - вы их недостойны. Вы не доросли. И мальчики позорно ретировались, так и не ухватив, в чем они не доросли – они были в два раза выше старика и с университетским образованием. Короче, Арон Яковлевич Розенцвейг был гордостью киевского еврейства. - Есть еще у нашего народа порох в пороховницах, - говорили евреи друг другу, - если мы можем даже в семьдесят с хвостиком! И как можем! - Что вы хотите, - замечали иные, - он – продолжатель славных традиций наших великих предков. Вспомните Соломона – он один обслуживал около тысячи красавиц со всех концов света. А этот – только трех. - Так он, поди, и постарше будет, - отвечали им. Встречались, конечно же, и сомневающиеся. - Скажите, - говорили они, - вы лично знаете, почему эти красавицы так прилипли к нему? Мы лично не знаем. Может, он им платит немалые деньги, чтобы о нем говорили то, что о нем 41 говорят. Может, он им завещал все, что у него есть? Вы знаете? Мы не знаем! - Вы кретины, - отвечали им, - вы – аидише кретины. И не удивляйтесь – их среди нас хватает, их есть среди нас. Это только гои думают, что мы все очень умные. И пусть себе думают… О каких немалых деньгах вы говорите? Он даже не может себе позволить маленький штыкеле «гефилте фиш», которую так обожает. И что же он им завещал? Рваное пальто или старые протекающие галоши? Нет, дорогие, вы ищете легкий выход. А евреи его никогда не находят… Вы видели его когда-нибудь, когда он с этими мейделами выходит рано утром в воскресенье от Богдана, проводя с ними всю ночь? Мы видели! На его лице блуждает загадочная, потусторонняя улыбка. И это не улыбка денежного мешка или импотента – это улыбка гиганта, получившего полное удовлетворение. Может, вы видели, с какими лицами выпархивают оттуда мейделе? С просветленными! У наших жен, чтобы они были здоровы, такой просветленности не было после первой брачной ночи! Встречались иногда и такие евреи, которые Розенцвейга недолюбливали. Что вы хотите – среди евреев встречаются еще иногда евреи, которые недолюбливают других евреев. - Он дьявол, - говорил один из них, - он сделал так, что моя сексуальная мощь перекочевала к нему! Я чувствовал, когда она перетекала. Я уловил этот момент, но не смог ее удержать. Он – колдун! Еврейки города и даже прекрасные представительницы других национальностей и народностей смотрели на старика с обожанием и, случалось, пытались затянуть его в постель. Но только некоторым счастливицам удалось пригласить его в гости и накормить той самой фаршированной рыбой, о которой он мечтал, после чего Арон Яковлевич вежливо откланивался. Пара мощных дам все-таки изловчилась забросить его в постель, но он изворачивался и выскакивал – сначала из кровати, потом из окна – обе жили на первом этаже… Слава полового гиганта старика Розенцвейга продолжала парить над городом… Когда Шепшелович впервые из-под кровати увидел Арона Яковлевича – тот вызвал у него чувство омерзения, смешанное с некоторой завистью. Не будем забывать, что к этому времени он провел под кроватью больше года, и за все время ни разу не был «на». Ему даже показалось, что таких красавиц он, возможно, никогда не видел. Первым поползновением было немедленно вылезти, причесаться и объясниться в любви! Неважно – к кому из трех! Пришлось напрячь всю волю, чтобы остаться неподвижным. «И вот этот кадохес, - подумал он, - сейчас 42 вскарабкается на кровать и будет попеременно спать с тремя богинями! Уж лучше иметь над собой этих антисемитов, чем старого евреясовратителя!» Тем временем Розенцвейг снял поношенный пиджак и повесил его на спинку стула. Девушки восхищенно смотрели на него. «Что, наконец, происходит, - подумал Шепшелович, - вос тутцах?! Зачем вы, девушки, любите этого старого мудака, эту развалину?» И тут Розенцвейг заговорил. - Я извиняюсь, - сказал он, - но давайте все разденемся, чтобы эти ганефы нас ни в чем не заподозрили. Я прошу меня простить, но в этой блядской стране разрешается заниматься только блядством. Вы же знаете, для чего Богдан нам сдает эту, как они говорят, хату. Шепшелович раскрыл от удивления рот, а красавицы, печально кивая головами, разоблачились. И старик Розенцвейг медленно разделся, с трудом забрался на кровать, устроился между богинями и раскрыл старую книгу. - Итак, на чем мы с вами остановились? - На Теодоре Герцле, - ответила прелестница, лежавшая справа от Розенцвейга. – На его книге «Еврейское государство». Арон Яковлевич был недоволен. - Вы говорите о сионизме, - пробурчал он, - а я вас спрашиваю об иврите. - На гласных, ребе, - сказала та, что лежала слева. - Гласных, гласных, - передразнил ребе, - гласных какой традиции? Масоретской, тивериадской или современной? - Тивериадской, - ответила красавица, лежавшая возле его ног. - Итак, - начал Розенцвейг, - гласные тивериадской традиции имеют следующие названия: хирик, цере, сегол, патах… Изумленный Шепшелович схватил лежащую рядом тетрадь и начал лихорадочно записывать. В ту ночь он узнал, что иврит существует уже более трех тысяч лет, что он относится к семитской группе языков, к которой, кроме семитских, принадлежат берберские, кушитские и чадские языки. И что эта языковая семья находится в родстве с еще многими другими языками, в том числе и с грузинским. Это сообщение Шепшеловича обрадовало. «Не зря грузины нас любят», - подумал он, - но тут же вспомнил, что семиты-арабы евреев не жалуют… Несколько суббот подряд Шепшелович старательно фиксировал все, о чем рассказывал Розенцвейг. Лекции были настолько интересны, что он с нетерпением ждал появления «полового гиганта» и его эскорта. Он чувствовал себя не под кроватью, а на скамье Иерусалимского Университета. Он уже знал на иврите несколько сотен слов и даже мог объясниться в любви, правда, достаточно кратко. «Я вас люблю, - мог сказать Шепшелович, - и уже 43 давно. У вас удивительные глаза». Он мог добавить и «уши», и «затылок», он знал эти слова, но они были бы не к месту. Он узнал многое из истории своего народа, узнал, как евреи жили в Египте и как покинули его, что они ели там и после. В одну из суббот ребе решил побеседовать о рае. - Что представляет из себя сегодня еврейское счастье – мы уже знаем, - печально улыбнулся он. – Давайте подумаем, что такое еврейский рай. И Шепшеловичу вдруг нестерпимо захотелось подумать над этим вопросом вместе с ним. - Почему я должен только записывать?! – возмутился он. – Почему я не могу, черт подери, думать вместе с этими богинями? Так решил Шепшелович и вынырнул из-под кровати. Все четверо уставились на него – скорее удивленные, чем испуганные. - В чем дело? – возмутился Рома. – Что вы на меня уставились? Я тоже еврей и желаю знать, что из себя представляет наш еврейский рай! Тем более, что я надеюсь попасть именно туда! - Откуда вы появились? – строго спросил ребе. - Вы что – не видели? Из-под вас! Каждую субботу я под вами – имею я право хоть раз быть вместе с вами? А? Я вас спрашиваю! В таком случае могли бы вы объяснить, каким образом вы очутились под нами? – спросил Розенцвейг. – Вас кто-то туда подослал? - Усатый, - лаконично ответил Шепшелович. – Я могу оставаться на свободе только под кроватью. Таковы условия игры! Вы понимаете? - Нет, - честно признался ребе, - я ничего не понимаю. Их нихт ферштей! Но, несмотря на это, мне почему-то кажется, что вы приличный человек. Я редко ошибаюсь в людях. - Я приличный, - согласился Рома, - даже очень. Можете не сомневаться. Прелестницы вдруг очухались и бросились натягивать на себя одежды. - Если вы одеваетесь только из-за меня, - произнес Шепшелович, тогда не надо. Оставайтесь в этой блядской стране раздетыми, чтобы вас ни в чем не заподозрили. Я лучше отвернусь, хотя мне будет очень непросто это сделать. Потому что, глядя на вас, я чувствую себя в раю. Уже. - Считайте, что мы все в раю, - улыбнулся ребе. – А там, как известно, обходятся без одежд… Итак, скажите мне, чем, по вашему мнению, занимался в раю Адам? - Ничем, - быстро ответил Шепшелович, - на то он и рай. Он отдыхал, созерцал, радовался. Одним словом, бездельничал. - Вы уверены, что вы еврей? – уточнил Розенцвейг. 44 - Я могу вам показать паспорт, - обиделся Шепшелович, - пятый пункт. Хотя нет, я его оставил в Ленинграде. А что вас смутило? - Вы дали ответ христианина, - сказал ребе. – Они думают так же, как и вы. А в книге Бытия сказано: «И взял Господь Бог человека, и поместил его в Саду Эдемском, чтобы человек обрабатывал его и охранял его». - Понятно, - сказала девица справа, - он работал в саду садовником. - И охранником, - добавила сидевшая слева. - Минуточку, - запротестовал Шепшелович, - вы что-то путаете! Бог заставил работать Адама – но после изгнания из рая. «Будешь работать в поте лица своего», - сказал он ему, изгнав. - Правильно, - согласился ребе, - но до изгнания он работал не «в поте лица» - он работал головой! Адам интеллектуальным усилием преобразовывал материальный мир – а от этого не потеют. А после изгнания из рая одной головы стало недостаточно, теперь надо было работать и руками – то есть трудиться в «поте лица». - Выходит, до того, как я полез под кровать, я жил, как в раю, улыбнулся Шепшелович. – Я не работал в поте лица. Я работал башкой! - И что же вы создавали этой вашей башкой? – спросил Розенцвейг. - Я был инженером по вентиляции. А также по отоплению. - Очень интеллектуальная работа, - одобрил ребе… - В Мидраше сказано, что когда Адам в Шестой День Творения появился в Эдемском Саду – то он увидел растения, которые появились на Третий День Творения, но не росли. И что же он стал, по-вашему, делать? Все три красавицы ответили хором, что он стал их поливать, а Шепшелович решил, что окучивать. - Я, правда, точно не знаю, что такое «окучивать», - добавил он, но думаю, что не ошибаюсь. Ребе улыбнулся. - В отличие от вас, он стал думать. «Почему они не растут?» спросил себя Адам. И ответил – им нужен дождь. И понял – его может послать только Бог. И он стал просить у Бога дождя – и дождь пошел, и все растения, и трава, и деревья тут же, на его глазах, потянулись вверх. И вырос Сад. - Я бы до этого не додумался, - признался Шепшелович, - я бы поливал, окапывал, окучивал… - Это мы уже знаем, - сказал ребе. – Возможность строить мир и изменять его своим интеллектом – это и есть наше, еврейское, представление о рае. - Выходит, наш сегодняшний суммарный общенародный интеллект равен нулю, - задумчиво произнес Шепшелович. 45 - Молодой человек, - сказал Розенцвейг, - я уже стар, не тяните меня в вашу политику. О сегодняшнем дне мы поговорим когданибудь завтра… Вы мне лучше скажите, почему Бог сам не послал дождь, почему он ждал, когда его попросит Адам? Богини и Шепшелович задумались. - Ну, - неуверенно начал Рома, - раз этого Адама уже создали, должен же он был хоть что-нибудь делать, попросить хотя бы о чем-то. Не сидеть же, сложа руки, под деревом. Тем более, что оно было маленьким, оно не росло! - Вы – хохом! – улыбнулся ребе. – Бог хотел, чтобы Адам познавал мир, чтобы осознал свою связь с Ним. И чтобы понял, что он несовершенен, что он сам должен прикладывать усилия, чтобы интеллектуально развиваться… Простите, молодой человек, но я хотел бы у вас спросить – вы обрезаны? Шепшелович растерялся. - Я не понял, какое отношение это имеет к Эдемскому Саду, пролепетал он, - к интеллектуальному развитию, к усилиям, наконец? Спрашивать такое при девушках, при красавицах! - При красавицах, может, и не стоило, - согласился Розенцвейг. – Я просто хотел привести вам наглядный пример нашего несовершенства. Бог кое-что в нас не доделал, он, например, дал нам возможность самим избавиться от крайней плоти. Тело в данном случае только символ души, если хотите… И в этот момент в хату Богдана нагрянула милиция. Шепшелович еле успел нырнуть под кровать, а прелестницы, чтобы замести следы, бросились на «полового гиганта», и тот принялся их неумело целовать. Больше они не появлялись. Шепшелович был очень опечален, целыми днями размышлял о всемирной несправедливости и даже дважды спросил Бога, где Он был в этот момент и почему позволил сраным милиционерам ворваться к ним. Но Бог ему не ответил. И тогда Шепшелович спросил Богдана, не знает ли он, что произошло. И Богдан объяснил, что «эврей» оказался не половым гигантом, а совсем наоборот – сионистом. - Я не знаю, что это такое – сионист, - сказал он, - но, по-моему, это еще хуже, чем импотент. Луч света в темном царстве погас. Шепшелович начал с горя пить горилку, не закусывая. У него ужасно болела спина, лежать он мог только на правом боку, где были пролежни. Шел девятнадцатый месяц жизни под кроватью. Силы иссякали. И Шепшелович решил плюнуть на все и 46 вылезти из-под кровати. «Будь что будет! – решил он. – Наклею усы и бороду, повешу мешок на спину, возьму в руки посох и пойду по стране. Скитаться. И будь что будет!» Перед тем, как взять в руки посох, он решил еще раз обратиться к Богу. Последний. - На днях я вылезу из-под кровати и пойду скитаться, - сообщил он. – Больше я так жить не могу. С каждым днем я приближаюсь к Тебе, я изучил почти всю Тору. Я читаю эту священную книгу, а надо мной рыгают, блюют и все время трахаются. Надеюсь, Ты знаешь это слово. Разве это нормально? Помоги мне, Боже, забери усатого! После обращения Шепшелович принялся за изучение Экклезиаста. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа». «Таки да, - подумал Шепшелович, - он прав. Вся наша жизнь – сплошное томление.» На следующее утро, когда на кровати что-то мычало и ворочалось, а он смаковал «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» заговорило радио, голосом Левитана. И Шепшелович всем телом, каждой его клеточкой почувствовал, что что-то случилось, и даже, может быть… Левитан просто так не говорил, он объявлял либо о начале войны, либо о ее конце. Но войны не было. Значит… - Сегодня, - произнес Левитан плачущим голосом, - остановилось сердце великого вождя и учителя… Шепшелович не верил своим ушам, он несколько раз ущипнул себя, думая, что это ему снится. - Повтори! – прошептал он. - Сегодня, - повторил Левитан, - остановилось сердце великого вождя и… На кровати заревели, и Шепшелович понял, что это не сон! От охватившей его радости он рассмеялся. - Спасибо, Господи, что Ты услышал меня! – произнес он. - Горе-то какое, - простонали на кровати, - как же мы теперь житьто будем, Василий? - Отлично! – сообщил из-под кровати Шепшелович. – Замечательно жить будем! Весело! На кровати заплакали еще сильнее. - Василий, - сказал женщина, - у меня от горя галлюцинации. Мне показалось, что какая-то сволочь произнесла «отлично». - Сегодня, - повторял Левитан, - остановилось… Очевидно, его заклинило. Шепшелович зааплодировал. - Ур-ра! – завопил он, - ур-ра! Наконец-то остановилось! 47 - Галина, - дрожащим голосом произнес Василий, - по-моему, у меня тоже галлюцинации. Возможно, я свихнулся от горя, Галина… И они заревели еще громче. Шепшелович хохотал, на кровати ревели – и он понял, что всегда существуют два мира: один – на кровати, другой – под. Он вытер слезы радости, вдохнул спертого воздуха и вылез из убежища. На кровати сидело два голых, некрасивых, обезумевших человека. У них были не только заплаканные лица, но и заплаканные тела. Слезы текли даже по задницам. При виде Шепшеловича они окаменели и стали похожи на известную скульптуру «Подпольщики». - В-вы о-откуда? – наконец выдавил Василий. - Из Ленинграда, - ответил Шепшелович и снял телефонную трубку. - Алло, телеграф? Примите поздравительную телеграмму. «Дорогой товарищ Сталин! Желаю вам здоровья, радости и долгих лет жизни…» Тут, видимо, его перебили. - Что, - недовольно произнес Шепшелович, - умер?! Не говорите глупостей - товарищ Сталин бессмертен! Как несгораемый шкаф! Записывайте текст… Вскоре Шепшелович вернулся в Ленинград, а через несколько лет партия и правительство выполнили его давнее пожелание. Очевидно, идя ему навстречу. Они вынесли кремлевского горца из мавзолея и сожгли его. Шепшелович это принял спокойно, как само собой разумеющееся. - Все нормально, - сказал он, - когда чего-то очень хочешь – это обязательно сбывается. И Шепшелович принялся ждать инопланетян, тех самых, с еврейской планеты. Он даже начал паковать вещи, но вскоре бросил – иди знай, какая там погода, что там понадобится. Но инопланетяне не появлялись. Шепшелович даже пару раз залез под кровать – кто знает, может, они хотят его забрать именно оттуда. Как-то он пролежал там целых два дня – а потом понял, что они на него обиделись – за то, что не полетел сразу. А, может, во всем был виноват Зельцер с Фонтанки 54, второй этаж. Хрен его знает, что он там им наговорил. Тем более, что он улетел, так и не вернув Шепшеловичу сто рублей долга. Он ждал долго, выходил ночами на крышу и размахивал руками – «мол, я здесь!», посылал в космос радиосигналы – а потом вдруг 48 появилась возможность уехать из этой страны. И не куда-нибудь – а в Израиль! - Чего вдруг на другую планету, пусть даже и еврейскую, - решил Шепшелович. – Останусь на этой земле, она мне нравится. И укатил. Он живет на земле без трещин – и ему хорошо. Он ощущает это всем своим существом. Да, Шепшелович живет на удивительной земле, где текут молоко и мед, но опять под кроватью. - Минуточку, - удивленно спрашивают его, - почему опять?! Зачем вам понадобилось забираться под кровать в Иерусалиме? Или вы кому-то снова пожелали сгореть? И Шепшелович терпеливо объясняет. - Когда мы приехали, - объясняет он, - нам предложили отдельный караван под Беер-Шевой или малюсенькую квартирку в Иерусалиме. И я сказал: - В Иерусалиме! Я хочу жить в городе Бога! И я люблю домашнюю кровать. Я к ней привык! - Но в комнате можно поставить только одну кровать, - сказали ему, - а вас трое! - А восемнадцать месяцев, - напомнил Шепшелович, - вы забываете про восемнадцать месяцев! Они ни черта не поняли… На кровати спят жена с дочкой, Шепшелович – под, рядом с подзорной трубой, которую они купили для продажи, но так и не продали. Иногда, звездными ночами Шепшелович подолгу всматривается в Иерусалимское небо. «Где-то там есть жизнь, - думает он, - и она прекрасна. Вполне может быть. Где-то там, возможно, живут мудрецы – не такие идиоты, как мы. Но, кто знает, очутись я там – не должен был бы я снова спать под их кроватями? Так уж лучше под своей…» 49