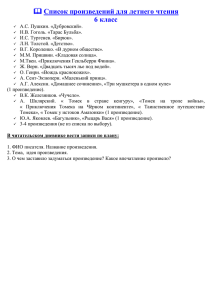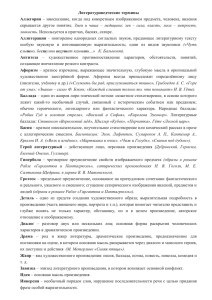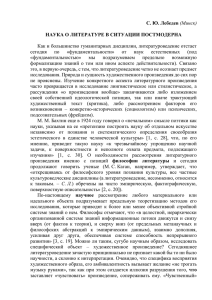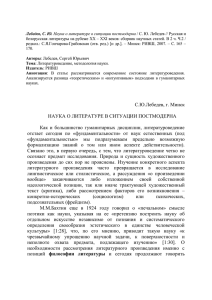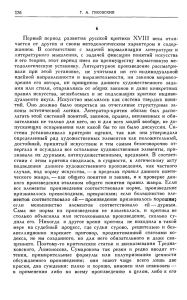Т.Б.Любимова АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ
реклама

Т.Б.Любимова АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА Искусство репрезентирует логику ценностей в образно–символической форме, организуя по ней энергию воображения. Очевидно, что никакое воспитание, образование, раскрытие или же развитие личности невозможны без освоения системы ценностей, господствующих или, напротив, становящихся в данном обществе и данной культуре. Искусство играет важнейшую роль в этом обучении ценностному сознанию, в работе с ним. Искусство и само выступает как социальная ценность определенного типа духовной деятельности. Принадлежность произведения к сфере этого института относит его потенциально к миру ценностей. Чтобы эта потенция была реализована, произведение должно обладать определенным качеством. Художественность, целостность, экспрессивность, артистизм и т.п. понятия фиксируют те ценности–критерии, согласно которым предмет может быть отнесен к сфере искусства. Как таковые они представляют собой определенные стандарты культуры с соответствующей диалектикой нормы–инновации. Кроме того, эстетические категории, такие как прекрасное, возвышенное, трагическое и т.п., также описывают определенный модус ценностного сознания. Все они наряду с познавательным обладают еще и ценностным аспектом. Прекрасное не только дает нам знание о том, что предмет соответствует объективно гармонии и субъективно нашей идее красоты; оно само также есть ценность. Все эстетические категории обладают определенной ценностной структурой. Но самое большое значение в процессе освоения ценностного сознания имеет произведение искусства. Художественное произведение есть сложный синтез познавательной и ценностной структур. Внутренняя ценностная структура произведения включает разнообразные существующие типы ценностей, делая их своим содержанием, но она и превосходит их, вбирая в себя и воспроизводя в своей организации принципы строения различных ценностных порядков (социальных, исторических, культурных), преобразуя их в принципы своего собственного художественного построения. Произведение искусства — исходный пункт нашего рассуждения и оно же - конечный его пункт. Если мы полагаем, что произведение искусства всегда целостность, то каким образом совмещаются в нем две противоположные функции, гносеологическая и аксиологическая, каким образом мы синтезируем их в единое целое в акте восприятия? Причем в процессе творчества, равно как и в акте восприятия эти функции не чередуются, а именно синтезируются. Дело в том, что познаются в искусстве как раз сами ценности, а не факты, точнее, сами ценностные порядки и ценности предстают в облике фактов. Ценность существует только как предмет личного отношения. Это, разумеется, не означает ее субъективности. Истина, добро, красота, справедливость, святость, мудрость, то есть высшие ценности, могут быть названы идеальными объектами, идеями, требующими и как бы ищущими своего воплощения в образе или конкретном предмете. Инструментальные ценности, такие как удобство, полезность, пригодность, могут рассматриваться как мера определенного качества предмета. Но ценностями их делает не только объективность меры, но и соотнесенность с более общей нормативной системой и через ее посредничество — с личностью, обществом, культурой. Надо сказать, что в случае произведения искусства место инструментальных ценностей занимают нормы художественного творчества, которые всегда в нем присутствуют, всегда оставаясь, однако, под вопросом, даже при наличии канона. Этот срез творчества и восприятия произведения искусства становится очевидным при сопоставлении, с одной стороны, 1 искусствоведческого профессионального восприятия и, с другой — спонтанного, вне зависимости от профессиональной установки воспринимающего. Искусствовед смотрит прежде всего на то, как сделано произведение. Спонтанное же восприятие, до–и–сверх– профессиональное, происходит или без отчета перед самим собой о том, как оно сделано, или же так “как” присутствует в снятом виде. Примером этого может быть известное структурное слушание музыки. Следовательно, инструментальный уровень ценностей присутствует в произведении особым образом и имеет здесь иное значение как в самой структуре, так и для проявления вовне этой структуры. Кант был, конечно, прав, говоря о бесполезности искусства, отсутствии цели его употребления, иными словами, отрицая его внешнюю инструментальную ценность и полагая, что искусство содержит в себе иную цель, нежели служить средством для конечной практической деятельности, или быть употребленным единожды как средство, исчезающее в достигнутой цели, полностью теряющее в ней свое значение. Независимость от инструментальных целей как раз и означает замечательное свойство искусства сохранять свое значение как бы бесконечно. Известный вопрос об отношении “красоты и пользы” возникает чаще всего как недоразумение, неразличение двух типов ценностей: инструментальных и так называемых высших ценностей. Методологически некорректно требовать от произведения искусства быть носителем инструментальных ценностей, однако при этом оно не может не быть местом высших ценностей, их собственным царством. Разумеется, тут же вспоминается дизайн. Как же он возможен вне пользы–красоты? Но, во–первых, произведения дизайна не есть произведения искусства, хотя они должны быть высоко эстетическими, то есть воплощать в себе высшую эстетическую ценность, красоту, во–вторых, произведения дизайна — вещи, — являются в последнюю очередь предметами эстетического любования и в первую — носителями инструментальных ценностей. Иными словами, по своей аксиологической структуре они являются зеркальным отображением произведения искусства: предмет может быть или произведением искусства или вещью дизайна. А произведения ювелирного искусства? Они, конечно, представляют собой эстетическую ценность, и как таковые должны не обладать инструментальной ценностью. В настоящее время магическое значение украшений, то есть то, что соответствует в структуре произведения искусства высшим ценностям, утрачено в общественном сознании, иначе говоря, в аксиологической структуре такого рода произведения (украшения, сувениры и т.п.) место высших ценностей занято абстрактной стоимостью как таковой, оправдываемой абстракцией мастерства (“тонкая работа” как собственная ценность такого типа произведений). Такие произведения всегда “вещи”, но в отличие от дизайна они в первую очередь всегда предметы эстетического любования. Они представляют собой как бы второе зеркальное отображение произведения искусства с точки зрения его ценностной структуры. Имея в виду сказанное, мы можем утверждать, что для произведения искусства инструментальные ценности не являются областью его собственных значений. Напротив, высшие ценности как раз и формируют сферу потенциального содержания, именно они обсуждаются разнообразно, подвергаются отрицанию, сомнению, утверждению, но совершенно особым образом. То, как формируется это содержание (художественная форма произведения), само является наиболее универсальной эстетической ценностью. Причем она по отношению к внутренней цели произведения оказывается инструментальной ценностью. То есть внешняя инструментальная ценность как бы обрывается, за счет этого произведение замыкается в себе, отсюда следует возможность целостности, единства формы и содержания; бывшая инструментальность превращается в 2 художественные средства, иначе говоря, во внутреннюю инструментальность, что дает возможность интенсифицировать “содержание”, то есть обсуждение высших ценностей, а вещь превращается в произведение, а не–вещь. При этом художественность, или универсальная эстетическая ценность, без которой невозможно искусство и без которой произведение снова деградирует в вещь, возникает только тогда, когда произошла полная ассимиляция художественных средств, то есть как сделано произведение неотделимо от того, что сделано. Иными словами, произвольное и случайное на первый взгляд решение художника в произведении искусства обретает видимость как бы естественной необходимости. Произведение искусства, равно как и сама ценность, не есть вещь[67]. Самое простое подтверждение этому - идея подлинника. Тончайшая копия, если она даже неотличима от подлинника, но известно, что она копия, не имеет ценности (и цены, как правило, тоже, если только она не вышла из рук еще более гениального мастера). Подделка может быть выполнена весьма художественно, но факт неподлинности разрушает ее ценность как продукта творческого акта, произведения определенной личности. Но как материальная вещь она может быть тождественна образцу. Этот простой пример доказывает, что произведение не совпадает с той материальной вещью, в которой оно закреплено. Напротив, произведение искусства и сама ценность в определенном отношении аналогичны по способу своего существования. Ценность тоже не есть вещь. Добрый человек не есть добро, прекрасная музыка не есть само прекрасное и т.д. Как же существует ценность? Как и произведение искусства она невещественна, но в отличие от него она продолжает существовать и в том случае, если ее материальный носитель уничтожается: от того, что мир “во зле лежит”, добро не перестает быть высшей ценностью, в то время как с уничтожением картины или скульптуры исчезает и произведение. Это значит, что идеальность их разного порядка. Высшие ценности суть наиболее абстрактные и всеобщие регуляторы как нашей социальной, так и мыслительной деятельности. Не напрасно Кант называл некоторые из них регулятивными идеями. Аналогичную роль они играют и в произведении. Ценности не пассивно отражаются в содержании произведения искусства, а, напротив, они его строят и интегрируют, точно так же, как они выстраивают в конкретной человеческой деятельности вокруг себя целые социальные организмы, интегрируют социальную действительность. Любое произведение — это “сокращенное” изображение общества, если оно и не его точная модель, то всегда ему аналогично хотя бы в каком–то одном измерении. В этой перспективе, перспективе социальности, ценностная структура произведения становится более ясной. Ценности суть не только содержания художественного произведения, они — принципы его строения, и высшая эстетическая ценность, прекрасное, и ее модус, художественное, суть основной интегратор формы произведения. С этой общей перспективой тесно связана и следующая: историчность. Как афористично заметил А.Гулыга: “Историческая реальность имеет эстетическую структуру”[68]. Но справедлива и инверсия этого положения: произведение искусства в своей эстетической форме имеет историческую структуру. Это было отмечено исследователями уже давно, начиная с Шеллинга и Гегеля, а само сравнение истории с поэзией и, в частности, с трагедией восходит к Платону и Аристотелю. Надо отметить, что анализ ценностных структур произведения искусства довольно часто становится предметом рассмотрения и в буржуазной эстетике. Достаточно вспомнить эстетическую теорию Т.Адорно, для которого ценностный анализ искусства имел фундаментальное значение. По его мысли, любая художественная форма это сжатое, “выпавшее в осадок” бывшее содержание, подобно тому, как орнамент есть не что иное, как бывшие культурные символы. Неразрешимые антагонизмы реальности, прежде всего социальной, отпечатываются в 3 произведении искусства как имманентные проблемы его формы. Произведение искусства автономно, оно есть Все и Единое. Но граница по отношению к эмпирической жизни, будучи раз установлена, уже в самом своем установлении должна быть превзойдена, поэтому произведение есть всегда мгновенно найденное равновесие, подобно психическому равновесию между “я” и тем, что есть. В этом смысле оно живет. И все же, поскольку в обществе тотального отчуждения всякое произведение несет на себе печать неизбежной лжи (оно идеологично, по Адорно, хотя и автономно, господствующая идеология любое произведение и любую идею ставит себе на службу), подлинная его жизнь есть шифр “непроясненного страдания”. Точку зрения Адорно на возможность выражения подлинных ценностей в искусстве и, следовательно, обучения работе сознания в сфере ценностей, можно назвать пессимистической и коротко и точно передать словами шекспировского Тимона: “С тех пор, как начало бесчестье // Душой людскою нагло торговать // Стал человек созданьем чисто внешним”[69]. Ценностный подход к творчеству, таким образом, чаще всего оказывается переплетенным с вопросом о том, какие ценности современное искусство должно выражать и какие выражает, с вопросом о подлинных и мнимых ценностях, иными словами, о приложимости критерия истины к сфере ценностей. Проблема истины в искусстве, в том числе художественной истины, таким образом, восходит к более общей проблеме истинности и объективности ценности. И оценка произведения искусства с точки зрения того, какие ценности оно утверждает или отрицает, или как того требовал Сартр, ангажированности, то есть оценка того, какие социальные силы вовлекают в сферу своего воздействия художника в процессе его творчества, никак нельзя смешивать с анализом внутренней структуры произведения с точки зрения соотношения в нем ценностных, познавательных и нормативных элементов, или с аксиологической структурой произведения искусства. На этом втором, собственно аналитическом уровне рассмотрения мы сталкиваемся с проблемой соотношения эстетических категорий и ценностей. Особенно наглядно это видно на примере трагического и возвышенного. Для прекрасного почти очевидно совпадение категориального содержания со значением максимальной позитивной ценности этой категории: что прекрасно, то, безусловно, и ценно... Возвышенное — достаточно вспомнить классический анализ этой категории И.Кантом, — обладает уже более сложной структурой. Кант считал, что возвышенное связано с “негативным удовольствием”, движением души (в отличие от спокойного созерцания в прекрасном), когда “разум оказывает принудительное воздействие на чувственность, для того лишь, чтобы расширить ее в соответствии со своей собственной областью (практической) и заставить ее заглянуть в бесконечность, которая для чувственности представляет собой бездну”[70]. В возвышенном мы имеем (через посредство эстетического суждения) движение ценностей: придание максимального значения величине или силе природного явления вне нас, затем через неудовольствие от несоответствия их нашей способности воображения обращение к другой нашей познавательной способности — к разуму и его идеям (неопределенно каким), — именно за счет этого обращения происходит отрицание ценности природы как превосходящей нас по силе и величине вне всякой возможности сравнения, в пользу утверждения ценности человечества в нас самих как существ сверхчувственных, для которых цели разума суть собственные цели, независимые от нашей природной определенности. Столь же классический анализ ценностной структуры трагического был дан Гегелем в его “Эстетике” через представления противоречия нравственной субстанции данного общества. В его описании трагического интересны два момента: восстановление нравственной субстанции после взаимного уничтожения односторонне обособившихся ее сторон, каждая из которых отстаивается в своем индивидуальном пафосе, то есть в полной слитности с субстанциальной целью, заданной “состоянием мира” (это означает конечное 4 утверждение ценности нравственности как таковой), а с другой стороны, необходимость ее раскола и выявление этого раскола как трагического противоречия, в котором с неизбежностью подвергаются угрозе и отрицанию столь же нравственные и исторически конкретные (тоже заданные состоянием мира) ценности, например, в “Антигоне” — ценности рода, “святость крови”, с одной стороны, и ценность установленного закона, государственности, независимости от кровных связей, с другой. С точки зрения угрозы высшим ценностям понимает трагическое и Шеллинг: в трагическом оспаривается и утверждается абсолютная ценность свободы. Интересно, что и комическое обоими мыслителями понимается как диалектика тех же самых ценностей, подвергающихся испытанию в трагическом: для Гегеля — это разрушение видимости субстанциальности, для Шеллинга — переворачивание отношений свободы и необходимости, когда они меняются местами. Обобщая разнообразие вступающих в конфликты сил, отстаивающих те или иные ценности в трагическом (как это и было исторически в искусстве), когда в трагедии выступали на сцену различные ценности, мы можем сказать, что наибольший трагизм достигается тогда, когда выбор должен совершаться между высшими, так называемыми абсолютными ценностями; в каждую эпоху они артикулируются различным образом: долг, честь, любовь, свобода, справедливость, власть, идеал и т.п. Действие в трагедии всегда строится так, что налицо необходимость жертвовать высшей ценностью. Существует в этом отношении глубокая аналогия между искусством и философией. Если философия (в частности нравственная, в ее европейском варианте) рассуждает об этих ценностях, как бы проигрывая возможные случаи жертв — мысленно ими жертвуя, то есть подвергая сомнению и утверждению, — то искусство моделирует то же самое, но в податливом материале воображения. Философия в этом как бы симметрична искусству, поскольку в ней главенствует разум, а не воображение; философские суждения могут быть не точны с точки зрения оценки художественных средств, но они обязаны выражать дух произведения, различать принципы его ценностной организации. В отличие от этого художественная критика не может себе позволить никакой неточности относительно художественной стороны произведения и эстетических категорий, то есть она обязана различать в структуре произведения и познавательный, и аксиологический уровни, так же как и сплетенный с ними уровень художественных средств. Но пользуется она, как правило, рассудком[71]. При рассудочном анализе произведения и в особенности его ценностной структуры, а также его общей оценки (отнесения к принятым или вызревающим в той или иной культурной среде ценностям) материал воображения, схваченный в произведении искусства, казалось бы, более доступен критике, ведь разрыв между воображением и разумом с его предельными, неподдающимися схватыванию в воображении идеями невосполним, а для рассудка схемы воображения просто его родная стихия. Однако интересно, что вновь и вновь при таком, казалось бы, естественном и должном анализе произведения искусства художественной критикой всегда остается нечто неуловимое, то, что Гёте называл невидимой точкой, вокруг которой возникает мир гениального художника; он писал о Шекспире: «Все его пьесы вращаются вокруг скрытой точки (которую не увидел и не определил еще ни один философ), где вся своеобычность нашего “я” и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого»[72]. Ясно, что эта точка скрыта от рассудка, она остается неопределимой именно для него. Однако без этой скрытой точки, без выхода в бесконечность — в мнимом пространстве произведения, как в пространстве зеркального отражения, — которая ничего не говорит рассудку, не существует гениального произведения. Гений в искусстве, как это определил Кант, есть способность продуцировать эстетические идеи. Лучше самого гения о гении не скажешь, а для него ведь “гений и злодейство две вещи несовместные”, что, однако, для не–гения не очевидно. Но мы напомнили цитатой скорее этическую максиму художника, 5 чем эстетическую идею, которую он продуцирует. Дело в том, что она остается (до вмешательства гения) только открытой возможностью; та скрытая точка, центр вращения художественного мира, по необходимости должна оставаться пустой; гений это счастливая природная способность быть в этой точке как у себя дома. Каждый раз, продуцируя эстетическую идею, гений создает образец, который должен служить “мерилом или правилом оценки”[73]. То есть гений производит эстетическую ценность, которая затем служит критерием оценки и образцом для школы, сообщением для преемства другим гением. Из этого “счастливого случая природы” для нашей проблемы следует несколько важных выводов. Во–первых, особенность в строении ценностного порядка произведения искусства наподобие организма: как организмы есть в себе цели природы, они внутренне целесообразны, так внутренне целесообразны и произведения искусства, целое произведения (целостность) объяснимо только при допущении внутренней его цели, то есть что оно организовано некоей внутренней формирующей силой. Но на деле произведение искусства только по форме целесообразно, цели воздействия искусства на воспринимающего не задают внутренней целесообразности произведения. Речь идет о схождении всех художественных средств как бы к одной внутренней точке, которая “держит” все произведение. Это и есть та самая скрытая точка, как бы внутренняя цель организма. По своему строению произведение подражает организму, но внутренняя цель организма неизвестна, и в произведении она остается пустой. Какое же значение имеет такая организация произведения? Наша повседневная приверженность определенным ценностям не позволяет нам признать, что чем выше ценность, тем абстрактнее соответствующая ей идея. О предельной ценности (например в религии об идее Бога) ничего определенного сказать нельзя. Вообще, нормативная система, частью которой являются ценности, устроена таким образом, что наиболее мощные, интегрирующие ее идеи, которые и называются ценностями, остаются наименее определенными. Избранные умы трудились и по сей день трудятся над определением “добра” или “свободы”. Уже Кант отметил принципиальную неопределимость высших ценностей, связал ее с регулятивной ролью идей разума, как бы постоянно повышающих в ценности существование человека, ограниченного во всем причинно–следственной связью как существо чувственное. Источник ценности самого существования оставался принципиально неопределимым. Кант исследовал нормативную систему весьма систематично и не мог не обнаружить этих ее пустых интегрирующих центров. С точки зрения ценностного строения произведения искусства оно есть не что иное, как аналог не столько социальной системы, как это полагал вслед за М.Вебером Т.Адорно, сколько нормативной системы: отсюда диалектика гения и школы, образца и подражания, правила и непредвидимости шедевров. Этим же объяснима и присутствующая в снятом виде “борьба богов” (М.Вебер), то есть борьба ценностей в произведении, представление в нем конфликтов ценностного сознания общества. Этим же объяснимо и особое строение со скрытой точкой аксиологического слоя произведения. Как органичность произведения, так и неуловимость высших ценностей не раз отмечались в нашей эстетической литературе, и можно согласиться с выводом О.Генисаретского: «Для уяснения смысла принципиальной “неопределенности” высших ценностей нужно помнить, что, будучи неуловимыми для прямых суждений, они всегда остаются “открытыми” для заинтересованного ценностного переживания, для понимания и чувствования»[74]. Как гений способен, производя эстетические идеи, воспроизводить символы высших ценностей, неопределимых для рассудка, так и воспринимающий произведение искусства 6 имеет доступ к ним через счастливое согласование своих познавательных способностей. Познавательными они называются в традициях немецкой классической философии, к ним относятся способность желания, воля, эмоции, конечно, разум, воображение и прочие душевные и духовные способности. Адекватное восприятие произведения искусства предполагает, что все структуры произведения доступны при условии вовлечения упомянутых познавательных способностей, иными словами, чтобы проникнуть в высший ценностный слой художественного произведения, недостаточно знания художественного языка, “обученного” глаза, слуха, поэтического чувства или, проще говоря, некоторого уровня культуры не в смысле противопоставления массовой и элитарной культуры, ведь вне этого противопоставления есть народная культура, у которой есть своя мера, свои принципы и основания. Кроме всего этого, необходима также установка на ценностное видение. Она может быть произвольной (когда мы намереваемся пойти на концерт или в музей), а может быть и спонтанной. Касаясь соотношения познавательных способностей при ценностной установке сознания, мы не можем обойти часто обсуждаемый в нашей философской литературе вопрос о господстве в современной эстетике (да и вообще якобы во всей философии) так называемого гносеологизма, когда все сводится к познанию, в том числе смысл и назначение искусства. В общем плане такое утверждение о господстве гносеологизма вообще представляется бессмысленным: во–первых, потому, что познание и его результат, знание, всегда было и будет высшей ценностью культуры. Конечно, оно по–разному понималось египетскими жрецами, вавилонскими магами, индийскими брахманами, средневековыми алхимиками, философами всех времен и народов и представителями современной науки. Но знание и истина всегда были конечной целью работы со–знания. Поэтому критика может быть обращена на узость метода или же объяснительных возможностей современной науки, которая, выступая как социально организованный, в некоторой степени самостоятельный институт, сама является важной культурной ценностью, конкурирующей с более традиционной выражаемой ценностью знания и истины, нередко замещающей последнюю, превращая ее в инструментальную, служащую науке. Не наука ради истины и знания, а знание и истина ради науки. Об этом свидетельствует методологизм современной науки, для которого законен вопрос: “что такое истина с точки зрения научной методологии?”. Таким образом, ценность истины подчиняется социальной организации науки. Это дополняется абстрактным требованием “учитывать” и ценностные отношения, волю, эмоции, эстетическое начало и т.п. Однако знание это изначальное и фундаментальное определение человека: все стремится быть выведенным в сознание и предстать в виде знания, в том числе и все упомянутые выше способности. Формула истории — “из царства необходимости в царство свободы”, — означает высвобождение духовной энергии, до этого высвобождения возможна лишь “предыстория”. Но, разумеется, знание нормы, ценности, сознание чувств отличаются от знания объективных внешних вещей и не только аналитически. Однако в сознании и ценность, и норма, и волеизъявление, и чувство даны через представление, то есть как знание о них, они присутствуют в сознании как со–сознание о них. Собственно говоря, все эти исключающие как бы друг друга установки сознания могут обнаруживаться, не уничтожаясь взаимно, только потому, что они проявляются как различные поляризации одного и того же сознания, которое представляет. В этом смысле был прав отчасти Шопенгауэр: воля дана только через представление. И все попытки зафиксировать бессознательное средствами сознания, начиная от Э.Гартмана и вплоть до К.Юнга, разбиваются о тот простой факт, что они все равно имеют дело с сознанием и представлением. Заглянуть себе в глаза можно только посредством зеркала или же во сне. Это зеркало и есть то мнимое пространство культурных объектов, в которое заглядывает наше воображение. “Жизнь есть сон” — тоже один из наиболее распространенных образов, встречающихся буквально повсеместно. Это, разумеется, только образ, а не 7 теоретическая схема. Этот образ позволяет нам вернуться к исходному противопоставлению познавательного и ценностного аспектов в эстетическом анализе произведения искусства. Установки сознания, различимые как познавательная, волеизъявляющая и эмоциональная (переживания чувств), поддаются синтезу именно потому, что все они могут быть представлены через знание, то есть вообще могут быть представлены. В этом лежит возможность единства сознания. Процесс синтеза конкретной деятельности сознания происходит в материале знания, но возможным его делают такие устойчивые образования (исторически наследуемые типы синтезов), которые мы называем ценностями. В плане сознания ценности направляют процесс синтезирования продуктов сознания (знаний, убеждений, верований и т.п.); в плане культуры они обнаруживаются как образцы. И в этом качестве они также типологически различимы. Есть познавательные образцы– ценности, интегрирующие и задающие цель познания — истина, новизна, стройность (теории), факт может быть ценностью; есть ценности гедонистические, связанные с утончением и развитием способов чувствования; есть ценности, обращающиеся к многообразию вступающих в общение воль, предполагаемых свободными, такие как справедливость, право, власть, равенство и т.п. Все эти типы ценностей суть не что иное, как “нервные узлы” нормативной системы. По своему способу существования нормы, знания и ценности не различаются. Все они представляют некоторые мнимые ситуации, но точно так же, как в плане сознания, они являли собой различную поляризацию одной и той же материи представления, точно так же и в плане культуры, это как бы разная глубина, разный порядок перспективы мнимого изображения. Знания и нормы — это, можно сказать, одни и те же мнимые ситуации, но во взаимообратной перспективе: знание представляет, как бывает при определенных условиях, норма — как должно быть. Ценности это как бы мнимые точки на горизонте, куда все изображения сходятся, то есть к ним сводятся все нормы и знания. Этим задается роль ценностей как интеграторов культуры. Это самая общая схема строения нормативной системы, понятно, что она по– разному действует в различных социальных системах. Раз культура, и в частности искусство, это отражение реальной действительности, то и жить она (и оно) должна по законам отражения. И мы перед лицом произведения искусства находимся в такой же ситуации, как Алиса в зазеркалье. Мир там странен и преувеличенно значим. Давно уже замечено, что всякое явление, будучи перенесенным в произведение искусства, как бы преображается, повышается в своем значении, а с другой стороны, обращение к искусству не только увеличивает наш опыт в грандиозных масштабах (музыка, например, есть бесконечное множество возможных миров, о которых говорил еще Лейбниц, музыка их представляет), но и дает утешение и очищение души. Это свойство искусства объяснялось в истории эстетики по–разному. Не последнее место здесь занимает и интенсивность ценностной структуры произведения, которая на несколько порядков превышает интенсивность ценностного обыденного сознания. При своем зарождении искусство было всем для человека — и знанием, и средством магического воздействия, и общим достоянием, символом присутствия общества и его поддержки. Это обещание защиты и поддержки (делом личности, индивидуальным произволом, самоутверждением искусство стало мыслиться совсем недавно. Это, конечно, объяснимо атомизацией сознания, свойственной современному обществу). Это свойство быть полноправным представителем и символом общества сохраняется в эстетической ценности в ее особом статусе среди других культурных ценностей. Эстетическая ценность в произведении своим центральным местом, пустотой и мнимой бесконечностью всегда как бы напоминает об этом бесконечно превосходящем индивида по своей духовной энергии единении, то есть обществе. Оно как бы мнится и присутствует через нее в произведении. Именно поэтому — ввиду потенциальной защиты — эстетическая ценность 8 всегда позитивна. Так называемые негативные ценности опровергаются эстетическим чувством, подобно тому, как в логике опровергается парадокс лжеца. Однако странно было бы отрицать, что современное искусство воплощает в себе только или по преимуществу позитивные явления, причем дело не ограничивается эстетическими, но и нравственными (проповедь зла, демонизм), гедонистическими (ценным считается эффект шока или отвращения). Картина, по–видимому, прямо противоположная тому, что должно было бы быть. Этот факт не обошла и эстетическая теория. Уже упоминавшийся Адорно, Сартр и другие критики буржуазного сознания не допускают для подлинного произведения искусства в современном обществе выражения каких–либо позитивных ценностей, поскольку их просто нет; они обнаружили в ходе истории неустранимые признаки ложного сознания. Проще говоря, если политик, критик, идеолог или же сам художник мотивирует свои поступки высшими ценностями, то это означает, что он либо бежит от действительности (художник), либо преследует интересы господствующего класса (политик и идеолог), либо способствует обману, усыпляет классовое сознание пролетариата (критик). Такой взгляд на искусство имеет свои основания. И все же произведение выходит за рамки ограничений состоянием наличного общественного сознания. Оно есть не только представление актуального для общества содержания и знания, но и утверждение ценности всей человеческой истории, оно есть свернутая история, ее форма и возможный смысл. А смысл ее, вероятно, в движении к свободе, и в каждом произведении, — если это подлинное произведение искусства, — наличие упоминавшейся центральной пустой ценности, позитивности как таковой без всяких дальнейших определений как бы вовлекает человека в этот замкнутый мир произведения (он всегда замкнут, даже если принцип построения его в незаконченности), выманивает его из кокона индивидуальных пристрастий и заставляет выйти как бы вовне, подключая к целому социума. Разумеется, все это происходит в воображении зрителя. И при этом процесс, описанный выше, объективен, зритель получает реальное приращение энергии при восприятии подлинного искусства, хотя черпает он ее из мнимого источника. В этом, пожалуй, состоит одна из величайших загадок искусства, в том числе и его ценностной природы. Ведь известно, что приверженность высшим ценностям — таким, как народ, родина, любовь, святость, свобода, и конечно, прекрасное, — увеличивает личную энергию. У нас здесь нет задачи составлять список высших ценностей, да это и невозможно. Если художником заложены в произведении — через посредство эстетической идеи — смыслы высших ценностей, а это возможно, если субъективность художника такова, что она оказывается тождественной объективности (это и есть гений), то зритель может быть также приведен (если, конечно, он конгениален произведению) в состояние такого тождества, его субъективность расширяется до объективности. Какую же роль при этом играет негативность, если эстетическое отношение в конечном счете позитивно, а в своем истоке, в гении, тем более? Внутри произведения “злодейство”, то есть безобразное или разрушение художественности, вероятно, имеет не только формальный смысл. Обещанию защиты явно противоречит постоянная реальная угроза, неотъемлемая от характера истины современной социальности. И все же искусство обещает. Но поскольку оно есть свернутая история, подобно тому, как трагедия есть история на сцене, то эта негативность реальной социальной действительности в снятом виде присутствует в виде художественных средств, в процессе художественного творчества эта социальная негативность перерабатывается в диссонансы, контрасты, противоречия, конфликты и т.п. И все же называть безобразное и сходные феномены ценностями (или антиценностями), на наш взгляд, неверно, как неверно вообще их считать эстетическими категориями. Подобно тому, как не называем мы в науке ложь познавательной ценностью, не называем мы и в этике ценностью порок. Хотя отрицать при этом существование разрушительных сил 9 никто не станет. Существует всеобщий рыночный эквивалент ценности — цена, выражаемый позитивной мерой, деньгами; антицены не может быть и антиденег тоже; хотя долги и бывают причиной катастроф, это не делает их антиценностями. И в этом сравнении ценностей как идей, целей и их рыночного аналога — денег, мы сталкиваемся еще с одной важной проблемой — фетишизма. Вообще говоря, ценности существуют постольку, поскольку существуют проблемы: ценность чистой воды, воздуха, красоты природы не осознавалась, пока над ними не нависла угроза. Вечные ценности отмечают вечные проблемы — например, ценность жизни. Этим же, кстати, объяснима и присущая ценности позитивность — ведь она противоположна негативности проблемы. В чем же суть фетишизации ценностей, а значит, и искусства, как духовных продуктов, как идей? Отчуждение предметной, качественной творческой деятельности, получающее свое выражение в продуктах культуры, имеет следствием превращение их в товар, который получает количественное стоимостное выражение, становится предметом престижа, знаком социальных отношений, которые нивелируют как качество культурного продукта, так и самой личности. Переворачивание культурных и социальных отношений, их взаимозамещение или неразличение повторяют овеществление социальных отношений и олицетворение вещей. Ведь товарно–денежный фетишизм как раз и означает господство над людьми, над их культурой и социумом, вещных отношений. Фетишизм ценностей обнаруживается в приписывании им трансцендентной природы, а произведений искусства — в истолковании их как существующих вне времени, в вечности. Продукт духовной деятельности, с одной стороны, выступает в обществе как вещь и товар, а с другой - сакрализуется, как некогда “святое место”, храм, трон и т.д. Этим внутренним напряжением между священным и рыночным (вспомним, как Христос выгонял торговцев из храма) разрывается любое сколько–нибудь значимое произведение, то есть обладающее ценностной структурой. За него кто–то должен платить, его надо продать, и в то же время это как бы убежище неотчуждаемых ценностей — перспективы или горизонта свободы человека, блага, гармонии, жизненности. Это противоречие не раз отражено и в эстетической теории. Как отмечалось выше, всякая ценность есть знак проблемы. Проблема отчуждения и фетишизма самой культуры стала уже внутренней для искусства, что, надо отметить, порождает его особую культуростроительную, культуротворческую роль. Произведение как ценность возникает в местах разрыва, проблематизации культуры, становится как бы призывом к ее целостности, гармонизации. Этим объясняется такое пристальное внимание в самом искусстве к фигуре художника, к процессу художественного творчества, что отмечал Хайдеггер, говоря о поэзии Гёльдерлина. Вообще эта тема, начиная с романтизма, не покидает искусства, герой романтиков, как правило, художник или вообще творческая личность. До романтизма художник, творец присутствует, правда, на картине или его имя зашифровывается в произведении, но роль этого присутствия иная, художник здесь только созерцатель, а произведение не стремится быть выражением его внутреннего мира, оно в большей мере объективное свидетельство. Художественное творчество как осознанная внутренняя ценность включается в ткань произведения вместе с обсуждением его природы и назначения, начиная с романтизма и вплоть до современности, как это прочитывается у Г.Гессе, Т.Манна, В.Набокова и как это пародируется у Р.Музиля. Впрочем, и Набоков не чужд пародии. Таким образом, при анализе художественного творчества как осознания и создания ценностного мира мы должны иметь в виду, что ценностное отношение может быть различным по своему уровню, оно может быть непосредственным или же опосредованным. От относительно непосредственного выражения существующего в 10 данном обществе распределения ценностей, от удовлетворения интересов как эстетических, так и идеологических, от требования нравиться и доставлять удовольствие искусство, с включением в свою структуру этой самоценности художественного творчества, перешло как бы в другой порядок существования: “Когда же / Был удовольствован голод их сладким питьем и едою, / Муза внушила певцу возгласить о вождях знаменитых”. Эти вожди, строители культуры, сейчас, действительно, одна из труднейших и острейших проблем культуры. Каковы они сейчас и какими должны быть? Тот факт, что художник стал героем произведения (а не только присутствующим как созерцатель), что он стал средоточием аксиологической структуры произведения, говорит не только о том, что творчество в современном мире это большая ценность, но так же и о том, что здесь скрывается опасность, какой–то еще невыявленный антагонизм культуры и общества. “Об иных произведениях, от которых ожидают, что они, по крайней мере отчасти, будут относиться к изящному искусству, говорят: в них нет духа, хотя и не находят в них ничего дурного в смысле вкуса”[75]. Духом в эстетическом смысле Кант называл “Оживляющий принцип в душе”[76]. Это способность гения производить эстетические идеи. Противопоставление духа произведения школьным правилам, без которых, однако, гений производил бы дикое впечатление, согласуется в системе Канта с противопоставлением школьной философии (которая может быть сколь угодно виртуозной в смысле использования наших познавательных способностей, но которая не может быть законодательницей разума) и “мировой философией”, то есть как раз законодательства разума. Это различение духа и виртуозности очень существенно для аксиологического анализа искусства. Произведение, как уже отмечалось, это целостность, когда дух и буква не распадаются, а слиты, дух выражен, буква одухотворена. Характер их слияния зависит, вероятно, от того, как синтезированы познавательный и ценностный уровни в процессе художественного творчества. Аналогично этому в гносеологии проблема целостности познания оказывается поистине вечной проблемой. Так М.Вебер, например, полагал, что нет никакой систематической связи в самих вещах, что не предметные связи вещей, а мысленные связи проблем лежат в основе наук. А Гуссерль полагал (в начале своей деятельности), что, наоборот, систематика “коренится в самих вещах” и что неокантианцы (методологии которых отчасти следовал М.Вебер) — это те же психологисты[77]. Но несмотря на аналогию, дилемма эта оказывается совершенно неизобразимой в искусстве, потому что в художественном творчестве “вещи” и есть сами проблемы, связь, единство одних есть связь других; подобно этому, познание в искусстве слито с ценностью, мы через искусство познаем ценности, обучаемся им (“учебник жизни”) и утверждаем, ценя искусство, высшую ценность познания. Тогда слитность “связи вещей” и “связи проблем”, что и есть неотъемлемое качество искусства, оказывается для самого процесса познания как бы обещанием истины, как бы выходом из мира воображения в мир объектов. Но всегда, конечно, остается возможность, что эти выходы, эти окна в монаде произведения искусства могут оказаться фальшивыми окнами. Каков же критерий их истинности? Какая практика их подтвердит? Очевидно, только духовная: это понимали еще древние, считая, например, один тип музыки вредным для человека и государства, а другой - целебным, запрещая определенные лады и интервалы. Музыка, закрывающая доступ к высшим духовным ценностям, такой же наркотик, как алкоголь и никотин. Такая же возможность служить не высшим ценностям, а вести с ними борьбу, существует у всех видов искусства. И здесь мы сталкиваемся с проблемой ответственности художника, художественной критики и со всеми теми проблемами, которые возникают, когда мы оставляем имманентное рассмотрение произведения как 11 ценностной структуры и вновь возвращаемся к его существованию в культуре и в обществе, среди других произведений, объектов культуры, для людей. 12