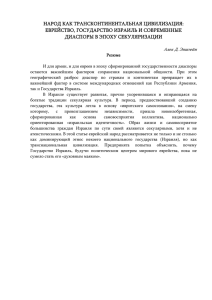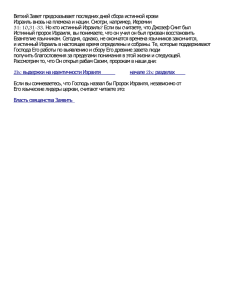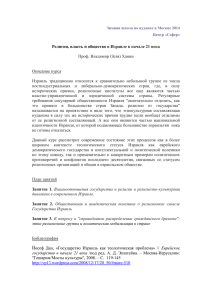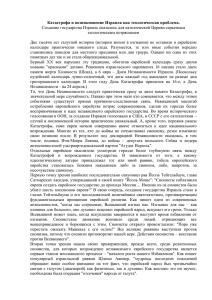Тексты шортлистеров конкурса
реклама

Далия Равикович, известная израильская писательница, доводящаяся мне четвероюродной тёткой: моя бабушка, побывав в Израиле и повстречавшись с нею (какая-то еще промежуточная родственница переводила с иврита на русский и обратно), вернулась под большим впечатлением и очень сетовала, что не может прочесть ее стихи и рассказы, я нашел один текст в переводе, получил большое удовольствие, но бабушке решил на всякий случай не показывать... Елена Семеновна Айнбиндер, светловолосая женщина лет тридцати, хозяйка хутора Капмала ("На краю погоста") в латвийских лесах, где я провел две недели последним школьным летом; погоста никакого не было, хутор стоял на берегу большого озера, вдоль которого мы гуляли вдвоем и разговаривали о поэзии, как герои, допустим, Бунина, и мне иногда казалось, но веселый белозубый муж по имени Тимур, по национальности курд, и двое детей-школьников, по именам Маянэ и Семён, по национальности (придумал папа) курдеи, не давали мне воплотить эту кажимость не то что в действие, а даже в мысль, — все они уехали в Австрию, и там, по слухам, она быстро умерла... Яша Зальмарсон, худенький буйно курчавый мальчик из Питера, приехавший развлекаться в Москву жарким летом тысяча девятьсот девяносто не помню какого года, – мы болтались по городу, дурачились, я отнимал у него сигареты во имя здорового образа жизни, он смешно кричал, картавя: "Хочу курить!", рассказывал какие-то нелепицы про свою питерскую жизнь, про мать с отчимом, которые раз за разом отправляют его на Пряжку, из-за фантастической дикции было трудно понять, в чем дело, и что самое смешное – ночью оказалось, что он таки не обрезан... Фредерика Александровна Гальперина, прабабушка, на фотографии 1912 года, сделанной в бессарабском городишке Новоселица, в шляпке с перьями, и на фотографии 1928-го, групповой, подпись: "Лучшие ударники и обществ. рэв. закон. Октяб. райсовета", седая, в пальто, с ужасом на лице, между двумя бритоголовыми в кожаных регланах... Неизвестная пышнотелая седая дама в купальнике, величаво шествовавшая по кромке коктебельского прибоя, трубным голосом возгласившая с добрых десяти шагов в сторону уныло колупающегося в песке десятилетнего меня: "И откуда тут у нас такой красивый аидише ребенок?.." Чешская художница с длинной, незапоминаемой фамилией, учившая рисовать обреченных на концлагерную печь детей в Терезине... Я, Дмитрий Кузьмин, русский по паспорту, языку и самосознанию. Иличевский А. Иличевский ДИОНИСИЙ КАК НЕБО На Каракумы годичных осадков ложится всего 200 мм. Чего, впрочем, хватает эфемерам полыхнуть изумрудом на излете марта по предгорьям Копетдага. Однако, если знать, 20 см не так уж и мало — против всего двух в Антарктике. И уж тем более, не в осадочном миллиметраже дело. Ведь "кара кумы" — черные пески; а где сухо — там и чёрно. Что может быть суше и чернее пустоты? Потому и персонаж — чем говорливее, тем пустее. Взять хотя бы Карамазовых. Самый молчаливый из них — Алеша. Оттого и самый живой. Потому еще Карамазовы — в смысле пустоты — показательны, что случай приоткрыл фамилию этой романической тайны. Выпало по тому случаю гулять прошлой зимой в Ферапонтове, что над Вологдой. Порядочная глухомань, почти сказочная. Там монастырь над озером снежным, по берегам лес и срубы банек трубами торчат в сугробах выше роста. Ручей Паска сбегает с плотины в дугу крепостного рва — быстро настолько, что не смерзается, журчит, будто вешний. Потому ночью в 34-х градусный берендей над ним, над лощиной, кутая мост поверх, парит облак — и сквозь него, как в дреме несбыточной: светясь, возносятся с холма монастырские стены, маковки башен, двух церквей, колокольня. Такова сила воображения Ферапонта, грезившего Иерусалимом: городом, белым от Б-га. А началось все с того, что в 1394г. пришел на холм над берегом многоверстого озера монашеский подвижник Ферапонт — и для начала выкопал землянку. Долго ли коротко, стали из лесов к нему, на молитвенное поселение, люди приходить, иные жить с ним оставались; со временем и стройку затеяли. После здесь раскольного патриарха Никона в ссылке держали и Дионисий своими шедеврами стены претворял (всего 34 дня ушло на 90 кв. метров, сыновья помогали). Но вот ступили под ртутный фонарь перед мостом, зависший короной над шаром дорожного "кирпича" — и стоп, провалились. Туман, обнимавший нереальностью взоры, умножил разительность впечатления. Дело в том, что мост оказался точной копией моста с офорта Рембрандта "Six's Bridge. 1645 (Cat. No. 284)", который не далее как месяц назад был срисован и приколот над столом. (Есть два верных способа погрузиться в медитацию: рыбалка и копирование рисунков Рембрандта.) Совпадение было совершенным не только в графической основе пейзажа. В уравнении по ту сторону знака равенства ("кирпич"?) стояла и опорная конструкция ограждения, и арочный способ укладки бруса, и даже число — пять — пролетов, по которым подпирались перила… По ту сторону Паски лучился из высоких окон деревенский дом. Из трубы густым, медленным столбом шевелился дым. В заросших морозным хвощом окнах виднелась наряженная конфетами и хлопушками елка, старинная мебель, книжные шкафы. В общем, если бы до того не случился Рембрандт, вышел бы чистый Л. Андреев. Еще там в лесах, ежели углубиться на лесовозе по зимнику, лоси ходят — свободно, как гуси по Тарусе. Ели, широкобокие, разлапистые, огромные как вертикальные веси, трещат под воеводской поступью — пушечно. На обратном пути от жилья радостно тянет дымком, но тревожна тишина запустения: волки подъели собак по деревням, "и некому распознать Улисса". А вернувшись, парились ночью в баньке, что в озерных сугробах, под Большой Медведицей, до упаду — "почерному", в дыму и саже, как кочегары на "Варяге"; и сигали "солдатиками" с бухты-барахты прям из предбанника — прежде лед в полынье разбил книжкой из рюкзака, — намеренно расколошматил "Форелью". (Тогда — не "Варяг": "Тристан".) В монастыре — зачем собственно и ехали — лазоревая роспись Дионисия. Трансцендентная настолько, что почти абстракция — где главное: не что изображено, а линейность кривизны, складки, и минеральная, тектоническая симфония цветов — которая вызывает в помин В.Кандинского. Потом такого — немыслимого — цвета небо реяло над холмами под Козельском. Туманная пашня — борозды высоченных, перистых, чуть еще розовых от схлынувшего заката облаков. Цвет такой, будто свет его изнутри самого себя — света — светится; как у моря, в которое кануло солнце. Словно бы если разложить эманацию цвета на спектр, в нем бы чудом обнаружился так и не развернутый в веер — белый, светоносный сектор… А еще навещали в том таинственном доме, что за мостом над Паской, научного сотрудника монастырского музея, по фамилии Шаромазов, с поклоном от приятелей. Жарко натопленный бревенчатый дом, бывшая школа; высоченные, под самый конек, потолки, огромные заиндевевшие окна, будто хрустальные витражи, построения антресолей, стеллажи с каталогами, библиотекой. Милейший человек, питерский — заведует в Ферапонтове всем Дионисием. Вручили ему фляжку сносного коньяка "Баку"; на этикетке мелькнула мне Башня, наследница похоронных обычаев зороастров, на которой в детстве мечтал сигануть вниз на рамочном параплане, чтоб разлететься над простором набережной и бухты; и — на задах — лабиринт Крепости, где однажды меня хотели не то съесть, не то зарезать. Так вот, выйдя от Шаромазова, я вспомнил сначала Хармса: у него "Я" — шар, и из головы шары вынимаются, отчего человек сам превращается в шар, и потому сознание топологически есть шар, или сфера? — с центром, который везде и нигде одновременно. Последнее почти совпало с паскалевским определением Б-га. Потому-то Шаромазов и совпал с Богомазовым. То есть с Дионисием. Так приоткрылась тайна фамилии. Имеем: богомаз, т.е. иконописец; кара — "черный", повсеместный тюркский корень (напр., Карадаг — "черная гора"; Карамзин, Кара-Мурза, просто кара — казнь, "казнь петровская", чья "вода в новгородских колодцах и черна и сладима"). Следовательно, Карамазов — Чертомаз. Тем временем вдоль забора миновали хлев: разбросанное по снегу сено. И вдруг заблеял невидимый козел (именно козел, потому что коза не блеет, а мемекает). Пронзительно. Потом заревел, заплакал, забился. Сарайчик пошатнулся, двинулся, как шляпа, под которой слон. И тогда я вспомнил: "Все это [злодеяния ангелов] привело к тому, что Вс-вышний послал четырех своих ангелов — Уриеля, Михаеля, Гавриеля и Рафаеля — для изъятия падших ангелов с земли и соответствующего наказания их. Каждый из ангелов получил соответствующий срок наказания в аду — кроме Азазеля, который остался в этом мире и был заточен в Иудейской пустыне под одной из скал. К этому известному месту, находящемуся приблизительно в трех километрах от Иерусалима, и отсылали козла во время Йом-Кипура ("сеир ле-азазель" — "козел отпущения"). Только козел не жертвовался Азазелю (таково распространенное ошибочное мнение), а сбрасывался с обрыва в том месте, где был заточен в скалах Азазель." После такого озарения, вновь вернувшись к пустыне, в долгой задумчивости ходил окрест по деревне. Ходил, ходил, пока не задался — чего хожу-то? И ответил: синагогу ищу, то есть людей, как минимум числом десять, чтоб попросить их — срочно! — вознести неурочную молитву — о дожде. Вскоре выяснилось, что во всей окрестности сотовый телефон ловит лишь на пятачке, буквально — 2x2, на взгорке перед самыми монастырскими воротами. И почему-то — только если лицом повернуться в прекрасную вологодскую даль, на Юго-восток, к Иерусалиму. Затылком к воротам его миража. А. Иличевский СТУПЕНЬ II Центр тяжести «вопроса о статусе Иерусалима» и топографически, и метафизически приходится на Храмовую гору. Известные описания Конца Времен сообщают, что решающие события этого Действа произойдут после восстановления в Иерусалиме Храма Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога Иакова. Место для этого храма было раз и навсегда указано Всевышним царю Давиду на горе Мориа (ныне — Храмовой горе). Это место и стало причиной и собственно — местом событий, приведших к взрыву нынешнего конфликта. Вообще, известно — «слово не воробей», особенно написанное в Святой Книге. Тем более это так — если учесть, что начертанием Книги, собственно, и была создана Вселенная — от начала времени до его конца. В свете данного убеждения не будет особенным экстремизмом допущение — рассматривать некоторые литературные или философские произведения, отличающиеся той или иной степенью харизматичности, как дополнительное участие свободного в своей творящей способности человека в общем Творении (идея эта встречается как в Каббале, так и в творчестве многих поэтов: особенно ясно — у Цветаевой, Рильке, Пастернака, — убежденных, что со времени конца эпохи пророков поэзия приняла на себя их профетические функции). Вот, кстати, несколько легкомысленный пример этого свойства cлова. Поэт А.Парщиков лет 10 тому назад, по его собственному признанию, еще с трудом зная, где собственно находится страна такая Албания, в стихотворение «Деньги», согласно фигурально-интуитивным установкам своего способа письма, поместил строчку: «В глобальных войнах победит Албания». Что из этого получилось, стало известно несколько лет назад из репортажей CNN о прицельных бомбардировках Белграда. Потому иногда имеет смысл уделять более пристальное внимание уже сказанному, чем обычно. Следуя этому принципу, я предлагаю внимательней взглянуть на то, что написал Владимир Соловьев в «Краткой повести об антихристе», — приложении к своей последней работе «Три разговора», созданной век назад, в той же календарной окрестности, отличающейся обострением эсхатологических предчувствий, в какой нынче находится наша современность. В. Соловьев отличался от большинства своих коллег и тем более от своих символистских адептов тем, что питал к евреям довольно теплые чувства. В своей блестящей, карнавально-плутовской по жанру, «Краткой повести…» он уделяет евреям хотя и несколько формальную (на первый, поверхностный взгляд — обусловленную скорее динамичностью сюжета, чем онтологическими причинами), но фактически решающую роль в разрешении описываемой им эсхатологической коллизии. Имперская власть антихриста, тоталитарно воплотившись в технократическом синтезе всех бытийных аспектов цивилизации — национальном, философском, государственном, идеологическом и т.д., — оказывается перед вопросом окончательного решения своих экуменистических устремлений. Все мировые религии, кроме иудаизма, уже ангажированы и готовы окончательно расплавиться в своей синтетической ипостаси — в идолопоклонении имперской власти. Евреев, численность которых «дошла в то время до тридцати миллионов», антихрист пока не трогает, поскольку понимает, что их упрямство для него чревато. К тому же, он успешно добивается от них содружества и сотрудничества, давая понять, что он с ними — «одной крови». Более того, когда «он переселился в Иерусалим, тайно поддерживая в еврейской среде слухи о том, что его главная задача — установить всемирное владычество Израиля», евреи признают его Мессией. Но в решающий момент, когда становится ясно, куда привели все его, антихриста, благие устремления, когда евреи уже поставлены перед фактом множества чинимых им расправ с теми, кто распознал в нем зверя и потому не покорился его имперскому обаянию, — они, «считавшие императора кровным и совершенным израильтянином, случайно обнаружили, что он даже не обрезан. В тот же день весь Иерусалим, а на другой день вся Палестина были объяты восстанием. <…> Все еврейство встало как один человек… <…> …Миллионная армия евреев овладела Иерусалимом и заперла антихриста в Харам-эш-Шерифе [площадка на Храмовой горе, где был построен императором экуменистический Храм, включивший в себя, помимо двух находившихся там мечетей, алтари и прочих конфессий. — А.И.]. С помощью волшебного искусства <…> императору удалось проникнуть сквозь ряды осаждающих, и скоро он появился опять в Сирии с несметным войском разноплеменных язычников. Евреи выступили ему навстречу при малой вероятности успеха. Но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы — под Мертвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки <…> поглотили и самого императора и все его бесчисленные полки». Здесь наиболее интересны два сюжетных факта, которые следует оставить без комментариев, дабы не отягощать вымысел домыслами на его, вымысла, основе. Первый: Иерусалим так и не стал столицей антихриста, не покорился ему. Второй: факт «волшебного» переноса антихриста в пределы Сирии, каковой запросто может оказаться обратным ходом маятника в вышеупомянутой интерпретации 17-й суры. «Краткая повесть об антихристе» В. Соловьева содержит еще одну подробность, которая, возможно, косвенным образом комментирует произошедшее в Иерусалиме в канун Рош-ха-Шана — еврейского Нового Года — 28-го сентября 2000, — когда Ариэль Шарон, лидер правой парии «Ликуд» поднялся на Храмовую гору, чтобы встретить там проклятия и камни палестинцев. Подробность эта в «Повести…» выглядит совершенно случайной и оправданной только желанием автора достигнуть некоторой беллетристической достоверности излагаемой череды событий. В этом отрывке В.Соловьев упоминает дату созыва в восстановленном на горе Мориа Храме Вселенского Собора, который был призван выработать окончательное решение экуменистически-имперских устремлений антихриста: в «Повести…» эта дата отмечает начало кульминации сюжетных событий. «Резиденция [антихриста] в это время была перенесена из Рима в Иерусалим. Палестина тогда была автономною областью, населенною и управляемою преимущественно евреями. Иерусалим был вольным, а тут сделался имперским городом. Христианские святыни оставались неприкосновенными, но на всей обширной платформе Харам-эш-Шерифа, от Биркет-Исрани и теперешней казармы, с одной стороны, и до мечети Эль-Акса и «соломоновых конюшен» — с другой, было воздвигнуто одно огромное здание, вмещавшее в себе кроме двух старых небольших мечетей обширный «имперский храм для единения всех культов и два роскошные императорские дворца с библиотеками, музеями и особыми помещениями для магических опытов и упражнений. В этом полухраме-полудворце 14-го сентября должен был открыться вселенский собор». Так вот, казалось бы случайная, дата — 14-е сентября, учитывая принятый во время написания «Повести…» — в 1900 году — календарный стиль, почти точно приходится на 28-е число того же месяца, на которое приходится начало последнего арабо-израильского конфликта. Однако выводы здесь обязаны отсутствовать. Потому что великое — хоть и человеческое — неисповедимо. А. Иличевский МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО АДА Несколько лет назад Каддафи в своем обращении к ливийцам, выразился следующим образом: «Я объявляю Израилю джихад. Скоро месяц Рамадан. Миллионы мусульманских поклонников отправятся в Мекку. Всего арабский мир насчитывает 350 млн. душ. Почему бы одному-двум миллионам вместо Саудовской Аравии не отправиться в Иерусалим — ведь там находятся мусульманские святыни и там эти миллионы сразу получат шанс без задержки отправиться в рай, — то есть то, о чем они привыкли молиться в Мекке и Медине?» Почти одновременно с этим высказыванием Саддам Хусейн в течение восьми часов принимал парад двухмиллионной армии иракских добровольцев, ополчившихся под знаменем джихада против евреев и готовых в любую минуту выступить в военный поход на Израиль, согласно своим убеждениям. Эти возможные события, к которым призывают главы государств Ливии и Ирака, на фоне кадров хождения по кругу стенающих сонмов мусульман на площади в Мекке, терзая воображение своим умопомрачительным масштабом, могут вызвать только одну защитную реакцию мозга — убеждение, что рай, в который они все отправятся, на деле окажется адом. Кстати, с метафизической точки зрения интересно такое утверждение Сведенборга: в потусторонней жизни человек абсолютно свободен в том отношении — куда податься, — в рай или в ад. Каждый, по Сведенборгу, после жизни получает то местоположение, какое ему по душе. Данное утверждение вовсе не противоречит, как может на первый взгляд показаться, положению о «воздаянии за заслуги», так как на деле субъект получает именно то, что он заслужил при жизни: в результате прошедшей деятельности подлецу будет противно находится в потусторонии среди приличных людей, и наоборот. То есть, пишет Сведенборг, не качество места пост-существования определяет его суть для человека, а сам человек является определяющим свойством его, места, сути. Таким образом, из мрака картинок предыдущих абзацев, проступает следующая догадка. А, в самом деле, не является ли мусульманский рай — иудейским адом? Юля Идлис Евреи, наверное, и были тем народом, который выдумал понятие "наебка" как способ отношений с окружающим миром. Как механизм, так сказать, и двигатель прогресса. Как процесс инициации и инструмент для посвященных. Как все, в общем. Для того, чтобы почувствовать "наебку", необязательно ехать в Израиль. Ее, "наебку", можно ощутить, общаясь с еврейским народом в его институциональном виде и здесь - например, подходя к посольству Израиля в Москве. Уже подходя к посольству, видишь, что "наебическая" аура стоит над ним подобно пару. Подходя ближе, понимаешь, что пар этот вырывается изо рта несчастных, стоящих в очереди перед проходной на десятиградусном морозе в половину девятого утра, чтобы сдать свой недостойный паспорт на визу. А несчастные они потому, что несут на себе ручную кладь в виде сумок своих и портфелей с деловыми документами, ибо им потом целый день еще работать. И никто ведь не предупреждает их, что внутри посольства висит маленькая бумажка, говорящая, что вход в посольство Израиля с любого размера ручной кладью запрещен. Кого Господь хочет наказать, лишает разума. К неразумным носителям сумок подходит человек из посольства и говорит: "Мы вас внутрь с сумками не пустим". Неразумные говорят: "Хорошо, не вопрос. Что вы предлагаете?" Им говорят: "Мы ничего не предлагаем, не пустим и все". А рядом снуют кривоногие мужички в черных шапках-пидорках и полушепотом предлагают то, чего не осмеливается предложить гоям гордый еврейский народ: "Что, с сумками не пускают? Квартира номер 115, сто рублей". Кого Господь хочет наградить, лишает разума. Наученные столкновением с "наебкой", несчастные, но образумившиеся, они идут получать визы без сумок, рассовав по карманам многочислнные ключи, телефоны, бумажники, карточки, прижав к груди свои деловые документы на весь день вперед, и в метро на них оборачиваются сумчатые граждане и смотрят недоуменно, как на лишенных разума. И подошед к посольству Израиля в Москве, придерживая выпадающие из рук ежедневники и копии контрактов по работе, они, эти разумные, к несчастью обнаруживают, что выдаются визы с паспортами через окошечко на улице и в посольство заходить для этого не надо. Сами евреи говорят, что все несчастья происходят потому, что половина евреев все время врет, а другая, соответственно, вынуждена врущих в назидание наебывать. И вот интересно, отправка в Стену плача записочки от православного со словами: "Дорогой боженька, я хочу умереть" может считаться самоубийством и, следовательно, смертным грехом? Евреи бы нашли способ и здесь наебать мироздание, они бы справились. Поэтому, если развернуть все эти листочки, запихнутые между древних камней Второго Храма, там такое откроется. Если кто читал, у того и слов нет. Поэтому одно из двух: или действительно слов нет, или Он не читает. Таня Мосеева Лето девятого - середина одиннадцатого Ане Ц. и Роберто Бениньи Про Боженьку мы только и не говорили. Все, что с неба, мне тогда казалось, должно было обладать какими-то общими признаками: маленькие, должно быть, ручки, большие, черные, без белка, слегка раскосые глаза. Это типичный житель небесного мегаполиса. Где-то там же, в высоком-высоком доме, на последнем-препоследнем этаже Бог. "Г" или "х", или "г-переходящее-в-Х"? Анечка не говорила: "слава богу" или "господи, упаси" или "ради бога" или что там еще для бытовых мелких нужд в речи используется, никогда. Она говорила: "Очень хочется побыстрей домой", а еще: "Оксанка ходила в Бар" или "Маргарита добрая, ниже четверки не поставит", а еще: "Ненавижу месячные". Анечке хотелось в бар, пить через трубочку коктейль, говорить официантке: "Будьте добры" и "Рассчитайте нас" и улыбаться мужчинам. Мужчинам она нравилась всегда, хотя на мой тогдашний взгляд ничего в ней такого не было - милое лицо, широкая улыбка с двумя рядками ровных зубов, длинные темные волосы... Она никогда не делала хвост, и, может быть, этим казалась чуть старше, а может, просто от того, что стеснялась своих ушей (очень аккуратных, на самом деле). После 9 класса нас повели в ресторан "Седьмое небо" на Останкинскую башню. Это было, кажется, за год до того, как случился пожар. В ресторане часть пола была сделана из очень прочного стекла, я могла спокойно наступить на него, и Аня могла, а другие девочки не могли. И тогда наша классная руководительница стала выбивать на этом стекле чечетку и - как потом было додумано при пересказах нашего похода - пустила по дорогому стеклу изящную трещину. Кормили в "Седьмом небе" отвратительно. Тогда я впервые попробовала жюльен из маленькой, будто игрушечной, сковородочки. Больше ничего не помню. Вроде бы, нам даже налили по бокальчику шампанского. Удивительно. Ах, да! Главное в Останкинской башне, конечно, лифт. Кто-то пустил слух, что в ресторане ничего есть нельзя, потому что во время поездки на грешную землю на скоростном лифте все это выйдет из тебя на глазах у одноклассников, и получится небывалый для такой прекрасной школы, как наша, конфуз. Потом мы пошли гулять на ВДНХ, ели плохое мороженое из льда, жались под взглядами армянских продавцов друг к дружке, хихикали, покупали одну на всех пачку жевательной резинки, и "Чупики" (Аня: "Я непротив Чупа-Чупс, но эта палочка во рту... она мне неприятна"). Потом девочки увидели американские горки. Страшный лязг многотонной несуразной конструкции аттракциона перекрывал попсовые песенки из шашлычных. На лице Аньки замерла улыбка, будто она села в люльку с облупленной краской не ради того, чтобы пощекотать себе нервы, а просто за компанию с остальными. В моих руках штук пять тающих мороженок в картонных стаканах ожидали своих хозяек, во рту томился нескончаемый "чупик"... а горки тем временем набирали скорость, и вот уже послышались первые крики - Маши, потом Костика, потом Саньчи - и Анькины волосы большой коричневой гривой взмыли вверх. "Господи!" "Волосы у-бе-ри! Во-ло-сы!" - нет, им там ничего не было слышно, а я уже почти видела, как ее длинные волосы наматываются на огромные ржавые валы этих проклятых горок, и причитала: "Господи-господигосподи... Аня... Господи". Потом все кончилось. Девчонки разобрали мороженки и мы пошли смотреть фонтан "Дружба народов". После лета кажется, что все немножечко изменились. В троллейбусе Аня сказала, что она уже да, с высоким смуглым испанцем на пляже. На самом деле нет, но об этом я узнаю только в конце выпускного класса. Получалось, уже 3 девушки из класса. Наташа Ростова еще была простой девочкой из нечитаной книжки, а гдето уже била фонтаном половая жизнь. "Да ладно? О БОЖЕ МОЙ!" (кричит на весь троллейбус Саньча, для нее это настоящее потрясение, она все время думала, кто из нас троих будет первой). Дома у Аньки компьютер, я хожу к ней скачивать рефераты, мы едим домашнюю пиццу, приготовленную ее мамой. У Аньки сотни тыщ разных курсов, у меня - пока ничего, хотя я тоже хочу в МГУ, потому что все из нашего класса туда хотят. Мне вообще-то все равно на какой факультет - а Анька точно знает, что пойдет на экономфак, как и Оксана, ее старшая сестра. Я ночую у нее и поражаюсь, как громко по ночам в центре. Мы пьем (я пью?) и я не могу ехать домой. Или Аня разбавляет апельсиновым соком и поэтому совсем не напивается? Она ведет меня в бар под названием "Ход конем", и конечно, это настоящий ход конем для моей неокрепшей психики, и еще пару лет я учусь разговаривать с официантами без заикания. Она говорит, что любит Диму, я знаю, что люблю Илюшу, она говорит, что Илюша для меня не при чем, и это я тоже знаю. Она приглашает меня на "Жизнь прекрасна", фильм, только что получивший "Оскар", мы выходим и долго молчим. "Спасибо, господи" (мальчик выжил) "Господи, почему? Это же кино! Кино!" (пулеметная очередь) Аттракционы, бары, мальчики, уже тогда все сливалось в одно яркое многоглазое месиво, которое было не жалко, если что, потерять. Мы не ходили в церковь, если этого не предписывала какая-либо экскурсионная программа, мы говорили, как и раньше, про экзамены, трудную химию и легкий английский, про чудачества Саньчи и наши шансы на МГУ. Про Анину национальность я спросила один только раз - "Каково это, быть... ?" - избегая растянутых "е" и намеренно приглушая звонкое и краткое. "Нормально. Сейчас уже нормально. В начальной школе что-то такое было... А сейчас нет". И слава богу, и слава богу. Надежда Шахова …НАМЕРЕНЫ ПОКАЗАТЬ НА НЕСКОЛЬКИХ ПРИМЕРАХ ЭТА музыка играет У НАС Надпись мы увидели, стоя у входа в "Белорусскую-кольцевую". Конечно же - там штуки три музыкальных киосков, и резонанс от двух стен и потолка. Надька говорила о своём ощущении жизни за последние 5 лет. Своей жизни. Ощущения у нас были схожими, хотя причины и обстоятельства различными. Так что мне сказать было нечего. Хотя было о чём задуматься (как всегда). Потом тёзка сказала о нынешних мыслях и настроениях. "Вот, у людей-то прогресс происходит" подумалось с сероватой завистью. Музыка У НИХ всё играла. Хорошая, этническая. Играла, бренчала, голосила. Индийская мелодия вдруг сменилась очень знакомым мотивом… Конечно, «Мейн глик» сестёр Бэрри. Надька побежала в метро. А мне нужно зайти в магазин и сесть на троллейбус. Вот я делаю шаг через улицу на зелёный свет. Я шагаю к "Ростиксу", чтобы тут же свернуть к "Москве-Берлину" и пройти мимо... Я понимаю, что свет изменился. Убрали рисующий, выставили заполнение. Всё наполнилось тепловатым белым сиянием. Все плыли в воздухе, как чаинки в чае, размешанном со сливками. Вся тайна - в низкой белой туче. Накрыла Белорусскую площадь белым ватным одеялом. Рассеяла свет. Потом я спускаюсь под землю, выхожу на другой стороне Тверской, шагаю к железнодожному мосту - иду в "Путь к себе"... Я понимаю, что свет меняется. И меняется, и меняется. Теперь играют с контровым. На светлом небе - пышные, сине-белые, с оранжеватыми боками облака. Движутся и наползают, большие, круглые, взбитые. А слева, там, куда их гонит, и ниже, над самыми крышами - серая плоская туча, которая только что давала заполнение. Её верхний неровный край горит раскалённо-золотым... В каком-то интервью Набоков говорил, что в детстве и юности, когда был неопытным писателем, мучительно мечтал, глядя на облака и тучи, их движение и сияние, записать всё это, найти нужные слова. А потом научился. И теперь это так просто, что даже как-то грустно от этого. А может, это был и не Набоков. Кто-то другой гениально-великий. Мне это не грозит. Ветер дул сильный, впереди небо совсем очистилось, с каждой секундой из светло-голубого становилось всё более блёкло-розовым. Эта музыка играет у нас. Произвольная программа. 6 : 6 Вчерашний день, часу не помню в каком, но вроде как в восьмом, иду я к метро "ВДНХ" вдоль торговых палаток со стороны ВВЦ. Узкий такой тротуар, застроенный справа мелкими ларьками, а справа - этакими магазинчиками одноэтажными. Есть там место, где тротуар расширяется, образуя пятачок свободного асфальта. Площадочка площадью 20-30 кв. метров (у меня плохой глазомер, но места там чуть больше, чем в комнате стандартной однушки без мебели). И вот на этой чтоб не сказать Площадке катается на роликах человек. Человек возраста непонятного от 35 до 52. Типажно напоминает артиста Ленькова (который во многих фильмах-сказках, а потом зайца Степана озвучивал в "тушите свет"). Хотя если приглядеться, сходство куда-то исчезает. Как очертание предмета в тёмной комнате, когда пытаешься разглядеть этот предмет в упор. Что же это – стул, плюшевый медведь, сдвинутая с места этажерка? Силуэт удаётся поймать только краем глаза, боковым только зрением. С артистом Леньковым человека роднят лишь седые проволочные волосы, пышная грива. Даже не грива, нет, а этакое гнездо на голове (у обычного человека такая длина называлась бы "каре"). И лицо совсем, совсем не похоже. Черты крупнее, чётче. Лица разглядеть я не могу - человек всё время в движении, фонари тусклые, тени сизые. Человек ростом не низок и сложением не тщедушен. Крепок даже. Но не толст, конечно. Светло-серые треники, такая же фуфайка с длинным рукавом, на неё надета тёмно-синяя фуболка, на груди логотип какой-то (и ничего больше, а на улице +5, значит катается он тут долго и по серьёзу, раз ему настолько не холодно). Можно было б подумать, что человек тут осуществляет промоакцию той фирмы, чей лого на нём изобрАжен. Но ведь разобрать надпись - что-то вроде «Roller club» - можно только если постоять, как я, минут 5 и поприглядываться к пируэтам и поворотам. А приглядеться есть к чему. Физическая подготовка серьёзнейшая, техника профессиональная. Возникает ощущение, что это даже не роллер со стажем и опытом, а фигурист, который тренируется, отрабатывает свою вольную программу на роликах, а не на льду. Только вот зачем отрабатывать её в толпе народа, в час пик, когда люди сплошным потоком идут сквозь эту площадочку? Так, что ли, надо? Похоже, так надо. Все свои прыжки, повороты и пируэты человек осуществляет, ни разу никого не задев. При этом - как я понимаю на седьмой минуте наблюдения - это действительно фигурное катание, под музыку. Когда в соседнем музыкальном ларьке композиция в стиле транс сменяется попсой, человек вкатывается в ларёк и о что-то говорит продавщице. Я вхожу следом, но подслушать не решаюсь. Когда он выезжает обратно на воздух, задаю брюнетке за прилавком первый попавшийся вопрос, а затем перехожу к сути: А вот этот роллер там на улице вам рекламу делает? Нет, он сам по себе Воронёные волосы скрывают глаза девушка наклоняется, ищет нужный диск. Я выхожу - и вижу, как под первые аккорды песни "Океана ЭльзИ" "Хто ты е Ты взяла мое життя И не витдала" человек начинает своё кружение-скольжение-проежание сквозь-вокруг толпы. Если в городской жизни, в самой обычной ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ, не в той, о какой пишут в журналах и снимают романтичные мелодрамы, а в нашей - если в ней может быть что-то завораживающее, так вот. Это оно и есть. Человек неизвестно зачем и почему катается на роликах под песню на банальный и кровоточивый сюжет. Кто он, зачем ему это, что он делал за час до этого, что будет делать через час, куда пойдёт, кто его ждёт или кого никак не дожидается он? Я не знаю. Я стою и смотрю. Человек проносится в метре от меня круг за кругом, восьмёрка за эллипсом. Я всякий раз пытаюсь разглядеть его лицо. Высокие скулы, хищно-кошачий профиль, мешки под глазами. Не могу, не могу уловить. Не складывается, не угадывается, не раскрывается, человек катается, я иду к метро, у меня дела, я не умею даже стоять на коньках, умею только смотреть, двенадцать минут смотреть, не понимая и не догадываясь. Только наблюдая. Ню-ню… Ездила в гости к Миленке. Съёмная квартира, свой ремонт, икеевские цвета кухни, в комнате на полках – всё тот же шеститомник Эйзенштейна (это я, я им дарила, ещё на втором курсе их и нашем, горжусь!!!), и много-много других киношных книг. А ещё – толстенный англоязычный альбом «1000 nudes» («1000 фотографий-ню»). Я конечно хвать - и давай её смотреть. Никогда, ничего более гениального в области обнажёнки, эротики и порнографии я не видела! Первая треть книги – снимки середины и конца девятнадцатого века по тематическим разделам. Просто потрясло. Причём, ясное дело, не самими голыми телами. Да, стандарт телесной красоты был абсолютно другим, женщины не боялись целлюлита (как сказала Милена), да, они все – пухлые, с животиками, все какие-то… человеческие, без прикрас. Но не это главное. У них и лица такие. Человеческие. Опять же, дело не в том, что типаж другой. Да, тогда не в фаворе были чувственные губы, большой рот, небольшие прищуренные глаза, взгляд стервы. Главное – у них нет этой, блин, сексуальности, без которой сейчас не обходится ни одна фотография – от порно до рекламы. У них простые лица. Отвлечённо-умиротворённые. Ни к чему не призывающие изо всех сил. Всё уже показано – что тут ещё изображать. А какие у них улыбки! Не завлекающие, не манящие – а просто весёлые, безмятежные, в крайнем случае – радостно-лукавые. Абсолютная естественность, непоказное простодушие. С таким выражением лица сейчас горожане, попавшие за город, садятся на травку, любуются пейзажем и наслаждаются солнышком. Никакого хищного призыва, никакого агрессивного предложения, что так ценится в эротике последние десятилетия. При том, что с самой эротикой (и даже порнографией) там всё точно так же, как сейчас. А дяденьки, дяденьки-то какие смешные! Был один атлет с подкрученными усами и фиговым листочком. Был – без оного, причём тоже явно изображал атлета, им не являясь. Безумно уморительный. И трогательный. А пары, какие пары! Причём как таковой порнухи там мало (я, конечно, по этому делу не спец, но всё же порно от эротики отличаю). Один снимок мне неожиданно показался бесстрастной и будничной фиксацией недостижимого совершенно идеала. Там полураздетая, но вполне целомудренно прикрытая женщина сидела на коленях у мужчины, судя по горбоносому профилю – жилец вершин. Он смотрел на неё, она – в кадр, фоном была стена с висящими на ней сковородками и прочей утварью. У женщины лицо было спокойное и чуть усталое, мужчина смотрел на неё тоже спокойно, но пристально, как бы – не отвлекаясь… Это даже описать трудно. Но в этом было какое-то единство. Жизнь. Наверно, даже счастье. Хотя задумано, как непристойная открытка. Интересно, что через сто лет увидят тогдашние тридцатилетние женщины на наших рекламных постерах? Врите, врите, бесенята Они есть на каждом форуме, их много в ЖЖ. Они всегда есть в журналистике и в политике. Какова модель их деятельности? До меня вот, кажись, дошло. Они пародируют дьявола. То есть они, как и он, кидают людям что-то, людей раздражающее и соблазняющее проявить себя наиболее истерично и некрасиво. Просто они – в отличие от него – швыряют всякую мусорную мелочь: экстремистские высказывания, глупые и грубые мысли, мат и т.п. Ведь ПРОВОКАТОР - это тот, кто высказывает не свои или не совсем свои мысли только лишь из скуки, чтоб посмотреть, как дальше тут все подерутся. Или же с неким тайным и нехорошим умыслом. Типичный мелкий бес. Дьявольщина натуральная, порционная. Конечно. Ведь пытаться подражать создателю - это надо творить, искусство какое-то создавать, ну или ещё чего придумывать головой и чувствами. Мелкобесить гораздо проще. И некоторым это приятнее. Разум и Чувство Пришла, не спросясь, Мысль. Мысль про фильм "Куклы". Отношусь я к нему без пиитета и придыхания. Считаю, что та же тема гораздо правильнее раскрыта в "Любовном настроении". Однако ж, что меня так тормозит и охолаживает в "Куклах"? Символизм, конечно же. Нарочитый такой. Красивость вся эта, притчевость. Кости без мяса. Ну да ладно. А если рассматривать это кино изначально не как кино про людей, а как кино про... про ЧТО? Думаю, про Разум и Чувство. Т.е. Он это Разум, а Она это чувство. Он её бросает. Сбегает от неё. Отрекается. Знамо дело многие чувств своих боятся и от них отрекаются. Она сходит с ума. Ну, логично ведь – Он, т.е. Ум, от неё ушёл, значит и ей пришлось с него сойти (вагон стоит, столбы мелькают). Внутри одного любого среднестатистического человека с чувством, от коего отрекается человечий разум, происходит та же фигня. Живёт придушенное такое. Потом Он Её находит. И далее везде. Ходит он с ней всюду. Надеется, что она будет прежней. Она рада бы. Но процесс-то необратимый. И всюду Разум видит примеры печальные и страшные, как люди с Чувствами живут и умирают. А то!!! Ведь с Чувством-то страшно. Оно ж такое... СИЛЬНОЕ. Но в итоге понятно, что без Чувства Разум не живёт. Ну и оно без него. Так и висят, связанные одной нитью… Слово «привязанность» вовсе не синоним слова «привычка». Валерий Шеймович ИЗРАИЛЬ – IV Записки бездельника (22.02 – 12.03.2001 г.) (Отрывок) 22 февраля. Четверг. В Москве за окном зимний день, но уже розовый весенний свет. Встал еще до семи с мыслью: "Неужели уеду?", но уже через полтора часа, одев рюкзак, целовал дочку, а потом ехал и ехал, и ехал на метро с двумя пересадками, на автобусе по слякоти и туману, и розовый свет, от которого резало глаза, окружал меня. Весна близко. Мой длинный камчатский отпуск пришелся на зиму, и я еду в Израиль погреться на южном солнышке. В Шереметьево-1 на паспортном контроле я встретил ту же пограничницу, что проверяла мой паспорт в 1998 году и обрадовался, как ребенок. Поразившись моей памяти, она (зовут ее Света), проверила отметку в паспорте за тот год. Я не ошибся. На радостях купил ей пачку фисташек. Эта малость здесь стоит 45 рублей, а в стакане пива за сорок рублей я себе отказал. Наверное, от жадности. Орешки же я купил с истинным удовольствием, потому что, я думаю, нет для меня большей приятности, чем благосклонность симпатичной женщины, пусть даже самая мимолетная. Вот до чего дожил наш герой, то есть я сам. Ведь я влюбился мгновенно. Даже о полете забыл. Мы летели на старом нашем ТУ-154. Так неудобно и тесно, что (пардон) даже яйцам больно, когда сидишь в кресле. Откидной столик откинуть нельзя, потому что он где-то на середине пути упирается в грудь и образует очень наклонную поверхность, на которой не держится стакан с водой. Однако у старости есть и свои радости: более или менее миловидные лица, круглые жопки, хорошо обнаженные ножки стюардесс. Стоит все это на сто пятьдесят долларов дешевле, чем в более комфортабельном самолете. Видимо, по этой причине самолет наш забит до последнего места. Это все герои, не испугавшиеся палестинских террористов с ихней интифадой. Рядом со мной сидят отец с двенадцатилетним сыном. Они летят на ПМЖ в Израиль, но о стране не знают ничего. В смысле географии, экономики. То есть полное незнание. Они не знают ни о морях, ни о пустынях, ни о жаре, и то, что мы будем какое-то время лететь над Средиземным морем, для них великая новость. Но они твердо уверены, что летят в рай. Что ж, в рай, так в рай. Несмотря на задержку в полтора часа в Москве, мы прилетели вовремя (!). Вот и пальмы, и теплый воздух, и большое багровое солнце садится за горизонт. Это Израиль. Это Израиль в четвертый мой прилет - Израиль-IV. После тесного, неудобного салона особенно радуют прекрасные доступные туалеты. В зале выдачи багажа с многочисленными извивающимися транспортерами, по которым движутся чемоданы, баулы, рюкзаки самых пестрых расцветок, кроме пассажиров нашего рейса набилось сотни американцев, канадцев всех рас. Я чувствую себя неотделенным от человеческой толпы. Нам быстро выдали багаж. Меня выпустили с моим рюкзаком, даже не сверив номера багажной квитанции, даже не проведя хоть какой-либо таможенный досмотр. Видимо, есть во мне сегодня нечто, что внушает доверие. А вот и мой Марк, мой любимый усач, самую малость погрузневший, наверное, из-за простуды. Он слегка кашляет, и голос его несколько сел. Сразу же пошли назидательные речи. Они пока исключительно доброжелательные. И солдаты, солдаты в оливковой простой форме – мальчишки и девчонки, баулы, автоматы, винтовки, пистолеты, белозубые улыбки и еврейская грусть в глазах. Особенно много этих ребят на автовокзале Тель-Авива, откуда мы едем по ночной дороге до Беер-Шевы. ТельАвив провожает нас неярко светящимися окнами придорожных домов. Как в них живут люди, какие они? – возникают во мне вопросы, никогда в России во мне не возникающие, когда я пересекаю там ночные города. В Беер-Шеве мы никак не можем уехать на такси с автовокзала. Видимо, мы невыгодные пассажиры для таксистов, и мы покидаем ночную, замусоренную привокзальную площадь вместе с усталыми солдатами-отпускниками на автобусе. А вот и Бурла-стрит, и наш дом, в котором меня кормят, наливают рюмку водки, поят чаем и готовят мне постель. Мне кажется, что все мои волнения, тревоги и хлопоты, связанные с отъездом в Израиль уже оправданы этими минутами душевной нашей гармонии и покоя. Но эти ощущения, я знаю, они очень и очень быстротекущие, потому что я хочу узнать у Марка мнение о моей книги, которую я так торопился передать сюда в Израиль, чтобы с ней успела познакомиться его жена Новелла. Однако Новелла улетела в Баку, так и не увидев мою книгу. Вот выдержки из нашего разговора перед сном: – Я не хочу, чтобы твоя книга попала к Новелле. Твоя трактовка Алима обидит ее. Она будет иного мнения о тебе... Каково это слышать автору, который воображает, что он пишет художественные произведения, а не хроники, который считает, что он вправе подчинять реалии своим чувствам и замыслам? Моя повесть была посвящена вовсе не биографии прототипа. Но я промолчал. Не надо было и начинать этого разговора. Ведь я знал, что мой друг целиком во власти национальной идеи, и все, что попадает к нему в руки, под глаза, в голову рассматривается в одном ракурсе: полезно это или бесполезно, а может быть вредно Израилю (или Азербайджану) и не служит ли это шовинистическим целям России. Именно России. А я-то по своей наивности думал, что Марк поспособствует распространению книги, но напоролся на партийного цензора... Как-то неприметно все сползает в привычную колею. А Алима, нашего дорого мудреца уже полгода как нет среди нас... – Как ты мог сказать о девушке-солдате на автостанции: "Как можно с таким большим задом быть в армии?" Как ты мог так обидеть солдата? В твоем подсознании коренится нелюбовь к этой стране! Я действительно был поражен объемом задней части этого солдата. И доверил своему другу свое искреннее изумление. Знал бы, не доверял. – В твоей книге про пианиста Горовица в одном месте написано "украинский американец". Как ты мог? Он же еврей и прежде всего еврей! Мне кажется в твоих вещах есть дух голуты (диаспоры). Евреи Израиля – это гордый народ, а евреи диаспоры – забиты, искажены, исковерканы. Шолом-Алейхем – выразитель голуты. Между голутой и израильтянином такая же разница, как между Шолом-Алейхемом и Бяликом. Я его прерываю сентенцией относительно любви ко всем людям и ко всяким евреям и натыкаюсь на незамысловатый, но уверенный ответ убежденного человека: – Прежде всего я еврей, а потом все остальное, в том числе и человек. Ведь семьдесят процентов меня, любого из нас, наукой доказано, предопределено генами, генами евреев... Я не решаюсь напомнить ему банальнейшую аналогию его умным выкладкам, звучавшую лет семьдесят назад в Центральной Европе. Я лишь немного смущаю его, напомнив ему про израильтян-эфиопов, попавших в страну не по признаку крови, а по религиозным причинам. Я пока непробиваем, и мой друг успокаивается. Он поит меня соком грейпфрута, который тут же сам и делает, выжимая половинку фрукта на стеклянной граненой шишке. Я позвонил дочке в Москву и сообщил о благополучном прибытии. Позвонил и в Маале-Адумим Женечке. Она боится, что, приехав в Иерусалим, я начну ходить по запретным и опасным сейчас местам. Я укладываюсь в постель, за окном, забранным жалюзи, подсвеченная электрическими фонарями моя первая южная ночь. Тепло. Наверное, около пятнадцати градусов. Тушу свет, а в голове крутятся строчки: Времена не выбирают, В них живут и умирают. Или: Мы времена не выбираем, Мы в них живем и умираем. Сегодня палестинцы застрелили еврея, который ехал в машине по дороге Израиля. 23 февраля. Пятница. Беер-Шева. Марк живет все в том же доме напротив школы. Он собирался переезжать отсюда, потому что квартира сыровата, побелка пузырится и отстает от стены, плесень. Его мучает кашель. Но хозяйка сбавила арендную плату и тем вынудила его остаться в этом жилище. В этом городе в пустыне Негев с утра светит ласковое теплое мартовское солнце. Крики ребят, собирающихся на занятия, чем-то напоминают мне чаячий базар у берега океана. Я немного побегал по парку за школой среди деревьев и цветов по газону, по которому можно бегать. Дома, приняв душ, я описал день 22 февраля, а Марк тем временем ходил по своим делам. Мы второй день сравнительно мирно сосуществуем. Потом за нами заезжает Марик – сын Марка, и я ему в шутливой форме объясняю суть наших противоречий. Рассказываю, что перед отъездом Марк попросил меня не брать никаких подарков с собой в Израиль, ни рыбы, ни икры, ни крабов, потому что все это есть в стране с избытком. "Я уверен, что когда ты здесь даришь свои камчатские морепродукты друзьям и родственникам, они в душе презрительно усмехаются", – таков несколько лапидарный русский у моего друга, потому что большую часть жизни он провел на Кавказе. Однако я не послушался и привез все, что он не советовал брать с собой. На самом деле на прилавках магазинов здесь действительно лежат замороженные тушки атлантического лосося. Но разве их можно сравнить с душистым ароматным нашим балыком. Мои здешние родственники размораживают и солят рыбу из магазинов, но получаемый продукт имеет вкус лишь слегка напоминающий настоящую рыбу. "Они усмехаются твоему непониманию того, что Израиль страна изобилия. Ты не понимаешь этого, как и многого другого, что делается в этой стране", – обобщает он. Марик везет нас к дому Джафара-Давида на своем уже пожилом автомобильчике, смеется над причиной наших разногласий. Он согласен принимать дары моей Камчатки без презрительной усмешки. Мы с Марком два с половиной часа проводим с его внучками Ноам и Авиталь, прелестными девочкам пяти и семи лет – дочерьми сына Джафара-Давида и его жены Севы. Джафар работает в Тель-Авиве в скорой помощи и приезжает домой лишь по выходным, а Сева тоже работает в местном каньоне (так называют в Израиле большой универсальный магазин). Авиталь посещает какую-то передовую продвинутую школу, где даже йогу преподают. Она там проводит восемь часов ежедневно и утомляется до изнеможения. Она пришла из школы, упала на диван и лежала, молча. Сева возвращается с работы, и мы покидаем этот дом. А перед сном опять разговоры о судьбе Израиля и евреев. Любой мой вопрос является свидетельством моего непонимания обстоятельств и оскорбляет высокое национальное чувство моего друга. 24 февраля. Суббота. Утром моя душа ныла, избитая во время вчерашних напряженных разговоров о чуде Израиля, которого я не понимаю, о долге человеческого гостеприимства, который я нарушаю своими рассказами, когда пишу о людях, в чьих домах я преломил хлеб, о том, что я не принимаю то, что просто должно мне быть родным. И если душа моя – птица, белая птица, то утром она, подбитая налету палками, облепленная грязью, оказалась в клетке. Я пишу все не так, все не о том. Может быть не писать? А как же тогда дышать? Не летать? Но это же ужасно! На свободу! Свободу мне, свободу! Моя птица-душа вырвалась из клетки и тяжело махала крыльями, поднимаясь все выше, роняя вонючую грязь с перьев. Я выбрался в парк и стал там бегать мимо одиноких старичков и старых супружеских пар, получивших одиночество за счастье жить в этой стране. На завтрак Марк сделал чудесные оладьи, которые запили прекрасным кофе. Ну что еще надо пожилым людям? Мы два часа были заняты сами собой. Я читал, писал, лежал. В час мы поехали к Васе. Вылезая из такси, я сказал шоферу – молодому парню "спасибо" по-русски и он мне ответил тоже по-русски "не стоит благодарности". Все это страшно возмутило моего друга, который заявил мне, что я унизил достоинство человека, выразив ему благодарность не на его родном языке. Бывают целые периоды, когда я не могу ни вздохнуть, ни мигнуть, ни молвить, чтобы не возмутить своего товарища. Мы поднимаемся на восьмой этаж в чистом опрятном светлом лифте с зеркалами на стенах, но и в лифте и в квартире, в которой нас радушно встречает Вася, Жанна и собака на задних лапах, он продолжает осуждать меня, удивляя наших хозяев. Но постепенно все успокаивается, и мы за прекрасным столом едим и пьем замечательные израильские сухие вина, и я верю Марку, что они очень хороши. Ведь он вырос на Кавказе. Когда он не цепляется ко мне по поводу Великого Израиля и Великой Еврейской нации, жизнь проходит тихо, мирно, обычно. Ваcя с любовью показывает фотографии своих внучек. Одна живет здесь в Холоне, другая в Москве. Посреди гостиной у дивана низенький столик на котором в вазах красиво разложены бананы, апельсины, мандарины, яблоки, громадная клубника, которую можно резать ножом. На диване и креслах лежат красивые коврики, которые сплела Жанна. Но прямо скажу, писать о мирной жизни не очень интересно. Мы идем пешком домой по теплой вечерней Беер-Шеве. Шабат, и автобусы не ходят. Дома мы мирно сидим у телевизора и мирно смотрим российский боевик "Крестоносец", нечто весьма несовершенное, глупое подражание американским поделкам такого рода. Мы оба попались впросак увлекшись поначалу этим фильмом. Уж больно неплохи показались артисты, которые в нем задействованы. Мы сидели рядом и тихо говорили. Идиллия. И вдруг черт меня дернул вспомнить фильм "Мастер и Маргарита", украденный каким-то международным гангстером и на экран не появившийся. По TV показали очень удачный отрывок экранизации, на том дело и кончилось. И я говорю об этом, забыв, что вчера, я заявил, что любое театральное представление по этому роману обречено на неудачу. Конечно же, я высказывал свое мнение в ответ на Марково сообщение о том, что один из израильских театров под режиссурой Тополя поставил "Мастера...". А сегодня я похвалил российскую экранизацию. И все понеслось снова. Смысл монолога Марка в том, что я не вижу в Израиле творческих сил, я шовинист, я не еврей и т. д. ... Но я уже привык к этим бурям и даже не пытаюсь возражать. Он быстро успокаивается. Я бы не сказал, что Марк со своим патриотизмом – такое уж типичное для Израиля явление. Никто так яростно не декларирует приоритеты страны, как он. Только один раз мне задали вопрос, почему я не переселяюсь в Израиль. Я часто слышу слова недовольства страной от алимов по разным поводам. Но некоторые его сентенции заставляют меня задумываться: – Еврей прежде всего должен быть евреем, а потом человеком. И ни на какие больше кочки-точки зрения я становиться не хочу. Я не хочу смотреть на современную ситуацию глазами араба-палестинца, араба-сирийца или еще кого-нибудь. Если я стану смотреть и их глазами, то лучше сразу повеситься... Он подсовывает мне карту Средиземноморья, на которой черным цветом закрашены Северная Африка, Аравийский полуостров, Турция, Ирак, Иран. Это громадное черное пространство окружило маленькое беленькое пятнышко и почти поглотило его. Это пятнышко – Израиль. И он спрашивает меня: – Ты что не понимаешь, что дело идет о жизни или гибели твоего народа? Да, он прав. Именно об этом идет дело, но все-таки я не могу отказать себе в праве быть человеком прежде всего. Ну не могу. Что он хочет от меня? Чтобы я не писал так, как пишу? Чтобы я ради процветания страны перестал быть самим собой и не удивлялся большой женской заднице, если на нее натянуты солдатские брюки? Вот на такие сложные вопросы я вынужден отвечать сегодня.