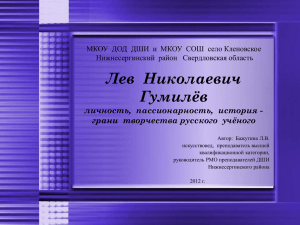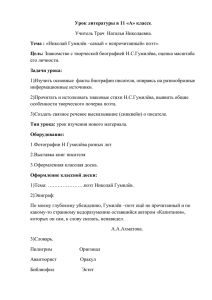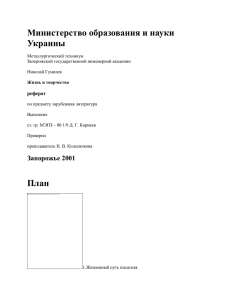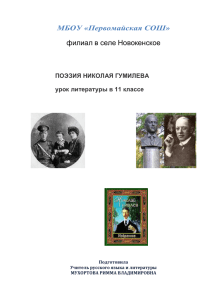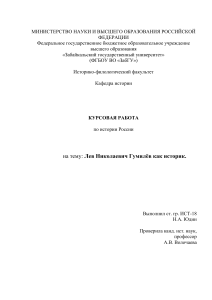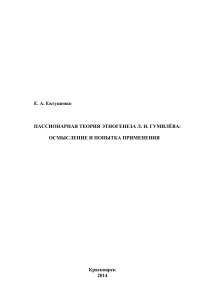УДК 821.161.1 ИСТОРИОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АКМЕИСТОВ И НАСЛЕДИЕ Л.Н. ГУМИЛЁВА
реклама
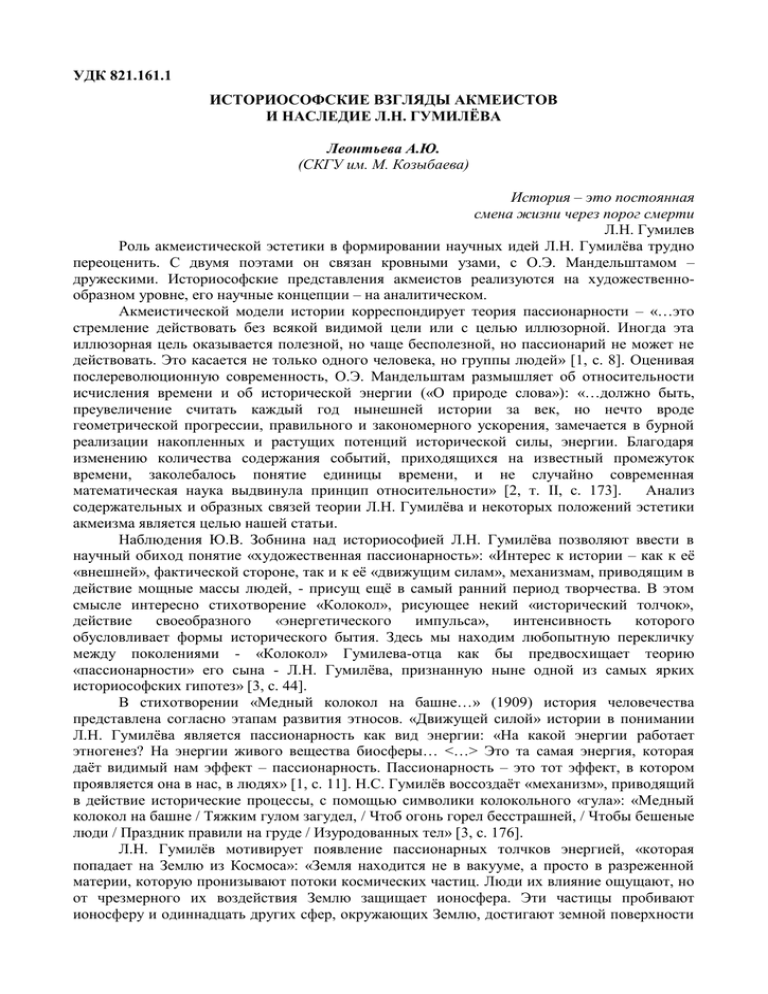
УДК 821.161.1 ИСТОРИОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АКМЕИСТОВ И НАСЛЕДИЕ Л.Н. ГУМИЛЁВА Леонтьева А.Ю. (СКГУ им. М. Козыбаева) История – это постоянная смена жизни через порог смерти Л.Н. Гумилев Роль акмеистической эстетики в формировании научных идей Л.Н. Гумилёва трудно переоценить. С двумя поэтами он связан кровными узами, с О.Э. Мандельштамом – дружескими. Историософские представления акмеистов реализуются на художественнообразном уровне, его научные концепции – на аналитическом. Акмеистической модели истории корреспондирует теория пассионарности – «…это стремление действовать без всякой видимой цели или с целью иллюзорной. Иногда эта иллюзорная цель оказывается полезной, но чаще бесполезной, но пассионарий не может не действовать. Это касается не только одного человека, но группы людей» [1, с. 8]. Оценивая послереволюционную современность, О.Э. Мандельштам размышляет об относительности исчисления времени и об исторической энергии («О природе слова»): «…должно быть, преувеличение считать каждый год нынешней истории за век, но нечто вроде геометрической прогрессии, правильного и закономерного ускорения, замечается в бурной реализации накопленных и растущих потенций исторической силы, энергии. Благодаря изменению количества содержания событий, приходящихся на известный промежуток времени, заколебалось понятие единицы времени, и не случайно современная математическая наука выдвинула принцип относительности» [2, т. II, с. 173]. Анализ содержательных и образных связей теории Л.Н. Гумилёва и некоторых положений эстетики акмеизма является целью нашей статьи. Наблюдения Ю.В. Зобнина над историософией Л.Н. Гумилёва позволяют ввести в научный обиход понятие «художественная пассионарность»: «Интерес к истории – как к её «внешней», фактической стороне, так и к её «движущим силам», механизмам, приводящим в действие мощные массы людей, - присущ ещё в самый ранний период творчества. В этом смысле интересно стихотворение «Колокол», рисующее некий «исторический толчок», действие своеобразного «энергетического импульса», интенсивность которого обусловливает формы исторического бытия. Здесь мы находим любопытную перекличку между поколениями - «Колокол» Гумилева-отца как бы предвосхищает теорию «пассионарности» его сына - Л.Н. Гумилёва, признанную ныне одной из самых ярких историософских гипотез» [3, с. 44]. В стихотворении «Медный колокол на башне…» (1909) история человечества представлена согласно этапам развития этносов. «Движущей силой» истории в понимании Л.Н. Гумилёва является пассионарность как вид энергии: «На какой энергии работает этногенез? На энергии живого вещества биосферы… <…> Это та самая энергия, которая даёт видимый нам эффект – пассионарность. Пассионарность – это тот эффект, в котором проявляется она в нас, в людях» [1, с. 11]. Н.С. Гумилёв воссоздаёт «механизм», приводящий в действие исторические процессы, с помощью символики колокольного «гула»: «Медный колокол на башне / Тяжким гулом загудел, / Чтоб огонь горел бесстрашней, / Чтобы бешеные люди / Праздник правили на груде / Изуродованных тел» [3, с. 176]. Л.Н. Гумилёв мотивирует появление пассионарных толчков энергией, «которая попадает на Землю из Космоса»: «Земля находится не в вакууме, а просто в разреженной материи, которую пронизывают потоки космических частиц. Люди их влияние ощущают, но от чрезмерного их воздействия Землю защищает ионосфера. Эти частицы пробивают ионосферу и одиннадцать других сфер, окружающих Землю, достигают земной поверхности и влияют на биосферу. Но это влияние очень слабое (если оно оказывается на растения - то на семена, у животных - на зародыши), и оно создает мутации, то есть возбуждение энергии живого вещества биосферы на определенных участках земной поверхности. В последующем происходит расширение полос возбуждения, и захват довольно значительных регионов» [1, с. 12-13]. У лидера акмеизма воздействие колокольного гула принимает планетарный масштаб – его влиянием охвачены люди, звери, птицы: «Звук помчался в дымном поле, / Повторяя слово «смерть». / И от ужаса и боли / В норы прятались лисицы, / А испуганные птицы / Лётом взрезывали твердь» [3, с. 176]. Планетарно-космическое потрясение подтверждается пространственной координатной осью, объединяющей подземный низ (лисьи норы) с воздушным небесным верхом (пространство птичьего полёта). Ю.В. Зобнин называет «историческим толчком», «энергетическим импульсом» то, что исследователь определяет как «пассионарный толчок» - «микромутацию, вызывающую появление пассионарного признака в популяции и приводящую к появлению новых этнических систем в тех или иных регионах» [4, с. 830]. Поэт предлагает художественное обоснование смены цивилизаций – от плуга к молоту, от пашни к строительству храма – воздействием колокола: «Дальше звал он, точно пенье, / К созидающей борьбе. / Люди мирного селенья, / Люди плуга брали молот, / Презирая зной и холод, / Храмы строили себе» [3, с. 177]. Презрение к «зною и холоду» - признаки, присущие пассионарному импульсу поведения. Это «поведенческий импульс, направленный против инстинкта личного и видового самосохранения» [4, с. 830]. Пассионарный импульс имманентен лирическому герою Н.С. Гумилёва, который учит своих читателей, «сильных, злых и весёлых, / Убивавших слонов и людей, / Умиравших от жажды в пустыне, / Замерзавших на кромке вечного льда, / Верных нашей планете, / сильной, весёлой и злой…», в момент смерти «…сразу припомнить / Всю жестокую, милую жизнь, / всю родную, странную землю / И, представ перед ликом Бога / С простыми и мудрыми словами, / Ждать спокойно его суда» [5, с. 342]. Для М.А. Зенкевича способность номадов «к жертвенности ради иллюзорной цели» [4, с. 830] воплощена в стремлении монголов «к последнему морю» - на «ледовитые побережья» («На Волге»): «И войлоком по соли голой / Пестрели ярко города, / Где с диким гиканьем монголы / Пасли косматые стада. <…> // И к побережьям ледовитым, / Где мамонты погребены, / К кольцу незыблемой стены, / Хранимой голубым нефритом, / Влеклись разбойные челны» [6, с. 173]. «Разбойные челны» как русский способ водного передвижения напоминают о походах Стеньки Разина, подчёркивая историческое родство этносов. Пассионарный импульс корреспондирует акмеистической концепции жертвенного пути поэта, как в «Волшебной скрипке» Н.С. Гумилёва: «Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ! / Но, я вижу, ты смеёшься, эти взоры – два луча. / На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ / И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!» [3, с. 145]. Лирическая героиня А.А. Ахматовой отождествляется с героическими личностями прошлого («Последняя роза»): «Мне с Морозовою класть поклоны, / С падчерицей Ирода плясать, / С пеплом улетать с костра Дидоны, / Чтобы с Жанной на костёр опять…» [7, с. 294]. Крёстный путь поэта приобретает у О.Э. Мандельштама содержание конфликта с эпохой («За гремучую доблесть грядущих веков…»): «Уведи меня в ночь, где течёт Енисей / И сосна до звезды достаёт, / Потому что не волк я по крови своей / И меня только равный убьёт» [2, т. I, с. 172]. Историческая модель акмеистов на художественном уровне также предшествует научной модели Л.Н. Гумилёва – за пассионарным подъёмом следуют фазы: акматическая («колебания пассионарного напряжения»), инерционная («плавное снижение пассионарного напряжения»), надлома («резкое снижение уровня пассионарного напряжения»), обскурации («снижение пассионарного напряжения ниже уровня гомеостаза»), мемориальная («состояние этноса после фазы обскурации, когда отдельными его представителями сохраняется культурная традиция)» [4, с. 832]. После революции, в начале 1920-х годов, О.Э. Мандельштам себя и поэтов своего поколения считает последними хранителями культурной памяти в разрушенном мире («Девятнадцатый век»): «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк» [2, т. II, с. 201]. Возникают ассоциации с концепцией этнического поля, предложенной Л.Н. Гумилёвым: «…человек, выброшенный волею судьбы из состава своего этноса, у которого оборваны все системные связи, который оказался в чужой стране, тем не менее свято хранит свой стереотип поведения, свои идеалы, свое мировоззрение. И это ему не мешает» [1, с. 13]. Идеалы, мировоззрение, поведение сближают культурное поле акмеистов с размышлениями Л.Н. Гумилёва. Н.С. Гумилёв завершает стихотворение «Колокол» картиной покоя, обусловленного затуханием колокольного гула: «А потом он умер, сонный, / И мечтали пастушки: / - Это, верно, бог влюблённый, / Приближаясь к светлой цели, / Нежным рокотом свирели / Опечалил тростники» [3, с. 177]. Л.Н. Гумилёв говорит о «расколе этнического поля», свойственном фазе надлома, об условиях исчезновения или «превращения в реликт» этноса в фазе обскурации [4, с. 832]. М.А. Зенкевич показывает смену пассионарности энтропией как «необратимый процесс потери энергии» [4, с. 833]. Энтропийный процесс номадов в книге «Дикая порфира» представлен победой земледелия и технической цивилизации, знаком которой становится нефть, над кочевым образом жизни, победу христианства, введённого образом церковных куполов, над язычеством: «Но хищник царственный вначале - / Он стал подёнщиком труда, / И с человеком измельчали / И лес, и степи, и вода. // Налётом радужным и сальным / Искрясь, на волны нефть легла, / И блещут золотом сусальным / Средь вихрей пыли купола» [6, с. 173]. М.А. Зенкевич не ограничивается картиной смены этносов в поволжских степях. Он показывает сохранение рецессивного пассионарного признака в отдалённых кочевьях: «Лишь там, где грузовым верблюдом / По трапам крючники бегут, / Полузабытым давним чудом / Просторы прошлые живут: // Ещё здесь мощны в дикой силе, / Как впившийся в поклажу крюк,/ Узлы тугие сухожилий,/ Кривые пальцы жёстких рук» [6, с. 174]. Поэт предвидит новый взрыв пассионарности на Волге: «Антихрист или самозванец/ Всегда подняться здесь готов,/ Чтоб золотом огнистый танец/ Расплавил медь колоколов!» [6, с. 174]. Поволжье - особо напряжённый топос, который порождает исторические ассоциации с русскими самозванцами-казаками, крестьянскими войнами и монгольской государственностью. В лирике О.Э. Мандельштама подобная модель развития (от подъёма к инерции и обскурации) имманентна теме Троянской войны. В его первой поэтической книге «Камень» мотивы «Илиады» являются знаками подъёма, а мифологема «Елена» включена в семантический код сакральной любви: «Как журавлиный клин в чужие рубежи, - / На головах царей божественная пена, - / Куда плывёте вы? Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, ахейские мужи?» [2, т. I, с. 104]. Пассионарный импульс, посланный любовью, приобретает универсальный характер: «И море, и Гомер – всё движется любовью. / Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, / И море чёрное, витийстивуя, шумит / И с тяжким грохотом подходит к изголовью» [2, т. I, с. 105]. Троянская война в художественном мире О.Э. Мандельштама ассоциируется со сменой культурно-исторических эпох и этносов. В стихотворении книги «Tristia» «За то, что я руки твои не сумел удержать…» подъём, воплощённый в картинах кровопролитной битвы, сменяется покоем, в семиосферу которого вводятся образы вола и ласточки, характеристики «безболезненно», «медленный»: «Где милая Троя? Где царский, где девичий дом? / Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник. / И падают стрелы сухим деревянным дождём, / И стрелы другие растут на земле, как орешник. // Последней звезды безболезненно гаснет укол, / И серою ласточкой утро в окно постучится, / И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, / На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится» [2, т. I, с. 134]. В книге «Tristia» и лирике 1937 г. мифологемы Троянской войны и «Одиссеи» уже присутствуют в памяти лирического героя, связывая античность с современностью: «Я сказал: виноград, как старинная битва, живёт, / Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке; / В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот / Золотых десятин благородные, ржавые грядки. // <…> Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, - / Не Елена – другая, - как долго она вышивала?» [2, т. I, с. 116]. Перифраз Пенелопы вводит мифологический контекст странствий Одиссея, Елена становится знаком Троянской войны. Мифологема Одиссея в стихотворении 1937 г. «Гончарами велик остров синий…» сопрягается с архаическим временем в памяти лирического героя: «Это было и пелось, синея, / Много задолго до Одиссея, / До того, как еду и питьё / Называли «моя» и «моё»» [2, т. I, с. 252]. Настойчивый мотив воспоминаний актуализирует ассоциации с мемориальной фазой этногенеза, выделенной Л.Н. Гумилёвым, и акмеистической концепцией культуры как общей памяти человечества. Переклички научной концепции Л.Н. Гумилёва с акмеистической историософией наблюдаются не только на структурно-мировоззренческом, но также на онтологическом и текстологическом уровнях. Онтологический уровень предполагает осмысление категории смерти. В статье «О природе слова» О.Э. Мандельштам сопрягает это понятие с акмеистическими категориями имени (онимизации) и непознаваемого, согласно которым смерть нельзя познать, а значит, - нельзя назвать: «Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашёл слово для этого – «смерть». Разве оно имеет имя? Имя уже определение, уже «что-то знаем»» [2, т. II, с. 179]. Словно полемизируя со старшим поэтом, Л.Н. Гумилёв в исследовании «Древняя Русь и Великая степь» предложил определение данной категории: «Смерть – способ существования биосферных феноменов, при котором происходит отделение пространства от времени» [4, с. 831]. Определение Л.Н. Гумилёва отзовётся в статье И.А. Бродского «Поэт цивилизации», посвящённой О.Э. Мандельштаму: «Есть некая ужасающая логика в местоположении концлагеря, где погиб Осип Мандельштам в 1938 году: под Владивостоком, в тайниках подчинённого государству пространства. Из Петербурга в глубь России дальше двигаться некуда. <…> За спиной Мандельштам ощущал отнюдь не близящуюся «крылатую колесницу», но свой «век-волкодав», и он бежал, пока оставалось пространство. Когда пространство кончилось, он настиг время» [8, c. 136, 137]. О.Э. Мандельштам и Л.Н. Гумилёв сближаются в понимании творческой, возрождающей природы смерти. В статье «Пушкин и Скрябин» поэт замечает: «Христианский мир – организм, живое тело. Ткани нашего мира обновляются смертью. Приходится бороться с варварством новой жизни – потому что в ней, цветущей, не побеждена смерть! Покуда в мире существует смерть, эллинизм будет творческой силой, ибо христианство эллинизирует смерть… Семя смерти, упав на землю Эллады, чудесно расцвело: вся наша культура выросла из этого семени, мы ведём летоисчисление с того момента, как его приняла земля Эллады» [2, т. II, c. 160]. Л.Н. Гумилёв предпосылает книге «Конец и вновь начало…» близкий по смыслу эпиграф: «История – это постоянная смена жизни через порог смерти [1, c. 2]. В решении субстанциальных проблем замечательный историк и географ неоднократно прибегает к интертекстуальным связям с произведениями акмеистов. Так, Л.Н. Гумилёв размышляет о «механизмах сопричастности каждого человека и каждого человеческого коллектива космосу»: «…мы живём не оторванными от всего мира, а внутри огромной Галактики, которая воздействует на нас так же, как и все другие факторы, определяющие развитие биосферы» [1, c. 38]. Идеи учёного о влиянии «энергетических воздействий на судьбы каждого из нас и тех коллективов, к которым мы относимся» [1, c. 38] корреспондируют представлению о единстве людей с мировым ритмом в манифесте Н.С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»: «…ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами» [3, c. 165]. А.А. Ахматова часто задумывалась о конфликте славы и счастья: «И слава лебедью плыла / Сквозь золотистый дым. / А ты, любовь, всегда была / Отчаяньем моим» [7, c. 240]. Она размышляет о природе данного явления: «Кто знает, что такое слава!» [7, c. 228]. Л.Н. Гумилёв задаёт тот же вопрос: «Но вот вопрос: а что такое слава?» [1, c. 55]. Сущность поэтической славы остаётся непостижимой («Пушкин», 1943): «Какой ценой купил он право, / Возможность или благодать / Над всем так мудро и лукаво / Шутить, таинственно молчать / И ногу ножкой называть?..» [7, c. 228]. Учёный подчёркивает неутилитарность славы с помощью точной цитаты из «Шестого чувства» Н.С. Гумилёва: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать» [1, c. 56]. Эфемерность исторической славы раскрыта им на примере судеб Александра Македонского и Суллы. Империя Александра развалилась: «Казалось бы, он не достиг ничего. Но имя его мы знаем, биография его сохранилась. А он этого и хотел. Чего? Иллюзии! <…> Значит, Александр стремился к иллюзии» [1, c. 56]. Сулла «…даже жизнью пожертвовал для удовлетворения… чего? Своей прихоти? Но ведь из-за этого какие события произошли – грандиозные!» [1, c. 60]. Историческая слава, т. о., - удел пассионариев: «Но почему-то появлялись люди, которые требовали для себя чего-то большего. Они-то и производили шум в истории» [1, c. 60]. Другой пример интертекстуальных связей – образ времени. Акмеистам присущ панхронизм, в состав которого входит разрушительное историческое время, как в стихотворении А.А. Ахматовой: «Ржавеет золото, и истлевает сталь, / Крошится мрамор – к смерти всё готово» [7, с. 303]. Л.Н. Гумилёв прибегает к образным реминисценциям из стихотворения «Кого когда-то называли люди…» для создания чувственно-конкретной картины пластичной биосферы и динамики бытия: «Железо окисляется, мрамор крошится, музыка смолкает, стихи забываются. Жестокий старик Хронос пожирает своих детей» [1, с.43]. А.А. Ахматова подчёркивает необратимость разрушительного времени на примере библейской истории: «Вкусили смерть свидетели Христовы, / И сплетницы-старухи, и солдаты, / И прокуратор Рима – все прошли / Там, где когда-то возвышалась арка, / Где билось море, где чернел утёс, -/ Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой / И с запахом священных роз» [7, с. 303]. Л.Н. Гумилёв акцентирует внимание на ландшафтных формах жизни: «Пирамиды стоят долго; за такое же время горы разрушаются, ибо слагающие их породы от воздействия перепадов температуры и влажности трескаются и превращаются в щебень. Реки меняют свои русла, подмывая берега и образуя террасы. Лес во влажные периоды наступает на степь, а в засушливые отходит обратно. Это и есть торжествующая жизнь планеты, и особенно биосферы, самой пластичной из ее оболочек» [1, с. 42] Погодноклиматические условия планетарной жизни, показанные Л.Н. Гумилёвым, корреспондируют картине времени и символике слова-камня в «Разговоре о Данте» О.Э. Мандельштама: «Камень не что иное, как сама погода, выключенная из атмосферического и упрятанная в функциональное пространство.<…> Камень - импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий; но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он алладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времён» [2, т. II, с. 251]. И акмеисты, и Л.Н. Гумилёв утверждают бессмертие творчества: «Всего прочнее на земле печаль / И долговечней – царственное Слово» [7, с. 303]. Если поэты подчёркивают сакральный характер слова, то учёный противопоставляет категории жизни и вечности в истории культуры: «А произведения техники и даже искусства взамен жизни обрели вечность» [1, с. 42]. Как видим, научные концепции Л.Н. Гумилёва и художественная историософия акмеистов «братски родственны и по-домашнему аукаются» [2, т. II, с. 167]. И поэты, и учёный «путешествуют» по временам и пространствам. Для Л.Н. Гумилёва «биография научной идеи» - это «мысли и чувства автора, возникшие во время пятилетнего путешествия по Хазарии, как в пространстве, так и во времени…» («Открытие Хазарии») [9, c. 7]. Для Н.С. Гумилёва постижение миров и времён равнозначно творчеству. Пророчество, заявленное в стихотворении «Моё прекрасное убежище…», полностью исполнилось: «Иду в пространстве и во времени / И вслед за мной мой сын идёт / Среди трудящегося племени / Ветров, и пламеней, и вод» [5, c. 401]. Литература: 1. Гумилёв Л.Н. Конец и вновь начало: популярные лекции по народоведению. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 384 с. – (Библиотека истории и культуры) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мандельштам О.Э. Сочинения. В 2-х т. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 1. Стихотворения. – 638 с. Т. 2. Проза. Переводы. – 434 с. Гумилёв Н.С.: Pro et contra. Личность и творчество Николая Гумилёва в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология – СПб: РХГИ, 1995. – 672 с. – (Серия «Русский путь»). Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М.: «Издательство АСТ», 2001. – 848 с. Гумилёв Н.С. Стихотворения и поэмы. – Л.: Советский писатель, 1988. – 632 с. – (Библиотека поэта. Большая серия). Зенкевич М.А. Эльга. Беллетристические мемуары. – М.: «Кор-инф», 1991. – 208 с. Ахматова А.А. Сочинения. В двух томах. Т. 1. – М.: Издательство «Правда», 1990. – 448 с. – (Библиотека «Огонёк»). Бродский И.А. Меньше единицы: Избранные эссе / Пер. с англ. под ред. В. Голышева. – М.: Издательство Независимая Газета, 1999. – 472 с. – (Серия «Эссеистика»). Хазары: таинственный след в русской истории / авт.-сост. В. Манягин. – М.: Алгоритм : Эксмо, 2010. – 336 с. – (Славная Русь).