файл: Литературный клуб "Родники"
реклама
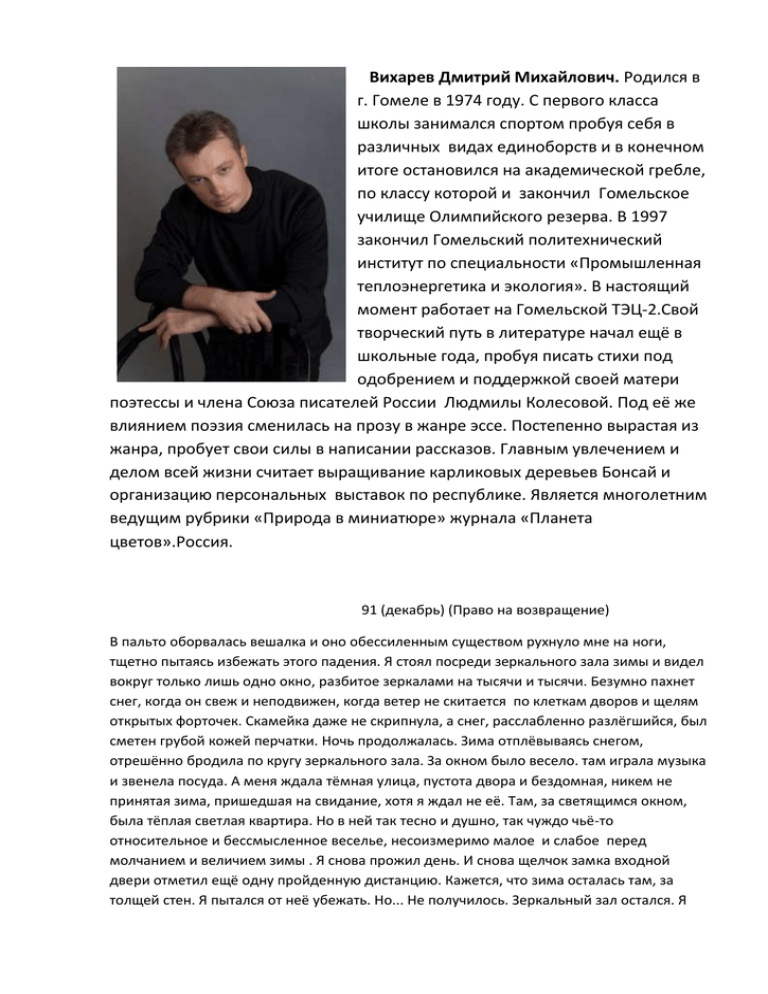
Вихарев Дмитрий Михайлович. Родился в г. Гомеле в 1974 году. С первого класса школы занимался спортом пробуя себя в различных видах единоборств и в конечном итоге остановился на академической гребле, по классу которой и закончил Гомельское училище Олимпийского резерва. В 1997 закончил Гомельский политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика и экология». В настоящий момент работает на Гомельской ТЭЦ-2.Свой творческий путь в литературе начал ещё в школьные года, пробуя писать стихи под одобрением и поддержкой своей матери поэтессы и члена Союза писателей России Людмилы Колесовой. Под её же влиянием поэзия сменилась на прозу в жанре эссе. Постепенно вырастая из жанра, пробует свои силы в написании рассказов. Главным увлечением и делом всей жизни считает выращивание карликовых деревьев Бонсай и организацию персональных выставок по республике. Является многолетним ведущим рубрики «Природа в миниатюре» журнала «Планета цветов».Россия. 91 (декабрь) (Право на возвращение) В пальто оборвалась вешалка и оно обессиленным существом рухнуло мне на ноги, тщетно пытаясь избежать этого падения. Я стоял посреди зеркального зала зимы и видел вокруг только лишь одно окно, разбитое зеркалами на тысячи и тысячи. Безумно пахнет снег, когда он свеж и неподвижен, когда ветер не скитается по клеткам дворов и щелям открытых форточек. Скамейка даже не скрипнула, а снег, расслабленно разлёгшийся, был сметен грубой кожей перчатки. Ночь продолжалась. Зима отплёвываясь снегом, отрешённо бродила по кругу зеркального зала. За окном было весело. там играла музыка и звенела посуда. А меня ждала тёмная улица, пустота двора и бездомная, никем не принятая зима, пришедшая на свидание, хотя я ждал не её. Там, за светящимся окном, была тёплая светлая квартира. Но в ней так тесно и душно, так чуждо чьё-то относительное и бессмысленное веселье, несоизмеримо малое и слабое перед молчанием и величием зимы . Я снова прожил день. И снова щелчок замка входной двери отметил ещё одну пройденную дистанцию. Кажется, что зима осталась там, за толщей стен. Я пытался от неё убежать. Но... Не получилось. Зеркальный зал остался. Я стоял посреди белого безмолвия, называемого снегом, освещённый всё ещё горящим окном, разбитым на тысячи и тысячи огоньков и в ногах у меня распласталось пальто, в котором так некстати оборвалась вешалка. 92 (осень) (Ветер потерь) В попытке быть безжалостным, дождь снял маску грусти, обнажив угрозу террора. Мои глаза устали от бессонной ночи. Автомат глотает пятнашки, не в силах побороть свою жадность. Ты не замечаешь, что по утрам я бываю другим. Таким, вдруг, незнакомым и неожиданным. И это обычно, что ты едешь в переполненном троллейбусе, размазывая взгляд через грязные окна на стены родного города. Спасаясь от дождя, опускаешься до серости улиц. Твоё утро неподдельно холодное, и на афишах туристических поездок ты оставляешь невидимые отпечатки своих, постоянно замерзающих пальцев. Асфальтом завладели лужи, и ты будешь ждать мой звонок через одиннадцать минут. На твоём балконе как всегда цветы. Они вызывающе яркие и броские на фоне хмурого во время дождя двора. Улыбаешься взъерошенному утру, здороваешься со своим отражением в зеркале, даже не подозревая, что уже через минуту я больше не буду думать о тебе. Вчера передавали, что в Молдавии будет восемнадцать -двадцать градусов тепла, а сегодня там опять началась война. Ты закрашивала белое донышко чашки тонкой струйкой горячего шоколада. Горихвостка Возникая как бы из небытия и коротко «стрекотнув» в горячем, неподвижном воздухе крыльями, горихвостка с зажатыми в клювике букашками села на ржавый ствол торчащей из расщелины скалы пушки. Внимательно осмотревшись вокруг чёрными бусинками своих глаз и убедившись, что я пока не представляю для неё явной опасности, горихвостка порхнула куда-то вдоль по стволу вглубь, и оттуда послышался тонкий многоголосый писк птенцов. Обычно горихвостки селятся неподалёку от жилья, и поэтому ещё более удивительно было увидеть её здесь, на почти необитаемом одиноком острове в глубине океана. Мне стало любопытно, и я, бесшумно подойдя ближе к амбразуре, медленно раздвинул траву и заглянул за изрешеченный бруствер в тёмную глубину пещеры. Там, за бруствером –вход в подземный бункер, уходящий тёмными коридорами в глубь скалы и полузасыпанный обломками камней и бетона с торчащими штырями арматуры. Оттуда торчал раскуроченный ствол поржавевшей пушки, угрюмо и молчаливо, вот уже больше полувека смотрящей своим единственным глазом в океан. Возле изуродованного мощным взрывом лафета ствол был разорван, вспучившись и выворотив наружу острые грани уродливо изогнувшегося железа. Там, внутри этого ствола, прямо в развороченной взрывом нише, горихвостка свила себе гнездо, в котором, открыв широко голодные жёлтые рты и вытягивая шеи, пищали пять ещё почти неоперившихся птенцов. Горихвостка, подёргивая хвостом и настороженно поглядывая в мою сторону, рассовала собранных букашек в раскрытые клювики и тут же упорхнула, усевшись в паре метров на выступе камня, призывно пискнула, наклонив набок головку с любопытными и настороженными глазками бусинками. Ствол был испещрён ржавыми, красно-бурыми, как хвост горихвостки, подтёками и пятнами. Толстый металл уродливо изогнут в месте разрыва и ствол орудия, некогда направленный вдаль, куда-то выше горизонта, теперь поникло «смотрел» на гладь океана. Как будто всё ещё грозя подступам к острову своим, уже безголосым, языком войны... С океана, не переставая, били крупными калибрами американские крейсеры, ревели двигателями пикирующие бомбардировщики и штурмовики. Огрызалась огнём закапывающаяся в чёрный песок побережья пехота, всё больше и больше тесня линию упорной обороны и сжимая неумолимое стальное кольцо вокруг метрополии. Здесь, на заброшенном в океане клочке земли, врылись намертво в землю и скалы тысячи защитников острова, знающих, что это их последняя земля и отступление немыслимо, даже если бы и была возможность. И каждый из них был готов к смерти. В нише, выдолбленной в скале, хлопотала орудийная прислуга. Остатки расчёт -вот уже, которую неделю держали этот рубеж и посылали, один за одним, снаряды в скопления расползающихся точек на берегу и отдалённые линии кораблей, стремительно уходящих от берега на безопасное расстояние, высадив череду быстроходных десантных катеров. Орудийный расчёт уверенными движениями раз за разом приводил в действие орудие. Находясь в полном окружении и блокаде, измотанные нескончаемыми жестокими боями, обстрелами и бомбардировками остатки оборонительных подразделений понимали, что отступления не будет и помощь не придёт. Наводчик лихорадочно вращал рукоятки доводок, ориентируясь по своим, только ему понятным, цифрам и координатам, окутанным дымом разрывов горящих танков и поднятой пыли. Глаза заливало горячим липким потом, от металла шёл жар. Расщелина всё больше и больше заволакивалась дымом пороховых выхлопов, росла гора гильз. Обдувающий гору горячий ветер нёс с собой нестерпимый жар и чад. Трава и кустарники напротив амбразурыбыли сожжены огнём из жерла или иссечены до основания осколками многочисленных близких разрывов корабельных орудий и пулями от авиационных налётов. Казалось, вся земля превратилась в раскалённую, изрыгающую во все стороны острый смертоносный металл пустыню и на ней не осталось ни одного укромного уголка, ни одного живого существа. Только скалы, острые обломки камней и пыль. Горячая и разъедающая глаза, как и пороховая гарь пыль. Раскалённые гильзы вылетали из ствола, глухо звякая о валяющиеся тут же рядом. Их становилось всё больше и больше. Орудие вгрызалось сошниками станин в мягкий туф всё глубже, беспрестанно огрызаясь ответным огнём на непрекращающиеся удары и рикошеты с моря, земли и воздуха. «Огонь! Огонь!»,- кричал раненый командир орудия. Вокруг было столько огня, что казалось, будто горел весь воздух, пока, вдруг, в какой-то миг, огненный смерч не накрыл откос. Пикировщик обрушил точна на амбразуру огненный смертоносный пушечно-пулемётный шквал…И стало тихо… Я вытянулся в полный рост на каменном уступе, среди редкой жёсткой травы, взошедшей на бывшем пепелище. Упрямые стебли вновь поднялись из обожжённой земли, распрямили свои остроконечные пальцы, цепляясь за ветер и пытаясь дотянуться до неба. Поднялись вопреки всем огненным стихиям и смерти, тысячекратно ужалившей этот клочок земли и собравшей здесь свою богатую жатву. И не было в этом мире ничего сильнее этой травы, поднявшейся из чёрной земли Хиросимы, из залитого свинцом и сталью Мамаева кургана, из выжженной напалмом земли Вьетнама, из воронок и бетонных завалов Югославии и расплавленных кирпичей вековых стен Брестской крепости. И я , лёжа на камнях и глядя вместе с травой в небеса, чувствовал гордость, за её силу и упорство которые победили и залечили раны и ожоги земли. За то, что руины прошедшей войны, обнятые заботливыми руками природы, стали фундаментом для нового мира и домом для новой жизни, несущей предупреждение всем нам о не вечности и хрупкости преходящего и силе и любви к жизни. (2013) «Тени Сурибачи» 92 (февраль) (Право на возвращение) Опоздание на ночные поезда. Мой друг, ты всё ещё жив. И где-то там на краю ночи, ты живёшь возле зимнего моря, слизывая языком снежинки с оледенелого пирса, и виляешь хвостом в ожидании новой игры. Я помню вечер, когда сгорало красное солнце. Ты гонялся за брошенными в воду камешками, убегая от наступающего прибоя, весело лаял в недоумении от своего бессилия. Когда солнце сгорело дотла, море стало ещё сильнее и страшнее. Оно сердилось, а ты сидел рядом и чуть скулил, слыша, наверное, голос своей далёкой, но такой же, как и у нас, людей, часто нереальной мечты. Какой восторг был в твоём беге за исчезающими тенями, ты не слушался поводка, всегда спеша вперёд. А иногда, на море приходили дожди, и ты отряхивал мокрую шерсть, обдавая меня весёлыми брызгами. Ты очень просто думал о вечном, и также просто верил в добро, но ты жил у зимнего моря, а я боялся опоздать на ночные поезда, увозящие меня из прошлого. Я помню, как ты впервые подал мне лапу, жарким августовским вечером, так до конца и не поняв, что всё это серьёзно. А теперь на море пришла зима, но в воде нету льда. Пляжи пусты, как душа после слёз. Теперь ты далёк от слёз, и по этому тебе не понять, что пишется в письмах в никуда и никому. Они прилетают, как зимние лебеди. Запрокинув голову, долгим лаем провожаешь их, силясь понять хоть что-то. Но привыкнув к зимнему морю до конца остаёшься к нему безразличным. С некоторых пор ветер с моря стал приносить снег. И он уже не тает в твоих глазах, полных вмятого в них недоумения. «Здравствуй, друг. Я пишу тебе письма, которые, говоря по правде, даже и не существуют. И, похоже, я слишком хорошо познал реальность. Настолько хорошо, что уже не считаю обязанностью ей верить, втайне осознавая своё ребячество. Ты оставил мне в подарок зимнее море со всеми его ветрами и снегами. Но сам навсегда остался где-то там, на краю борозды времени, так и не дождавшись меня с ночных поездов, привозящих надежду…» 93 (осень) (Чёрно-белая осень) Прошедший день. Напряжённое чувство неожиданно вернувшегося поезда. Чёрнобелая осень приносит всё меньше забот и мыслей. И, я остался. В ней, достаточно простой и мудрой, научившейся быть рядом и враждующей со спешкой. Пришла до абсурдности рано и потребовала свой портрет. Молчу, глядя в окно, на разрушенный ею мир. Сочиняю фразы итога дня, бессильные над чувством сомнения. Но никого не виню за её любовь к коробкам домов и узким дворам, видимым в распахнутые, в последний раз, окна. Обрывок засыпающего города, провожаешь, взмахивая рукой в такт каждой уходящей тени. И молчишь. Твоё молчание сквозит щедротой улыбки. Совсем незнакома и нова. Оборви. Очнись от своей скрытности многогранности, и я вернусь однажды, заиндевевшим утром, отворю волшебным жестом пути для бегства снов. Подружись со мной, хотя бы на день. Одари чудом преждевременности, чтобы избежать проблем и вопросов, глупых обид и упрёков, не видя, не слыша, не веря, на поезда, маршрутом в чёрно-белую осень, ждущую взгляда, дающего сигнал к выступлению. Первая строчка пути бесконечной книги. Белый сон, белой ночи. Расписалась подтёками дождя, смешала, перетасовала краски и стала сложней, разучившись подчиняться законам композиции. Не уходи так рано и быстро, я уже в пути. Блуждая в просторах души, спотыкаясь о борозды и выступы шрамов травм, возвращаюсь в чёрно-белую осень, на свидание, в узкие дворы между коробок домов. Задумчивый город навстречу. В окна и двери. «Здравствуй ещё раз. Знаешь, я по прежнему помню тебя. Потому и вернулся, хотя, говорят, это плохо».
