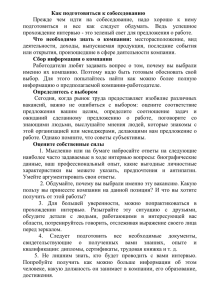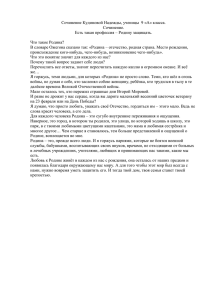“Родная земля”: Образы территории в этническом самосознании
реклама

“Родная земля”: Образы территории в этническом самосознании российских татар Елена Хабенская Опубликовано в журнале Ab Imperio Сейчас мало у кого возникают сомнения относительно того, что этничность и территория (“земля”, “почва”) связаны друг с другом неразрывными узами. Слишком часто территориальные претензии представителей различных этнокультурных сообществ друг к другу становились причиной кровавых межэтнических конфликтов. Слишком активно муссируются такого рода претензии в самых различных версиях националистических доктрин. Слишком мифологизированы территориальные границы проживания этнических групп. Слишком явно обнаруживает себя противоречие между принципом этнического самоопределения и принципом территориальной целостности государств. Территориальный аспект этничности по-разному отрефлектирован в различных интеллектуальных традициях. Для позитивистов “территория” – неизменный и обязательный атрибут этнической общности. Этническая территория неизменно присутствует во всех известных определениях этноса (нации), предложенных советскими учеными вслед за И. В. Сталиным.[1] Чаще всего территория именуется “характеристикой” онтологизированного этноса (напомним ставшее классическим для этой школы определение Ю. В. Бромлея).[2] Конструируя статистическую модель этноса, В. В. Пименов даже выделяет особую “территориальную компоненту” в структурной модели интересующего нас социального феномена.[3] Представление членов этнической общности о “земле своего народа” выступает в этом случае как один из системообразующих элементов этнического самосознания. (“Несомненно, что национальное самосознание является ценностным отношением к своему этническому происхождению… к тому, что принято называть ‘родная земля’”[4]). В постмодернистской парадигме представление о территории “своей” культурной общности есть один из каналов этнической самоидентификации, которая “осуществляется (в числе прочих параметров этничности – Е.Х.) и посредством отнесения себя к определенному локусу, к людям, проживающим на “своей земле” или по какой-то причине ее утратившим, но сохранившим “историческую память о земле предков”.[5] Так или иначе, неизменно фигурируя среди прочих компонентов этноса и (или) этнического самосознания (этнокультурной идентичности), специальным предметом для исследования территориальный аспект этничности становился не так уж часто. [6] Согласно определению, данному П. И. Кушнером, “этническая территория” – это “пространство, в пределах которого живут группы людей, принадлежащих к тому или иному этносу и воспроизводящих в его пределах свою культурно-языковую и другую специфику”.[7] По мнению В.И. Козлова, территория (компактное расселение) “служит базой для постепенного развития и упрочения языково-культурных, хозяйственных, социально-политических и других связей внутри формирующихся новых этнических общностей, а ее природные условия влияют на направление хозяйственной деятельности, определяют особенности материальной и отчасти духовной культуры, отражаются в представлениях о ‘родной земле’”.[8] На наш взгляд, приведенные определения “этнической территории” и ее роли в этнических процессах в большей степени соответствуют периоду этногенеза и ранним этапам этнической истории. Ясно, что в современных условиях, когда в результате массовых миграций лавинообразно нарастает процесс этнической миксации, когда население большинства государств становится все более полиэтничным, а территориальные границы приобретают в мире все более условный и призрачный характер, говорить о “компактном проживании” на четко очерченной постоянной территории какого бы то ни было (одного!) этноса практически невозможно. Тем не менее, несмотря на глобальную “трансформацию” мирового “этнокультурного пространства”, значение “земли”, “территории” как этнической ценности не утрачено. Оно лишь видоизменилось, лишившись, в некотором смысле, “материальности” и приобретя характер “этнического символа”. Представление о “земле своего народа”, связанное с наиболее древними пластами этнического самосознания (“землякормилица”, “земля пращуров”, “могилы предков“), с “первичной” архаической обрядностью (рождение, питание, погребение), в значительной степени сохранило роль этноинтегрирующего и этнодифференцирующего фактора, особенно ярко манифестируя свою силу в межэтнических конфликтах и противостояниях. В новейшее время земля, с одной стороны, становится объектом экономической борьбы за ресурсы, с другой – обретает характер своего рода экзистенциальной мифологизированной “этнической ценности”. Как пишет С. Кокберн, история наиболее острых этнических конфликтов современности (в Северной Ирландии, Боснии/Герцеговине, Израиле/Палестине) немыслима “без требований и встречных претензий относительно обозначения на карте родных земель”.[9] Автор объясняет это тем, что “…земля строит и заполняет наши мысли. Мы испытываем сильные эмоции по поводу ландшафтов, особенно тех, которые мы называем своим ‘домом’”.[10] Именно поэтому “национальные проекты часто пробуждают мистическую связь с землей,[11] они перемещают границы и когда… добиваются государственного контроля над территорией, объявленной ими своей, они называют ее “родиной”.[12] Разумеется, привязанность, теплое отношение к дому, родине, присущее любому нормальному человеку, совершенно не обязательно имеет этническую окрашенность. Мифологизация “родины” в качестве “этнической территории”, как правило, в меньшей степени свойственна нормальной, “спокойной” этнической идентичности, но является неотъемлемым компонентом ущемленного, а потому гипертрофированного этнического самосознания. Таким образом, в разных типах этнической идентичности роль территориального компонента неодинакова. Как верно отметили К. Н. Хабибуллин и Н. Г. Скворцов, “территория как средство сохранения групповой связи может быть решающим звеном сохранения идентичности, может иметь минимальное значение, может вообще не иметь никакого значения…” [13] *** Эта статья написана по материалам эмпирического исследования, проводившегося Центром цивилизационных и региональных исследований РАН (при активном участии автора) среди представителей татарской интеллигенции – членов татарских этнокультурных организаций и движений Саратова, Москвы и Казани (в 1999 – 2001 гг.). Указанные города были выбраны для проведения сравнительного анализа как три разнотипических региона: областной центр, столичный мегаполис и столица “национальной” республики. Известно, что большая часть этнологических исследований в постсоветской России предпринималась в рамках этносоциологического подхода, предполагавшего массовые опросы респондентов (представителей того или иного этноса) с помощью стандартизованных интервью и формализованных анкет – то есть инструментария, не вполне позволяющего выявить мотивацию оценок и суждений. В предпринятом нами исследовании мы применили принципиально иной подход. Стоящая перед нами задача – изучение структуры этнической идентичности личности, проникновение в тонкие, порой плохо отрефлектированные самими респондентами особенности их этнического “я”, – делали предпочтительными методы “качественной” социологии (метод неформализованного интервью),[14] позволяющие не только выяснять мнения, суждения наших информаторов по поводу наиболее значимых для них “этнических ценностей”, но и в каждом конкретном случае – мотивацию этих суждений. Основным источником информации стали углубленные неформализованные интервью с татарскими интеллектуалами – “активистами” этнокультурного движения указанных регионов. Подчеркиваем – полученные нами данные описывают эти, и только эти группы представителей татарского этноса. Очевидно, что экстраполяция полученных нами результатов и выводов на “всю татарскую интеллигенцию” будет абсолютно неправомерна. Отбор респондентов осуществлялся по принципу “рейтингового голосования”, при котором из предварительно составленного списка потенциальных информантов сами респонденты выбирали “наиболее авторитетных”. Итоговый список формировался из тридцати наиболее часто называемых респондентов в каждом регионе (итого весь массив – 90 человек). Инструментарий нашего исследования состоял из нескольких смысловых блоков, каждый из которых был нацелен на выяснение роли того или иного элемента этнического самосознания в структуре этнической идентичности опрошенных (татарских интеллектуалов). В данной статье представлен анализ лишь одного фрагмента полученной эмпирической информации.[15] Включив в инструментарий исследования вопросы, связанные с этнотерриториальными проблемами, мы пытались понять, насколько эти проблемы “тревожат” респондентов, являются “болезненными” и, соответственно, можно ли считать представление об “этнической” территории частью, структурным элементом этнического самосознания наших собеседников. В связи с этим важно было выяснить, какой смысл они вкладывают в понятия “родина”, “родная земля”, насколько последние носят этнический характер и ассоциируются в восприятии респондентов с “землей моего народа”. Что такое “Родина“? Материалы нашего исследования в Саратове показали, что для подавляющего большинства респондентов понятие “родина” связано с местом рождения, ранними детскими впечатлениями и воспоминаниями и практически лишено этнической окраски. (“Родина – это деревня, где я родился. Меня все время туда тянет. Самые добрые, лучшие воспоминания и ощущения связаны с этим местом”;[16] “Это, прежде всего, место, где ты родился, все те тонкие, неосязаемые нити, которые привязывают человека к месту рождения – родственные узы, красота природы и т.д.”[17]). Определения “родины”, данные представителями татарской интеллигенции различных возрастов и профессий, по сути своей были очень похожи и различались только отдельными нюансами. В восприятии одних преобладает привязанность к конкретному месту или местности. (“Родина у меня там, где прошло моё детство”; [18] “Родина – это то место, где я родилась, родное село”[19]). Для других “родина” – это скорее родственные узы, корни (“Родина – это моя земля, это мои корни, это могилы моих стариков”[20]). Для большинства же это понятие включает и то, и другое – и привязанность к определенной географической точке (родному дому, селу, стране), и родственные узы, дружеские связи, то есть всевозможные нити взаимоотношений и воспоминаний. (“Ну, родина, наверное, включает в себя диапазон таких понятий, как “дом, где ты родился”, “дом, где ты живешь”, твоих друзей, коллег по работе, то есть все те нити, которые связывают и держат здесь, в этой стране“[21]; “С одной стороны, место, где ты родился, среда обитания. С другой, – родина – это счастье. Где бы ни был, всегда тянет на родину. Счастье – если тебя ждут дома”;[22] “Родина – там, где я родилась и воспитывалась, где жили мои родители, где выросли мои дети. Мне представляется такой пейзаж: деревня в степи, в центре – пруд, женщины в белых фартуках, рядом с ними бегают дети”;[23] “Родина там, где прошло мое детство. Притягивает то место, где прожил больше времени, там много воспоминаний“[24]). Одна из дефиниций “родины”, данная крупным ученым-энергетиком в Саратове, вполне попадая в контекст приведенных выше высказываний, показалась нам наиболее тонкой, глубокой и содержательной: “Были у меня моменты, когда была возможность уехать за границу. И вот, когда задумывался о такой перспективе, что-то притягивало, не отпускало отсюда. Вроде бы там лучше, туда приглашают – а все ровно, что-то не пускает... Во-первых, уже привык к этому языку (русскому – Е.Х.); удерживает круг связей, друзей, хорошие отношения на работе, удерживает научная школа, которую я здесь создаю, все эти корни не пускают. Вот это я могу назвать родиной”.[25] Наш собеседник очень точно выразил точку зрения и восприятие тех, кто считает, что “родина” – это не столько территория, земля, сколько понятие, обозначающее многомерные, многоуровневые связи, в том числе и культурные. Ностальгия – столь характерное чувство для мигрантов и эмигрантов – основана не на смене территории или ландшафта (хотя последнее может играть определенную роль), но, главным образом, является следствием разрыва прежних связей – с привычным кругом близких, друзей, коллег; с некой “культурной традицией”, которая включает в себя широкий набор элементов – от образа жизни конкретного человека до особенностей бытующих в данном социуме (стране, государстве) ценностных, поведенческих, культурных стереотипов. Резкая смена бытового, культурного, языкового полей создает эффект погружения в “инородную” среду. Типичный результат такого “погружения” – так называемый “культурный шок” и формирование у индивида культурной дистанции с принимающим обществом.[26] Как мы видим, для большей части опрошенных представителей татарской интеллигенции Саратова характерно устойчивое восприятие родины вне этнического контекста. В ответах некоторых наших собеседников (для которых вопрос о родине не был неожиданным, которые и раньше склонны были задумываться о сути этого понятия) такое восприятие было вербализовано отчетливо. (“Родина там, где я родился; это Волга, рыбалка. Нельзя разделить все это по национальному признаку. Я люблю русский пейзаж”;[27] “Родина – это там, где я родился. Я считаю, это не национальное понятие. Для меня, например, Казань, Татарстан, это так же, как для Вас Саратов или любой чужой город. Для меня Родина – это мой дом, мой город, мои друзья, среди которых 99% – это русские, евреи или другие национальности, не татары”[28]). Тем не менее, это не означает, что многочисленные связи, ассоциированные у большинства наших собеседников с “родиной”, полностью лежат вне сферы этнического. Такое утверждение представляется нам не вполне корректным. (“Родина – место, где человек родился, которое связывает его привычным укладом жизни, языка, отношений с людьми”[29]). Правомернее было бы сказать, что восприятие родины в большинстве случаев слишком локально, чтобы считать его этническим. Этимология слова (от “род“) указывает на взаимосвязь, прежде всего, с родственными узами, семьей, местом рождения. До образования крупных этносов и наций у небольших и несмешанных этнических групп понятия “род” и “народ” в значительной степени накладывались друг на друга, совпадали, а “родина” имела, таким образом, этническую окрашенность. В случае с крупными и неоднородными этническими образованиями, которые преобладают в современном поликультурном мире – такими, как татары – эти понятия оказались уже сильно разведены. В сознании же большинства людей реальные локальные связи (родственные, соседские, дружеские) по-прежнему крепче и важнее эфемерных этнических (“национальных“). И это, в той или иной степени, осознается нашими респондентами. (“Я думаю, что за понятиями ‘родина’, ‘родная земля’ в какой то степени стоит устаревшее представление о родовых поселениях. Ну, для меня родная земля – то, к чему я здесь привык, что я ежедневно вижу. Для меня – человека городского – конечно, нет такого, как, скажем, у казаха, которому обязательно нужна выжженная степь”[30]; “Родина для меня – не то государство, где живет моя нация – не Казань, – а то место, где живу я, моя мать, где могилы моих предков. Мне представляется картина, связанная с плодородием, земледелием, с национальными татарскими праздниками, например, Сабантуем, с народным гулянием, весельем”[31]). Всего несколько определений родины, данные нашими собеседниками из числа саратовской татарской интеллигенции, так или иначе, были связаны с “этнической территорией”. Но и среди этих определений не все свидетельствовали об “этнической” модели восприятия “родной земли”. Чаще всего “этническое” проявлялось при двойственном, бинарном восприятии “родины”. В одном случае эта бинарность выражалась в осознании “родины” и как места рождения, и как земли предков, этнической территории. (“Родина там, где ты родился и вырос, корень – род. Но родина и там, где живут твои сородичи, твое племя. Поэтому у человека может быть и две родины”[32].) В другом – “малая” и “большая” родины рассматривались шире – в государственном контексте. (“Мы понимаем под родиной Россию, которая нам помогла выжить. Но существует и ‘малая’ родина – Татария. Они друг без друга немыслимы. Российский народ един, и татары составляют часть этого народа”[33]). Такое видение “родины” больше похоже на патриотическое, гражданское, чем на этническое. Фактически, в ответах только двоих наших собеседников (из тридцати опрошенных в этом регионе) при толковании понятия “родина” был очевиден этнический контекст. (“Сейчас такого понятия, по-моему, для татар нет. Вот когда-то была Золотая Орда – это была родина для татар. А теперь что? Россия или вот Саратовская область… Родина – это что? Это земля моих предков. Мне не нужен Татарстан, мои предки здесь родились”;[34] “Родина – любовь к своему народу. Мне представляются татарские женщины в белых фартуках, с хлебом, а на лице – спокойствие”[35]). Примечательно, что деятельность одной из этих респондентов напрямую связана с “национальной” сферой (преподаватель татарской гимназии), что, отчасти, могло повлиять на ответ. В любом случае, исходя из характера большинства суждений, можно утверждать, что “этническая” модель восприятия “родины”, “родной земли” не является типичной для опрошенных представителей татарского этнокультурного движения. Как видно из материалов исследования, восприятие родины не константно, а, напротив, динамично и может меняться с течением времени, с возрастом или просто в зависимости от ситуации. (“Я родилась в Пензенской области, это тропинка детства, меня каждый год туда тянет…Но сейчас уже родина в Саратове, я здесь живу с четырнадцати лет”;[36] “Родина – это любой клочок земли, где ты родился или где будешь жить. Я не совсем понимаю, когда говорят ‘одна родина’. Мне кажется, есть родина детства, родина юности, и т.д.”[37]). Кроме того, в сознании одновременно могут сосуществовать несколько различных образов “родины”. (“У меня нет чувства привязанности к определенному месту. Родина – место, где я живу. Но есть еще земля, где родилась моя мама. Меня туда тянет все время. Она меня лечит” [38]). Чаще всего, это образы “малой” и “большой” родины, не исключающие, а напротив, дополняющие друг друга. (“Малая родина – это мое село, место, где я родился и вырос. Родиной татарского народа я считаю земли Поволжья, Урала, т.е. родину наших предков. А в целом, это Россия. Мы здесь, в общем-то, не разделяем: Поволжье – это родина ряда народов: угро-финских, русского, немцев Поволжья. Это многонациональная родина. Мы, конечно, считаем себя коренным народом здесь, но мы не претендуем быть единственными хозяевами этой земли”[39]). Более широкое, на первый взгляд, понятие “родная земля” чаще всего тоже воспринимается как “малая родина” и редко связывается в сознании респондента с этнической территорией. (“‘Родная земля’ – там, где твои истоки, корни, земля, к которой ты привык, привязан” [40]; “‘Родная земля’ – это земля, которая тебя выкормила, на которой ты вырос, где прошло твое детство” [41]; “Это, наверное, земля родителей”;[42] “Земля, где ты это и есть ‘родная земля’” родился, вырос, где живут твои близкие [43]). В отличие от саратовских респондентов, в сознании большинства которых отчетливо преобладает локальный образ “родины”, среди опрошенных представителей татарской интеллигенции Москвы было немало сторонников “гражданского” толкования этого понятия, считающих родиной всю Россию. (“Я в каком-то смысле государственник. У меня нет такого понятия – малая родина, большая родина. Для меня вся страна – родина. Конечно, какое-то тепло к Татарстану я чувствую. Даже была мысль сделать паспорт, чтобы беспрепятственно туда ездить, когда все это начиналось с суверенитетами. Но, слава Богу, до введения границ не дошло”;[44] “Я воспитана советской властью, родина для меня – весь СССР. Я родилась в Казахстане, там казахи тоже были “свои”. Жила во многих городах, и это все были “мои” города. Везде чувствовала себя, как дома. И в Москве, конечно, где живу с 1943 года. За границей не была, и меня туда не тянет”;[45] “Где я родился, это и есть моя родина, другой мне не надо. Я люблю Россию”[46]). По всей видимости, опыт проживания в полиэтничном мегаполисе особенно располагает к развитию “территориального космополитизма”. В числе наших московских респондентов было немного “коренных” москвичей, рожденных в столице. Большинство из них переселилось сюда в разные годы своей жизни (для учебы, работы или в связи с замужеством) из различных регионов России и бывшего СССР – Пензенской, Нижегородской, Астраханской областей, Башкирии, Татарии, Средней Азии и пр. Это способствовало формированию у многих “двухслойной” идентичности (гражданской и этнической) и, соответственно, двойственного восприятия “родины” – с одной стороны, как места рождения (малая родина), с другой – как государства, гражданами которого они себя ощущают (большая родина – Россия). (“В широком смысле слова – это вся Россия. В первую очередь необходимо жить здесь в мире, гордиться ею, оберегать. Особенно это задача интеллигенции. Любой нации приятно жить в сильном государстве, надо беречь это единство. Плох тот, кто будет хулить эту большую родину. Вторая – это малая родина, где ты родился, где твои родители похоронены. Терять с малой родиной связь нельзя. Каждый культурный человек, я считаю, должен знать дорогу к могиле родителей”[47]; “Есть понятие ‘малая родина’ и ‘большая родина’… Я россиянин, родился в России, Россия для меня – это единственная родина. Татары ведь по всей России расселены, даже на Камчатке живут, но они всегда в отпуск возвращаются в свои родные маленькие деревни”[48]). В ответах московских татар часто сквозила острая ностальгия по “малой родине”, в сочетании с выраженным приятием и любовью к “большой”. (“Куда бы я не поехал, мне везде легко. В Казани мне комфортно, я чувствую себя татарином. Но дороже Пензы родной, где я родился и вырос, у меня нет места на земле, там все мне мило: и мечеть, и старый дом. Когда я слышу “родина”, то сначала представляю наш деревянный дом с мезонином, бабушку с дедушкой, родную школу, круг школьных товарищей (в основном, русских, хотя были и татары)… Потом уже перехожу на Москву, на Питер, где я учился. В широком смысле, вся Россия – моя родина”;[49] “Есть малая родина, есть большая. Малая родина для меня – это даже не та деревня, где я родилась, это дом, где росла, это отец, мать; гнездо, из которого все мы, дети, вылетали. Россия – наша большая родина, но все начинается со своей березки. Когда живешь за пределами России, тогда острее чувствуешь, и вся Россия становится родиной, и хочешь туда вернуться. А в Москве тянет в свою деревню. Родина – общечеловеческое понятие, не этническое”[50]). Большинство наших московских собеседников осознанно вкладывали в слово “родина” внеэтнический смысл, вербализуя это в своих ответах. (“Родина – это, наверное, место, где родился. Малая родина – это те луга, та деревня. Это не этническое понятие, а природное, региональное. В широком смысле слова я как родину воспринимаю Россию – не как государство, а как территориально-географическое понятие. Татары – нациеобразующий компонент”[51]). Для некоторых, правда, внеэтническим понятием является только “большая родина”, в то время как “малая” ассоциируется не столько с местом рождения, сколько с территорией проживания предков. (“Я бы разделил это на два понятия: “малая родина” и “большая родина”. Малая родина – это там, где могилы предков, при этом не обязательно там родиться. Большая родина – это страна, где ты живешь, и гражданином которой являешься. Я по своим политическим взглядам государственник, я за сильное, единое государство, поэтому для меня большая родина – это Россия, то есть это гражданское, не этническое, понятие”[52]). Отдельные респонденты–москвичи воспринимают “родину” вне жесткой связи с территорией, ассоциируя ее со средой, окружением и шире – с гражданским сообществом. (“Каждый, наверное, по-своему отвечает на этот вопрос. Для меня родина – та среда, где я живу, где я вырос, люди, с которыми я живу. Все это в целом и образует родину. Она не привязана жестко к какому-то конкретному месту, она – понятие более широкое – если я окажусь на Сахалине, это тоже моя родина. Кроме того, ощущение родины ситуативно. В моем понимании это больше гражданское понятие, чем этническое”[53]). Или в первую очередь ассоциируют “родину” с близкими людьми, и лишь затем – с местом рождения и “родиной предков”. (“Это трудно объяснить, что такое чувство родины. Когда приходится ездить за границу, это, наверное, выражается в ностальгии. Для меня – это мои близкие, родные, мои друзья. Потом, конечно, это связано и с определенной территорией, где я родилась… В Татарстане – мои корни, предки мои оттуда, безусловно, это тоже родина” [54]). Несколько меньшая, но все же значительная часть наших собеседников в Москве воспринимали “родину” прежде всего в узком значении этого слова – как место рождения, вне государственного контекста. (“Родина – это тот клочок земли, где ты родился. где ты пашешь, где ты живешь и кормишься”;[55] “Отечество – это место, где родился, где похоронены родственники. Я родился на Урале, для меня там родина” [56]; “Родина там, где ты родился. Для меня родина – это Душанбе. Это как взять цветочек и пересадить, но он ведь уже пустил корни – это в моем случае. Мое твердое убеждение, что дети должны жить там, где родились их родители”[57]). Интересно, что у немногочисленной группы “коренных” москвичей из числа опрошенных сильнее гражданской и этнической (в территориальном смысле) оказалась выражена “московская идентичность”. (“Для меня родина – это ‘Сретенка’. Здесь вся жизнь прошла. Родина – это не этническое понятие. У меня корни в Казани, но туда меня совсем не тянет. Когда отец был жив, я ездил в Казань каждый год к нему на день рождения. Я приезжал, и мне там после трех дней тоскливо становилось, потому что по духу я москвич. Мне чужды казанская атмосфера, ритм жизни”;[58] “Это, во-первых, место рождения, независимо от этнической принадлежности. Я родился в Москве, в Сокольниках. Тем не менее, деревню своей матери в Татарстане я тоже считаю родным местом. Я там жил в годы войны, там прошло детство”[59]). Один из наших московских собеседников, считая “родину” православно-русским понятием, связанным только с местом рождения, предлагает употреблять вместо него слово “отечество”, в которое вкладывает отчетливо “этнический” смысл. (“Родина – это, скорее всего, понятие православно-русское. На русском языке я бы скорее назвал это отечеством. Родина – это то место, где я родился, это всего лишь территориальное понятие. Отечество – более широкое и глубокое понятие, связанное с предками, отцами, дедами; это земля предков. Оно общее у татар со многими народами” [60].) Другой считает своей “малой” родиной Татарстан, отмечая, что значимость последнего как этнокультурного центра татар возрастала в его восприятии по мере “разочарования” в “советской родине” и ее интернациональных ценностях. (“Нас воспитали патриотами, мы, конечно, считали родиной СССР. После того, как я поработал за границей, поездил по миру, понятие родины у меня уже несколько изменилось. Россия осталась, конечно, ‘большой’ родиной, но большее значение приобрела “малая” родина – Татарстан, где я родился. Особенно когда я видел, возвращаясь из поездок, что с каждым годом сокращается количество говорящих на татарском языке, что культура теряется, у меня, конечно, росло чувство недовольства, а где-то и возмущения, и родиной все больше становился Татарстан” [61]). И, наконец, единственный из опрошенных в Москве респондентов, вкладывая в понятие “родина” безусловный этнический смысл, полагает, что он, как и множество татар в России, оказался лишенным родины, поскольку родился на “чужой”, нетатарской земле. Этот респондент – носитель “ортодоксально-кризисного” типа этнического самосознания – оказался практически единственным нашим собеседником, воспринимающим “этнотерриториальную проблему” так остро и болезненно. (“Я не считаю, что родина татар – это Татарстан. Территория расселения тюрко-татар – от Байкала до Дуная и от Северного Кавказа до Москвы. Это их, татар, исконные территории. Это все их родина… Я родился и прожил 17 лет в Казахстане, там у меня родственники, теплые воспоминания, но я не чувствую, что там родина, там ничего татарского нет. Там, где живут татары – в Казани, в Уфе, там я не жил, а в Среднюю Азию татары были выселены насильно. То есть я нигде не чувствую себя дома, у меня нет родины, к моему величайшему сожалению (как у евреев): я родился на чужой земле, а на своей не жил. Мне кажется очень много татар оказались, как и я, безродными”[62]). Это высказывание, очевидно, знаменует тот самый случай, когда этнотерриториальные притязания носят мистический, экзистенциальный характер и отчасти являются порождением “маргинального” самосознания. Таким образом, среди опрошенных представителей татарской интеллигенции Москвы незначительное количество респондентов воспринимало понятие “родина” прежде всего в этническом контексте, связывая его с “землей своего народа”. Вопреки нашим ожиданиям, лишь небольшое число опрошенных в Казани татарских интеллектуалов ассоциируют понятие “родина” со своей национальной республикой. (“Этот вопрос после распада СССР находится в стадии осмысления. Российская власть придумала термин ‘Отечество’, вместо ‘Родина СССР’. Это попытка увести нас от этого вопроса. Но в процессе роста национального самосознания, в частности у татар, понятие “Родина” не обязательно будет идентифицироваться с российским государством. Для многих татар, в частности для тех, кто живет в Сибири, на Урале, Родина ассоциируется с Татарстаном. Эти процессы усилились, мне кажется, с провозглашением суверенитета, расширением полномочий”[63]). Хотя, на первый взгляд, это было бы вполне естественным, учитывая центробежные тенденции 90-х гг., формирование “татарстанского” суверенитета на фоне сильного разочарования в федеральной власти, а также высокий процент численного представительства татар в республике. (“Родиной я называю ту страну, которой я нужен. Если я этой стране не нужен, то это не Родина. Я считаю себя татарином. Понятие Родина применительно к России для меня сейчас уже очень сомнительно. Раньше я считал СССР своей родиной, нас так учили. Но сейчас, я думаю, мы этой стране не нужны. Здесь, в Татарстане, я нужен, я считаю, что здесь моя Родина. Здесь во мне нуждаются, здесь меня почитают, уважают. Я чувствую, что Татарстан обо мне заботится”[64]). Также немногие из казанских респондентов связывает “родину” с землей предков, с “этнической территорией” своего народа. (“Родина – где живет твой народ, земля, на которой выращивается хлеб, который ты ешь”;[65] “Родина – это место исторического проживания предков”;[66] “Родина – это от Волги до Урала, где живут мои собратья – не только татары, но и другие народы Поволжья. Нынешняя Россия с приоритетом русских тоже мне близка, это тоже моя родина, ведь везде в России татары живут. Есть еще “малая родина”, где я родился, а государственной родины у меня нет” [67]). Таким образом, можно заключить, что этноцентристские настроения последнего десятилетия, особенно заметные в “национальных” республиках РФ и весьма ярко выраженные в начале 90-х годов в Татарстане, не только не привели к массовой политизации сознания членов этнических общностей (в данном случае – татар), но и в значительной степени “отпустили” наиболее активного проводника этнической идеи – “национальную” интеллигенцию.[68] Если 10 лет назад идеи “земли татар”, “Большого Татарстана” были весьма популярны в республике, то сейчас они мало интересны даже многим бывшим разработчикам и апологетам этих идеологем, которые в изменившихся общественно-политических условиях делают ставки уже на иные “этнополитические ценности”.[69] С другой стороны, центробежные тенденции регионализации и слабость федерального центра, безусловно, дали свои плоды, которые оказались особенно заметны в настроениях наших собеседников в столице Татарстана. Хотя последний крайне редко воспринимался опрошенными татарскими интеллектуалами как “этническая родина”, однако распространенной была позитивная самоидентификация со “своим” – “сильным и независимым” регионом, который в сознании респондентов нередко противопоставлялся “слабому и коррумпированному” центру. В результате среди наших собеседников в Казани (в отличие от Москвы) практически не нашлось сторонников “гражданского” подхода: только один человек назвал своей родиной всю Россию (“Родина – это вся Россия”[70]). Всего несколько респондентов, из числа опрошенных в Казани, определили нашу страну как “большую” родину. (“Для меня существует ‘большая’ родина – Россия и несколько ‘малых’: Татарстан в целом, город Мамадыш, где я родилась и куда, по возможности, наведываюсь ежегодно, Казань, где я прожила всю сознательную жизнь”[71]). При этом подчеркивалось, что на уровне эмоционального восприятия все же ближе “малая родина”, которая связана с близкими, местом рождения и шире – с Татарстаном. (“Родина – это для меня, прежде всего, мои родители, друзья, мои близкие, то место, где я родился (Казань, Татарстан), воспоминания о детстве. Это эмоциональное восприятие. С другой стороны, мой разум говорит, что моя родина – это и Россия в целом, но это уже рациональная конструкция”;[72] “Родина, если строго – то это государство, Россия, а если эмоционально – то это Татарстан, на локальном уровне – это место, откуда мои родители – это Заказанье”[73]). Таким образом, подавляющее большинство татарских интеллектуалов в Казани, подобно татарской интеллигенции Саратова, воспринимают “родину”, прежде всего, в узколокальном смысле этого слова (не гражданском и не этническом!), связывая ее с местом рождения, проживания, взросления (“Родина — земля, где ты родился”;[74] “Место рождения, родной дом”;[75] “Место, где ты родился”;[76] “Родина – это место, где я родилась”;[77] “Место рождения, воспитания, учебы”;[78] “Родина, по моим представлениям, – это место, где человек родился и вырос, где он имеет свою историю. Родина не всегда совпадает с территорией, где этот человек живет“ [79]), а также с воспоминаниями, близкими людьми, родным домом, могилами предков. (“То место, где ты живешь, родился и вырос, где находятся могилы твоих предков”; [80] “Родина – это место, где я родился, где я вырос, где все мне дорого. Если я уеду далеко, я буду тосковать, потому что зов предков, могилы родителей притягивают. Многие живут в Казани, а родина у них где-то в другом месте”;[81] “Родина – это чувство ‘дома’, чувство, что находишься в окружении близких по культуре людей”[82]). Но немалая часть опрошенных при этом идентифицирует себя, помимо места рождения, со “своей” республикой как отдельным регионом, территорией. Несколько респондентов в Казани обозначили этим понятием территорию, где человек комфортно себя ощущает, где ему хорошо живется, подчеркнув, что это не обязательно может быть место рождения. (“Родина – это не только место, где ты родился и вырос (хотя это, конечно, очень важно), но есть и другой критерий – это то место, где тебе живется лучше, где хорошо. Это может быть ‘первая’ и ‘вторая’ родина или ‘большая’ и ‘малая’. Мне вот лучше всего в Казани живется, правда, здесь я и родился, и учился, и родители мои здесь похоронены. Но если бы нельзя было жить тут, я выбрал бы Москву. Там я тоже прожил долгое время, там мне тоже комфортно”; [83] “Родина – это то место, где человек чувствует себя хорошо”; [84] “Родина – там, где хотелось бы жить”[85]). Некоторые из наших собеседников отметили ситуативность восприятия феномена “родины” (“восприятие родины в разной ситуации, в разной обстановке, в разное время может быть различным. Для меня это родной город, родная природа, родные люди. Очевидно, и мое восприятие в какой-то иной атмосфере может измениться”[86]), продемонстрировав тем самым достаточно высокий уровень саморефлексии. Где находится “земля татар“? Судя по мнению большинства наших собеседников в трех регионах, понятие “родина” редко воспринимается в этническом контексте. Другое дело – выражение “земля моего народа”, за которым трудно не разглядеть этнической подоплеки. Ответы на вопрос “Что стоит за понятием земля моего народа?” служили своеобразным индикатором значимости территориального компонента в структуре этнического самосознания респондентов. Многие наши саратовские собеседники определяют “этническую родину” как нечто абстрактное, туманное и размытое, несопоставимое по значимости и проигрывающее в ценности “малой родине”, включающей, как мы уже знаем, диапазон такие понятия, как “место рождения”, “родственные и дружеские узы”, “профессиональные связи”, “волнующие воспоминания” и пр. (“Земля моего народа” – это, соответственно, земля, где мой народ обитает”;[87] “Земля татар” – это что-то размытое. Казань – это земля татар, какая-то татарская деревня – это земля татар; кто-то скажет: Саратов – земля татар, а кто-то – земля немцев, и те и другие здесь живут. То есть “земля моего народа” – это больше абстрактное понятие. Человека ведь держит не земля как таковая (она общая, ничья), а могилы его родителей, дети, друзья, любимая работа – это держит, это его корни, его родина”;[88] “Земля моего народа” – для меня понятие абстрактное, т.к. в Татарии я был всего несколько раз, большую часть жизни провел в Саратове, а вырос в Узбекистане”;[89] “Земля моего народа” – это, конечно, понятие несколько философского плана… Все Поволжье ниже Золотого кольца было под тюркскими племенами, в силу этого его можно в какой-то мере рассматривать как “землю моего народа”. Татары – это, безусловно, коренное население в Поволжье с исторической точки зрения, но не только они, конечно”[90]). И все это весьма слабо воспринимается в этническом контексте. В некоторых случаях нынешняя “этническая территория” даже оказывается противопоставленной “настоящей”, “своей”, родине, а жители “национальной” республики воспринимаются как “другие татары”. (“Татарстан не воспринимается как родина. Они там, видимо, коренные, а мы какие-то некоренные. У нас и язык другой, смешанный с русским”[91]). Что, кстати, по мнению наших информантов, весьма характерно для татарского населения, проживающего за пределами Татарстана, особенно для мишарей. Представители московских татарских интеллектуалов отмечают, что “татарские земли” и их жители разбросаны по всей России, и почти на всех российских территориях татары живут издавна. (“И Подмосковье для меня – родная земля, и Поволжье – родная земля… Татары ниоткуда последние полторы тысячи лет не приходили, они пришли в седьмом веке из Приазовья как булгарские племена и основали Волжскую Булгарию”;[92] “Земля татар” там, где они живут. Это большие пространства. Ведь что такое Русь – это Московия. Постепенно русские завоевывали окружающие, в том числе и татарские территории…”[93]). В связи с этим, многие считают своей “этнической родиной” как всю Российскую Федерацию, так и конкретное место своего рождения или проживания. Для московских татар таким местом является Москва. (“Везде, где живут татары. В Москве татары живут еще со времен Ивана Грозного, у многих здесь родина… Татарстан – ничто, там родилась одна восьмая часть народа”[94]). Значительная часть московских респондентов осознает бессмысленность деления территории по национальному признаку, особенно в условиях такой поликультурной страны, как Россия. (“Сегодня у русского народа 40% тюрко-татарской крови, и ментальность у нас уже общая. Россия – родина татар, немногое изменилось за столетия, только язык. 80% татар живут в России на своих исконных землях, где они появились, кстати, намного раньше славян”;[95] “Вы знаете, я как-то никогда не делила землю по национальности…”;[96] “Земля она и есть земля – единая для всех. Если посмотреть из космоса – это маленький шарик. Земля предков – это все вокруг… Нельзя говорить: это ‘наши’ земли, а это ‘ваши’”[97]). Наиболее выраженное представление об “этнической родине” прозвучало в отчетах части наших казанских собеседников. У опрошенных в Казани образ “татарской земли” чаще был связан с конкретной территорией, в том числе и с нынешней “национальной” республикой, чем у саратовских и московских татар (что, впрочем, вполне логично). (“Земля моего народа – это место, где народ сформировался как народ. Для татар это места, где они сейчас компактно проживают – Сибирь, Волго-Уралье и т.д.”[98]; “Земля моего народа – это Татарстан, Оренбург, Нижний Новгород, Урало–Поволжье”[99]; “Татарстан – это земля моего народа”[100]). В то же время, татарские интеллектуалы Казани (из числа опрошенных) в большинстве своем не считают Татарстан и Поволжье только “своей” территорией, подчеркивая, что земля в равной мере принадлежит всем народам, которые на ней проживают. (“Скорее, не “земля”, а “земли” моего народа, т.е. регионы компактного проживания татар, главным образом, в России. Татары понимают, что эти земли являются родиной и для русских, и для других народов России”; [101] “Земля принадлежит всем, кто на ней живет. Если кто-то претендует на землю, то это всегда заканчивается трагедией. Я считаю землей моего народа Татарстан, но он принадлежит всем народам, которые здесь живут”[102]). Некоторые из опрошенных отмечали даже, что “земля моего народа” – это неправомерная формулировка, поскольку в современном мире практически нет земель, заселенных только одним этносом. Некоторые также подчеркивали, что рассматривать этот вопрос с исторической точки зрения бессмысленно, поскольку история многократно “перекраивала” все известные территории и границы. (“Мне кажется, нельзя говорить о “татарской земле”. Это очень условно. Можно, конечно, смотреть с исторической точки зрения, но ведь все меняется. Конечно, нынешняя территория Татарстана не включает большую часть бывшей “татарской” территории, которой гораздо больше соответствовал первоначальный проект НКА 20-х годов. Вместо этого создали 3 административные единицы (Башкирия, Чувашия, Татария). Получилось по принципу ‘разделяй и властвуй’”;[103] “Сейчас нет земли, которая принадлежит только одному народу. ‘Земля татар’ – это неправомерная формулировка. Все где-то жили, откуда-то приходили”[104]). Отдельные респонденты из числа наших казанских собеседников вообще не склонны были рассматривать понятие “земля моего народа” в узкоэтническом значении, понимая под “народом” всех россиян. (“На мой взгляд, “земля моего народа” – это земля наших предков, которые дали нам жизнь и теперь мы в ответе за то, что на ней происходит. Это не этническое понятие, скорее – общегражданское”[105]). Таким образом, несмотря на наличие реальных “исторических” оснований, размышления о “земле татар” у большинства наших собеседников в Саратове, Москве и Казани не вызывали эмоционально-болезненных реакций и ассоциаций, как впрочем, и повышенного интереса. Приведенные фрагменты интервью в полной мере свидетельствуют, что большинство респондентов воспринимают выражение “земля татар” как достаточно условное и “метафоричное” понятие. Реальной детерминантой этнической идентичности выступает скорее представление о “культурных” границах, слабо связанных с физическим пространством занимаемых этносом территорий.[106] Должен ли быть у земли “народ-хозяин”, или размышления об “этнической собственности” на землю В первоначальный вариант нашего инструментария были включены несколько “провокационных” вопросов, связанных с территориальным аспектом этнической идентичности. Работая в первом регионе (Саратов, 1999 г.), мы убедились, что в этих вопросах нет особой необходимости, тем более что они выводили респондента на другой – “политический блок”, отчасти его дублируя. В дальнейшем при работе в Москве и Казани мы использовали сокращенный вариант инструментария и некоторые из этих вопросов не задавали. Тем не менее, результаты саратовского исследования кажутся нам достаточно интересными, поэтому мы решили коротко их изложить. “Должен ли быть у земли народ-хозяин?” Задавая этот вопрос, мы рассчитывали, если так можно выразиться, “спровоцировать” скрытые этнические чувства (точнее – “этнотерриториальную ностальгию”, тоску по утраченной “земле предков”), если таковые имелись, но не были выявлены предыдущими вопросами. Лучшим подтверждением нашей гипотезы о том, что земля, территория большинством татарских интеллектуалов не воспринимается в этническом контексте, стало то, что “провокация” не сработала. Больше половины наших собеседников вообще не увидели в вопросе этнический контекст, истолковав выражение “народ” как “крестьянство”, а не как “этнос”. Поняв, таким образом, вопрос превратно, эта часть респондентов ответила на него утвердительно, признав, что “народ должен быть хозяином на земле”, что “земля должна принадлежать народу, который на ней работает” и т.д. (имея в виду весь “российский народ” как совокупность различных этносов). Те немногие из опрошенных респондентов, которые уловили “этнический” смысл вопроса, ответили на него отрицательно, обнаружив здравый, рациональный и вполне демократичный подход к этнотерриториальной проблеме и отсутствие упомянутых выше “скрытых этнических чувств”. (“Думаю, что нет, потому что это всегда приводит к каким-то конфликтам и издержкам. Я не считаю, что “хозяином” является только тот народ, который на этой земле проживает. Должно быть равенство”;[107] “Если в этническом смысле, то право на землю имеют все, кто на ней живет. Вот в Поволжье, например, проживают более 100 народов, они все имеют равные права. А считать какой-то один народ ‘хозяином’ – это просто быть националистом”[108]; “Я так думаю: Россия огромная страна, и если кто-то будет претендовать на то, чтобы быть хозяином всей земли, то через несколько дней здесь никого не останется – будет война, передерутся до смерти. Хозяин земли российской – это весь российский народ, не русский, не татарин”; [109] “Мы сегодня так перемешано живем на земле, что если начнем определять “хозяина”, то кончим дракой. Все должны жить в мире, пользоваться общими благами, земли всем хватит”; [110] “Я всегда против радикализма – во всем. Если, по воле Всевышнего, родился здесь негр, в этом поселке, он тоже имеет право на эту землю…”[111]). Всего один наш собеседник (тот самый, который выражал сожаление по поводу утраченной татарами “родины” – Золотой Орды) болезненно отреагировал на вопрос о “народе-хозяине”, обнаружив чувство этнической ущемленности, связанное, по всей видимости, с личным негативным опытом межэтнического общения. (“По современным демократическим меркам так не должно быть. Хотя эта политика сегодня ведется. Сейчас в Саратовской области и вообще в РФ преобладают русские, и они эту тактику проводят. Татары, как и немцы, и другие народы, никуда не проходят, в основном проходят только русские: “хозяева”. Взять хотя бы вузы – они только для русских, другим их больше, они нациям надо с трудом пробиваться...”[112]). Еще один “провокационный” вопрос, предложенный нашим собеседникам с той же целью – “Кого Вы считаете коренными в Татарстане, Поволжье?”. Ключевым, “провоцирующим” словом здесь являлось слово “коренные” – некорректный, с нашей точки зрения, и ненаучный термин, который, однако, активно использовался в этнополитической практике последних лет, особенно лидерами этнонациональных движений. Многие респонденты, отвечая на этот вопрос, еще раз подтвердили, что “родственные узы”, “корни” привязывают человека к месту рождения, к земле, где прошло детство, значительно сильнее, чем к некой условной “этнической” территории – национальной республике – которую в течение жизни он может ни разу не посетить. (“Коренные? Наверное, татары. Ну, и все, кто там родился”; [113] “Тот народ, который родился на этой земле. Коренными считаются те, чьи родители (предки) родились на этой земле”;[114] “Татарстан для татарина – это его республика, но и русские и другие национальности, живущие там, чувствуют себя такими же коренными, они имеют ничуть не меньше прав на эту землю, этот воздух и т.д. И еще неизвестно, кто больший патриот для этой земли я, татарин, или русский, который там трудится. И наоборот, я, проработав всю жизнь здесь в Саратове, может быть, сделал для города больше, чем иной русский… Это политики опять же начинают: Татарстан – для татар, Чечня – для чеченцев. Те, кто так говорит, подводят свой народ к национальной катастрофе. Потому что после этого мне, например, могут сказать: езжай в свой Татарстан, а я, может, здесь больше нужен, чем там. И вообще, здесь мои родители, мои друзья...”[115]). За редким исключением, наши собеседники не связывали “право” человека на ту или иную землю с этнической принадлежностью. Большая часть ответов была выдержана в рамках демократического, “интернационалистского” подхода к этнотерриториальным вопросам, рационального и взвешенного, без эмоций. (“В Татарстане татар только 45%, остальные – русские и другие нации, там тоже нельзя говорить о каком-то одном “хозяине”, потому что там не менее коренное население – русские, азербайджанцы и пр.”;[116] “Трудно сказать. Татары здесь, в Поволжье – этническое население, так же, как и русские, и многие другие народы”;[117] “Ну, в Поволжье – русский народ, бесспорно, но и татар тоже можно считать здесь коренными. В Татарстане тоже – и русские, и татары, это и по национальному составу заметно – пятьдесят на пятьдесят”;[118] “Коренные в Татарстане – русские, т.к. они заселились там раньше. В Поволжье нет коренных, то есть там коренные все народности, которые расселились изначально”[119]). Безусловно, на характер ответов повлияло то, что саратовская татарская интеллигенция, проживая “оторванно” от национальной республики (Татарстана), как правило, не ощущает ее “своей” (татарской) территорией. В связи с этим, даже те наши собеседники, которые называли татар коренным населением Татарстана (РТ), нередко говорили с неуверенностью, как бы сомневаясь. (“В Татарстане очень много татар. Мне кажется, что татары там коренные. В Поволжье выделить кого-то я не могу. Тот, кто живет, тот и коренной”; [120] “Я затрудняюсь ответить. Татары, наверное. Татары везде – твердая прослойка”;[121] “В Татарстане, наверное, все-таки, татары являются коренными, а в Поволжье – не знаю, здесь столько намешано… Наверное, русские”[122]). В ответах лишь незначительного числа опрошенных звучала полная убежденность в том, что коренным населением РТ являются именно татары, однако эта убежденность ни в одном случае не распространялась на “земли Поволжья” в целом. (“В Татарстане очень много русских, но коренные там – татары”;[123] “В Татарстане коренной народ, безусловно, татары. А в Поволжье? Сложный вопрос, тут много наций. Но коренные, все-таки, русские”;[124] “Те люди, которые живут в Татарстане из поколения в поколение, которые могут сказать: мы коренные жители, мы татары”;[125] “На сегодняшний день это булгары, а что будет дальше – не знаю. По численности преобладают русские”[126]). Как и два предыдущих, вопрос “Справедливо ли очерчены границы Татарстана?” не вызвал эмоциональной реакции со стороны респондентов. Многие из опрошенных затруднились дать какой бы то ни было ответ, обнаружив либо полное незнакомство с историей, либо, что более вероятно, – отсутствие интереса к политике, в том числе и национальной. (“Кто говорит “да”, кто “нет”. Вопрос политический, я затрудняюсь ответить”[127]; “Границы? Я не думала над этим вопросом. Я политикой не интересуюсь”[128]; “Справедливо ли очерчены границы, я не знаю, т.к. плохо представляю, что такое Татарстан”;[129] “Я не владею этим вопросом”;[130] “Вообще-то, я не очень представляю”;[131] “Я не знаю”[132]). Некоторые респонденты, не будучи вполне “в курсе”, выразили “смиренное” желание принять те границы, которые существуют, руководствуясь исторической или даже религиозной целесообразностью. (“Я не знаю, не мне об этом судить, но если так сложилось исторически, то мы уже не можем здесь что-то менять”;[133] “То, что есть, дал Всевышний. Думаю, справедливо”[134]). Аргументированных рассуждений по поводу границ Татарстана было немного (как и по поводу большинства вопросов, так или иначе связанных с политикой), но те немногие респонденты, которые проявили интерес к этому вопросу, отнеслись к нему философски спокойно, проявив в ответах своего рода политическую дипломатию. (“Наверное, в 20-е гг. можно было избрать другой вариант, но сегодня нельзя менять границы, поскольку это кончится войной. Я считаю единственно верным вариантом признать справедливыми все существующие границы. А менять что-то – на основе волеизъявления всех живущих на этой земле людей, но эта проблема на сегодняшний день не актуальна. Как сложилось, так и надо жить”;[135] “Если исторически посмотреть, то когда-то была целая империя, огромное государство Волжская Булгария. От нее осталась масса районов, заселенных татарами и не вошедших в Татарстан. Так что сейчас говорить о том, справедливо или несправедливо, достаточно сложно, ученые до сих пор о многом спорят”[136]). Таким образом, “провокационные” вопросы еще раз наглядно продемонстрировали слабую эмоциональную окрашенность восприятия нашими собеседниками территориального аспекта этничности. *** Итак, подведем итоги. Рассуждения наших респондентов по поводу таких “ключевых” понятий, как “родина”, “родная земля”, “земля моего народа” свидетельствуют о том, что “территориальный” компонент этнической самоидентификации у опрошенных татарских интеллектуалов в значительной степени сглажен, нивелирован. В полной мере это справедливо в отношении наших собеседников в Саратове, в меньшей степени – для казанских респондентов. В восприятии подавляющего большинства опрошенных интересующие нас понятия ассоциированы, прежде всего, с местом рождения, первыми детскими впечатлениями и воспоминаниями, родственными узами, дружескими связями и т.д., и практически лишены этнического контекста. При этом процесс определения “родной земли” в значительной мере ситуативен, как и его восприятие. В сознании многих респондентов одновременно как бы сосуществуют несколько различных образов “родины” (малая родина, большая родина и пр.), каждый из которых может быть в большей или меньшей степени актуализирован или, наоборот, подавлен, в зависимости от ситуации, обстановки, собеседника. Известное преобладание в самосознании наших информантов локально-региональной идентификации над этнической предопределяет отличия в восприятии Татарстана респондентами, опрошенными в Казани и за ее пределами (в Москве и Саратове). Если у первых “свой” регион зачастую ассоциирован с “родиной”, то у вторых подобные ассоциации встречаются крайне редко. Напротив, жители “национальной республики” нередко воспринимаются “иногородними” дистанцированно, как “другие татары”, в то время как земляки, пусть даже иной национальности, кажутся близкими, “своими”. Для “москвичей” и “саратовцев” дефиниция Татарстана как символа “этнической родины” является скорее эксклюзивной, чем типической. Одновременно среди значительной части опрошенных представителей татарской интеллигенции Москвы просматривается тенденция более широкого толкования “родины” – в общегражданском, патриотическом контексте. То есть, для многих наших московских собеседников родина – это вся Россия. Напротив, для казанских респондентов идентификация со “всей Россией” совершенно нетипична, что во многом объясняется как общими центробежными процессами в РФ в последнее десятилетие, так и определенной “этнопатриотической” пропагандой идеологов татарского “национального” движения в республике. Этнолог Б. Ф. Поршнев при изучении территориального аспекта этнического самосознания пришел к выводу, что “глубочайшей сущностью” этнических противопоставлений является граница, поскольку “этническое самосознание одной общности и ее представление о другой выступают как производные от… факта наличия рубежа между ними”.[137] В наши дни понятие “граница” в значении “водораздела” между различными этническими сообществами приобретает все более виртуальный характер. В пределах полиэтнических государств, таких, в частности, как Российская Федерация (где границы этнотерриториальных субъектов слабо совпадают с реальной картиной расселения этносов), актуальнее “этнотерриториальных” вопросов становятся проблемы так называемых “культурных дистанций” и “культурных границ” между этническими группами. Однако и эти “границы” для многих российских “меньшинств”, веками живущих “бок о бок”, оказываются в значительной степени нивелированы. И. В. Сталин. Марксизм и национальный вопрос. Соч. Т.2. М., 1946. С. 296. Ю. В. Бромлей. Современные проблемы этнографии. М., 1981. С. 19. [3] В. В. Пименов. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. СПб., 1997. С. 1314. [4] К. Н. Хабибуллин., Н. Г. Скворцов. Испытания национального самосознания. [1] [2] СПб., 1993. С. 11. [5] В. Р. Филиппов. “Нулевой вариант в этнополитике” – путь к гражданскому равноправию в обществе // Федерализм. 1997. № 2. С. 26. [6] См.: П. И. Кушнер. Этнические территории и этнические границы. М., 1951.; В. И. Козлов. Этнос и территория // Советская этнография. 1971. № 6. [7] Цит. по: Этнические и этносоциальные категории // Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 6 / Отв. ред. В. И. Козлов. М., 1995. С. 129. [8] Там же. С. 130. [9] С. Кокберн. Пространство между нами. Обсуждение гендерных и национальных идентичностей в конфликтах. М., 2002. С. 51. [10] С. Кокберн. Указ. соч. С. 50. [11] P. Jackson, J. Penrose. Constructions of Race, Place and Nation. London, 1993. [12] С. Кокберн. Указ. соч. [13] К. Н. Хабибуллин, Н. Г. Скворцов. Указ. соч. С. 18. [14] Подробнее о преимуществах качественной социологии и сути метода “неформализованного интервью” см.: С. А. Белановский. Глубокое интервью. М., 2001. С. 66, 77-80. [15] Прежде чем перейти непосредственно к описанию результатов исследования “территориального” аспекта этничности, хотелось бы коротко остановиться еще на одном моменте, который вызывает вопросы у отдельных наших критиков и оппонентов. Этот момент касается субъективности полученной нами информации, не с точки зрения методологии, а с точки зрения содержательной ее части. Суть сомнений сводится к вопросу: в какой степени можно доверять респондентам, насколько их ответы искренни? Не вступая в продолжительную полемику по этому весьма спорному поводу (рассуждать о “субъективности” очевидно субъективного источника, каковым является любое интервью – занятие по меньшей мере праздное!), отметим лишь, что характер используемого метода безусловно предполагает установление некого доверительного контакта между интервьюером и респондентом. Без такого контакта интервью, рассчитанное на 40-60 (иногда и больше) минут разговора, ведущегося под диктофонную запись, просто не может состояться. Атмосфера благожелательности и доверительности – обязательное условие удачного интервью! Очевидно, что здесь многое, если не все, зависит от интервьюера (умение вести беседу, правильно и профессионально строить вопросы и т.д.), который обязательно должен быть квалифицированным специалистом в области этнологии, этнопсихологии. Конечно, и в этом случае никто не может гарантировать “полную искренность” собеседника. Однако, поскольку мы анализируем не только то, что человек говорит, но и как, принимаем во внимание не только прямую, но и косвенную мотивацию, этот “дефект” оказывается в значительной мере сглажен. Эмоциональность ответов также является, в известном смысле, свидетельством их искренности. [16] Архив автора. Интервью S 1. [17] Архив автора. Интервью S 11. [18] Архив автора. Интервью S 12. [19] Архив автора. Интервью S 24. [20] Архив автора. Интервью S 15. [21] Архив автора. Интервью S 2. [22] Архив автора. Интервью S 17. [23] Архив автора. Интервью S 21. [24] Архив автора. Интервью S 14. [25] Архив автора. Интервью S 4. [26] Об этом см., например: Н. М. Лебедева. Роль культурной дистанции в формировании новых идентичностей // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах / Сб. ст. М., 1997. С. 64-82.; В. А. Тишков. Идентичность и культурные границы // Там же. С. 15-43.; Л. М. Дробижева. Социально-культурная дистанция как фактор межэтнических отношений // Там же. С. 44-63.; Е. И. Филиппова. Роль культурных различий в процессе адаптации русских переселенцев в России // Там же. С. 134-150; Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной России. М., 1998. и др. [27] Архив автора. Интервью S 22. Архив автора. Интервью S 3. Архив автора. Интервью S 26. [30] Архив автора. Интервью S 18. [31] Архив автора. Интервью S 20. [32] Архив автора. Интервью S 9. [33] Архив автора. Интервью S 23. [34] Архив автора. Интервью S 19. [35] Архив автора. Интервью S 8. [36] Архив автора. Интервью S 15. [37] Архив автора. Интервью S 10. [38] Архив автора. Интервью S 6. [39] Архив автора. Интервью S 13. [40] Архив автора. Интервью S 12. [41] Архив автора. Интервью S 11. [42] Архив автора. Интервью S 10. [43] Архив автора. Интервью S 17. [44] Архив автора. Интервью M 38. [45] Архив автора. Интервью M 55. [46] Архив автора. Интервью M 41. [47] Архив автора. Интервью M 47. [48] Архив автора. Интервью M 46. [49] Архив автора. Интервью M 42. [50] Архив автора. Интервью M 54. [51] Архив автора. Интервью M 37. [52] Архив автора. Интервью M 34. [53] Архив автора. Интервью M 49. [54] Архив автора. Интервью M 36. [55] Архив автора. Интервью M 33. [56] Архив автора. Интервью M 35. [57] Архив автора. Интервью M 51. [58] Архив автора. Интервью M 43. [59] Архив автора. Интервью M 32. [60] Архив автора. Интервью M 53. [61] Архив автора. Интервью M 45. [62] Архив автора. Интервью M 52. [63] Архив автора. Интервью K 63. [64] Архив автора. Интервью K 67. [65] Архив автора. Интервью K 71. [66] Архив автора. Интервью K 75. [67] Архив автора. Интервью K 81. [68] Разумеется, наше исследование не может репрезентировать мнение “всей” татарской интеллигенции (тем более, мы не призываем рассматривать последнюю как некую однородную общность, что было бы совершенно некорректно), однако, тенденция, проявленная в восприятии и трактовке понятия “родина” как внеэтнического наиболее “этнически активными” деятелями этнокультурного движения, очевидно, является в интересующем нас смысле определенным индикатором. [69] См., например: Д. М. Исхаков. Открытое письмо М. Шаймиеву объединения татарских интеллектуалов “Клуб джадидов” // Звезда Поволжья. 2001. № 33 (86). 23-29 августа. [70] Архив автора. Интервью K 68. [71] Архив автора. Интервью K 79. [72] Архив автора. Интервью K 87. [73] Архив автора. Интервью K 88. [74] Архив автора. Интервью K 62. [75] Архив автора. Интервью K 72. [76] Архив автора. Интервью K 74. [77] Архив автора. Интервью K 77. [78] Архив автора. Интервью K 69. [28] [29] Архив автора. Интервью K 65. Архив автора. Интервью K 76. [81] Архив автора. Интервью K 80. [82] Архив автора. Интервью K 70. [83] Архив автора. Интервью K 85. [84] Архив автора. Интервью K 61. [85] Архив автора. Интервью K 73. [86] Архив автора. Интервью K 64. [87] Архив автора. Интервью S 17. [88] Архив автора. Интервью S 2. [89] Архив автора. Интервью S 11. [90] Архив автора. Интервью S 28. [91] Архив автора. Интервью S 2. [92] Архив автора. Интервью M 32. [93] Архив автора. Интервью M 33. [94] Архив автора. Интервью M 35. [95] Архив автора. Интервью M 37. [96] Архив автора. Интервью M 36. [97] Архив автора. Интервью M 51. [98] Архив автора. Интервью K 65. [99] Архив автора. Интервью K 73. [100] Архив автора. Интервью K 74. [101] Архив автора. Интервью K 62. [102] Архив автора. Интервью K 67. [103] Архив автора. Интервью K 80. [104] Архив автора. Интервью K 81. [105] Архив автора. Интервью K 79. [106] Подробнее об этом см.: F. Barth. Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Differences. Bergen/London, 1969. [107] Архив автора. Интервью S 18. [108] Архив автора. Интервью S 20. [109] Архив автора. Интервью S 1. [110] Архив автора. Интервью S 13. [111] Архив автора. Интервью S 16. [112] Архив автора. Интервью S 19. [113] Архив автора. Интервью S 21. [114] Архив автора. Интервью S 23. [115] Архив автора. Интервью S 2. [116] Архив автора. Интервью S 20. [117] Архив автора. Интервью S 15. [118] Архив автора. Интервью S 9. [119] Архив автора. Интервью S 14. [120] Архив автора. Интервью S 6. [121] Архив автора. Интервью S 22. [122] Архив автора. Интервью S 18. [123] Архив автора. Интервью S 8. [124] Архив автора. Интервью S 11. [125] Архив автора. Интервью S 17. [126] Архив автора. Интервью S 19. [127] Архив автора. Интервью S 17. [128] Архив автора. Интервью S 21. [129] Архив автора. Интервью S 12. [130] Архив автора. Интервью S 22. [131] Архив автора. Интервью S 14. [132] Архив автора. Интервью S 8, 10, 18 [133] Архив автора. Интервью S 20. [134] Архив автора. Интервью S 6. [135] Архив автора. Интервью S 13. [136] Архив автора. Интервью S 9. [79] [80] Б. Ф. Поршнев. Противопоставление как компонент этнического самосознания. М., 1973. С. 12. [137]