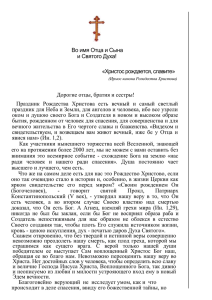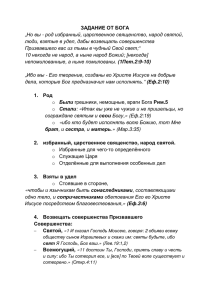Глава V ТВАРНОЕ БЫТИЕ Когда мы пытаемся от полноты
реклама
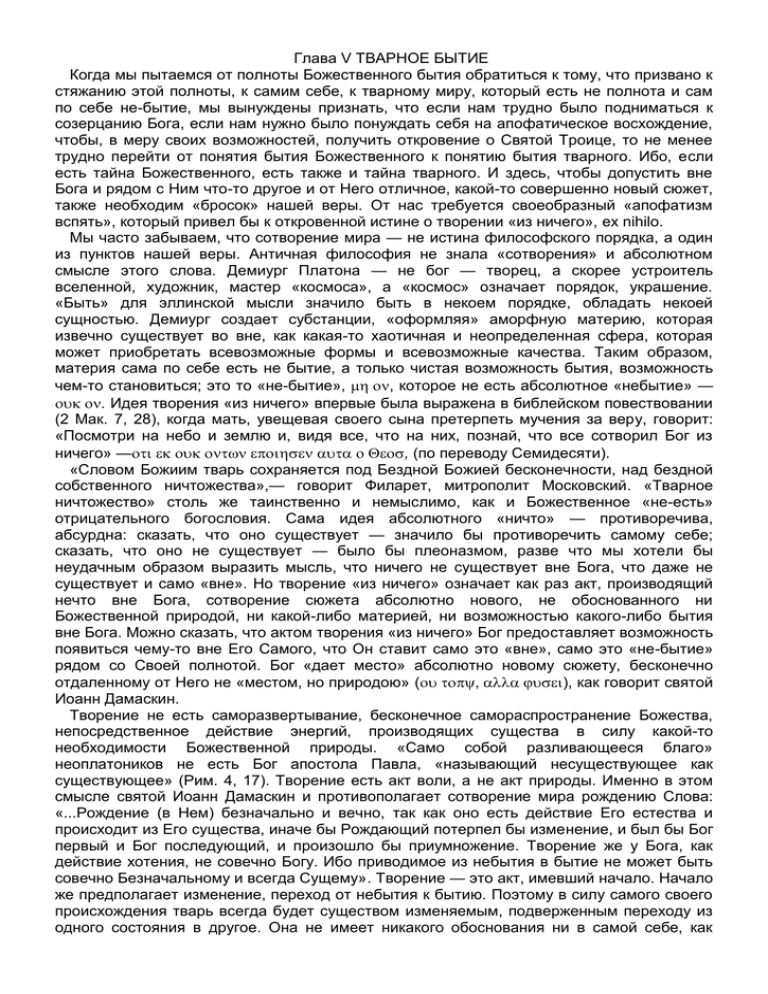
Глава V ТВАРНОЕ БЫТИЕ Когда мы пытаемся от полноты Божественного бытия обратиться к тому, что призвано к стяжанию этой полноты, к самим себе, к тварному миру, который есть не полнота и сам по себе не-бытие, мы вынуждены признать, что если нам трудно было подниматься к созерцанию Бога, если нам нужно было понуждать себя на апофатическое восхождение, чтобы, в меру своих возможностей, получить откровение о Святой Троице, то не менее трудно перейти от понятия бытия Божественного к понятию бытия тварного. Ибо, если есть тайна Божественного, есть также и тайна тварного. И здесь, чтобы допустить вне Бога и рядом с Ним что-то другое и от Него отличное, какой-то совершенно новый сюжет, также необходим «бросок» нашей веры. От нас требуется своеобразный «апофатизм вспять», который привел бы к откровенной истине о творении «из ничего», ex nihilo. Мы часто забываем, что сотворение мира — не истина философского порядка, а один из пунктов нашей веры. Античная философия не знала «сотворения» и абсолютном смысле этого слова. Демиург Платона — не бог — творец, а скорее устроитель вселенной, художник, мастер «космоса», а «космос» означает порядок, украшение. «Быть» для эллинской мысли значило быть в некоем порядке, обладать некоей сущностью. Демиург создает субстанции, «оформляя» аморфную материю, которая извечно существует во вне, как какая-то хаотичная и неопределенная сфера, которая может приобретать всевозможные формы и всевозможные качества. Таким образом, материя сама по себе есть не бытие, а только чистая возможность бытия, возможность чем-то становиться; это то «не-бытие», , которое не есть абсолютное «небытие» — . Идея творения «из ничего» впервые была выражена в библейском повествовании (2 Мак. 7, 28), когда мать, увещевая своего сына претерпеть мучения за веру, говорит: «Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего» —, (по переводу Семидесяти). «Словом Божиим тварь сохраняется под Бездной Божией бесконечности, над бездной собственного ничтожества»,— говорит Филарет, митрополит Московский. «Тварное ничтожество» столь же таинственно и немыслимо, как и Божественное «не-есть» отрицательного богословия. Сама идея абсолютного «ничто» — противоречива, абсурдна: сказать, что оно существует — значило бы противоречить самому себе; сказать, что оно не существует — было бы плеоназмом, разве что мы хотели бы неудачным образом выразить мысль, что ничего не существует вне Бога, что даже не существует и само «вне». Но творение «из ничего» означает как раз акт, производящий нечто вне Бога, сотворение сюжета абсолютно нового, не обоснованного ни Божественной природой, ни какой-либо материей, ни возможностью какого-либо бытия вне Бога. Можно сказать, что актом творения «из ничего» Бог предоставляет возможность появиться чему-то вне Его Самого, что Он ставит само это «вне», само это «не-бытие» рядом со Своей полнотой. Бог «дает место» абсолютно новому сюжету, бесконечно отдаленному от Него не «местом, но природою» (), как говорит святой Иоанн Дамаскин. Творение не есть саморазвертывание, бесконечное самораспространение Божества, непосредственное действие энергий, производящих существа в силу какой-то необходимости Божественной природы. «Само собой разливающееся благо» неоплатоников не есть Бог апостола Павла, «называющий несуществующее как существующее» (Рим. 4, 17). Творение есть акт воли, а не акт природы. Именно в этом смысле святой Иоанн Дамаскин и противополагает сотворение мира рождению Слова: «...Рождение (в Нем) безначально и вечно, так как оно есть действие Его естества и происходит из Его существа, иначе бы Рождающий потерпел бы изменение, и был бы Бог первый и Бог последующий, и произошло бы приумножение. Творение же у Бога, как действие хотения, не совечно Богу. Ибо приводимое из небытия в бытие не может быть совечно Безначальному и всегда Сущему». Творение — это акт, имевший начало. Начало же предполагает изменение, переход от небытия к бытию. Поэтому в силу самого своего происхождения тварь всегда будет существом изменяемым, подверженным переходу из одного состояния в другое. Она не имеет никакого обоснования ни в самой себе, как созданной из ничего, ни в Божественной сущности, ибо никакая необходимость не понуждала Бога творить. Действительно, в Божественной природе нет ничего, что являлось бы необходимой причиной создания тварного. Тварного могло бы и не быть. Бог также мог бы и не творить. Творение есть свободный акт Его желания, и это — единственное обоснование тварного. Само намерение Божественной воли, когда Бог этого хочет, становится делом. Богом желаемое осуществляется и немедленно становится чьим-то бытием, ибо Всемогущий, когда Он желает чего-то по Своей Премудрости и творческой Своей силе, не оставляет этого желания без осуществления. Осуществление же Божественного желания, по святому Григорию Нисскому, есть тварное бытие. Тварь, случайная по самому своему происхождению, начала существовать, но существовать она будет вечно. Смерть и уничтожение не будут возвратом в небытие, ибо «слово Господне пребывает во век» (1 Пет. 1, 25) и Божественная воля непреложна. Творение как свободный акт воли, а не природное излияние, подобное излучению Божественных энергий, есть свойство личного Бога, Бога-Троицы, обладающей общей волей, принадлежащей природе и действующей по определению мысли. Это то, что святой Иоанн Дамаскин называет «предвечным и всегда низменяемым Божиим Советом». В книге Бытия Бог говорит: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1, 26), словно бы Троица перед сотворением испрашивает у Себя совета. Этот «Совет» говорит о свободном и сознательном акте. По мнению того же Иоанна Дамаскина, «Бог... творит мыслию, и эта мысль... становится делом». «Ибо Бог,— говорит он,— созерцал все вещи прежде бытия их от вечности, представляя в уме Своем; и каждая вещь получает бытие свое в определенное время, согласно с Его вечной, соединенной с хотением мыслию (), которая есть предопределение () и образ () и план (). Термин , который мы перевели как «мысль-воление» (может быть, точнее было бы сказать «волевая мысль») чрезвычайно знаменателен. Он прекрасно выражает учение Восточной Церкви о Божественных идеях, то место, которое восточное богословие уделяет идеям сотворенных Богом вещей. Согласно этому учению идеи не являются вечными причинами тварных существ, содержащимися в самом Божественном существе, они также — и не определение Божественной сущности, к которой, по мысли блаженного Августина, тварное относится как к своей «причине-образцу» (cause exernplaiге). Эта мысль становится со временем общей традицией всего западного богословия, — тем учением, которое уже ясно сформулировано святым Фомой Аквинским. В богомыслии греческих отцов Божественные идеи имеют более динамический, более волевой характер. Их место не в сущности, а в том, что «сущности последствует», в Божественных энергиях: ибо идеи отождествляются с волею или велениями (), определяющими различные модусы (или способы), по которым тварное «причащается» творческим энергиям. Именно так Дионисий Ареопагит и характеризует «идеи или образцы», которые являются «причинами, придающими сущность вещам... ибо ими Сверхсущностный Бог предопределил и создал всяческая». Если Божественные идеи не являются самой сущностью Божией, если они, так сказать, отделены от сущности волей, тогда не только сам акт сотворения, но также и мысль Божия не есть уже необходимое определение природы, не есть невещественное (умное) содержание Божественного существа. Теперь тварная вселенная уже не представляется нам бледным и слабым откликом Богу, как в образе мыслей Платона и платоников; она предстоит перед нами как бытие совершенно новое, как творение, только что вышедшее из рук Бога, Который «увидел, что это хорошо» (Быт. 1, 8), как тварный мир, Богу желанный и ставший радостью Его Премудрости; «он — гармоническое расположение», «дивно составленная песнь в похвалу всемогущей Силе», по выражению святого Григория Нисского. Желая ввести идеи во внутреннее бытие Бога, мы придаем Божественной сущности «идеальное» содержание, мы вмещаем в Его Бытие платоновский . И тогда, смотря по тому значению, какое мы придаем этому идеальному миру в Боге, мы приходим к следующей альтернативе: или тварный мир теряет свою ценность и лишается своей характерной оригинальности в качестве подлинного произведения сотворившей его Премудрости, или тварное вторгается в сокровенную жизнь Бога, онтологически укореняется в Самой Троице, что мы и видим в так называемых «софиологических» системах. В первом случае (у блаженного Августина) Божественные идеи — статичны, они — неподвижные совершенства Бога; во втором (в восточном софианстве) сама Божественная сущность, сама «усия» становится динамичной. Интересно отметить, что Иоанн Скот Эригена, богословская система которого представляет собой любопытный сплав восточных и западных элементов, переложение учений греческих отцов на основе августиновской мысли, представляет себе Божественные идеи существами, тварными первоначалами, посредством которых Бог творит вселенную (natura creata creans). Вместе с восточными отцами он помещает идеи вне Божественной сущности, но заодно с блаженным Августином он также хочет сохранить и их субстанциональный характер; они становятся, таким образом, первыми тварными сущностями. Иоанн Скот Эригена не уловил разницы между сущностью и энергиями: в этом пункте он остался верен августинизму. Поэтому он и не сумел отождествить идеи с творческими велениями Божиими. Идеи-воления, которые Дионисий Ареопагит называет «образцами» (), «предопределениями» () или «предвидениями» (), не тождественны вещам тварным. Хотя они и являются основанием «всяческого», установленного Божественной волей в простых излучениях или энергиях, хотя и являются отношением Бога к существам, которые Он создает, идеи тем не менее отделены от твари, как воля художника отделена от произведения, в котором она проявляется. Идеи предустанавливают различные модусы приобщения к энергиям, различные и неравные степени восхождения для различных категорий существ, движимых Божественной любовью и отвечающих на эту любовь в свою меру. Сотворенный мир, таким образом, представляется некоей иерархией реальных аналогий, в которой, по словам Дионисия Ареопагита, «каждый чин иерархии по мере своих сил принимает участие в делах Божественных, совершая благодатью и силою, дарованной от Бога, то, что находится в Божестве естественно и вышеестественно». Итак, вся тварь призвана к совершенному соединению с Богом, которое совершается «синергией», взаимодействием воли тварных существ и идей-волепий Божественных. У Дионисия «творение» так сближено с «обожением», что мы с трудом можем отличить первозданное состояние твари от ее конечной цели — соединения с Богом. Впрочем, если это соединение предполагает, по Дионисию, «взаимодействие» и согласованность воль, а значит — свободу, то первозданное состояние тварного космоса можно воспринимать как неустойчивое совершенство, в котором полнота соединения не была еще достигнута и в котором тварь должна была возрастать в любви, чтобы полностью исполнить Божественное о ней смотрение. Эту мысль развивает святой Максим Исповедник, для которого тварь определяется прежде всего как существо ограниченное, то есть он видит цель твари вне ее самой: в том, что она стремится к чему-то, что она в вечном движении. Где разнообразие и множественность — там движение. Все находится в движении в тварном мире, как в умозрительном, так и чувственном. Это ограничение и движение порождают категории пространства и времени. Один Бог остается в абсолютном покое, и совершенная Его «неподвижимость» ставит Его вне времени и пространства. Если мы, говоря о Нем в Его отношениях к тварному, приписываем Ему движение, мы хотим сказать, что Он порождает в тварных существах любовь, которая заставляет их к Нему устремляться, что Он к Себе их привлекает, «желая, чтобы Его желали, и любя, чтобы Его любили». Его воля для нас — тайна, ибо воля есть отношение к другому, а ведь нет ничего другого, кроме Бога; творение «из ничего» для нас непонятно. Мы знаем волю Божию лишь постольку, поскольку она является Его отношением к миру уже сотворенному. Она — точка соприкосновения между бесконечным и конечным, и в этом смысле Божественные воления являются творческими идеями вещей, их «словами», их «логосами». Несмотря на терминологическое тождество, эта «слова» имеют мало общего с стоиков. Это скорее те творческие и провидящие «слова», которые мы находим в книге Бытия и Псалмах (Пс. 147). Всякая тварная вещь имеет точку соприкосновения с Божеством: это — ее идея, ее причина, ее «логос», который одновременно есть и цель, к которой она устремлена. Идеи индивидуальных вещей содержатся в высшей и более общих идеях, как виды в роде. Все вместе содержится в Логосе — втором Лице Пресвятой Троицы, Который есть первоначало и конечная цель всего тварного. Здесь в Логосе, Боге-Слове, подчеркивается Его домостроительство, что характерно для доникейского богословия: Он есть выражение Божественной воли, ибо именно Им Отец сотворил всяческая в Духе Святом. Рассматривая природу вещей тварных, пытаясь проникнуть в смысл их существования, мы в конце концов приходим к познанию Логоса, причинного «Начала», но одновременно и «Конца» всего существующего. Все было сотворено Логосом, Который представляется Божественным средоточием, очагом, откуда исходят творческие лучи, частные «логосы» отдельных существ, средоточием, к Которому в свою очередь тварные существа устремляются как к своей конечной цели. Ибо тварь уже в своем первозданном состоянии была разлучена с Богом, так как обожение, соединение с Богом было ее целью, ее конечным завершением. Итак, первозданное блаженство не было состоянием обоженным, но известным к нему предрасположением, совершенством твари устроенной и устремленной к своей цели. Открывая Себя в творческих идеях-волениях, Бог может познаваться в тварном и через тварное, но Он может быть также познан непосредственно в мистическом созерцании, в Своих нетварных энергиях, в сиянии Своего Божественного Лица. Так Христос явился апостолам в сиянии Своего Божества на горе Фаворе; таким же образом Он дал познавать Себя святым, отрешившимся от мира, отказавшимся от всякого познания вещей конечных, чтобы достигнуть единения с Богом. Поэтому, от всего отказавшись, святые получают совершенное познание вещей тварных, ибо, восходя к созерцанию Бога, они познают одновременно всю область бытия в его первопричинах, которые суть идеи-воления Божий, содержимые в Его простых энергиях. Это напоминает нам экстаз святого Бенедикта Нурсийского, который увидел весь мир как бы собранным в луче Божественного света. Все было создано Логосом. Евангелист Иоанн говорит об этом: «Все через Него начало быть» (Ин. 1, 3), и мы это повторяем в Символе веры: «Имже вся быша». Но тот же Никейский Символ учит, что небо, земля и все видимое и невидимое сотворил Отец, а дальше Дух Святой назван «животворящим», . «Отец творит Словом в Духе Святом,— говорит святой Афанасий,— ибо где Слово, там и Дух. И творимое Отцом — через Слово от Духа имеет силу бытия. Ибо так написано в 32-м псалме: «Словом Господним небеса утвердишася и духом уст Его вся сила их». Это — домостроительное проявление Святой Троицы: Отец, действующий через Сына в Духе Святом. Поэтому св. Ириней Лионский и называет Сына и Духа «двумя руками Божиими». Творение есть общее дело Пресвятой Троицы, но три Лица являются причинами тварного бытия различным, хотя и единым образом. Когда святой Василий Великий говорит о сотворении ангелов, он следующим образом высказывается о проявлении трех Лиц в деле творения: «В творении же их представляй первоначальную причину сотворенного ( ) — Отца и причину зиждительную () — Сына и причину совершительную () — Духа; так что служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся же в бытие действом Сына и совершаются в бытии присутствием Духа». Это общее действие Святой Троицы, представляющееся как двойное домостроительство Слова и Духа — зиждительное и совершительное — сообщает твари не только бытие, но и «благобытие» — способность жить по благу, то есть совершенство. Восточное предание не знает «чистой природы», к которой бы благодать «прибавлялась» как сверхъестественный дар. Для нее не существует «нормального» состояния естества, ибо благодать включена в самый творческий акт. Превечные определения «Божественного Совета» — Божественные идеи — не соответствуют той сущности вещей, какой она представляется так называемому естественноспекулятивному мышлению, например мышлению Аристотеля или любого другого философа, знающего только природу падшую. Таким образом, для восточного богословия «чистая природа» есть философская фикция, не соответствующая ни первозданному состоянию твари, ни ее теперешнему «противо-природному» состоянию, ни ее обоженному состоянию будущего века. Созданный для того, чтобы быть обоженным, мир динамичен, устремлен к своей конечной цели, предопределенной Божественными идеями-волениями. Они сосредоточены в Слове, Ипостасной Премудрости Отчей, Которая во всем Себя выражает и все к соединению с Богом в Духе Святом приводит. Ибо нет «естественного блаженства» для той твари, у которой не может быть иной цели, кроме как обожение. Разница, которую пытаются установить между состоянием, в котором должны были пребывать первозданные существа по своей природе, и состоянием, сообщающим им все возрастающее приобщение к Божественным энергиям,— один только вымысел. Действительно, такое различение стремится расторгнуть неделимую и двустороннюю реальность: 1) тварные существа одарены способностью уподобляться Богу, ибо 2) таково их назначение. В книге Бытия говорится, что небо и земля и вся вселенная были сотворены «в начале». Для святого Василия Великого это — начало времени. Но, «как начало пути еще не путь и начало дома еще не дом, так и начало времени еще не время и даже не самомалейшая часть времени». Если Божественная воля сотворила «в начале», это значит, что «ее действие было мгновенным и вневременным». Но вместе со вселенной начинается и время. По учению святого Максима Исповедника, движение, изменение, свойственные тварному, которое само произошло от изменения, производит время — форму бытия чувственного (). Это то время, которое начинается, продолжается и кончится. Но есть еще и другая вневременная форма тварного существования, свойственная бытию сверхчувственному (). Это—эон (). «Эон,—говорит святой Максим Исповедник, — это неподвижное время, тогда как время — это эон, измеряемый движением». Сверхчувственное не превечно; оно берет свое начало «в веке» — , переходя из небытия в бытие, но оно остается без изменений, как причиненное вневременному образу бытия. Эон находится вне времени, но, имея, как и оно, начало, он соразмерен времени. Только вечность Божества неизмерима, в это относится как ко времени, так и к зону. По учению святого Василия Великого, в таких вневременных условиях Бог сотворил мир ангельский. Поэтому ангелы не могут более впадать в грех: их непреложная «прилепленность» к Богу или их от Него отвращение свершились мгновенно и на веки, в самый момент их сотворения. Для святого Григория Нисского, как и для святого Максима Исповедника, ангельская природа тем не менее может бесконечно возрастать в стяжании вечных благ, в непрерывном движении, свойственном всему тварному, но исключающем всякую последовательность во времени. Природа материи, по учению святого Григория Нисского, воспринятому святым Максимом Исповедником, является результатом соединения простых качеств, сверхчувственных в отдельности, но их совокупность, взаимодействие, конкретное проявление производит субстрат вещей чувственных, производит их телесность: «Из рассматриваемого в теле ничто само по себе не есть тело; ни наружный вид и цвет, тяжесть и протяжение и количество и всякое иное видимое качество, в напротив того, каждое из них есть понятие: взаимное же их стечение и соединение между собою () делается телом». Эта динамическая теория материи позволяет постигнуть различные степени материальности, тела более или менее материальные; она также объясняет как изменение, происшедшее в первоначальной природе после грехопадения, так и воскресение тел. Элементы материи переходят из одного тела в другое таким образом, что вселенная представляет собой единое тело. Все существует одно в другом, говорит святой Григорий Нисский, и все вещи взаимно друг друга поддерживают, ибо претворяющая сила в некоем вращении заставляет беспрестанно переходить одни земные элементы в другие, чтобы привести их снова к их исходной точке, «Таким образом, в этом круговороте ничто не уменьшается и не увеличивается, но все остается в своих первоначальных размерах». Однако каждый элемент тела «охраняется, как стражем», разумной способностью души, отмечающей его своей печатью, ибо душа знает свое тело даже тогда, когда его элементы рассыпаны по всему миру. Таким образом, в условиях смертности, после грехопадения, духовная природа души сохраняет некоторую связь с разобщенными элементами тела, которые она сумеет найти по воскресении, для того, чтобы они превратились в «тело духовное» — в наше истинное тело, отличное от грубой телесности — от «кожатных риз», данных Богом Адаму и Еве по грехопадении. Конечно, космология греческих отцов воспроизводит картину вселенной, свойственную науке того времени. Но это нисколько не обесценивает чисто богословской основы их комментариев к библейскому повествованию о сотворении мира. Богословие Православной Церкви, а оно всегда богословие сотериологическое, никогда не вступало в союз с философией с целью построения «научного синтеза». Несмотря на все свое богатство, у восточной религиозной мысли не было своей схоластики. Если в ней и имеются элементы христианского гносиса, как у святого Григория Нисского, святого Максима Исповедника или в «Физических и богословских главах» святого Григория Паламы, эти философские теории всегда подчиняются центральной идее соединения с Богом и не становятся типичными системами. Не оказывая особого предпочтения какойлибо одной философской системе, Церковь всегда вполне свободно пользуется философией и другими науками с апологетическими целями, но она никогда не защищает эти относительные и изменчивые истины, как защищает непреложную истинность своих догматов. Вот почему космологические учения, как древние, так и современные, нисколько не затрагивают более основных истин, Богооткровенных Церкви: «Достоверность Священного Писания простирается далее пределов нашего разумения»,— говорил митрополит Филарет Московский. Если в представлении о вселенной, усвоенном человечеством с эпохи Возрождения, земля и является атомом, затерявшимся среди других бесчисленных миров в бесконечных пространствах, богословию нет нужды что-либо изменять в повествовании книги Бытия, так же как и заниматься вопросом о спасении душ обитателей Марса. Для него Откровение по существу своему геоцентрично, как обращенное к людям, как раскрывающее Истину, необходимую для их спасения в условиях реальной земной жизни. Богомыслие святых отцов в притче о Добром Пастыре, Который спускается с высот, оставляя там девяносто девять овец, чтобы найти одну овцу заблудившуюся, видит намек на всю малость падшего мира по сравнению со всем космосом, и в частности с ангельскими зонами. Церковь открывает нам тайну нашего спасения, а не «секреты» той вселенной, которая, может быть, и не нуждается в спасении. Поэтому космология Откровения — неотъемлемо геоцентрична. Поэтому также и коперниковская космография, с точки зрения психологической или, вернее, духовной, соответствует состоянию разбросанности, известной религиозной рассеянности, ослабленности сотериологического аспекта, как в гносисе или оккультных системах. Ненасытимый дух познания, беспокойный ум Фауста, сосредоточившись на космосе, разбивает слишком узкие для него небесные сферы, чтобы ринуться в бесконечные пространства и в поисках синтетического познания мира в них затеряться; его внешнее познание, ограниченное областью становления, может объять целое лишь в его аспекте распада, соответствующего состоянию нашей природы после ее падения. Но христианский мистик, наоборот, входит в самого себя, затворяется во «внутренней клети своего сердца» и обретает там в глубинах, «куда не проникал грех», начало того восхождения, в котором мир будет казаться ему все более и более единым, все более и более сосредоточенным, пронизанным духовными силами, образующим содержащееся в руке Божией единое. Мы можем указать на любопытную попытку одного современного русского богослова, отца Павла Флоренского, который был также и крупным математиком, вернуться к геоцентрической космологии, основываясь на научных теориях нашего времени. Не стоит говорить о том, что этот смелый и возможно, с научной точки зрения вполне приемлемый синтез не представляет особой ценности для христианского богословия, вполне допускающего любую научную теорию мироздания, лишь бы она не переходила положенных ей границ и не принималась дерзко отрицать то, что находится вне поля ее зрения. Мы коснемся космологии, или, скорее, космологии святых отцов только для того, чтобы извлечь оттуда некоторые богословские мысли, входящие в учение о соединении с Богом. Шестидневное творение, как святому Василию Великому в его «Беседах на Шестоднев», так и святому Григорию Нисскому, дополнившему этот его трактат, представляется последовательным «отделением» стихий, одновременно созданных в первый день. Святой Василий Великий видит в этом первом дне «начало», «первую мгновенность» тварного, словно бы оно «вне сего седмичного времени», так же как и «день осмый», который мы празднуем в день воскресения и который будет началом вечности, днем Воскресения. В течение пяти дней, следующих за сотворением элементов сверхчувственных и чувственных — сотворения неба и земли — мир видимый благоустраивается, но это постепенное упорядочивание, по учению святого Григория Нисского, существует только для тварного. Оно управляется «светозарной силой», которой Бог пронизывает материю и которая есть те Его слова («логосы-воления» святого Максима Исповедника), те Его повеления творимым вещам, о которых повествует книга Бытия. Ибо слово Божие, как говорит Филарет, митрополит Московский, «не похоже на слова человеческие, кончающиеся и исчезающие в воздухе, как только сходят с уст. В Боге нет ничего, что исчезало бы и что бы рождалось. Его слова исходят, но не преходят. Он сотворил не на некоторое время, а навсегда. Он привел тварь к бытию Своим творческим словом. «Ибо утверди вселенную, яже не подвижится» (Пс. 92, 1)». Святой Исаак Сирии отмечает, что в творении есть некая таинственная различная модальность Божественной деятельности; если, сотворив небо и землю, Бог в последовательных приказаниях повелевает материи производить все разнообразие тварного, то мир ангельских духов он сотворяет «в молчании». Так же и сотворение человека не есть следствие данного земле повеления, как сотворение остальных живых существ: Бог не приказывает, а говорит Себе в Своем Превечном Совете: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему». Своими повелениями Бог разделяет мир и устрояет его части; но ни ангелы, ни человек не являются, собственно, частями, они—существа личностные. Личность не часть какого-либо целого, она заключает целое в себе. Согласно этому образу мыслей человек полнее, богаче, содержательнее ангельских духов. Поставленный на грани умозрительного и чувственного, он сочетает в себе эти два мира, будучи причастен всем сферам тварной вселенной. «В него, как в горнило, стекается все созданное Богом, и в нем из разных природ, как из разных звуков, слагается в единую гармонию». По учению святого Максима Исповедника, сотворение мира состоит из пяти «отделений», создающих концентрические сферы бытия, в средоточии которых стоит человек, потенциально все их в себе содержащий. Прежде всего следует различать природу нетварную и природу тварную, Бога и всю совокупность твари. Затем тварная природа делится на мир умозрительный и мир чувственный (). В чувственном мире небо отделено от земли (). Из всей поверхности земли выделен рай (), место, где обитал человек. И наконец, человек разделяется на два пола — мужской и женский, то разделение, которое окончательным образом завершается в падшей природе после грехопадения. Это последнее разделение совершено Богом как бы в предвидении грехопадения, согласно учению святого Максима Исповедника, повторяющего здесь святого Григория Нисского: «Существо, начавшееся с изменения,— говорит последний,— сохраняет сродство с изменением. Вот почему Тот, Который, по слову Писания, видит все вещи до их рождения, рассмотрев, или, вернее, предусмотрев по предвосхищающей силе Своего ведения, в какую сторону мог бы уклониться свободный и независимый выбор человека, как только Он увидел, что из этого могло бы произойти, «надбавил» к образу разделение на мужской пол и женский; это разделение не имеет никакого отношения к Божественному Первообразу, но оно, как уже говорилось, связано с неразумной природой». Но здесь богословская мысль теряет свою четкость и не может быть ясно выражена: переплетаются два плана—-план сотворения и план падения, и мы можем воспринимать первый только сквозь аспект, свойственный второму, то есть воспринимать проблему пола в том виде, в каком она проявляется в падшей природе человека. Истинное значение этого последнего таинственного разделения можно усматривать там, где пол преодолевается в новой полноте — в мариологии, в экклезиологии, а также в таинстве брака и «ангельском образе» монашества. Как это последнее, так и все остальные разделения вследствие грехопадения обрели характер ограниченности, разрыва и раздробленности. По учению святого Максима Исповедника, первый человек был призван воссоединить в себе всю совокупность тварного бытия; он должен был одновременно достигнуть совершенного единения с Богом и таким образом сообщить состояние обожения всей твари. Ему нужно было прежде всего в своей собственной природе преодолеть разделение на два пола путем бесстрастной жизни по Первообразу Божественному. Затем он должен был соединить рай со всей землей, то есть, нося всегда рай в себе в силу своего постоянного общения с Богом, он должен был превратить в рай всю землю. После этого ему предстояло уничтожить пространственные условия не только для своего духа, но также и для тела, соединив землю и небо, то есть весь чувственный мир. Перейдя границы чувственного, он должен был затем путем познания, равного познанию духов ангельских, проникнуть в мир сверхчувственный, чтобы соединить в себе самом мир сверхчувственный и чувственный. Наконец, не имея ничего вне себя, кроме одного Бога, человеку ничего не оставалось бы, как полностью себя Ему отдать в порыве любви и вручить Ему всю вселенную, соединенную в его человеческом существе. Тогда Сам Бог, со Своей стороны, отдал бы Себя человеку, который по этому дару, то есть по благодати, имел бы все то, что Бог имеет по природе. Таким образом свершилось бы обожение человека и всего тварного мира. Так как эту миссию, данную человеку, не выполнил Адам, то мы можем проразумевать ее в деле Христа — Нового Адама. Таково учение святого Максима Исповедника о разделениях тварного, частично заимствованное у него Иоанном Скотом Эригеной в его «De divisione nature». Эти разделения выражают у святого Максима ограниченный аспект тварного, который его самого и обусловливает. Одновременно они — проблемы, подлежащие разрешению, препятствия, которые необходимо преодолеть на пути к единению с Богом. Человек — не такое существо, которое было бы отделено от остальной твари; по самой своей природе он связан со всем миром, и апостол Павел свидетельствует о том, что вся тварь с надеждою ожидает будущей славы, которая должна открыться в сынах Божиих (Рим. 8, 18—22). Ощущение «космического» никогда не было чуждо духовному аспекту Восточной Церкви. Оно выражается как в богословии, таки в литургической поэзии, в иконографии, а может быть, главным образом в аскетических творениях учителей духовной жизни: «Что такое сердце милующее?» — спрашивает себя святой Исаак Сирин и отвечает: «Возгорание сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или Видеть какого-нибудь вреда, или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились они и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его, по уподоблению в сем Богу». На пути своего соединения с Богом человек не отстраняет от себя тварного, но собирает в своей любви весь раздробленный грехом космос, чтобы был он в конце преображен благодатью. Греческие отцы говорят, что человек был сотворен в последний день для того, чтобы войти во вселенную как царь в свои чертоги. «Как священник и пророк», добавляет Филарет, митрополит Московский, придавая библейской космологии литургический аспект. Для этого великого богослова прошлого века сотворение мира уже предуготовляет Церковь, которая предначинается в земном раю, с первыми людьми. Богооткровенные книги являются для него священной историей мира, которая начинается с сотворения неба и земли и кончается новым небом и новой землей Апокалипсиса. История мира есть история Церкви — мистической основы мира. Православное богословие последних веков по существу своему экклезиологично. Именно догмат о Церкви является в настоящее время тем тайным двигателем, который определяет мысль и религиозную жизнь в Православии. Все христианское Предание без всякого изменения или модернизации представляется ныне в этом новом экклезиологическом аспекте, ибо христианское предание — не неподвижный и косный архив, но сама жизнь Духа Истины, наставляющего Церковь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что космология обретает в настоящее время известный экклезиологический оттенок, который отнюдь не противоречит христологической космологии такого отца, как святой Максим Исповедник, а наоборот, придает ей новую ценность. Даже на путях, наиболее отклоняющихся от Предания, даже в своих заблуждениях, мысль христианского Востока последних веков — ив особенности русская религиозная мысль — отражает стремление рассматривать тварный космос в экклезиологическом аспекте. Эти мотивы можно найти в религиозной философии Владимира Соловьева, в которой космическая мистика Якова Бёме, Парацельса и Каббалы переплетаются с социологическими идеями Фурье и Огюста Конта; в эсхатологическом утопизме Федорова, в хилиастических чаяниях социального христианства, и, наконец, в софиологии отца Сергия Булгакова, как неудавшейся экклезиологии. У этих мыслителей идея Церкви смешивается с идеей космоса, и идея космоса дехристианизируется. Но заблуждения также иногда свидетельствуют об истине, хотя и косвенным, отрицательным образом. Если идея Церкви как среды, в которой совершается единение с Богом, уже включена в идею космоса, это еще не означает, что космос является Церковью. Нельзя относить к происхождению то, что принадлежит призванию, завершению, конечной цели. Мир был создан из ничего одной только волей Божией, это — его начало. Он был создан для сопричастия полноте Божественной жизни, это — его призвание. Он призван осуществить это соединение в свободе, то есть в свободном согласовании воли тварной с волей Божественной, это — внутренне связанная с творением тайна Церкви. Сквозь все превратности, последовавшие за падением человека и разрушением первой Церкви — Церкви райской—тварь сохраняет идею своего призвания и одновременно идею Церкви, которая во всей полноте осуществляется наконец после Голгофы, после Пятидесятницы, как Церковь в собственном смысле слова, как несокрушимая Церковь Христова. Отныне мир тварный и ограниченный носит в себе новое тело, обладающее нетварной и неограниченной полнотой, которую мир не может вместить. Это новое тело есть Церковь; полнота, которую она содержит, есть благодать, преизобилие Божественных энергий, которыми и ради которых был создан мир. Вне Церкви они действуют как внешние определяющие причины, как Божественные произволения, созидающие и охраняющие тварное бытие. Только в Церкви, в едином Тело Христовом они сообщаются, подаются людям Духом Святым; именно в Церкви энергии — это благодать, в которой тварные существа призваны соединиться с Богом. Вся вселенная призвана войти в Церковь, стать Церковью Христовой, чтобы, по совершении веков, преобразиться в вечное Царство Божие. Из ничего сотворенный мир находит свое завершение в Церкви, где тварь, выполняя свое призвание, обретает непоколебимое свое утверждение.