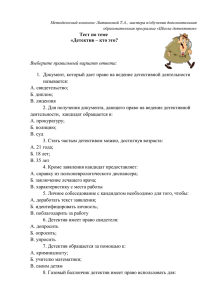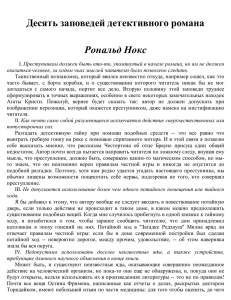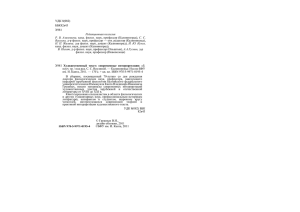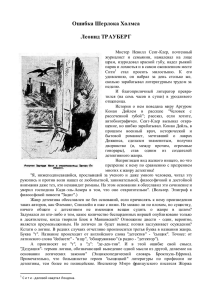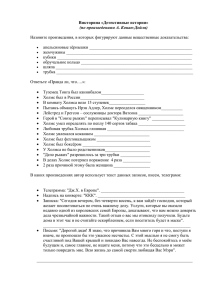Александр Генис
реклама

Александр Генис Явление героя Поиски жанра Главы из книги: “Вавилонская башня: искусство настоящего времени” Явление героя Для меня современность начинается с развилки, разделившей культуру на два враждующих лагеря. Этот роковой перекресток охраняет один из самых важных литературных героев — Шерлок Холмс. Он стоит у завершения долгой и славной традиции. Учитывая его рост, это даже не точка, а восклицательный знак, который европейская словесность поставила на полях мировой культуры. Рассказы о Холмсе — свернувшаяся в клубок литературная вселенная, ее белый карлик. Выродившийся космос просветительского, романтического и реалистического романа наделил детектив своей энергией, но не способностью к продолжению рода. Поэтому хороший детектив всегда должен сохранять хронологическую дистанцию между читателем и героем. Этот ностальгический жанр — пришелец из мира иной психологии. Любая подробность холмсианы ценна, как пыль веков, как черепок, как руины рухнувшего храма, который тем нам дороже, чем меньше мы верим в свою способность его отстроить. Холмс — последний холм на покатой равнине. Его мир еще работает как часы. Ни разу не опоздал ни один из тех бесконечных поездов, на которых сыщик разъезжает в каждом рассказе. Ни разу не задержалась телеграмма, не было случая, чтобы не оказалось под рукой кеба, или полицейского, или свежего выпуска газеты, или чистого воротничка. В критическую минуту Холмс всегда может положиться на свою цивилизацию. Как писал верный друг Холмса Честертон, тот, кто борется с преступниками, защищает цивилизацию от анархии. В этом — романтический пафос детектива, ибо “нет приключений романтичнее и мятежнее, чем сама цивилизация”. Однако романтизм детектива рационалистический: тут ничего не остается на долю случая, судьбы, рока. У Достоевского все случайно встречаются друг с другом. В “Докторе Живаго” без таких случайных встреч, происходящих с уже комическим постоянством, не осталось бы сюжета. А вот Шерлок Холмс сидит на месте и ждет звонка в дверь. Преступление здесь отклонение от нормы, которое лучше всего подчеркивает ее этическое и эстетическое достоинство. В сочинениях доктора Уотсона последний раз расцвел идеал внятной и разумной вселенной, этой блестящей утопии XIX века, которую сплетали железнодорожные рельсы и телеграфные провода. То-то Холмс не отходит далеко от почты и вокзала. Зато отдыхать он отправляется в Корнуолл: дикая глушь, холод, туман, непогода, безлюдье, а главное — торфяные болота. Ну что может быть здесь заманчивого для открывших комфорт британцев? И все же Холмса так и тянет к этим торфяникам. Наверное, на заболоченных пустошах, где единственное жилье — пещеры неандертальцев, Холмс острее чувствует центральную оппозицию своей культуры — антитезу между природой и цивилизацией. Природа для него враг. Он не просто горожанин — он воинственный защитник города, его рыцарь. Тот же Честертон назвал детектив первоисточником городской поэзии. Романтизм Холмса связан не с пейзажем, а с ведутой [В конце XVIII—начале XIX вв. — горный пейзаж, обычно топографически точный. - Прим. автора]. Греется он не у костра, а у камина, охотится не в лесу, а в трущобах — в свете фонаря, а не луны. Природа была для Холмса языческим эпосом, архаическим преданием, заповедником звериных страстей. То-то в торфяниках бродит чуть ли не динозавр — собака Баскервилей! Холмс — памятник психологическому роману. Он отпочковался от того вида эпического реализма, который больше всего интересовался сюжетом, видя в нем метафору, если не слепок человеческой жизни. Холмс — это эпилог к Бальзаку и Диккенсу. В нем сконцентрировалась повествовательная энергия XIX века, нескромно, но и не без оснований считавшего себя вершиной истории. Детектив — признак как социального, так и литературного здоровья. Он удобен тем, что обнажает художественные структуры. В принципе любое преступление — это идеальный в своей наготе сюжет. Каждая следственная версия тождественна психологическому мотиву. За нашим жадным любопытством к уголовным процессам стоит надежда проникнуть в тайну личности — и чужой, и своей. Сама процедура сыска есть философский дискурс вроде сократического диалога, где методом проб и ошибок выясняется истина о человеке. К тому же детектив питается уликами, что вынуждает читателя не пренебрегать подробностями. Здесь все плотно увязано в один узел. Никаких нестреляюших ружей — любая деталь может оказаться решающей и для жизни, и для сюжета. Для своего “Улисса” Джойс мечтал о читателе с неизлечимой бессонницей, но мог бы удовлетвориться и любителем детективов, который, уподобляя себя либо сыщику, либо преступнику, не спускает с автора глаз, справедливо ожидая подвоха в каждом абзаце. Эта повышенная алертность уходит в прошлое вместе с самим детективом. Новое поколение слишком быстро утомляется сложным сюжетом. Оно предпочитает полицейскую драму, где от зрителя ничего не скрывают. В Америке детектив становится респектабельным жанром — на нем даже заиграли отблески благородной старины: хрусталь, серебро, голые плечи, застольные манеры. Однажды я видел постановку Агаты Кристи, где довоенный английский быт реконструировался с такой изысканной точностью, что даже мусор в фильме был подчеркнуто серым, бесцветным, удивляя современного зрителя, привыкшего к ярким и аляповатым оберткам. Увы, любование фоном, окраиной текста, как всякая стилизация, предвещает жанру близкую смерть. Поиски жанра Шерлок Холмс относился к сверхъестественному с демонстративным безразличием. Зато сам Конан Дойл с неукротимой энергией проповедовал веру в контакты с потусторонним миром. Он считал спиритизм отраслью науки, которая наконец соединит реальность физическую с метафизической. Конан Дойл писал: “Вместо ада и рая спиритизм предлагает концепцию постепенного подъема по лестнице бытия без тех падений и взлетов, которые мгновенно превращают человека либо в ангела, либо в демона”. По сути, тут изложена программа развития человека, перешагивающего через смерть, чтобы продолжить свое существование в иных мирах. И программа эта — в викторианском духе — эволюционная. Спор души с телом рассматривался как практическая задача, решением которой и занимались медиумы на своих спиритических радениях. Когда мой отец лежал в больнице с инфарктом, умер его сосед по палате — пожилой полицейский. Но врачам удалось вернуть его из состояния клинической смерти. Тут же прибежали люди с магнитофонами, которые записали посмертные впечатления пациента. Оказывается, в каждой американской больнице есть особый отдел, собирающий такие сведения в надежде превратить метафизику в экспериментальную науку. А пока информацией о посмертном опыте пользуются врачи, психологи, священники и гробовщики. Тот полицейский, кстати, посоветовал моему отцу не бояться смерти — сам он теперь к ней готов, только вот за машину надо еще год выплачивать. Несмотря на прагматический, утилитарный дух, по-прежнему отличающий англосаксонскую цивилизацию, и эта больница, и этот полицейский никак не укладываются в мир детектива. Похоже, что наклонностям нашего века больше соответствует другой жанр — фантастика, сохраняющая, отчасти лукаво, отчасти по простоте, эпитет “научная”. Если детектив — это паразит на теле реализма, то фантастика родилась из модернистской литературы, из ее интереса к “дегуманизированному” (по отнюдь не обвинительному термину Ортеги-и-Гасета) искусству. Ведь, в сущности, единственная тема фантастики — контакт с неземным разумом. В переводе с научно-фантастического жаргона получается теологическая проблема — кто кого сотворил по своему подобию: человек Бога или Бог человека? Фантастика, стремясь избавиться от антропоморфизма, заражала читателя мечтой о диалоге. За популярностью этого жанра стоит страстное желание вырваться из человекоподобного мира, из своей судьбы, из нашей шкуры и — оглянуться, посмотреть на себя со стороны чужими глазами. Для того и надо найти другого и наладить с ним контакт. Метафизика для бедных, фантастика питается остатками целостного религиозного сознания, которое она противопоставляет позитивизму детектива. Как XX век перечеркивает XIX, так фантастика разрушает детектив. Нагляднее всего этот процесс там, где один жанр прямо на глазах читателя становится другим. Как раз такую книгу и сочинил классик НФ Станислав Лем — это повесть “Следствие”, написанная в утрированно детективном жанре. Не исключено, что Лем забавлялся мыслью спародировать Шерлока Холмса. Во всяком случае, дело происходит в Англии, герой — сотрудник Скотланд Ярда, погода, естественно, туманная. Фабула повести затейлива, но ясна. В маленьких моргах возле сельских кладбищ обнаружены трупы в неестественных позах. Создается впечатление, что кто-то их пытался передвигать либо, что, конечно, интригует куда больше, трупы двигались сами. Итак; в центре повествования, как и положено, мертвецы. Но если в обычном детективе автора интересуют причины смерти героев, а значит, их жизнь, то тут главные действующие (в прямом смысле слова) лица — трупы. Дальше, как и положено, Лем устраивает парад версий, каждая из которых как будто копирует “дедукцию” Холмса, и только в финале книги происходит концептуальный взрыв, разрушающий и отменяющий сам жанр. Детектив имеет дело с конечным процессом; общий набор версий включает и правильную — здесь всегда есть виновник, он же преступник. Фантастика стоит перед беспричинным миром, в котором вместо реальностей одни мнимости. Лем перебирает версии не для того, чтобы найти истинную, а для того, чтобы убедиться в их ложности. На схожем приеме построен удивительный московский театр Анатолия Васильева, где действие происходит не только на сцене, но и в зрительном зале, и в коридоре, и в фойе, и за кулисами. Актеры продолжают играть, когда на них не смотрят, потому что в сценическом действе нет определенного, уникального смысла, к которому бы и сводилась постановка. Театр Васильева — это стрельба веером, так как неизвестно, где мишень. Впрочем, у Лема все ружья не стреляют — все версии не работают. Более того, неизвестно, был ли преступник и было ли преступление. Автор последовательно выдвигает и частично (но только частично!) опровергает серию объяснений феномена “воскрешений”: злоумышленники-маньяки, особый вирус, заставляющий двигаться мертвое тело, пришельцы, изучающие на трупах человеческие реакции. Все эти версии отрабатываются, насколько это можно, но доказать их не удается. Тогда вместо криминальных и научно-фантастических гипотез выдвигаются метафизические. Трупы “оживают” по воле Бога, который последний раз проявлял ее таким образом две тысячи лет назад в Палестине. Тут Лем выдвигает вызывающе оригинальную концепцию спорадически являющегося Бога, — Бога, который существует “иногда”. Но и такая версия, этакое евангелие агностиков, тоже неокончательная. И тогда Лем предлагает еще один, самый провоцирующий вариант: в обычном детективе преступают законы юридические, в этом — физические. Почему мы, собственно говоря, решили, что трупы не должны двигаться? Потому что это противоречит нашим представлениям об устройстве Вселенной? Ну и что? Герой-сыщик, то ли наследник, то ли антипод Шерлока Холмса, в припадке теологического экстаза восклицает: “Математическая гармония Вселенной — это наша молитва, обращенная к пирамиде хаоса. Во все стороны торчат куски бытия, лишенные всякого смысла, но мы считаем их единственными и едиными и ничего другого не желаем видеть”. Между тем мир — это игра статистики, “извечная мозаика случайных узоров”. Лем спихнул читателя с удобного кресла в дикую Вселенную статистических флюктуаций. Из мира детектива, где торжествовала причина, он выгнал нас в пустоту, где не существует ничего определенного, ничего постоянного, ничего повторяющегося. Здесь “все позволено” не только в моральном, но и в физическом смысле. Детектив — апофеоз разумной воли, у Лема же весь пафос — в беспомощности. Мало того, что ни одну версию нельзя окончательно доказать, — автор не дает и любую из них окончательно опровергнуть. Лем утверждает, что мы не можем познать окружающий мир, ибо он не похож на нас. Только наша слабость, страх, комплексы заражают Вселенную антропоморфизмом. Это все равно, что искать часы под фонарем, а не там, где они потерялись. Детектив способен решить только те задачи, которые он сам себе задает. Это сборник упражнений с ответами. Фантастика силится представить себе загадки, заданные другими, загадки без разгадок. Детектив оптимистично обещает, перебрав все возможное, найти искомое. Фантастика заранее обречена на неудачу, так как она пытается исчерпать неиссякаемое. Ее рационалистские иносказания скрывают тягу к инобытию. Под наукообразными эвфемизмами таится надежда на мистическое преображение. Фантастика — это попытка бегства из антропоморфной Вселенной в настоящую. Впрочем, детектив с открытом концом, который Лем использовал для демонстрации своего иронического солипсизма, можно превратить и в занятную игрушку. В популярном американском фильме “Основной инстинкт” совершается ряд убийств, но неизвестно кем. Улики подобраны таким образом, что позволяют обвинить каждого из героев, составляющих любовный треугольник. Есть и еще одна, кажется, незамеченная публикой возможность: преступников может быть несколько, в том числе и тех, о которых не знает зритель, ибо они остались за пределами сюжета. Тайна этого преступления захватила страну. Мне даже приходилось видеть данные социологического опроса — личность убийцы и развязка голливудского детектива определялись всенародным голосованием. Забавный этот трюк, конечно, жанру не поможет. Детектив не приспособлен к жизни в статистической Вселенной, он не может иметь дело со случайным миром — ему нужна бесспорная причинно-следственная связь, которую наш век обеспечить не в состоянии. Как постоянно пишет тот же Лем, эпоха, открывшая массовый терроризм, сняла кардинальную для детектива проблему преступных мотивов: жертвы, например заложники, выбираются случайно. Детектив, плод взыскующего точных знаний разума, волнуют те же вопросы, что и ученых: кто, как, где, когда. Единственный вопрос, занимающий фантастику, заимствован у религии и запрещен наукой — ПОЧЕМУ. На этом разделении сфер с грандиозным успехом сыграл Умберто Эко. В книге “Имя розы” он соединил метафизическую атмосферу с детективным сюжетом. Это роман о приключениях ясного (чистого?) разума в теологическом тумане. Сквозь него, тщательно огибая религиозные истины, и продирается рациональная мысль. В борьбе со злом она доказывает свою бесспорную, хотя и ограниченную поимкой злоумышленника пользу. Однако в книге Лема “Следствие” под сомнением как факт преступления, так и наличие преступника. В счастливом мире Шерлока Холмса всегда можно найти виноватого, у Лема все безнадежно, ибо виновных нет. Мир тут мучается поиском смысла, постоянно спрашивая вместо пустого “как” роковое “почему”. Детектив проблему зла перекладывал на плечи преступника — фантастика возвращается к первоисточнику. В секулярном, в “обезбоженном”, по выражению Хайдеггера, мире нет оправдания зла. Об этом написан лучший роман Лема “Солярис”, который можно толковать и как апологию Бога. Контакт невозможен, поскольку не только человек, стремясь к Богу, не способен постичь Его, но и Бог не может постичь человека. Отсюда рождается трагический образ Бога-импотента, невсемогущего Бога, Бога-неудачника, ущербного Бога, “мука которого не обещает искупления, который никого не спасает, ничему не служит, просто есть”. Текст дается по изданию: Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. / Эссе. — М., “Независимая газета”, 1997, с. 53 - 62. Полный текст книги А. Гениса находится на сайте: http://yanko.lib.ru/books/cultur/genis/genis1.htm