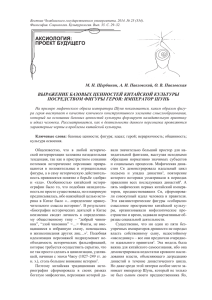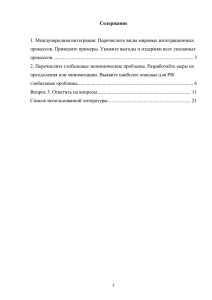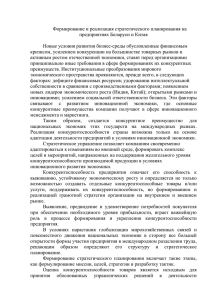В.М.Алексеев и «Поэма о поэте» Сыкун Ту
реклама
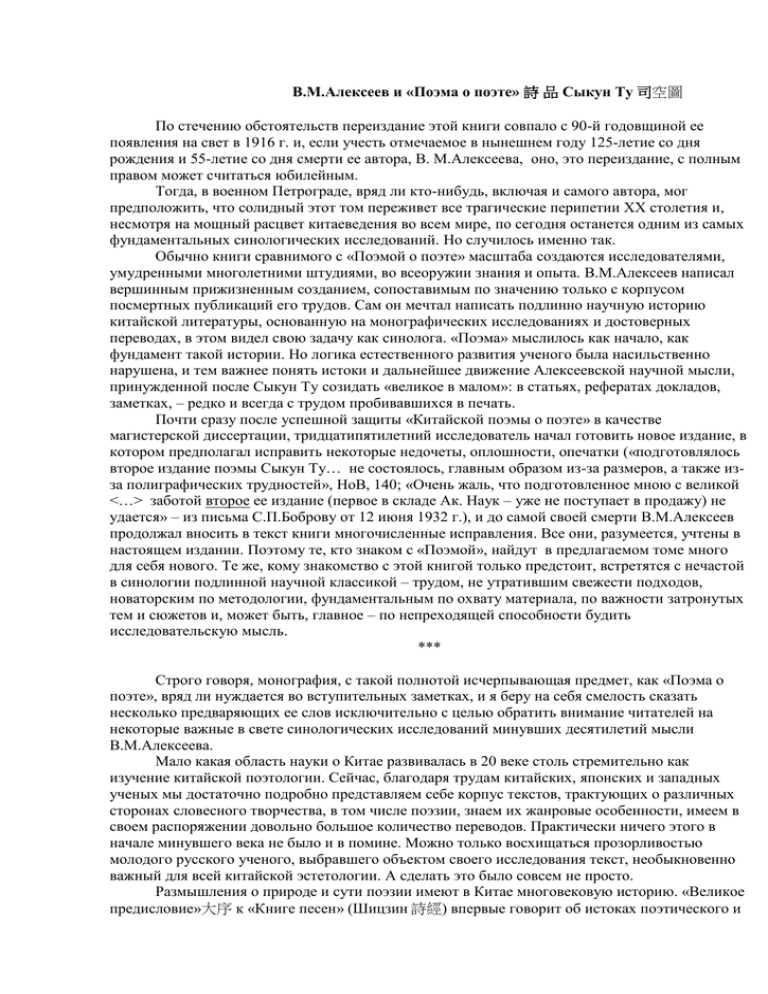
В.М.Алексеев и «Поэма о поэте» 詩 品 Сыкун Ту 司空圖 По стечению обстоятельств переиздание этой книги совпало с 90-й годовщиной ее появления на свет в 1916 г. и, если учесть отмечаемое в нынешнем году 125-летие со дня рождения и 55-летие со дня смерти ее автора, В. М.Алексеева, оно, это переиздание, с полным правом может считаться юбилейным. Тогда, в военном Петрограде, вряд ли кто-нибудь, включая и самого автора, мог предположить, что солидный этот том переживет все трагические перипетии ХХ столетия и, несмотря на мощный расцвет китаеведения во всем мире, по сегодня останется одним из самых фундаментальных синологических исследований. Но случилось именно так. Обычно книги сравнимого с «Поэмой о поэте» масштаба создаются исследователями, умудренными многолетними штудиями, во всеоружии знания и опыта. В.М.Алексеев написал вершинным прижизненным созданием, сопоставимым по значению только с корпусом посмертных публикаций его трудов. Сам он мечтал написать подлинно научную историю китайской литературы, основанную на монографических исследованиях и достоверных переводах, в этом видел свою задачу как синолога. «Поэма» мыслилось как начало, как фундамент такой истории. Но логика естественного развития ученого была насильственно нарушена, и тем важнее понять истоки и дальнейшее движение Алексеевской научной мысли, принужденной после Сыкун Ту созидать «великое в малом»: в статьях, рефератах докладов, заметках, – редко и всегда с трудом пробивавшихся в печать. Почти сразу после успешной защиты «Китайской поэмы о поэте» в качестве магистерской диссертации, тридцатипятилетний исследователь начал готовить новое издание, в котором предполагал исправить некоторые недочеты, оплошности, опечатки («подготовлялось второе издание поэмы Сыкун Ту… не состоялось, главным образом из-за размеров, а также изза полиграфических трудностей», НоВ, 140; «Очень жаль, что подготовленное мною с великой <…> заботой второе ее издание (первое в складе Ак. Наук – уже не поступает в продажу) не удается» – из письма С.П.Боброву от 12 июня 1932 г.), и до самой своей смерти В.М.Алексеев продолжал вносить в текст книги многочисленные исправления. Все они, разумеется, учтены в настоящем издании. Поэтому те, кто знаком с «Поэмой», найдут в предлагаемом томе много для себя нового. Те же, кому знакомство с этой книгой только предстоит, встретятся с нечастой в синологии подлинной научной классикой – трудом, не утратившим свежести подходов, новаторским по методологии, фундаментальным по охвату материала, по важности затронутых тем и сюжетов и, может быть, главное – по непреходящей способности будить исследовательскую мысль. *** Строго говоря, монография, с такой полнотой исчерпывающая предмет, как «Поэма о поэте», вряд ли нуждается во вступительных заметках, и я беру на себя смелость сказать несколько предваряющих ее слов исключительно с целью обратить внимание читателей на некоторые важные в свете синологических исследований минувших десятилетий мысли В.М.Алексеева. Мало какая область науки о Китае развивалась в 20 веке столь стремительно как изучение китайской поэтологии. Сейчас, благодаря трудам китайских, японских и западных ученых мы достаточно подробно представляем себе корпус текстов, трактующих о различных сторонах словесного творчества, в том числе поэзии, знаем их жанровые особенности, имеем в своем распоряжении довольно большое количество переводов. Практически ничего этого в начале минувшего века не было и в помине. Можно только восхищаться прозорливостью молодого русского ученого, выбравшего объектом своего исследования текст, необыкновенно важный для всей китайской эстетологии. А сделать это было совсем не просто. Размышления о природе и сути поэзии имеют в Китае многовековую историю. «Великое предисловие»大序 к «Книге песен» (Шицзин 詩經) впервые говорит об истоках поэтического и о поэтических фигурах; «Ода изящному слову» (Вэнь фу 文賦) Лу Цзи 陸機 трактует о словесности вообще и о стихах на языке поэзии. Много и со знанием дела о природе изящной словесности рассуждали Сяо Тун 蕭統 в предисловии к своему «Литературному изборнику» 文 選(Вэнь сюань»), Лю Се 劉勰 в «Резным драконе литературной мысли»文心雕龍, Шэнь Юэ 沈 約 в трактате о четырех тонах упорядочивший поэтическую просодию. Даже самые специальные из поэтологических трактатов писались стильным языком ритмической прозы, их авторы нередко использовали те же поэтические тропы, которые описывали в своих сочинениях. Более того, если, скажем, основной корпус «Резного дракона» написан ритмической прозой, то каждая глава завершается стихотворной хвалой (цзань 讚), резюмирующей сказанное, в виде, к примеру, таких строк (гл. 26): Дух проницает посредством образов, Чувства изменяют потаенное. Сущности взывают с помощью своих обличий, Сердце отзывается идеей. Отсюда совсем недалеко до «стихов о стихах» (юн ши ши) – или поэтических воспеваний отдельных поэтов и их сочинений, или вполне теоретических пассажей в стихотворной форме, или описаний поэтического вдохновения и самого процесса стихотворчества. Их родоначальником считается Ду Фу (712–770) с его циклом «В шутку написал шесть четверостиший» (Си вэй лю цзюэ цзюй), хотя у других танских поэтов встречаются едва ли не более развернутые характеристики стихотворцев разных эпох. Образцовым в этом поджанре китайская критика считает «Рассуждения о стихах» ( Лунь ши сань ши шоу) – 30 стихотворений поэта династии Северная Сун Юань Хао-вэня (1190–1257) – нечто вроде поэтической истории китайской поэзии, которую он не столько последовательно излагает, сколько, используя намек, отсылку, цитату, выстраивает в ряд стихотворцев разных эпох. Вот, к примеру, шестнадцатое стихотворение, связанное с танским поэтом Юань Чжэнем (на озере Цзяньху тот встретил красавицу по прозванию «Весенний Цветок Цзяньху»): Печальны звуки осенних насекомых, рождается ощущение глубокой древности; У лампы вспоминаются горы, ручьями текут слезы. На озере Цзяньху весной хорошо, но некому написать оду; По обоим берегам – персиковые цветы, на воде – кружение узорчатой ряби. Другая ветвь «стихов о стихах» – разного рода описания поэтического вдохновения и творческого акта сочинительства стихов отчетливее связана с традицией Сыкун Ту, хотя, как правило, не может сравниться с ним в идеальной отвлеченности. Так, знаменитое произведение Гао Ци (1336–1374) «Песня Господина с Зеленого холма» (Цинь-цю цзы гэ) рисует портрет поэта (вероятно не без автобиографических черт), отрешившегося от мирской жизни ради стихов, которые он сочиняет в экстатическом состоянии, весьма напоминающем состояние наития Сыкунова «дао-поэта»: одинокий сидит у воды или бродит по лесу, выпевая стихи, копя в душе юань ци – изначальное семя; рождение и перемены в мире (цзао хуа вань у) не утаивают от него своей сути; бесформенное заставляет он «обрести звук», т.е. проявить себя – и т. д.– все вполне в духе «Поэмы о поэте», но конкретнее, определеннее, с большим числом бытовых деталей (герой «Песни» непричесан, одет в рубище, подпоясанное веревкой, забыл семью – даже плач ребенка не заставит его вернуться в дольний мир) или исторических намеков, упоминаний об известных исторических персонажах и пр. Количественно, среди произведений о поэзии первенствуют, так называемые, «беседы о стихах» (шихуа), впрочем, в жанровом отношении понимаемые достаточно произвольно: скажем, Хэ Вэнь-хуань (18 в.) собрал 27 шихуа от Тан до Мин в сборник Ли дай ши хуа – «Ши хуа в хронологическом порядке» (предисловие от 1770 г.), к которым добавил собственное Ли дай ши хуа као со – «Исследование отобранных в хронологическом порядке ши хуа», и включил туда и «Категории стихотворений» (Ши пинь) Чжун Жуна (468?–518), и «Образцы стихотворений» (Ши ши) монаха Цзяо-жаня (730–790), и Ши пинь Сыкун Ту, – сочинения весьма между собой несходные мало напоминающие традиционные «беседы о стихах». Наконец, практически не поддаются учету разного рода письма о поэзии, предисловия к стихотворным сборникам и антологиям, эссе, заметки о стихах и т. п. Повторю: выбрать из всего этого многообразия именно небольшое по объему сочинение Сыкун Ту было не просто, от исследователя требовались обширные знания и начитанность в традиционной китайской поэтологической литературе и китайской критике; тогдашняя европейская синология мало чем могла помочь. Великое значение «Поэмы о поэте» вовсе не воспринималось специалистами как очевидная данность. Даже весьма квалифицированные оппоненты В.М.Алексеева усомнились во время защиты магистерской диссертации в том, что стоило посвящать тысячестраничное исследование малозаметной фигуре Сыкун Ту. Диссертант уверенно отстаивал собственную позицию: вчитавшись буквально в каждое слово поэмы, уловив путем перекрестных контекстуальных сравнений самомалейшие смысловые оттенки каждого иероглифа, он твердо знал, что поэма – поистине квинтэссенция не только собственно поэтологических воззрений, но и всей китайской культуры. «Подробное изучение поэмы в виде обширного филологического исследования оправдывается, прежде всего, тем, что она представляет собой поэтическое исповедание высшего вдохновения, выраженное китайским поэтом, который завершает собой наиболее блестящий (танский) период китайской поэзии. Кроме того, это своеобразное и единственное явление в китайской литературе родилось именно в виде типа, вернее, типичного синтеза, так как идеалы Сыкун Ту суть идеалы каждого тонкого и глубокого китайского поэта» (с. 027–028). И в последующие годы он не уставал настаивать на исключительном значении поэмы для китайской культуры: «Поэтическое исследование китайского поэта и его вдохновения по поэме 1Х в. (Сыкун Ту) полностью оправдано во всех своих частях и для других эпох, что сообщает поэме Сыкун Ту особое право на как бы научную при всем своем образном языке закономерность и на законное типичное представительство для всей китайской поэзии» (см. «Китайские поэты о поэзии Китая»), а уже в 40-е годы подкрепляет это высказывание мнением известного современного художника Сюй Бэй-хуна: ««Поэма о поэте»… Сыкун Ту есть нечто родоначальное для всей эстетики Китая всех времен» (ТКЛ.1:30). Уместно обратить внимание на весьма проницательное замечание ученого о типе и типичности, понятиях фундаментальных для китайской эстетики. Еще великий историк Сыма Цянь говорил: «Установив однородность, можно различать; установив однородность, можно познать» (лэй кэ эр бань, лэй кэ эр ши. – Ши цзи, гл. 25, Люй шу), – т.е. классификация явлений – важнейший этап их постижения. Истоки этой классификационной парадигмы следует искать в символике «Книги перемен» (Ицзин), графемы которой представляют «небесные образы» вещей, укорененных в классификационных схемах культуры, но не всей их многоразличной совокупности, а сведенных к единственной типовой форме. Именно «категория, тип» (пинь) – основа китайской культуры, поэтому нет явления, будь то картины, человеческие характеры, музыкальные аккорды и пр., которое не рассматривалось бы в наборе типовых форм. В сущности, только типизировав предмет или явление, китайская мысль могла оценить их художественные достоинства. В Китае никого не удивляло, что художника учат рисовать «типы камней» или «типы деревьев»; из того же ряда и типы поэтического вдохновения, воплощенные Сыкун Ту, ибо «Поэма о поэте», – их опоэтизированный каталог. Заметим кстати, что установка на типовую классификацию предопределила, в числе прочего, и бросающуюся в глаза нумерологическую матрицу китайской культуры. Нигде, пожалуй, за пределами Китая не встречаются так часто именования вроде: «девятнадцать древних стихотворений», «восемь стансов об осени», «триста танских стихотворений», «стихи тысячи поэтов» – ряд этот поистине бесконечен. То, что категорий поэтического наития оказывается именно 24, конечно же, тоже не случайность. Не говоря об этом впрямую, В.М.Алексеев своим подробным разбором природных соответствий настроениям идеального поэта «Поэмы», связывает, весьма вероятно, двадцать четыре фазиса вдохновения с двадцатью четырьмя календарными сезонами, столь же причудливо и неуловимо изменчивыми, навевающими трудно передаваемое в словах настроение – «природа представляется … не более выразимою, нежели ее вседержитель, тайное Дао», и далее: «Только природа выражает наитие, создавая ему нечто вроде образа, формы и обстановки» (022), и отчетливее всего в комментарии к стансу ХХ: «Жизнь типов природы имеет сходство (сы) с жизнью Великого Дао в вещах мира» (здесь «вещи мира» – все многообразие неприродных сущностей, к которым принадлежит и поэзия). Уместно сказать о нескольких методологических новациях Алексеева. Идея взять объектом изучения текст, в котором традиция сама себя осмысляет, была необычайно смелой [«…следует начать с изучения китайской поэзии и поэтики как ядра китайской литературы» (см. «Положения к магистерской диссертации приват-доцента В.М.Алексеева…», п. 7) – поэма Сыкун Ту как раз и воплощала собой это двуединство]. И тогда, в начале 20 в., и десятилетия спустя европейская наука мало интересовалась тем, что думают о своей словесности те или иные народы Востока, предпочитая навязывать чужим культурам собственные взгляды и представления, подминая плохо поддающийся внешним концепциям иноязычный материал. В.М.Алексеев, первым уже в «Поэме» наметивший возможности сравнения китайской поэзии и поэтологии с типологически сходными явлениями в поэзии европейской [«Среди известных мне поэтик мира (Аристотель–Гораций–Вида–Буало) поэтика Сыкун Ту занимает то же место, какое занимает вообще отвлеченное мечтание среди риторики и дидактики» (0116)], несмотря на это, он в первую очередь ориентировался на мнение китайских знатоков, комментаторов и критиков, а если возражал им, то только опираясь на китайскую же традицию. Нынче это кажется неотъемлемым и безусловно необходимым элементом работы китаеведа, но В.М.Алексеев не только шел неторным путем, но как бы оппонировал своим авторитетным предшественникам в российской науке о Китае – акад. В.П.Васильеву его ученикам, практически полностью отвергавшим традиционную китайскую науку. Пожалуй, впервые в отечественной синологии с такой полнотой был реализован В.М.Алексеевым подлинный филологический метод исследования, в основе которого – правильно понятое слово изучаемого текста, выяснение его смысла в таком-то сочетании, в таком-то стилистическом окружении и пр. Редко когда можно указать с полной определенностью какой-то единственный смысл слова – речь скорее должна идти о наибольшей или наименьшей вероятности того или иного значения, каковая вероятность устанавливается перебором возможно большего числа контекстов в памятниках иноязычной культуры. В.М.Алексеев подошел к этой задачей с исключительной ответственностью, соединив для ее решения все три возможных подхода: он вчитывался в Сыкун Ту сам, используя собственные знания о китайской культуре, приобретенные при чтении классических текстов, в том числе и того же Сыкуна с китайскими знатоками; внимательно, с уважительным критицизмом пользовался китайскими комментариями; искал в китайских словарях и, главным образом, в конкордансе литературных цитат «Пэй вэнь юнь фу» контексты, позволявшие уловить возможные колебания смыла строк «Поэмы», практически каждое слово которой подверглось подобной операции. Результатом оказался не только понятый, переведенный, парафразированный и со всех возможных сторон исследованный ее текст, но уникальный до сих пор в отечественной науке не превзойденный словарь китайской эстетологии и шире – всей традиционной культуры Китая. Исследование В.М.Алексеева с непреложностью доказало, что поэма Сыкун Ту – некая идеально-нормативная поэтика, воплотившая чаемый традицией, но недостижимый в поэтической практике тип вдохновения и тип стихотворца. В этом небольшом по объему произведении как в фокусе сосредоточились практически все ключевые мотивы китайской культуры, ее, так сказать, нервные узлы. Так, «Поэма о поэте» из станса в станс трактует об актуальнейшей для всей культуры проблеме явленного и скрытого, когда максимальная явленность совпадает с полной сокровенностью, а наибольший результат приносит недеяние. Не пророческий, а основанный в своих архаических истоках на процедуре гадания и последующей интерпретации его результатов тип китайской культуры отвел наиболее значимому область недоговоренного, остающегося «за словом». Известна необыкновенная важная роль притчи, цитаты, иносказания, аллюзии в классической словесности. У Сыкун Ту с его идеальной отвлеченностью, поэтическая практика смысла «за словом», обретает, в свою очередь, облик с трудом постигаемого иносказания. (Впрочем и этот идеальный поэт настолько проникнут идеей цитатности, что исследователь совершенно справедливо видит одну из главных своих задач в отделении в тексте поэмы «чужой» речи от авторской и замечает, что Сыкун, несмотря на лаконизм своей поэмы порой инкорпорирует в нее целые строки из любимого Чжуан-цзы. Дело в том, что «…китайский поэт,.. в первую очередь, есть выразитель своей начитанности, так что, если представляется, вообще, важною задачей историко-литературного исследования отделить собственные мысли данного поэта от его, так сказать, почвенных образований, то тем более важно это сделать при разборе творчества китайского поэта, который весьма часто, по выделении всех заимствований, сводится к малозаметному для нас новому элементу».) С редким мастерством переводчика-толкователя В.М.Алексеев и сохраняет присущую оригиналу недоговоренность, и буквально выуживает, уловляет потаенные смыслы. «…Я даю истолкование строфы в виде основного мотива всей поэмы, а именно: Дао внутри поэта есть свет и полнота, невыразимые в слове, которое их обесцвечивает и делает «не тем»» (станс 1, с. 19) В разных стансах этот мотив воплощается по-разному, но присутствует почти непременно. «Ища в наитии этого типа величия и исчерпывающей сути вещей, поэт не должен углублять его до заумной глубины, помня, что по учению Лао-цзы о Дао, одним из основных его признаков является сверхредкий звук… Его не уловишь в какую-нибудь форму, в образ, в подобие жизни, ибо оно с ним несовместимо: только наложишь свою формообразующую длань – как вдохновение из-под этого пресса уже ушло» (ТКЛ, 2:9). Иначе говоря, главное в стихе, дух его, – не может обрести форму, он «вне слов», «за словом»: «Оное» я не встречаю всей глубью…// Ближе к нему – все бледнее оно…Пусть ему форму и сходство найду я, // крепко схвачу, но оно убежит» (станс П в версии 1947 г., см. ТКЛ, 2:8). Или объяснение к пятой строфе станса Ш: «Чем больше наседать (чэн) на это настроение–впечатление, т.е. чем больше реализовывать его в видимость, форму и слово, тем быстрее оно от человека уйдет» (с. 56) Кульминацией этой темы, а, вероятно, и всей поэмы, можно считать ХП станс, где идея скрытности, потаенного смысла обретает почти терминологическое оформление в понятии «хань сюй», вынесенное в заглавие станса и переведенное В.М.Алексеевым как «таящееся накопление», или, в парафразе, «вдохновение, накопленное и таящееся внутри». Словарно– контекстуальный этюд этого понятия, как и перевод, и парафраз всего станса – из самых блестящих в алексеевской книге. Почти формула первой строки – «Не ставя ни одного знака, // Исчерпать могу дуновенье-текучесть», – обретает в парафразе пронзительную ясность понимания сути китайской поэзии: «Поэт, не единым словом того не обозначая, может целиком выразить живой ток своего вдохновения. Слова стиха, например, как будто к нему не относятся, а чувствуется, что ему не преодолеть печали». Традиционная критика говорила в таких случаях о «вкусе вне вкуса» и всячески превозносила поэтов способных воплотить свои чувства поверх и помимо слов. Не понимая сущности «хань сюй», невозможно постичь, к примеру, почему знатоков так восхищало простенькое четверостишие Ли Бо, по видимости, просто перепевающее старую тему брошенной государевой наложницы: «Яшмовое крыльцо рождает белую росу;/ Ночь длится… Полонен шелковый чулок./ Вернуться, опустить воднохрустальный занавес –/ Звеняще-прозрачный… созерцать осеннюю луну», – а между тем один из критиков восхищенно говорит, что «эти двадцать слов, живо описывающих настроение женщины, которая томится в тоске, и расположенных так, что первые стихи дают понять, что ей и уходить не хочется и на месте не стоится, а вторые — что ей и не сидится и не лежится; — что эти два десятка слов стоят двух тысяч»; другой критик указывает на то, что, кроме заглавия – «Тоска на яшмовых ступенях», – ничто здесь не называет той тоски, о которой речь, но она таится где-то позади слов. Не случайно Сыкун Ту видел в творчестве Ли Бо наиболее полное воплощение своего идеала Дао-поэта. Но и такой поэт «прямого высказывания», как Бо Цзюй-и, нередко превозносится критиками именно за стихи «с двойным дном». Так, в «Образцах танских и сунских стихов» (Тан Сун ши шунь) циньский Гао Цзун-ай, например, особо выделяет в цикле «Ропот» два стихотворения из трех именно за то, что их «смысл, идея – вне слов». Кстати, еще один из ранних поэтологов знаменитый Чжун Жун (У1 в.), многократно помянутый В.М.Алексеевым как автор первых «Категорий стихотворений», говоря о трех поэтических приемах – фу, би, син, – подчеркивал, что фу – это не прямое описание, а иносказательное (юй янь се у), а сущность син в том, что «написанным не исчерпывается смысл»; многослойность поэтического текста он полагал неотъемлемым качеством поэзии, стихотворная строка не должна быть однозначной, за ней должны стоять ассоциации, создающие как бы второй и третий планы [см. Чжун Жун. Шипинь чжу («Категории стихов» с комментариями»). Пекин, 1958. С. 4] Начиная с первой поэтической антологии «Книги песен» (Шицзин), именно скрытые смыслы, явленные посредством толкования, вызывали наибольшее восхищение. В переводе В.М.Алексеева существует примечательный пассаж из эдикта 1781 г. императора Цянь-луна: «Известно, что истинная поэзия восходит к «Шицзину»… Даже когда речь идет [там]о красавице и пахучих травах – и то надо подразумевать не деву, а благородного человека… Надо восходить к началу духа высшей прямоты и взывать к исконной благопристойности. Это, так сказать, удаление вдохновенности в иные выси: речи – здесь, но мысли – там, далеко!» (ТКЛ, 1: 116) Заметим, что народные песни «Шицзина», по преданию, перетолковал в таком именно духе сам Конфуций – сторонник «исправления имен», т.е. приведения слов в строгое соответствие с обозначаемыми понятиями. Здесь, как часто случалось в китайской культуре, Конфуций и его всегдашние оппоненты даосы с разных позиций, но постулировали нечто единое, предопределенное базовыми свойствами культуры: предпочтение иносказания прямому высказыванию. Сыкун Ту облек в нарочито неясные строки своей поэмы традиционное представление о гармонии вне слов, о «скрытом накоплении», а В.М.Алексеев конгениально отозвался на них своим толкованием. Остается только пожалеть, что мало кто из писавших о классической поэзии Китая воспользовался прозрениями поэтолога китайца и его русского исследователя-интерпретатора. Укажем еще на некоторые важнейшие категории, выявленные В.М.Алексеевым в поэме Сыкун Ту. «Скрытые звуки» (ю инь) упоминаются в нескольких стансах поэмы, поскольку тесно связаны с представлением о сокровенных смыслах («…эти “скрытые звуки” (ю инь), эти «хранилища невыразимого» (хань сюй), которые китайские поэтологи провозглашают как суть поэзии, превосходящую само поэтическое произведение», ТКЛ, 1:100) и, в свою очередь, с понятием отшельничества (ю жэнь – отшельник) – «именно воспевание уединенного вдохновения,.. – как подчеркивал В.М.Алексеев, – составляют как бы основное содержание китайской поэзии» (117). В этом же ряду трактуемое в стансе Х1У понятие «подлинного следа» (чжэнь цзи), традиционная метафора поэтического и живописного образа. Как говорит Сыкун Ту, «есть подлинный след – словно бы невозможно познать», а исследователь понимает этот след как творчество в его бесконечных переменах–метаморфозах, которые настолько быстротечны, что исчезают, не успев обрести форму. Мы узнаем о них только по «следам Дао»: эху в ущелье, отраженью луны в воде, лику в зеркале, закатному отблеску на облаке, наконец, тени, которая выступает наиболее частым синонимом «следа». В сущности, вся поэма – поэтический каталог такого рода «следов». Различение густого и пресного продолжает противопоставление ложного подлинному, явленного скрытому, полноты пустоте (ин–чун: «Суть Дао – пустота. Люди, им пользующиеся, также должны быть пустотны, но не переполняться. Раз переполнятся – это не Дао»), столь важную для китайской мысли и для «Поэмы». Как точно пишет В.М.Алексеев в предисловии к стансу 1Х, «всякому обилию неизменно сопутствует истощение и сухость. Зато тот, кто душою своей пресно-прост, очень часто таит в себе глубину» (137). «Преснота» (дань) – одна из примет Дао, а потому – обязательное свойство Дао-поэта. Следует заметить, что дань – едва ли не самый возвышенный эпитет для подлинной поэзии, тогда как пышные избыточные словеса неизменно порицаются знатоками. Может быть, наиболее строгое суждение о дань применительно к поэтическому творчеству высказал Су Ши, говоря о Тао Цяне: «(Его стихи) как будто элементарны и просты, а вглядишься – красочны; как будто анемичны, тощи, а вглядись – прежирны» (43), т.е. преснота важна не сама по себе, а как обличье скрытой красочности, скрытой, не бьющей в глаза. Иными словами, поэт в краткой и старинной форме являет тонкую, неуловимую игру мысли и в бескрасочной красоте передает нам высшие ощущения (высший вкус). К сказанному и добавить нечего. *** Начав с изучения, быть может, наиболее сложного поэтологического сочинения традиции, В.М.Алексеев всю жизнь не оставлял занятий китайской поэтикой. Так или иначе, им переведены и исследованы полностью или во фрагментах важнейшие тексты в разных жанрах и стилях. Не говоря о цельной трилогии «Поэт – художник – каллиграф о тайнах своего вдохновения», которой завершилось начатое «Поэмой о поэте» изучение идеального Дао-творца, ученый занимался таким жанром как «письма о поэзии» – от письма того же Сыкун Ту до истории поэзии, изложенной минским Сун Лянем в послании к некоему студенту Чжану; «одическими», т. е. написанными в прозопоэтическом жанре фу поэтиками Лу Цзи «Вэнь фу» и Юань Хуана «Ши фу», поэтологической и философской эссеистикой Су Сюня («Ши лунь» – «Рассуждения о Ши[цзине]»); перевел «Трактат о стильном произведении» Цао Пи; в книге о Сыкун Ту впервые и тщательно рассмотрел «Категории стиха» (Ши пинь) Чжун Жуна, высказывался о «Резном драконе литературной мысли» Лю Се и предисловии к «Изборнику» Сяо Туна. А поскольку В.М.Алексеев еще и перевел сплошным порядком несколько антологий, составление каковых почиталось в традиции актом художественной критики, то можно считать, что он воссоздал по-русски классическую китайскую поэтологию во всем ее колоссальном многообразии и глубине – достижение, значение которого для отечественной синологии невозможно переоценить. Многие идеи, догадки и прозрения великого ученого, высказанные на страницах неувядающей «Поэмы о поэте» шестьдесят лет назад, по-прежнему актуальны в науке, ни один современный перевод на западные языки и близко не достигает точности, поэтичности и проникновенности алексеевского переложения Сыкун Ту, а само исследование поэмы в новейшем американском компендиуме по китайской словесности, вопреки бескрылому Rossica non leguntur*, справедливо названо образцовым. И можно с искренней радостью поздравить себя и читателей с выходом в свет более чем на полвека задержавшегося нового издания этой поистине замечательной книги – ad discendum docendumque*. Илья Смирнов * Rossica non leguntur (лат.) – русское не читается. *ad discendum docendumque (лат.) – для изучения и в поучение.