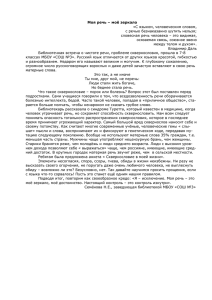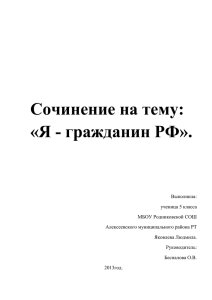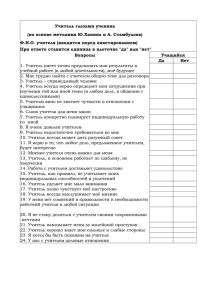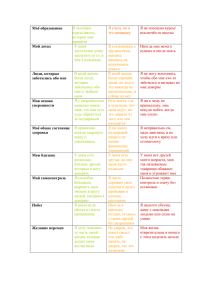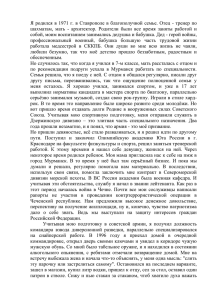Сын писателей - Звезды нового века
реклама
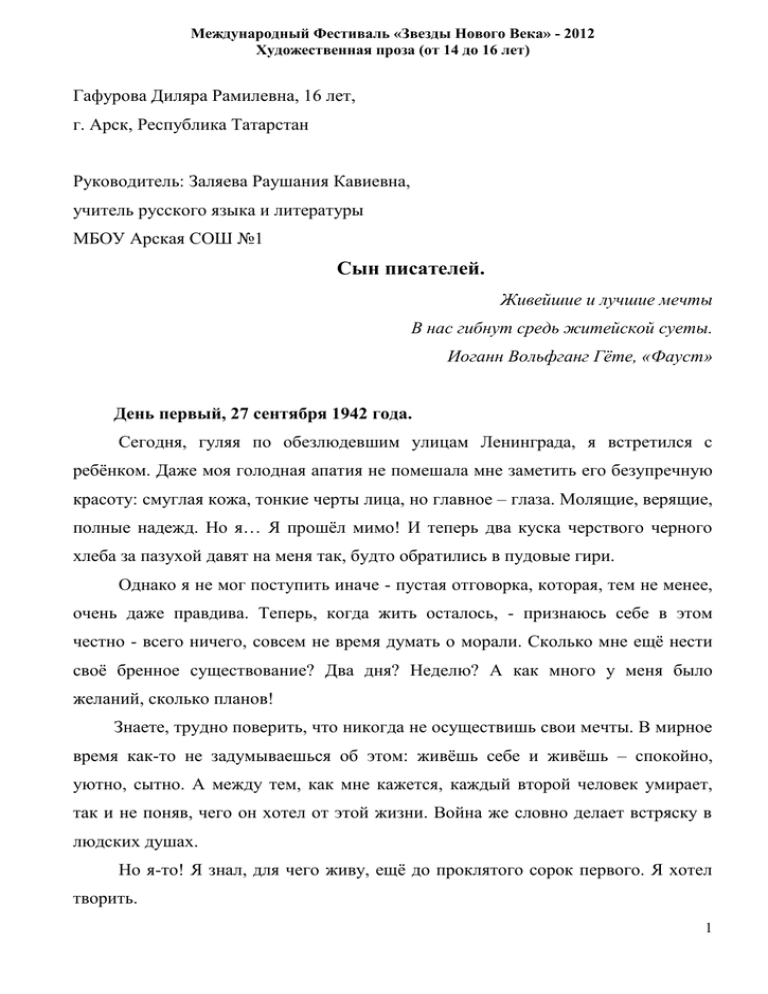
Международный Фестиваль «Звезды Нового Века» - 2012 Художественная проза (от 14 до 16 лет) Гафурова Диляра Рамилевна, 16 лет, г. Арск, Республика Татарстан Руководитель: Заляева Раушания Кавиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Арская СОШ №1 Сын писателей. Живейшие и лучшие мечты В нас гибнут средь житейской суеты. Иоганн Вольфганг Гёте, «Фауст» День первый, 27 сентября 1942 года. Сегодня, гуляя по обезлюдевшим улицам Ленинграда, я встретился с ребёнком. Даже моя голодная апатия не помешала мне заметить его безупречную красоту: смуглая кожа, тонкие черты лица, но главное – глаза. Молящие, верящие, полные надежд. Но я… Я прошёл мимо! И теперь два куска черствого черного хлеба за пазухой давят на меня так, будто обратились в пудовые гири. Однако я не мог поступить иначе - пустая отговорка, которая, тем не менее, очень даже правдива. Теперь, когда жить осталось, - признаюсь себе в этом честно - всего ничего, совсем не время думать о морали. Сколько мне ещё нести своё бренное существование? Два дня? Неделю? А как много у меня было желаний, сколько планов! Знаете, трудно поверить, что никогда не осуществишь свои мечты. В мирное время как-то не задумываешься об этом: живёшь себе и живёшь – спокойно, уютно, сытно. А между тем, как мне кажется, каждый второй человек умирает, так и не поняв, чего он хотел от этой жизни. Война же словно делает встряску в людских душах. Но я-то! Я знал, для чего живу, ещё до проклятого сорок первого. Я хотел творить. 1 Это желание проснулось во мне ещё в детстве. Тогда я как раз прочитал «Тома Сойера», так что единственной темой моих разговоров с матерью, учителем литературы, был этот роман и его талантливый создатель. Прекрасный оратор, журналист, в прошлом – шахтёр и помощник лоцмана, он писал романы в путешествиях. Моё воображение, питавшееся всеми этими захватывающими подробностями, уже не могло угомониться: я так и видел себя спустя лет этак двадцать, беседующим после очередной поездки в Европу со своим издателем о печати своего нового романа. Слова издателя, заверявшего: «О, безусловно, ваша книга вновь будет иметь оглушительный успех!» - льстили самолюбию маленького мальчика. Думаю, это и решило мою судьбу. С тех пор я не видел себя более никем, кроме как писателем. Само наименование этой профессии, как мне казалось, звучало гордо. «Кто вы?». «Я – писатель!». Теперь же я, сидя в своей каморке два на два, с тоской вспоминаю о тех днях. Нет, я ничуть не жалею о своём выборе, ведь я осознал его тяжесть очень скоро, но, несмотря ни на что, не отступил. Я имею ввиду голодные двадцатые, когда в жалости своей участи я мог сравниться разве что с твеновским Гекльберри Финном. И это тогда, когда я только-только начал писать свою первую повесть! Все чудесные идеи, какие только могут появиться у десятилетнего мальчишки, канули в Лету - от голода я отощал, у меня не было сил их записать. Да и на чем? Бумаги тоже не было. Вот тогда-то я и дал себе обещание, преданность которому не позволила мне сегодня помочь тому ребёнку с удивительными глазами. Звучало оно так: «Если однажды мне вновь случится голодать, то сначала я испишу все бумажные листы, что у меня найдутся, потому что каждый должен оставить после себя хоть что-то, кроме своих неисполненных желаний». Кстати, выжив в те годы, я разлюбил «Тома Сойера». Главный персонаж этого романа стал мне казаться всего лишь избалованным мальчишкой, у которого всё настолько хорошо сложилось в жизни – и заботливая тётушка Полли, и любящая красавица Бекки, и неожиданно разбогатевший друг Гек, - что 2 ему не осталось уже ничего, как вновь начать проказничать. Как ни печально сейчас это признавать, но, кажется, я слишком рано перерос этого сорванца. День второй, 28 сентября 1942 года. Пожалуй, мне бы сейчас не помешала шагреневая кожа. Полезная вещица, что не говори, просто господин Рафаэль де Валентен не сумел обратиться с ней должным образом. Вакханалия, шесть миллионов франков… Мне бы хватило и ломтя хлеба. По правде говоря, Бальзак, будучи рационалистом до мозга костей, никогда не прельщал меня в качестве кумира или идеала, к которому я должен стремиться в своей карьере. Однако его персонажи мне более близки, чем любые другие. Вспомнить хотя бы мои двадцать лет: подобно Рафаэлю, я беден, и образование не принесло мне ровным счётом ничего, кроме, пожалуй, некоторого багажа новых знаний. Моя муза спит, не желая призвать вдохновение. Безусловно, я не могу не работать, ведь быть безработным при нашем новом правительстве значило быть почти что преступником, и устраиваюсь редактором в одну из многочисленных ленинградских газетенок. Эта рутинная работа уничтожает меня изнутри: точит моё самолюбие, убивает на корню всякий интерес к писательству. Я пребываю в полном отчаянии. И тут появляется она: моя прекрасная «женщина без сердца», моё сладкое безумие, моя Феодора. Нас с ней знакомит мой хороший друг, Павел – человек приземленный, не склонный к философским размышлениям, но, тем не менее, вполне уже успешно печатающийся. Так вот, этот «третьесортный» писака изначально предупреждает меня: «У тебя нет шансов, она слишком утонченна, чтобы даже посмотреть на тебя». Что ж, он был прав. Я начинаю ухаживать за этой девушкой. Не исключено, что поначалу мной движет лишь задетое самолюбие, но потом.… Потом я схожу с ума. Знаете, я до сих пор твердо убежден, что далеко не каждый человек способен любить. Ведь что есть любовь? Разрушение. Так кто же в наш и без того 3 неспокойный век предпочтет спокойствие и стабильность этому глупому, по их мнению, чувству? Больше кого бы то ни было на этой планете люди любят себя. А я - Боже мой, я предпочитал любить, нежели быть любимым. Каким наслаждением было так страдать! … Ох, кажется, я плачу. И этот жалкий кусочек бумаги весь мокр от моих слёз. Мужчины не плачут – кто придумал эту глупость? Они зарыдают, если их возлюбленных постигнет та же горькая участь, что мою. Однажды она неосторожно высказалась по поводу своего несогласия с политикой руководства нашей страны - она всегда говорила правду, не раздумывая… После её исчезновения я сжег тот роман, что посвятил ей. «Неразумный поступок», - вот что сказали на это мои друзья. Однако для меня это было естественно, мне почему-то казалось, что так я и должен был поступить… Я передумал. Наверное, будь у меня шагреневая кожа, я бы всё же пожелал ни куска хлеба, ни пачки-другой бумажных листов. Я бы хотел ещё раз Её увидеть и умереть на её руках. День третий, 29 сентября 1942 года. « … среди отвратительных человеческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Один скелет был женский, сохранивший на себе еще кое-какие обрывки некогда белой одежды.… Другой скелет, крепко обнимавший первый, был скелет мужчины. Заметили, что спинной хребет его был искривлен, голова глубоко сидела между лопаток, одна нога была короче другой. Но его шейные позвонки оказались целыми, из чего явствовало, что он не был повешен. Когда его захотели отделить от скелета, который он обнимал, он рассыпался прахом», - кажется, я знаю не только этот отрывок, но и ту книгу, из которой он взят, наизусть. Красивый душой Квазимодо, уродец Феб, талантливый Пьер… Как их не помнить? Когда-то в нашей квартире хранилась огромная книжная библиотека. К сожалению, мне пришлось её распродать, чтобы отдать свои долги. Счастье, что моей матери не довелось этого увидеть. 4 А ведь я, как писатель, должен был понимать, что эти книги нельзя было продавать. Книги – они ведь как души тех людей, что их писали. И я посмел отдать эти воистину бесценные души тому бесчестному хозяину книжной лавки! Моё сожаление неизмеримо. Именно поэтому я сегодня вновь осмелился выйти на улицы Петербурга (это наименование моего города нравится мне куда больше, чем Ленинград – оно звучит величественнее, что ни говори) и направился к той самой лавке, где когдато повторил подвиг дражайшего господина Чичикова. Идти было страшно. Мне мерещилось, что в воздухе стоит удушливый трупный запах – или это не было моим воображением? Ещё я боялся, что вновь встречу ребёнка – пусть не того самого, но с тем же умоляющим выражением лица. Но всё-таки, пусть и пугливо озираясь каждую секунду, я добрался до пункта своего назначения. Лавочника, низенького некрасивого человека с жадными глазками, на месте не было, зато была его дочь – не большая красавица, чем папаша. - Здравствуйте. - Здрасьте, - хмуро ответила она на моё приветствие. - Извините, но где ваш отец? Мне бы его увидеть. - Нету его. - А когда он будет? – поинтересовался я, прекрасно понимая, что я не смогу прийти сюда ещё раз. - А умер он. - Как? Когда? - А с голоду недавно подох, - я поморщился от столь явно простецкой речи. Лавочник жил богато, ибо никогда не был честен со своими покупателями. Так неужели и его настиг голод? - Простите, вы, должно быть, меня не помните, - что поделать, если нет отца, придётся беседовать с новой хозяйкой. Но она не дала мне договорить: - Как не помню? Помню. Ты тот чудак, что продал отцу целую библиотеку книжонок. - Точно. Так что с ними? Я бы хотел их выкупить. 5 - Да ты и правда чудак. Я их выкинула – я всё здесь выкинула, какой сейчас от книжек толк? Я огляделся – в действительности, полки, прежде привлекавшие пестревшими книжными корешками, сиротливо опустели. Акт варварства – вот как можно назвать то, что совершила эта девчонка. Но что мне поделать? - Что ж, тогда я пойду, - я развернулся и направился было к выходу, но меня удержали за локоть. - Эй, стой. У меня ещё одна книжка осталась, хотя она старая, конечно. Подожди, я поищу её. Итак, спустя несколько минут я держал в руках «Собор Парижской Богоматери» Гюго и жадно выспрашивал у торговки, за сколько она мне может её отдать. - Дурак, что ли? Зачем мне деньги? Едой плати. Внутренне я содрогнулся. Еда. Самая высокая плата. - Пол-ломтя – всё, что у меня есть. Хватит? - Давай сюда, - хлеб вырвали у меня из рук. Идя домой, я забыл о своих страхах. Я плакал, плакал от бессилия и счастья, прижимая к груди кипу печатных бумажных листов – у книги не было обложки. Теперь я обязан прожить хотя бы до завтра, пока не дочитаю её. День пятый, 1 октября 1942 года. Вчера я не написал ни строчки, ибо целый день провалялся в постели – подозреваю, то была предсмертная агония. Почему я не читал «Божественную комедию» Данте более внимательно? Быть может, его воображение ненамного ошибалось, диктуя средневековому поэту описания рая и ада, тогда бы я хотя бы примерно мог представить, куда я могу угодить. Мой путь закончен, хотя он так и не был начат. Честолюбие – последнее прибежище неудачника, как считал Оскар Уайльд. Не буду ли я излишне честолюбив, считая, что он в корне неправ? Как это парадоксально. 6 Любой человек, читая эти мои заметки, скажет, что я напрочь лишён амбиций, ведь это моё сочинение абсолютно не претендует на звание шедевра, ведь в нём я пишу обо всем известных фактах, о своей жизни, которая никого не может заинтересовать своей бессюжетностью, и, наконец, о других писателях. Причём тут они, когда я сам будто бы писатель? Ответ прост. Творческий поток моих мыслей иссяк, так и не начав бурлить в полную силу. Но я дал себе обещание, и моё самолюбие не позволит мне не исполнить его. Когда я начинал писать эти заметки, у меня оставалось четыре листа писчей бумаги. Испишу этот – у меня не останется ни одного. Вообще-то, я мог вместе со многими прочими пройти «дорогу жизни» и спастись. Мог ограбить кого-нибудь и забрать его запасы, продлить себе жизнь. Но это не по мне. Пожалуй, подводя итог своей жизни, я буду похож в своих суждениях на Жюльена Сореля: я достиг всего, и смерть только закончит этот путь. Живи я во времена Мари-Анри Бейля, я мог бы стать прототипом этого его персонажа, я в этом твёрдо убежден. Всю жизнь я хотел пробиться на пьедестал, освещаемый лучами славы и признания. Я пытался лицемерить, но далеко не всегда у меня это получалось, а когда и выходило, я сам себе становился противен. Чувства мои всегда преобладали над разумом, к сожалению или к счастью. Сорель был ярым поклонником Наполеона, желал повторить его судьбу; я же был ярым поклонником литературы и хотел в той или иной мере каждого из любимых мной писателей – их манеру письма, их стиль – объединить воедино в своих романах. Я почитал себя их преемником. Что ж, пора смириться с тем фактом, что люди дышат иллюзиями. Абсолютно все. И надо бы уже признаться, что не война препятствует людям в исполнении тех заветных желаний, что скапливаются у них на душе, отягчая её с каждым дня всё сильнее, но сами люди. Не вспыльчивость и нерасчётливость Жюльена Сореля привели его к смерти, как и Реставрация не заставила его создателя долгие семь лет жить вдалеке от Родины – это были их собственные решения. 7 Так и я сейчас решаю не отрекаться от своей мечты – пусть я не смог написать что-то более великое, чем Стендаль, Дюма и прочие литературные таланты, но я всё же верю, что смог внести в свои заметки ту манеру, что присуща всем их произведениям – манеру свободы. Мои мысли путаются, во рту пересохло… Странно, что моя жизнь должна закончиться в таком ужacнoм мecтe и в такое ужасное время. Но в ней было время, когда я ни перед кем не извинялся, и когда в моих мыслях и словах не было притворства. Я умираю счастливым… 8