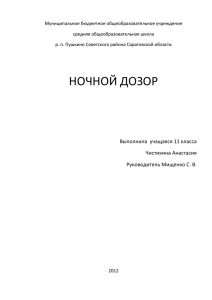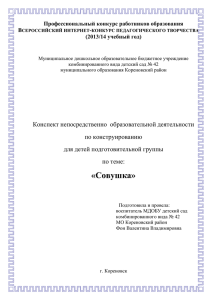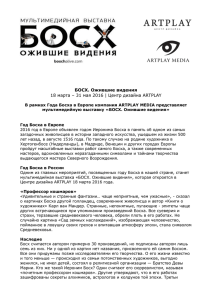совы – и его функциональной нагруженнос
Реклама
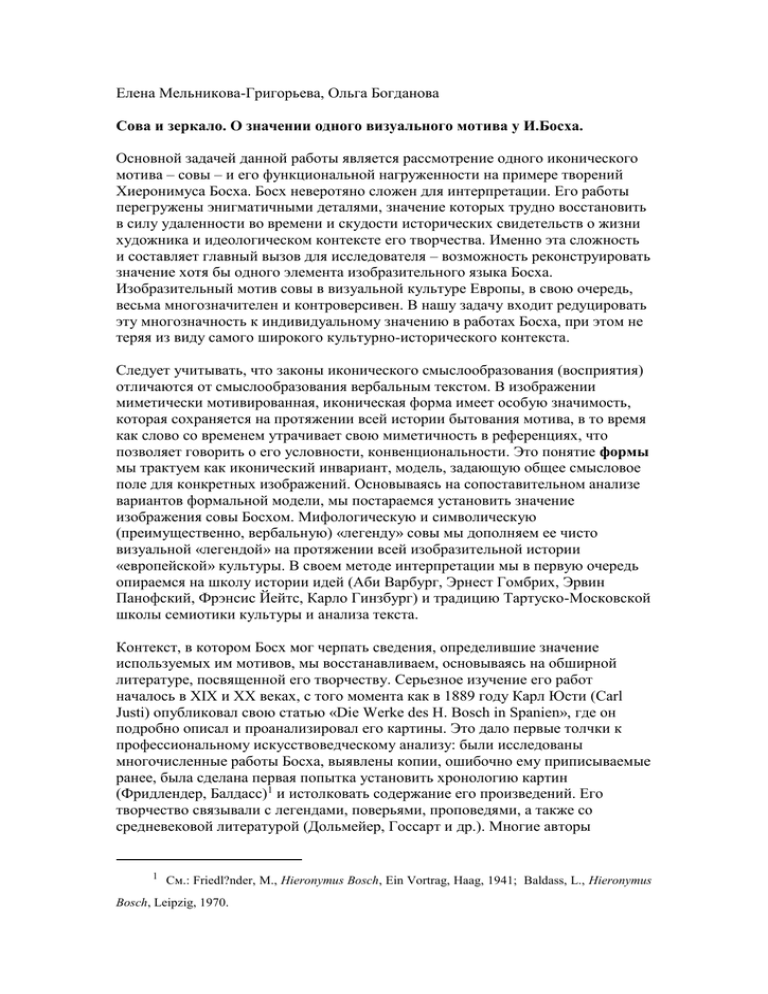
Елена Мельникова-Григорьева, Ольга Богданова Сова и зеркало. О значении одного визуального мотива у И.Босха. Основной задачей данной работы является рассмотрение одного иконического мотива – совы – и его функциональной нагруженности на примере творений Хиеронимуса Босха. Босх неверотяно сложен для интерпретации. Его работы перегружены энигматичными деталями, значение которых трудно восстановить в силу удаленности во времени и скудости исторических свидетельств о жизни художника и идеологическом контексте его творчества. Именно эта сложность и составляет главный вызов для исследователя – возможность реконструировать значение хотя бы одного элемента изобразительного языка Босха. Изобразительный мотив совы в визуальной культуре Европы, в свою очередь, весьма многозначителен и контроверсивен. В нашу задачу входит редуцировать эту многозначность к индивидуальному значению в работах Босха, при этом не теряя из виду самого широкого культурно-исторического контекста. Следует учитывать, что законы иконического смыслообразования (восприятия) отличаются от смыслообразования вербальным текстом. В изображении миметически мотивированная, иконическая форма имеет особую значимость, которая сохраняется на протяжении всей истории бытования мотива, в то время как слово со временем утрачивает свою миметичность в референциях, что позволяет говорить о его условности, конвенциональности. Это понятие формы мы трактуем как иконический инвариант, модель, задающую общее смысловое поле для конкретных изображений. Основываясь на сопоставительном анализе вариантов формальной модели, мы постараемся установить значение изображения совы Босхом. Мифологическую и символическую (преимущественно, вербальную) «легенду» совы мы дополняем ее чисто визуальной «легендой» на протяжении всей изобразительной истории «европейской» культуры. В своем методе интерпретации мы в первую очередь опираемся на школу истории идей (Аби Варбург, Эрнест Гомбрих, Эрвин Панофский, Фрэнсис Йейтс, Карло Гинзбург) и традицию Тартуско-Московской школы семиотики культуры и анализа текста. Контекст, в котором Босх мог черпать сведения, определившие значение используемых им мотивов, мы восстанавливаем, основываясь на обширной литературе, посвященной его творчеству. Серьезное изучение его работ началось в XIX и XX веках, с того момента как в 1889 году Карл Юсти (Carl Justi) опубликовал свою статью «Die Werke des H. Bosch in Spanien», где он подробно описал и проанализировал его картины. Это дало первые толчки к профессиональному искусствоведческому анализу: были исследованы многочисленные работы Босха, выявлены копии, ошибочно ему приписываемые ранее, была сделана первая попытка установить хронологию картин (Фридлендер, Балдасс)1 и истолковать содержание его произведений. Его творчество связывали с легендами, поверьями, проповедями, а также со средневековой литературой (Дольмейер, Госсарт и др.). Многие авторы 1 См.: Friedl?nder, M., Hieronymus Bosch, Ein Vortrag, Haag, 1941; Baldass, L., Hieronymus Bosch, Leipzig, 1970. выделяли колоссальный диапазон знаний и интересов Босха. Благодаря этим исследованиям можно утверждать, что он был знаком с алхимией, врачеванием, астрологией (Метерлинк, ван Бастелар, Бергман2, Бочковска3 и др.), биологией (а особенно зоологией, о чем свидетельствуют изображения птиц и зверей), музыкой, математикой и многими другими науками и искусствами своего времени. Для воссоздания более общего конеткста эпохи бесценными источниками представлений о мировоззрении позднего Средневековья являются работы Й.Хёйзинги (Huizinga 1924), А.Гуревича (Гуревич 1972) и Ю.Лотмана (особенно Лотман 1992: 107-110). Мотив совы ко времени, в котором жил и работал Босх, накопил значительный символический потенциал. Самым ранним известным примером изображения совы можно считать пещерные рисунки в Труа Фрэр во Франции (илл. 1). Обе фигуры птиц на рисунке без труда можно идентифицировать (путем «чистых форм» в терминах Панофского) как изображения сов: отчетливо видны контуры тела птиц, повернутых в профиль, и большие головы – в фас; особое внимание привлекают формы глаз и клювов, которые, в сущности, и помогают нам распознать в этих птицах сов вплоть до настоящего времени. Аналогичная манера изображения совы впоследствии встречается на вавилонской статуе ночного демона Лилит (илл. 2)4 и египетских рельефах: наряду с тем, что все птицы в этих древних культурах имели профильное изображение и характерные для реальных объектов отличительные черты (длина и форма клюва, оперение, форма тела и т.д.), сова изображалась с большой головой в фас и большими круглыми глазами. Эти особенности иконографии совы определяются ее природной особенностью: сова - единственная птица, у которой глаза расположены фронтально, как у приматов и человека. Данное обстоятельство способствует специфике развертывания иконологической (в терминологии Э.Панофского) легенды. Подобное расположение глаз предполагает совершенно определенный тип фронтальной коммуникации – глаза в глаза. Если учесть, что все животные в архаическом сознании являются тотемами, то есть коммуникаторами с потусторонним миром – миром предков, птицы в 2 Подробнее см.: Bergman, M., Hieronymus Bosch and Alchemy: A Study of the St. Anthony triptych – Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholm Studies in History of Art, no. 31, Stockholm, 1979. Подробнее см.: Boczkowska, A., Hieronim Bosch, Warszawa, 1974; Boczkowska, A., The Lunar Symbolism of the Ship of Fools by Hieronim Bosch – Oud-Holland, no. 96, 1971: 47-69; Spychalska-Boczkowska, A., Material for the Iconography of Hieronymus Bosch`s Triptych: The Garden of Delight – Studia Muzealne, no. 5, 1966: 49-95. 3 Лилит Вавилонская – крылатая богиня с птичьими лапами, попирает двух львов, которые во многих архаических культурах ассоциировались с солнечной мужской силой. В руках она держит две петли, которые опознаются в качестве женской составляющей символа в египетском анкхе. Этот образ находит параллели в кельтском (известном по рельефным маргиналиям в христианских соборах) изображении Шилы на Гиг – женская фигура с преувеличенно выпученными глазами и разверстой на зрителя вульвой. 4 особенности,5 то становится понятна и специфика данного тотема: общение с высшей реальностью по визуальному каналу. Дальнейшее развитие образа наблюдаем в греческом (а особенно, в афинском) и, позднее, в римском искусстве. Богиня Афина редко изображалась без своих атрибутов, поэтому сова довольно часто сопровождает ее изображение в скульптуре и рельефах. Примером популярности совы как символа Афины Паллады могут служить греческие монеты V – II веков до н.э., геммы, росписи на глиняных вазах, амфорах и скифосах (илл. 4). Монеты видели все греки и не только греки, даже те, кто никогда не видел никакого другого изображения богини.6 Тип изображения чрезвычайно схож с «египетским», как и на уцелевшем фрагменте мозаики римского периода храма Орфея в Марокко (илл. 3). Афина иногда изображалась с глазами совы, как бы являясь инкарнацией тотема, обладающего провидческим зрением: АфинаПронойя – «провидящая». Гомер называет ее «совоокой»7, а «сова» переводится с греческого как «блестящеокая»8. Такое акцентирование внимания на глазах и зрении дает нам одну из основных характеристик инварианта изображения совы: сосуд с двумя зрячими или, как мы увидим далее, – незрячими дырами. Этот мотив упрощенно дублируется в репрезентации шлема Афины, по которому она опознается наряду со щитом, доспехом и копьем воина. Заметим, что щит Афины имеет отношение к мотиву зеркала – это эгида Персея с отражением застывшей в предсмертном ужасе головой Медузы. В античных легендах и литературе мы не можем обнаружить следов нарративной связи между совой и зеркалом, однако в иконографии они уже оказываются в одном репрезентативном контексте - провидческой мудрости. Греческий воинский шлем в свою очередь является одним из частотных составляющих компонентов трофейных натюрмортов, символизирующих воинскую славу, в первую очередь, посмертную. Шлем наряду с прочими военными атрибутами регулярно используется в декоре монументов, надгробных стел и саркофагов вплоть до Мотив птицы, символизирующей отлетающую душу, прослеживается с Палеолита (см. Столяр 1985 ) вплоть до наших дней. 6 Слово «монета» происходит от одного из имен-эпитетов Юноны – Юнона Монета, что значит – «предупреждающая» ("the one who warns"). Именно в храме Юноны-Монеты содержались священные гуси, своим предупреждающим гоготом спасшие Рим. Там же чеканили деньги, получившие хождение в качестве монет. Предупреждающая обмен коммуникативная функция денег была отрефлексирована в легендарной истории римской античности. 5 Здесь становится интересен также факт, что аналогичным образом изображался ацтекский бог дождя и грома, повелитель всех съедобных растений, Тлалок - с глазами совы или кругами вокруг глаз. (Подробнее см.: Мифологический словарь. Под ред. Е. М. Мелетинского. М., 1992. С. 543) 8 См.: Мифы в искусстве (по Рене Менару). М., 1996. С. 125. 7 наших дней. При этом, тип шлема Афины с прорезями для глаз смыкается в основных формальных чертах образа с маской, как посмертной, так и театральной, в свою очередь пересекаясь в этом значении с мотивом черепа, что становится особенно явным в ассамбляжах голландских натюрмортов. Так семантическая аура совы как коммуникатора с «другим» поддерживается сходством форм и функций миметически схожих с ней атрибутов. Сова обретает стойкую контекстуальную память в окружении стабильного набора атрибутов. В функции символа провидческой мудрости мотив совы доживает до наших дней зачастую уже вновь, как и в Древнем Египте, в виде графического иероглифа, например, на логотипах книжных издательств и фирм или компаний, производящих тот или иной интеллектуальный продукт. 9 Вербальная легенда сопровождает изображение совы с античности. В отличие от Гомера, Плиний упоминает ее в самых негативных коннотациях Pliny the Elder [1st century CE] (Natural History, Book 10, 16): «Owls see poorly in the daytime. The eagle-owl is thought to be a very bad omen, being as it is a funereal bird. It lives in deserts and in terrifying, empty and inaccessible places. Its cry is a scream. If it is seen in a city, or during the day, it is a direful portent, though several cases are known of an eagle-owl perching on private houses without fatal consequences». Можно с уверенностью утверждать, что основные характеристики образа совы, которые мы не можем реконструировать для самой древней иконографии Палеолита, складываются во вполне определенную легенду ко времени классической античности. Оба источника, и Гомер, и Плиний не могли не быть известны Босху, поскольку принадлежали к самому базовому кругу чтения образованного человека, не говоря уже о том, что эти источники многократно цитируются множественными физиологами и бестиариями Средневековья10 и перекочевывают в ренессансные и барочные эмблематы. С одной стороны, мудрость и провидческая сила, с другой – дурное знамение, ночная, темная природа, слепота и смерть. Христианство адаптирует мотив совы к своей системе ценностей, сохраняя амбивалентность в оценках. С одной стороны, сова, как и зеркало, ассоциируется с Христом, просвещающим светом Истины,11 о чем свидетельствует иллюстрированная рукопись IX века «Physiologus», хранящаяся в Берне.12 Сову можно увидеть в сюжетах, изображающих сцены из жизни Христа (хорошо бы пример). С другой стороны, сова может символизировать 9 http://www.google.com/images?q=owl+logo&oe=utf-8&rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&hl=en&tab=wi&biw=1024&bih=502 10 Например, в энциклопедии 842-847 a.d. De rerum naturis (On the Nature of Things), also known as De universo by Hrabanus Maurus в книге 8-ой сове посвящена специальная статья. Также см. Aberdeen Bestiary, Folio 50r 11 «Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» (Евангелие от Луки, 1:79). 12 Подробнее см.: Sachs, H., Badstьbner, E., Neumann, H. Christliche Ikonographie in Stichworten. Berlin-Leipzig: Koeher & Amelang, 1991:125-126. грешников, отпавших от Бога, пребывающих в слепоте. После «Physiologus», который был составлен во II веке и был предназначен для школьного обучения, где описывались разные представители флоры и фауны вместе с их символическими значениями в зависимости от религиозных трактовок, 13 стали появляться многочисленные бестиарии, иллюстрированные Библии и Часословы. Например, в энциклопедии 842-847 a.d. De rerum naturis (On the Nature of Things), also known as De universo by Hrabanus Maurus в книге 8-ой сове посвящена специальная статья. В Aberdeen Bestiary, Абердинском бестиарии XII века можно найти практически дублирующий набор сведений. Абердинский бестиарий цитирует Рабануса, который в свою очередь ссылается на Библию: «The owl signifies those who have given themselves up to the darkness of sin and those who flee from the light of righteousness.' As a result it is classed among the unclean creatures in Leviticus (see 11:16). Consequently, we can take the owl to mean any kind of sinner».14 Сова появляется на гравюрах с демонами, ведьмами и другими представителями ночи, на шабашах и различных мистериях. Это сплетение амбивалентных мотивов напоминает коннотации, приписываемые мифологическим, а позже – религиозным, сознанием разнообразным оптическим инструментам вообще, в первую очередь, таким как глаз и зеркало. Зеркало трактуется во многих традициях мысли как прибор, одновременно открывающий и скрывающий истину. То же самое можно сказать о глазе, о зрении вообще. Многие языки сохраняют очень древнюю, по всей видимости, амбивалентность достоверности канала зрения. В русском языке это фиксировано в таких расхожих выражениях как «лучше один раз увидеть», «видел своими глазами», «очевидец», «все (происходило) на глазах» с одной стороны, а с другой – «не верь глазам своим». Некоторые словоформы несут в себе два прямо противоположных значения, как бы являя собой диалектическую пару: «видимость», «видЕние» и «вИдение». Причем, в слове «вИдение» в свою очередь культурно вычленяются два потиворечащих друг другу смысла. Этот мотив провидческой слепоты был чрезвычайно важен для интеллектуальной атмосферы античности. Достаточно упомянуть миф о Тиресии (Ямпольский 1993) и миф об Эдипе (Мамардашвили 1999)15. Позже, на новом витке 13 Впоследствии этот сборник стал терять свой символический смысл, уделяя все больше внимания естественной истории, и превратился в средневековую энциклопедию, трактующую христианские символы. 14 См. также: Купер, Дж. Энциклопедия символов. Кн. IV. М., 1995. С. 309 – сова как символ евреев, «предпочетших тьму свету Евангелия», как знак Синагоги, неверующих, греховности и смерти 15 «По закону кармы, если бы Эдип не проделал того, что проделано в трагедии "Эдип", то он продолжал бы воплощаться, и продолжались бы акты убийства отца, акты сексуальной жизни с собственной матерью и т.д.» - Мамардашвили 1999, Глава 2. аналитической рефлексии, Эдип дает имя Эдипову комплексу по Фрейду. Эдипов комплекс состоит в вытеснении («знаю, не зная») родовой травмы разделенности с утробой. Очевидно, что сова укладывается именно в эту парадигму зрячей незрячести. Художники Ренессанса не оставляют сову своим вниманием. Микеланджело (скульптурная композиция Дня и Ночи в капелле Медичи во Флоренции), Антонелло да Мессина («Распятие», илл.10), Мантенья («Святой Иероним»), Дюрер («Маленькая сова», «Дева Мария с животными», илл. 11), Лукас Кранах Старший («Портрет Иоганнеса Куспиниана», илл. 12), Питер Брейгель («Искушение Св. Антония»), Бальдунг Грин («Три возраста и смерть») и многие другие. Заметим, что сова и в этих примерах ассоциируется со смертью и заблуждением-искушением, в том числе, можно говорить об искушении знанием, мудростью. Дюрер представляет в этом ряду некоторое исключение, сова у него – это прежде всего реалистично изображенная птица. Эта линия в иконографии совы, которую можно охарактеризовать как «натуралистическая», зарождается в Средние века все в тех же Физиологах и также доживает до наших дней прежде всего уже в фотографии. Впрочем, с достаточной долей смелости мы можем утверждать, что изображение совы анфас в палеолитической пещере Труа Фер уже вполне натуралистично, поскольку опознаваемо в качестве именно этой птицы. У Хиеронимуса Босха сова присутствует на 18 картинах, что несомненно свидетельствует о существенной семантической нагруженности этого мотива для художника. У исследователей его творчества относительно функции совы на картинах нет единого мнения: как правило, ее наделяют как негативными коннотациями, называя ее символом ночи, зла и греховности, так и позитивными, указывая на ее мудрость и склонность к провидению (см. Bax 1983; . Boczkowska 1971; Spychalska-Boczkowska 1966; Fraenger 1975). Босх (1450—1516) живет в переломную для Европы эпоху – поздняя поздняя Осень Средневековья, если воспользоваться поэтической периодизацией Хёйзинги. Затишье относительной стабильности – средневековой раздробленности, перед очень скоро грядущим великим перемещением больших масс языков и традиций по всей Европе. Босх был еще цеховым художником. Об этом свидетельствует то, что он крайне редко подписывал свои работы (из 34 атрибутированных работ подписано 7). Эпоха Средневековья – это эпоха семейных профессиональных кланов (в музыке еще долго сохраняющих свою значение), передачи секретов мастерства по наследству и часто именно в полном секрете. Секреты мастерства являлись весьма солидным капиталом, прямо влияющим на заказы. Босх принадлежал к семье потомственных живописцев ван Акенов. При этом, он все же взял псевдоним, тем самым отделяя себя от клана. Семьи входили в более крупные цеховые корпорации. Эти объединения в позднем Средневековье все больше приобретали черты тайных секретных сект или сообществ, практикующих тайные знания как магию. Все сообщества были не только профессиональными, но и религиозными. Каждому цеху покровительствовал свой святой. Босх входил в Братство Богоматери («Zoete Lieve Vrouw»), посвященное культу святой Девы. Френгер (Fraenger 1975: 16-20; Baldass 1970: 59-60) полагает, что кроме того Босх был членом Братства Свободного Духа, называемых также адамитами, — еретической секты, возникшей в XIII веке, но бурно развившейся по всей Европе несколькими столетиями позже. Разумеется, магия, тайные практики, разного рода искусства, осуждалась Церковью, как конкуренты. Это знание было изустным, фольклорным, укорененным в языческих национальных ритуалах. По этой причине отсутствуют скольконибудь достоверные свидетельства о характере этих практик. Самым достоверным свидетельством являются протоколы Инквизиции и иконография. Босх не подвергался преследованию и допросу, поэтому единственным источником, по которым можно реконструировать его мировоззрение, являются его картины. В значительной степени сознание человека позднего Средневековья пребывало в состоянии диглоссии (термин Бориса Успенского применительно к Древней Руси после введения христианства в качестве официальной религии). Мы это можем детектировать в том числе и в специализации художников. Ренессанс приходит в первую очередь как национальное самоопределение, становление наций на фоне вненациональной унифицирующей религии. Оставаясь подданными католической Церкви, итальянские гуманисты обращаются к языческой античности, фиксированной достаточно репрезентативно в письменных и изобразительных источниках. Северное Возрождение обращается к языческому фольклору, поскольку достоверных памятников дохристианские культуры на этой территории практически по себе не оставили - друидические культуры не имели письменности или ее безвозвратно утратили. Иконографические свидетельства о народной демонологии, впрочем, достаточно многочислены – это готические чудовища, горгульи, располагающиеся по краям, на границах официального сакрального пространства, будь то крыша собора или поля иллюминированной книги. Эта периферия коллективного сознания, или лучше – бессознательного по К.-Г. Юнгу, - в XVI веке хлынула в самый центр культурно-интеллектуальной жизни христианской Европы. Босх несомненно прежде всего художник фольклорного сознания. Это читается по сюжетам: крестьяне, бродячие маги и знахари, проповедники, скоморохи, игроки, обжоры. Весь этот сброд становится героями многочисленных фольклорных баек, которые обретают литературную форму у Чосера, Бокаччо, а позже – у Рабле. Мир, описываемый Бахтиным как карнавальная культура, перевернутый относительно церковной нормы с ног на голову. Но если литература представила этот мир как бы снаружи, в повествовании о серии авантюр, то Босх изображает сознание, или, если угодно, подсознание народа в картинах. Причем, заметим, что Босх не принадлежал к низам общества, его семья была в нескольких поколениях цехом мастеров. Босх женился на богатой наследнице знатного рода и был вхож в соответствующие круги. То есть то, что он изображал, определяло мировоззрение достаточно просвещенной прослойки. Столпов общества. И вот, что представляло собой это коллективное бессознательное в раннюю эпоху национального самоопределения и индивидуации и позднюю эпоху цеховой стадии родового общинного строя. Босх отображает переходный период от мифологического типа сознания к историческому. Сюжеты картин Босха можно разделить условно на два типа: бытовые сцены, которые всегда содержат мораль, линия, которую продолжит Брейгель Мужицкий, и видения, линия, которая будет особенно развита в Испании, от Гойи до Дали. Заметим, что грядущий захват Нидерландов Испанией создал предпосылку к чрезвычайно продуктивному диалогу прежде всего в изобразительном искусстве. И при этом «голландцы» будут прежде всего верны первой линии – жанру - вплоть до Ван Гога, оставив мистическую линию испанцам16. Если с жанровыми моралите все более или менее понятно, то интерпретация видений представляет огромную трудность. Не одно поколение искусствоведов сломало не одно поколение методов на этом поприще. Причины этой сложности достаточно очевидны: практически отсутствуют какие бы то ни было альтернативные источники, описывающие то, что происходит на картинах. Действительно, единственным свидетельством подобных видений являются протоколы допросов ведьм. Но настоящая охота на них еще впереди. Во времена Босха подавляемая стихия народного язычества еще не набрала Надо заметить, что Гойя очень фольклорный художник и в этом подобен Босху. Но Гойя уже отшатывается от этого мира в ужасе осознания , что сон разума рождает чудовищ. У Гойи фантасмагория превращается в кошмар. Его только краем захватила придворная культура, которая владела Веласкесом целиком и полностью, не позволяя ему выходить за рамки бесстрастного, но комплиментарного зеркала. Впрочем, Веласкес сумел сказать свое слово о зрячей незрячести в «Менинах» - см. Фуко 1970. Диалог между голландцами и испанцами – это отдельная захватывающая тема, которую следовало бы развернуть в монографию. 16 силу. Его работы живописуют достаточно безобидную картину разлагающегося детского мозга. Это картина разложения мифа. Считывать содержание самых невероятных комбинаций многослойных эзотерических мотивов, специально перемешанных, чтобы ввести в заблуждение, зашифрованных так, чтобы никто ни о чем не догадался, задача практически невыполнимая. Разобраться в алхимических нагромождениях метафор и иносказаний можно только на очень высоком уровне исторического или аналитического обобщения, то есть огрубления материала. К.-Г. Юнг сделал эту попытку сведения алхимического наследия к архетипам, в результате в его книге разобраться не легче, чем в исходных текстах (Jung 1970). Дешифровать сообщение Босха относительно тайного знания, которым он обладал, не представляется возможным. Однако он совершенно точно и правдиво изобразил само устройство сознания своего времени. Это наивные, очень запутанные, по большей части совершенно бессмысленные вне очень узкого, дробного, часто секретного контекста картины страхов и желаний национального языка, то есть ментальности, того времени. Знаки разложения всегда очень трудно читать, разложение – это гомогенизация, сколь бы причудливо-разнообразные формы оно ни принимало. На первый взгляд – это разнообразие, а при достаточно пристальном анализе – одно и то же. Чудовищные сочетания обыденных вещей. Все сочетается со всем, без разбора. И при этом, парадоксально, мы видим картину практически предельного выражения энтропии – разрыва коммуникативных каналов, утраты общего кода и ценностей. Даже жанровые сцены у Босха по большей части абсурдны. Но за ними все же читается как бы нормативная бытовая прагматика – здравый смысл, а видения представляют уже чистый полет фантазии, то есть желаний и страхов, которые сплетаются друг с другом в самых немыслимых позах и комбинациях. Было бы наивно думать, что подобное творилось в голове одного человека – Иеронимуса Босха. Его работы покупались, он был вполне уважаемым членом общества. Правда, Босх, получив с женитьбой значительное состояние, мог себе позволить быть более разборчивым в приеме заказов, то есть писать то, что его действительно интересовало. Но он не был бунтарем-одиночкой из тех, которых породил немного позже дух ренессансного индивидуализма. Природа Босхахудожника другая. То, что он делал, соответствовало его эпохе, а не эпохе, скажем, Дали, который уже сознательно режиссирует свое бессознательное. В то время, как Ян ван Эйк представляет мир санкционированной Церковью гармонии, Босх представляет мир вверх ногами, мир наизнанку, тот самый карнавал, который из невинного развлечения по праздникам урожая очень скоро превратится в магистральную линию культуры, прежде всего культуры потребления, буржуазной культуры. Карнавал, плавно переходящий в Революцию. В Средние века по всем германоязычным землям ходила легенда о Тиле Уленшпигеле, ставшая настолько популярной, что была издана по-немецки отдельной книгой за год до смерти Босха. Тиль Уленшпигель, герой-трикстер, атрибутами которого были сова и зеркало, ровно те же, что сопровождали неизменно Афину-Минерву. Зрячий слепой, коммуникатор между мирами. Народное сознание варварской античности также сохранило этот концепт механизма, объясняющего вытеснение, в виде трикстера-пересмешника. Мы наблюдали этот концепт под маской величественной мудрости Афины у греков. Фигура агента сменилась, но атрибуты остались те же. Босх использует сову в своих работах, как уже было сказано, многажды. Иконография совы стандартная, иногда это туловище-сосуд с дырками глаз, иногда это только голова с глазами. В картине «Сад земных наслаждений» сова появляется пять раз: одну он помещает на левую внутреннюю створку и четыре – на центральную часть триптиха. В обоих вариантах «Искушения св. Антония» встречается по два изображения на центральных частях. Сова у Босха обнаруживается в самых неожиданных местах и становится видна лишь при очень детальном рассмотрении. Как правило, она выполняет функцию безмолвного созерцателя, тихонько выглядывая из-за угла, колонны, или дымохода. Особенно примечательны совы в картинах условно называемых (Босх не давал своим работам названий) «Фокусник» и «Корабль дураков». «Фокусник» представляет бытовую уличную сцену: бродячий маг показывает фокусы с наперстками. Это народное развлечение бытует по сей день, во всяком случае, в России. Вор срезает кошелек у разинувшей рот на чудеса матроны, в толпе зевак стоит куртуазная пара влюбленных, монахиня, довольно разномастная публика, все вовлечены в происходящее. А из корзины мага выглядывает сова – полголовы и глаза – наблюдатель, как бы вовлеченный и не вовлеченный в действие. Все видит, присутствует, но ничего не предпринимает. «Корабль дураков» представляет собой более отвлеченную аллегорию, впрочем, также разыгранную бытовыми фигурами, современниками художника. Сознание человека Средневековья не было исторично, оно знало только две категории – «сейчас» и «вообще». Во всяком случае, так следует из иконографии. Сцены истязаний и распятия Христа неизменно помещаются в современный художнику контекст. По обе стороны настоящего «сейчас» располагалось «вообще», в котором неизменно присутствовало начало и конец. Это отражено в вербальной формуле, сопровождающей крестное знамение: «И ныне, и присно, и во веки веков». «Присно» и «во веки веков» значат примерно одно и то же – «вообще». При этом мир регулярно кончался и начинался в определенных точках цикла. Средневековое время в значительной степени еще циклично, то есть мифологично. При этом Распятие происходило всегда в нулевой точке времени. Беда Достопочтенный, предложивший в VII веке отсчет времени от Христа, фиксировал назревшее понимание устройства темпоральной картины христианского мира. Эта точка была одновременно и сейчас, и присно (Григорьева 2005: 156-157). Учитывая такое представление о времени, можно интерпретировать «Корабль дураков» как инверсию нулевой точки Распятия. Аллегория, которая не имеет привязки к конкретному времени, но которая происходит здесь и сейчас. Корабль, вернее даже довольно утлая лодка, битком набит разномастной публикой, занятой совершенно абсурдными действиями. В качестве мачты используется живое зеленое дерево, из листвы которого выглядывает сова. Способ изображения совы здесь специфичен для Босха. Трудно даже сразу идентифицировать сову, потому что образ напоминает одновременно и маску, и череп. Череп дополнительно мотивирован инверсией относительно канонической композиции Распятия, где Адамова голова располагается у подножия креста. Дальше аллегория читается достаточно легко. Вместо твердой горы – зыбкая хлябь, вместо горя – музыка и пьяное веселье с прочими безобразиями и несуразицами (заметим, что пьют эти пьяницы не вино, а забортную воду, причащаясь не крови, а околоплодным водам, а едят ягоды, а не мясо агнца), вместо креста – полумесяц луны, которая не просто символ мусульманства. Для средневекового сознания это символ заблуждения вообще, неверности, измены, соблазна. И дополнительным доказательством того, что мусульмане – отступники, было то обстоятельство, что у них полумесяц вместо солнца или креста. У мусульман была своя культура базовых графических символов, они не читали свой полумесяц таким образом. Для христиан же потомков друидов, крест обозначал Солнце, он происходит из остановленной Свастики (см. Григорьева 2005: 167-172; Grigorjeva 2007). Смерть Бога – нулевая точка пространства-времени. Поэтому христиане-друиды восприняли христианство по-своему, как смену и окончательную победу патриархата над матриархатом17. Креста над Полумесяцем Белой Богини (см. Graves 1948). Но, Первым аналитиком, указавшим на сакральный характер матриархата, был the Swiss anthropologist Johann Jacob Bachofen (1815-1887), who in 1861, in the first volume of his book «Das Mutterrecht» ['The Mother Right'] argued that the matriarchate or gynaeococracy found among tribal peoples, where authority in both the family and the tribe was in the hands of the women, was to be associated with the worship of a supreme female earth deity. 17 как известно, окончательных побед центра над периферией никогда не бывает. Это взаимообогощающие друг друга две фазы одного цикла. Так развивается культура – по спирали, как и писал Гегель. Поэтому на месте мачты-креста в перевернутом мире появляется живое зеленое дерево. Принцип «мужской» рациональной регулярности (структуры) замещается непредсказуемой «женской» стихией (ризомой18).19 И надо всем этим царит сова – мертвая голова, memento mori включенного наблюдателя. То есть самонаблюдателя. Включенный наблюдатель наблюдает в том числе и себя в том или ином контексте. Но невозможно наблюдать и быть одновременно, это противоречащие друг другу состояния, если угодно, материи. Наблюдать значит не быть. Это очень хорошо понимали древние, когда наделяли сову, зеркало и глаз одними свойствами. Есть материальный глаз, оптический прибор, но кто его активирует? Тот, кто его активирует, не равен этому прибору, прибором должен кто-то пользоваться. Кто? Тот, кто знает об этом. Тот, кто знает об этом, интерпретатор. Великий аналитик искусства Эрнст Гомбрих очень хорошо выразил это состояние, описывая именно свойства изображения: «Я не могу одновременно иметь свой пирожок и съесть его» (“"I cannot have my cake and eat it. I cannot make use of an illusion and watch it" – Gombrich 1960: 5)20. Впрочем, это касается любого акта семиозиса, то есть понимания, то есть означения. Это высказывание Гомбриха помогает нам задним числом понять значение еще одного загадочного мотива в композиции «Корабля дураков»: круглой лепешки или каравая, подвешенного на веревке к мачте, к которому сидящие вокруг стола тянутся ртами, но не могут дотянуться. Это хлеб чувственного познания мира, который никогда не может быть съеден. Голод чувственного познания не может быть утолен – очередной виток понимания неизбежно порождает новые слепые зоны. Собственно, здесь представлена в наглядной форме процедура герменевтического круга, как ее намного позже опишет Ф.Шлейермахер (1768–1834; Schleiermacher 1998). Данный изобразительный сюжет также пародирует каноническую иконографию причастия гостией – телом Христа, пищей, которая призвана утолить голод Термин Делеза и Гваттари, описывающий органическое состояние культурного дискурса в противовес тексту. 19 См. об этом также: Boczkowska 1971. 20 Gombrich при этом ссылается на Плиния, который отрефлексировал различие между физическим актом зрения и осознанием увиденного: "The distinction between what we really see and what we infer through the intellect is as old as human thought on perception. Pliny had succinctly summed up the position in classical antiquity when he wrote that 'the mind is the real instrument of sight and observation, the eyes act as a sort of vessel receiving and transmitting the visible portion of the consciousness'. " – Gombrich 1960: 12. 18 вкушающего раз и навсегда.21 Таким образом процедура понимания противопоставляется акту веры. Сова у Босха выполняет функцию его зеркала, его отражения, его лого. Из картины в картину перемещается альтер эго художника трикстера-невидимки.22 Босх был художник-скоморох, трикстер-пересмешник обыденности. Трикстер – фигура архаического сознания,23 унаследованного народным сознанием Средневековья, которая позже трансформируется в бунтаряодиночку, выскочку, который ведет за собой толпы. Функция трикстера иная – наблюдать и показывать нестыковки в отлаженной работе системы – работать с когнитивным диссонансом. Иногда даже в специально созданных условиях – в провокации, то есть в экспериментах. Открывающий истину и в то же время ее высмеивающий, скрывающий под шутовскими масками, под которыми распознать ее может только посвященный – такой же трикстер, умеющий играть мирами – нормами, потому, что он хорошо осведомлен о множественности норм. Собственно, истина состоит в том, что ее нет в буквальном смысле, есть множество правд, в которых являет себя базовый принцип – относительности любой интерпретации. Поэтому истина познается в зазорах между языками, прежде всего в юморе. Трикстер – интеллектуал, если воспользоваться современными терминами (не путать с книжником-интеллигентом). Он вечный предатель с точки зрения любой хорошо структурированной корпорации. Он андрогин, он шут, философ, актер, маг, вор, лгун, но не в соответствующих корпорациях, а сам по себе. И при этом он знает норму, вернее, ее относительность, потому что норма, канон, тот или иной, всегда являются основанием любой игры или трансформации этой нормы. Без правил нет игры. Без правил – мордобой, хотя и мордобой, как правило, по правилам. Босх начинает как цеховой мастер, но покидает семью, обзаведясь отдельным именем, под которым его опознают в истории как яркую авторскую личность. Босх, изображая все ужасы своего коллективного бессознательного, все же смотрел на них несколько со стороны. Самоанализ. О чем и свидетельствует сова, присутствующая на 18 из 34 атрибутированных ему работ. «Я – хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет голодать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.» - Иоанн 6-35. 22 Позже Вермеер оставляет специально стул для такого наблюдателя-невидимки в своих интерьерных композициях. И только один раз этот стул будет занят художником, повернутым спиной к зрителю. 23 О фигуре трикстера написано немало работ – см. обобщающую работу Hynes, Doty 1993. По нашему мнению, трикстер – прямой потомок шамана – коммуникатора между миром человеческим, смертным, и миром духов, вечным. 21 Шарль де Костер, перенося действие легенды об Уленшпигеле в более актуальную для себя историческую эпоху, в эпоху вторжения Испанской короны в Нидерланды, фиксирует с точностью дотошного историка и достоверностью гениального поэта следующий этап развития концепта трикстера. Уленшпигель, согласно Костеру, подходит вплотную к тому, чтобы возглавить народные толпы. Ничего хорошего в дальнейшем это перерождение трикстера в народные мстители народам не принесло. Провокация эксперимента переросла невинную шутку, поставив геноцид на поток. Луис Бунюэль в соавторстве с большим почитателем Босха Сальвадором Дали в 1929 году сделали фильм, который начинается с самого страшного кадра за всю историю кинематографа, до и после. Ничего страшнее разрезанного глаза наблюдателя, с которым ты себя неизбежно идентифицируешь, не было представлено средствами изобразительного искусства. Это, конечно, наше персональное мнение, но оно было обосновано выше. Равно как и то, что шок этого кадра является необходимой гигиенической процедурой для каждого аналитика-наблюдателя, поскольку показывает, насколько не совпадает то, чем наблюдают, с тем, кто наблюдает. В заключение приведем несколько поэтических высказываний, описывающих свойства зрения, которые собрал Гомбрих в своей классической работе “Art and Illusion” (с 1960 года его книга была переиздана 18 раз!): "A perfect painting is like a mirror of Nature, in which things that are not there appear to be there, and which deceives in an acceptable, amusing, and praiseworthy fashion." Samuel van Hoogstraten “Introduction to the Elevated School of Painting”, 1678 "The hand touched a flat surface; but the eye, still seduced, saw relief; to the extent that one could have asked a philosopher, which of these two contradictory senses was a liar?" Denis Diderot “Salon of 1761” И еще одно высказывание Вильяма Блейка, которое приводит Ричард Грегори в своей также ставшей классической книге «The Intelligent Eye» (Gregory 1970): This life's dim windows of the soul Distorts the heavens from pole to pole And leads you to believe a lie When you see with, not through, the eye. ~ William Blake «The Everlasting Gospel» (c. 1810). Section 5, line 101 Таким образом, мы наблюдаем непрерывную цепь концептуального знания, выраженного в слове и образе, о специфике чувственного опытного познания в качестве «слепого зрения» бесконечного герменевтического круга. Мы можем с достоверностью проследить преемственность мысли, по крайней мере, начиная с греческой античности24, с остановкой на конкретном примере И.Босха на переломе от Средневековья к Ренессансу и вплоть до современных нам аналитиков - Э.Гомбриха и Р.Грегори. И на этом пути нас всегда сопровождал Универсальный Коммуникатор - трикстер, многоликая инкарнация Гермеса Трисмигистского, в нашей работе неупомянутого по причине недостатка базы данных. Досье на Гермеса еще впереди. Мы имеем также все основания предполагать, что этот концепт уже существовал в эпоху Палеолита и Вавилонских царств. 24 Литература: Baldass, L. 1970. Hieronymus Bosch, Leipzig. Bax, D. 1983. Hieronymus Bosch and Lucas Cranach. Two Last Judgments Triptychs. Description and exposition. Amsterdam/NY. Boczkowska, A. 1971. The Lunar Symbolism of the Ship of Fools by Hieronim Bosch // Oud-Holland, no. 96. PP. 47-69. Foucault, Michel 1970. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Pantheon Books. Fraenger, W. 1975. Hieronymus Bosch, Stuttgart. Gregory, Richard, L. 1970. The Intelligent Eye. London. Gombrich, Ernest H. 1960. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. Phaidon. Ist ed. Graves, Robert 1948. The White Goddess: a Historical Grammar of Poetic Myth. London: Faber & Faber. Григорьева, Елена 2005. Эмблема. Очерки по теории и прагматике регулярных механизмов в культуре. М.: Водолей Publisehers. Grigorjeva, Jelena 2007. Space-Time: A mythological geometry. Sign Systems Studies. 35.1/2. PP. 161–215. Гуревич, Арон 1972. Категории средневековой культуры. М.: Искусство. Huizinga, Johan 1924. The Waning of the Middle Ages: A Study of Forms of Life, Thought, and Art in France and the Netherlands in the Dawn of the Renaissance, trans. Fritz Hopman, London. Hynes, William J. , Doty, William G. 1993. Mythical Trickster Figures. Tuscaloosa:The University of Alabama Press. Jung, Carl Gustav 1970. Mysterium Coniunctionis. Collected Works of C.G. Jung. Volume 14. G. Adler and R.F.C. Hull, eds. and trans. Лотман, Юрий 1992. «Звонячи в прадеднюю славу». Избранные статьи. В 3-х тт. Т. 2. Таллинн. С. 107-110. Мамардашвили, Мераб 1999. Лекции по античной философии. М.: «Аграф». Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst 1998. Hermeneutics and Criticism and Other Writings, tr. Andrew Bowie, Cambridge University Press. Spychalska-Boczkowska, A. 1966. Material for the Iconography of Hieronymus Bosch`s Triptych: The Garden of Delight // Studia Muzealne, no. 5. PP. 49-95. Столяр, Абрам 1985. Происхождение изобразительного искусства. М.: «Искусство». Ямпольский, Михаил 1993. Память Тиресия. М.: РИК Культура, Ad Marginem.