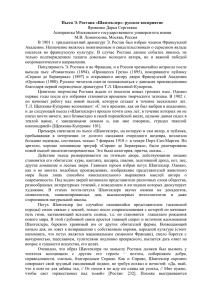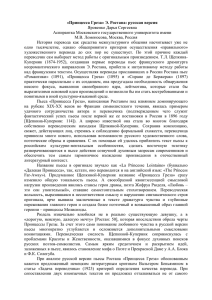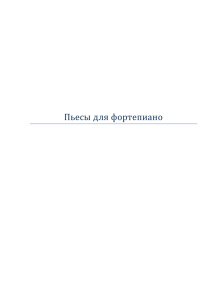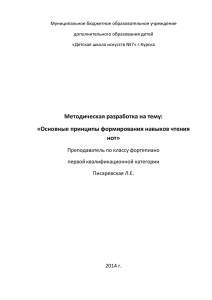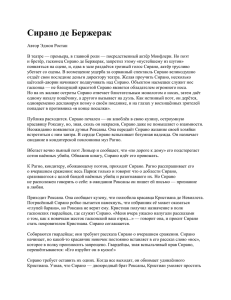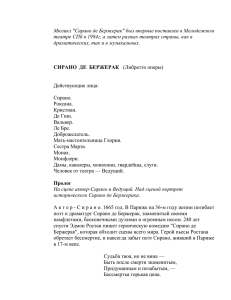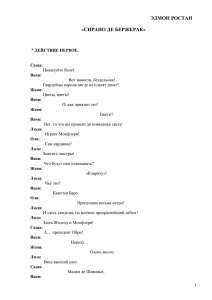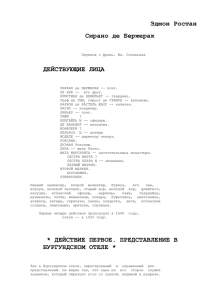ПАМЯТИ ПЕРВОГО РЕЖИССЕРА
реклама

ПАМЯТИ ПЕРВОГО РЕЖИССЕРА — Только сумасшедший вроде вас мог согласиться переделывать классику. Тем более Ростана! — произнес мой режиссер Ефим Михайлович Падве, когда под утро, устав от пятичасового спора, мы приняли (впервые) по стакану коньяка. И поскольку я, как и он, был вполне неадэкватен (пили без закуски), то нахально ответил: — Правильно. Только сумасшедший мог согласиться работать с вами! Мы встречались через день почти три месяца и, по-моему, уже тихо ненавидели друг друга. Я, как все нормальные люди, к тому же «жаворонок», привык спать по ночам. А у людей театра активная жизнь начинается после полуночи и кончается часа в 3–4. Так что я был невменяем первую половину ночи, а он вторую. Мы были абсолютно разные: по характеру, темпераменту, по способу восприятия слова. Когда я читал, он слушал не слова, а пытался увидеть то, что я написал. Поэтому мне приходилось по многу раз повторять, возвращаться, и я не был уверен, слышит он меня или застрял где-то сзади. Вот типичная сцена: читаю кусок текста, он внимательно слушает, кивает и вдруг: — А это кто говорит? — Солдат. — Откуда он взялся? — Вошел минуту назад. — Зачем, чтобы сказать эту чепуху? — Я вчера это место пять раз читал. Вы согласились! — Какой солдат? Не было никакого солдата! Что это вы, Альберт, режиссурой занимаетесь! И так каждый раз. В виде мести я расшифровывал его инициалы Е.М. так — ем авторов. Потрясенный увиденной в Литве рок-оперой «Ромео и Джульета», Е.М. задумал поставить в своем театре «Сирано де Бержерака» в том же жанре и пригласил почему-то меня в качестве либреттиста. Я не считал себя драматургом. Писал «в стол», чаще под стол (в корзину). И то, что я условно называл пьесами, было скорее решением, в форме диалога, неких интеллектуальных задач. Например, прочитав «Гамлета», я год ходил буквально пришибленный загадками пьесы, пока не написал «Эльсинор», вступление к трагедии Шекспира, где открывалось, как умер отец Гамлета, зачем мать вышла так скоро замуж, почему такими напряженными были отношения Офелии и Гамлета, почему он уехал учиться в Виттенберг, город Лютера и т.д. Эта стилизация попала каким-то образом в руки Падве, и он решил, что, если я так обошелся с Шекспиром, то справиться с Ростаном — плевое дело. Но если серьезно, мне кажется, он просто не рискнул предложить эту работу профессионалу, зная, что в случае неудачи огонь критики обрушится прежде всего на автора текста. А я ничем не рисковал, что взять с дилетанта! Но быть «мальчиком для битья» все же не хотелось. Я понимал: трогать канонический текст Ростана это самоубийство, надо писать новый текст, сохранив не букву, а дух великой пьесы. Как это сделать, я не знал. И Падве не знал. Однажды я прямо спросил: — Что вы хотите от меня? — Не знаю. Вы пишите, там посмотрим. — Тогда чего вы не хотите? — Откуда я знаю? Пишите! Да, подумал я, это настоящий художник! В конце концов я выбрал путь, которым шли многие, от Шекспира до Ануя, думаю, и раньше — драматурги. Сирано — лицо историческое. Известно, что был носат, был тайно влюблен в кузину, был задира и поэт. А посему можно не обращать внимания на предыдущие версии. Пьеса Ростана мне не мешала. Человек ведь не меняется. Характеры героев, чувства, мотивы поступков, а значит, и сами поступки остались прежними. Изменились слова, темп и стилистика речи. Было бы странно в конце 20 века изъясняться языком века 19, в котором жил Эдмон Ростан. Я не силен в старофранцузском, но уверен, язык пьесы Ростана тоже отличается от языка 17 века, времени реального Сирано де Бержерака. Когда черновой вариант был закончен, к работе подключился композитор Александр Сойников, за плечами которого был солидный театральный опыт: музыка к спектаклям, несколько балетов. Он, мягкий, деликатный, близкий мне по духу человек, сев за рояль, становился жестким, ироничным, даже агрессивным. Естественно, агрессия была адресована не мне лично, а моему, так сказать, творчеству. «Как стихи — неплохо, возможно, это даже поэзия, но петь-то это невозможно! Надо менять.». «Всё?»— спросил я в шутку. «Всё» — ответил он всерьез. Придумывание текстов к музыкальным номерам, оказывается, к разряду поэзии не относится! — Это открытие меня удивило. Но потом я вспомнил, что говорил о поэзии Мандельштам: в ней важна не рифма, а ритм. Он имел в виду, что в поэтической строке живет неслышимая внутренняя мелодия, и стало быть, мелодия внешняя ей противопоказана. Поэтому так мало музыки, достойной музыки, сочинено на стихи Пушкина, Тютчева, Фета, Блока. И наоборот, множество хороших песен и романсов написано на тексты, которые отношения к поэзии не имеют. Когда мы любуемся танцевальной парой, их изумительной слаженностью, мы как-то забываем, что эта гармония возможна при одном условии: один партнер ведет, другой подчиняется. Когда у рояля сходятся два песенника-профессионала, они могут, поспорив, договориться, кому быть первым номером: композитору или поэту. Но если встречаются два ярких таланта (иногда одного уже нет в живых), компромисс практически невозможен. Потому что в первом случае соперничают два человека, а во втором — противостоят Музыка и Слово. Сказано, пожалуй, слишком «красиво», но иначе объяснить не могу. Что касается меня, то я сразу подчинился диктату Саши Сойникова и терпеливо исправлял тексты (правда, иногда он возвращал первый вариант), поскольку понимал: семь нот, которыми распоряжается композитор, несопоставимы с двумястами семьюдесятью пятью тысячами слов русского языка. За цифры не ручаюсь, но просклонял их, кажется, верно. За месяц до премьеры (которую потом переносили три раза), к нам присоединился режиссер. Прослушав материал, Е. М. произнес приговор: «Два с половиной часа музыки, зрители разбегутся. Будем сокращать.» И началось то, что зовется в хирургии вивисекцией, это когда режут по живому. «Сирано» то усыхал до размеров комикса, то снова разбухал. Е.М. то выбрасывал диалоги, оставляя только музыкальные номера, то резал музыку. В зависимости от этого композитор то пребывал в эйфории, то впадал в ступор и почему-то сердился на меня. Сердиться на режиссера было бессмысленно, он страдал больше всех, ходил черный и повторял: «Как я буду ЭТО ставить?». Он непрерывно менял ЭТО, то есть, содержание, чтобы нащупать точную форму. Он был из тех художников, которые верят, что материал диктует форму, и эта форма должна быть единственной. Он искал эту форму с упорством маньяка, не щадя никого, и нашел недели за три до премьеры. Чудо превращения отдельных, сметанных на живую нитку номеров, в нечто цельное и живое, чему долго не могли дать названия критики и назвали условно мюзиклом, — это чудо произошло на моих глазах. Но, похоже, заметил это я один, остальным было не до того. Все чаще звучали страшные слова «сдача» и «худсовет». При этом на лицах появлялось выражение, какое встречаешь чаще всего в очереди к зубному врачу. В сумасшедшем доме под названием «выпуск спектакля» я был посторонний наблюдатель, потому что все было для меня внове и, главное, я не представлял, что меня ждет. И вот он настал, день сдачи, 24 декабря, Рождественский сочельник, время чудес. Вероятно, поэтому ничего страшного не случилось. Как сказал потом на банкете один молодой критик, если бы вы стали переписывать пьесу Ростана, вас съели бы. Но там, я слушал внимательно, ни одной строчки Ростана нет. А потом подошел старичокростановед, поздравил и спросил: «Как вам удалось соединить с музыкой текст Ростана?» Я не стал его разочаровывать. Короче, худсовет прошел довольно мирно. Все-таки на дворе был 1984 год, закат империи, — свирепые разносы и запреты уходили в прошлое. Впрочем, свою ложку дегтя я получил после, от газеты «Правда». Известная критикесса проехалась по мне фразой «беспомощные стихи». В главной газете страны я был фактически назван пошляком. Я страдал, пока мне не объяснили, что быть обруганным «Правдой» это большая честь и лучшая реклама. Полтора года работы над «Сирано» были временем мучительным, но и прекрасным. Это была школа, и учителем моим был большой режиссер Ефим Михайлович Падве. Его уроки я не забуду. А вскоре я узнал его как человека. Еще до встречи с ним я подписал коллективное письмо с просьбой к властям об открытии Армянской церкви на Смоленском кладбище, закрытой большевиками в 1937 году. Я преподавал тогда на иностранном отделении одного учебного заведения, трудился, как тогда говорили, в идеологическом секторе и понимал, чем рискую. Но на Смоленском, под асфальтом стадиона, лежали мои предки, я не мог не подписать. С работы меня вытурили, обвинив в национализме, но я не сильно переживал. — В мою жизнь вошел театр. Но власть нанесла еще один удар. Е.М. вызвали в райком партии (худруком не мог тогда быть беспартийный) и объяснили, что театр, тем более Молодежный, тоже — идеологический сектор, а он пригрел у себя сомнительную личность. Ему предложили снять спектакль. Он отказался. Тогда потребовали убрать мое имя с афиш. Он снова отказался. Спектакль шел еще два года. Этот урок я тоже никогда не забуду.