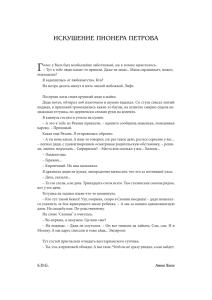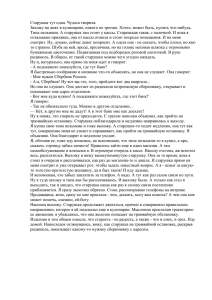я просто ванька
реклама
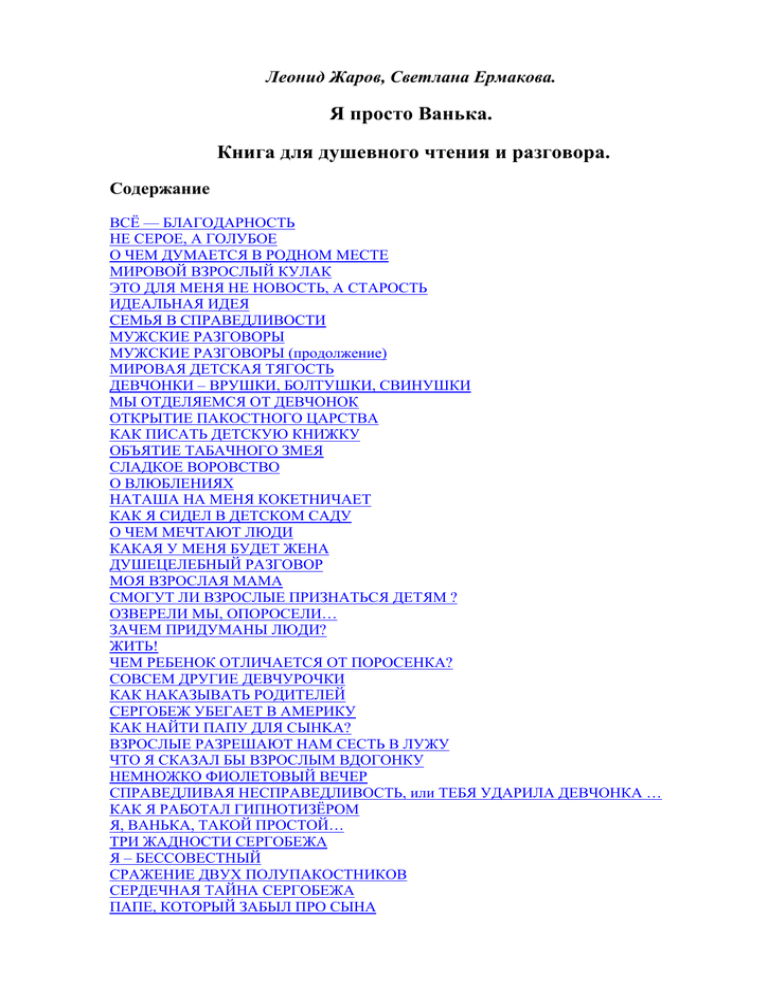
Леонид Жаров, Светлана Ермакова. Я просто Ванька. Книга для душевного чтения и разговора. Содержание ВСЁ — БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ СЕРОЕ, А ГОЛУБОЕ О ЧЕМ ДУМАЕТСЯ В РОДНОМ МЕСТЕ МИРОВОЙ ВЗРОСЛЫЙ КУЛАК ЭТО ДЛЯ МЕНЯ НЕ НОВОСТЬ, А СТАРОСТЬ ИДЕАЛЬНАЯ ИДЕЯ СЕМЬЯ В СПРАВЕДЛИВОСТИ МУЖСКИЕ РАЗГОВОРЫ МУЖСКИЕ РАЗГОВОРЫ (продолжение) МИРОВАЯ ДЕТСКАЯ ТЯГОСТЬ ДЕВЧОНКИ – ВРУШКИ, БОЛТУШКИ, СВИНУШКИ МЫ ОТДЕЛЯЕМСЯ ОТ ДЕВЧОНОК ОТКРЫТИЕ ПАКОСТНОГО ЦАРСТВА КАК ПИСАТЬ ДЕТСКУЮ КНИЖКУ ОБЪЯТИЕ ТАБАЧНОГО ЗМЕЯ СЛАДКОЕ ВОРОВСТВО О ВЛЮБЛЕНИЯХ НАТАША НА МЕНЯ КОКЕТНИЧАЕТ КАК Я СИДЕЛ В ДЕТСКОМ САДУ О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ЛЮДИ КАКАЯ У МЕНЯ БУДЕТ ЖЕНА ДУШЕЦЕЛЕБНЫЙ РАЗГОВОР МОЯ ВЗРОСЛАЯ МАМА СМОГУТ ЛИ ВЗРОСЛЫЕ ПРИЗНАТЬСЯ ДЕТЯМ ? ОЗВЕРЕЛИ МЫ, ОПОРОСЕЛИ… ЗАЧЕМ ПРИДУМАНЫ ЛЮДИ? ЖИТЬ! ЧЕМ РЕБЕНОК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОРОСЕНКА? СОВСЕМ ДРУГИЕ ДЕВЧУРОЧКИ КАК НАКАЗЫВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ СЕРГОБЕЖ УБЕГАЕТ В АМЕРИКУ КАК НАЙТИ ПАПУ ДЛЯ CЫHKA? ВЗРОСЛЫЕ РАЗРЕШАЮТ НАМ СЕСТЬ В ЛУЖУ ЧТО Я СКАЗАЛ БЫ ВЗРОСЛЫМ ВДОГОНКУ НЕМНОЖКО ФИОЛЕТОВЫЙ ВЕЧЕР СПРАВЕДЛИВАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, или ТЕБЯ УДАРИЛА ДЕВЧОНКА … КАК Я РАБОТАЛ ГИПНОТИЗЁРОМ Я, ВАНЬКА, ТАКОЙ ПРОСТОЙ… ТРИ ЖАДНОСТИ СЕРГОБЕЖА Я – БЕССОВЕСТНЫЙ СРАЖЕНИЕ ДВУХ ПОЛУПАКОСТНИКОВ СЕРДЕЧНАЯ ТАЙНА СЕРГОБЕЖА ПАПЕ, КОТОРЫЙ ЗАБЫЛ ПРО СЫНА ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВОДКУ ПЬЮТ? КУДА СПРЯТАЛАСЬ СОВЕСТЬ СЕРГОБЕЖА? ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ПАПА? ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ДЕДУШКА? МЫ ЗАДАЕМ ВОПРОСИКИ ГДЕ ЖИВЕТ СОВЕСТЬ? ВЫСОКИЙ ВОПРОС ОТКРЫТИЕ МИРОВОГО ЦАРСТВА ДРУЗЕЙ ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ СКАНДАЛ В НАШЕМ ЦАРСТВЕ ЗАЧЕМ ВЗРОСЛОМУ РЕБЕНОК? ЖАЛОБЫ ДЕТЕЙ ГPO3OГРОМЫ ЦАРСТВО ДРУЗЕЙ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ ПРИЯТНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОХОД ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГРЯЗНО РУГАЮТСЯ? ЭТО МОЖЕТ ТОЛЬКО РЕБЕНОК ДЕТСКИЙ PЫHOK ЖИВОЙ СТИМУЛ ДЕТСКАЯ БИРЖА БЫСТРОГО ТРУДА ДЛЯ СБЕЖАВШИХ ИЗ ДОМА РАССУДИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КАКАЯ БУДЕТ ШКОЛА КАКОЙ НАМ НУЖЕН ГЕРБ СОВЕСТЬ ЗОВЕТ ВОРОВАТЬ ВОРОВАТЬ? СПАСАТЬ? ОКЛЕВЕТАЛИ НАС В ВОРОВСТВЕ ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ? ДВОЮРОДНАЯ РОДСТВЕННИЦА ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫЙ ДЕТСКИЙ ДЕНЬ ЭХ ВЫ, ЛЮДИ-ТЕТЕНЬКИ! ЧЕГО НЕ ВИДЯТ ЛЮДИ ДЕВОЧКА-СОЛНЫШКО БУДЕТ ЛИ ЦАРСТВО ДРУЗЕЙ? Спасибо Ирине Уткиной за электронный набор этой книги. Мы сказали ей, что мы не те люди, которым надо помогать; она ответила: "Я хочу помочь не вам, а читателям". ВСЁ — БЛАГОДАРНОСТЬ Солнце вскочило на сосну, сидит, ножки свесило. Ему интересно, кто я такой иду, куда путь держу и добрые ли у меня помыслы. Иду я песочной, неуезженной, неухоженной дорогой. Вышел из автобуса, и такая сразу чудесность началась! Кто не был в деревне – смотрите! К дороге поле выпустило своих васильков - расцвели на меня глазками своими. Кто не был в деревне – нюхайте! Запах, благоух, будто пчелу проглотил. Кто не был в деревне – слушайте! Тишина… и приятный кукарек петухов. Кукарек: необычное слово, правда? Вы тут много новых слов услышите. Я их сам придумываю, это у меня жанр такой, на всю жизнь. Потому что я слов немного знаю, и чтобы объясняться, придумываю новые. Я, честно говоря, жил в этой деревне целый год, весь первый класс. Был в детстве больной, зеленый, как огурец, тогда мама с папой и со мной переселились сюда, к бабулечке. Но тогда я был кто? – малыш, малышеватый, и помню только, что все здесь было яркое: снег яркий до слез, сосны чисто-зеленые, солнце тоже до слез настоящее. Помню-помню, все здесь настоящее: деревенское молоко, деревенское варенье из ревеня – ревенье. Деревня! Все здесь благоустроено для ребенка! Во дворе бочка воды, морковка пыжится из земли… А в городе что? Скука непереставанная, стучим друг дружкой об стенки, обтираем стенки только. Здесь всё – благодарность: собирать рыбу, ловить грибы, кататься на озере, купаться в велосипедах… Если подумать, про деревню все сказки, вся мудрость отсюда пошла. Тут я… ИванЦаревичем буду! А в городе я Ванька, просто Ванька. И больше у меня ничего нет, только имя. И все ванькают. Ванька – но не подставляйте дурака; я – большой недурак. Знаете, люблю размышлять, страсть люблю размышлять. Лежу, забудусь и начну у себя в голове уже не то думать, уже там врать начну, Господи! Премию там получаю, Мировую, Нобелевскую… Некоторые думают, что умный мальчик должен умножать в уме одиннадцать на тринадцать. Наша учительница таких умножает… ой, уважает. А про меня говорит, что я болтушка и каждой бочке затычка. Да, так и говорит, прямо при девочках; позорит меня. Ну, а подумать – где в жизни пригождается одиннадцать на тринадцать?.. Нигде. Я вот думаю, кто умный: Умный – кто умеет разгадывать людей по улыбке и неулыбке. Кто знает происхождение всей Жизни. Кто умеет сочинять стихи в уме. Кто может поговорить с завучем школы, в уме. Кто может забалтывать хоть о чем и болтать без передышки всю большую перемену. Кто… НЕ СЕРОЕ, А ГОЛУБОЕ Ну вот, я и пришел. Деревня стоит рядом со мной и рядом с лесом. У первого дома стоит культурная сосна с культурным телефоном на стволе. И тут из тени сосны выходит моя бабушка. Идет ко мне потихоньку, с неразлучной палочкой-неупалочкой. По целой белой улыбке я узнал бабу Настю. Зубы у нее все свои; потому что в детстве ела много луку. И когда я вам буду рассказывать про бабушкину лукавую улыбку, вы можете смело читать, что улыбка у нее - луковая. Я не обижусь. Лицо у бабушки круглое и умное, как у меня. Не успели мы обняться, как нас размагнитил взвизг летящей над травой кошки. Над кошкой нависала собачья пасть, не чуя хвоста своего. Кошка вскарабкалась по телефону на сосну. Собака пропустила сосну между ушей, встала на ноги и профессионально пыталась залезть на дерево. Я понял: я в деревне. Кошка взрысилась на ветке, фффффыдыхала на собаку. Я смотрю на этот деревенский звук, на это деревенское небо… Небо тут не обыкновенное, не городское дымчатое, а доброе, голубое, и под ним спокойно, как под крышей. Мы с бабушкой опять смагнитились и пошли к родному дому. Не у каждого есть родной дом. Он может быть только из дерева, из живого материала. Не у каждого есть родной дом, но каждый мужчина может его построить. Об этом я думал, когда показался родной заборчик. Дом у нас приятного бревноватого цвета, в стеклах помещается солнце и две липы. Под солнцем, под липами на подоконнике поместилась чашечка чего-то дымного. Вы, конечно, поняли, что это малиновый кисель… Мой любимый, густой. Малиновый. О ЧЕМ ДУМАЕТСЯ В РОДНОМ МЕСТЕ Поздоровалась калитка протяжно и скрипло. Мы с бабушкой и с моим чемоданчиком из искусной коричневой полукожи зашли в родной двор, в родное место. Если у человека нет родного двора, где идет самая нужная и полезная человеку жизнь, то этот человек несчастный, нищий, нищий, обворованный. Когда в автобусе человек садится к окну, чтобы хоть на пять минут у него был свой уголок, защита от всего толкающего, наступающего и ругающего, – я сразу понимаю: у него нет родного дома, родного двора. Я постоял около поленницы, она пахнет лесом и опятами. В этом доме есть моя комната. В ней стоит высокая койка и широкий стол. Шкафгардероб, шкаф-комод и даже ваза с цветами ромашками. В городе у меня только свой стул, на котором я делаю только уроки. А в моей деревенской комнате три окна. Одно на улицу, другое – в свой двор, а третье окно… Я посмотрел в него – и стало видно, как живет соседский двор. Там жила теплица, жила лопата, жила белая, совершенно белая береза. Под березой, смотрю, перелапкиваются два толстеньких белых щенка. Эх бы мне бы одного! Тут все благоустроено для собаки, для хорошей собачьей жизни. В городе, хоть и говорят, что жизнь собачья, собаке плохо: страшно, тесно и душно. Я вышел во двор с этими толстенькими, визглявенькими мыслями. Бабушка в панамке наклонялась за маленькими огурцами. – Это сорт "Изящный", – похвалилась бабушка. – Я специально для тебя выписала семена по почте. Будем делать изящный салат и окрошку изящную. Я подхожу, любуюсь, как жужжат пчелы над сортом огурца. Я рад всему изящному и внимательно опускаю изящного в рот. Оказалось, что это очень умный огурец: колет палец, но совсем не трогает язык. Только я протянул руку за другим, как меня привлек прыгошорох в сарае, небольшом, но крупном сарайчике. Кто там есть? Может, волк притаился, чтобы съесть бабушку без красной шапочки? Вон он лес, недалеко, густой, как щетка. – Пойди, погляди, – пригласительно шепчет бабушка. А в сарае оказались клетки с кроликами. В одной – большой прожорливый крол. Нос у него, как кнопка: вдох – кнопочка нажмется, выдох - кнопочка вылетит из нажатого положения, а уши встанут торчком. В другой клетке, в белом пуху, мы видим крольчат; они лежат в рядок, прижатые вместе, как пальцы робкой руки. И тут я понял навсегда, без чего не может человек: человек не может без красоты. А красота тут, в деревне. МИРОВОЙ ВЗРОСЛЫЙ КУЛАК А потом я вышел погулять, поискать что-нибудь детского. Подошел к ограде, соседней рыжему полю, и вдруг… Вдруг оттуда, от дома, вырвался детский крик, целый криковопль такой: - Ай! Папочки! Папочки-и-и… Я, конечно, подпрыгнул скорей поближе, к самому плетню, и вижу… вижу такое неприятное: лохматая мать схватила лохматого мальчика за шкирку шиворота и подняла высоко. Он так и повис над зеленой Землей, над кочанчиками капусты, так и закричал жалобно: - Ну всё, всё, пожалей! - А ты жалеешь? Ты жалеешь, утварь такая! – мать встряхнула сына и еще повесила его повыше. – Опять на тебя жалуются, пришли?! Еще кто пожалуется – убью навсегда! - Проперчи там ему! Как следует, чтоб жгло, – говорит кто-то дряблым голосом. Вижу – у калитки белый букет, и старушечка стоит, пестренькая, как бабочка, острый носик в букет вонзила. Я сказал ей и всем, кто слышит: – Постучать надо. Или крикнуть… Эй, люди! Убивают! Господи, Господи! И тут кричат, дерутся! Тут, в этой зелености, солнечности, благодатности, люди только улыбаться должны, только целоваться, только дарить. В этой обширности мирно уживается целый народ птиц-летающих, целый народ жуковползающих, целый народ плавающих карасиков. И только народ думающих живет так некрасиво. Идет, подхрамывает старый дяденька, лысина, как у старого богатыря: – На кого тут ералаш подняли? Сергобежа дерут, ну-ну… Мать поставила истрёпанного Сергобежа на траву, шкирка в одной руке, а в другой, откуда ни возьмись – огромный горячий кипятильник и сообщила: – Я еще не на гробовой доске. Я жизнерадость люблю. Дяденька жизнерадостно засвистел и сел на сосновый пенек. Благоустроился на нем, ногу протянул, развернул перед собой газету, она образовала ему тень. Вот так! Бежит большая тетенька в больших острых галошах: – Ой, божечки, случилось что? Старушка ей ответила словоохотливо, потягивая белый букетный аромат: – Да ничего. Ничего. Сергобежа дерут. К цветам примерялся к моим, распустились вчера георгины. Коренной хулиган. Ходит мимо, знаете, примеряется к хорошеньким моим. Я встаю перед тетенькой. Вид у нее добродушный, галоши спадывают. Сразу видно, что она любит фартуки и варенье. Но она проговорила мимо, мимо, как будто я пустяк, пустое место. Проговорила: – А я испугалась, думаю, бегу – случилось… Сергобеж закрывал руками от злого кипятильника то спину, то нижнюю спину, перекрикивался с матерью: – Не надо было рождать меня! – Думала, веселей будет, а мне тоска с тобой! Тоска-тоска! Одни тарелки грязные. Тарелки на работе, дома тарелки. Утварь одна! Тоска! – Я веселый! Веселый! Ха-ха-ха! – он испустил короткий искусственный смех. Но мать еще больше рассердилась-размахалась: – Чего визжишь, как три поросенка! – и ошпарила его кипятильником по всей, по всей спине. Я заорал: – Эй, вы что? Это же не кино! Не театр! Это же… убийство! Но меня никто не слышал. Вот муха летит, жужжит-кружит над сладкой кофтой Тетеньки в Галошах. Тетенька слышит муху эту, оттолкнула рукой. Вот воробей сел у ноги читающего дяденьки, чево-чево-чевокает; дяденька на пернатого дунул, вспугнул. А меня не слышат… Мой самый незаметный шепот всегда заметит любая учительница любого предмета… а здесь - никто. Тут, на мою радость, подходит еще тетенька, в пиджаке важном, приутюженном; похожа на дяденьку: – Какой вопрос, товарищи? Я замахал отчаянно руками перед самым ее важным лицом, но она выслушала лысого дяденьку, что просто мать Сергобежу веснушки перетасовала, перетасовала, и весь вопрос. И всё! Старушка потянула Тетеньку в Пиджаке за пуговицу и оттянула в свою старушкину сторону. Сергобеж, еще живой, кричал: – Папка приедет, он тебя лишит! Заберет меня! – Ага, садись на крылечко, жди! Он уж забыл, как тебя зовут. – Дура! – Ах ты! Совсем опоросел! Ненасытная мать опять треснула мальчишку. У меня в голове тоже что-то треснуло. Я подпрыгнул, перелетел забор, подбежал и стал отбирать Сергобежа от матери. Матерь с удовольствием стала ударять меня Сергобежем. Я подогнулся, сломился с ног в грядку морковки. Она схватила меня и бросила. Ну, что делать?.. Я перелетел через забор, обогнул большую сосну и упал. Открыл глаза, посмотрел на тучку большого всемирного неба, перебросил взгляд поближе и увидел, что сижу в ведре в кустах акации. Я попрыгал ведром, но стало еще глубже. Тогда я лег и стал выползать из проклятого. А вы пока, пожалуйста, отвернитесь… ЭТО ДЛЯ МЕНЯ НЕ НОВОСТЬ, А СТАРОСТЬ (думы в ведре) Да, ребята! Мы живем под угрозой большого взрослого кулака, большой толстой палки. Взрослые держат нас за ухо: все высокие и средние мужчины. А все женщины и низенькие мужчины любят детей драть. Это я вижу из жизни. Раньше любили детей розгами, а сейчас, как видите, любят чем попало, лишь бы поскорее. Меня, кстати, родители не бьют ничем, даже рукой, А вот у соседей, в нашей городской квартире, сверху и сбоку часто слышно звуки битвы за все хорошее – за хорошее поведение, хороший труд, хорошие оценки. Дома меня так не уничтожают, зато в школе… С ребенком взрослый может вытворить хоть что – это для меня не новость, а старость. Я вам расскажу – торопиться некуда мне – я вам расскажу, как меня водили к Завучу. У нас в классе есть девочка – Сидорюк. Она очень хорошо умеет драться. Она дерется по голове учебником, по пятке портфелем. От девочки у неё только юбочка, и, чтоб не перепутать, я ее называю девочка Сидорюк. Чтобы не показаться хуже всех девчонок, она сначала уткнется в парту кулаками, лицом уткнется в кулаки; а потом резко отрывает лицо, вытаскивает кулаки и бьет меня. И вот она меня колотила. За то, что я назвал ее девочка Сидорюк. Пыталась выдернуть мне волосы. Тут и вошла в класс наша учительница Нина Николаевна. У нашей Нины Николаевны очень широкая, хорошенькая мордочка. Широкая, широкая, а книзу сужается, сужается, как топор. И этим топором она ругается. К тому времени, к той переменке она уже обкричала и меня, и девочку Сидорюк, и других учеников. Если у вас, ребята, крикливый учитель, могу дать рецепт: представьте, что это не учитель кричит, а поет Адриано Челентано приятным итальянским языком. Нина Николаевна увидела, какую мы драку развели, взяла себя за горло и басом пропела: "Сейчас к Завучу". Завуч – самый главный эгоист в школе. Это директорский помощник, которым пугают учеников и который выступает на линейках. На линейке Завуч говорит, сколько учеников обругал за неделю. Как я услышал: "Сейчас к Завучу", так очень сильно захотел в другое место. Я еще на уроке хотел, но не просился, чтобы не показаться хуже всех. Тем временем девочка Сидорюк опять кралась ко мне. «Сидорюк! Обнаглела!» – басом дохрипела учительница и повела нас к Завучу – меня за ухо, Сидорюк – за бантик на голове. Друзья! Если вас не водили за ухо, скажу: хуже нет. Хуже – только за нос повести через всю школу. Во-первых, это стыдно. Я весь облился стыдом, пока шли, ученики нас обсмеивали со всех сторон. Очень стыдно. А во-вторых, это несправедливо. Тебя ведут, как ободранного щенка, а вырваться нельзя; гавкнуть нельзя, а уж укусить учителя и мечтать нечего. Пришли. Завуч – низенького роста женщина в морщинах и в клетчатом платье. Нина Николаевна представила нас: "Вот, мальчик девочку обижает. По лицу бьет девочку". Не мог я Завуча убеждать, что не бил Сидорюка. Завуча не убедишь, у него работа такая. И Завуч сдвинула пониже морщины и стала меня осуждать: "Пионер! А еще девочек обижает". Послышались долгие громкие нотации. От меня ждали извинений, но я не мог перед девочкой такой Сидорюк еще и извиняться! Тогда Завуч раздвинула морщины и приказала: «Чтоб к завтрашнему утру выучил правила пионеров! Буду проверять! Все десять пунктов!». И записала в свой толстый журнал: "Проверить правило". С буквой "О" на конце. Я подумал: "Все завучи пишут с ошибками". Потом Завуч стала смотреть алчно на девочку Сидорюк, которая стояла, томилась в плену у Нины Николаевны. Она просмотрела девочку от бантика до валенок и обругала за то, что ученица была вне школьной формы (это по-научному, а по-простому – в красной кофте). И Сидорюка тоже записали в журнал, и тоже с проверкой. На следующий день мы приготовились к вызову. Девочка Сидорюк пришила дома к форме кружева, а я припаял к портфелю правила юных пионеров маминым лаком для ногтей. Теперь они до комсомольцев не снимутся. Но прошли последние уроки, а нас не вызвали. Все Завучи ужасно забывчивые. А теперь я понял их школьную тайну: Завуч получает деньги за количество обруганных. Чем больше учеников он поймает и запишет в свой журнал, тем больше рублей получит. А что с ребенком будет после обругания – ему безразлично. Я, ребенок, ему безразличен. Не спорьте, это я вижу из жизни. ИДЕАЛЬНАЯ ИДЕЯ И тут явись три девочки! Я уже высвободился из ведра и уже из кустов вылезал, из акации, отряхивался – и тут явись три девочки! Одна увидела меня, рыженькая, глаза такие… с зеленым удивлением, подняла поварешку кухонную над собой зонтиком и запищала: – Ай! Мальчик!.. Это за мной!.. Ай! Сейчас приставать будет! Это она про меня пропищала, хотя девочки меня совсем не касаются, а тем более не касаюсь я их. Тут Тетенька в Галошах заметила девчонок и позвала их: – Про вас говорят. Виктория, иди-ка сюда! Виктория в полуюбочке, с сильными кудрями, в руке авоська, в авоське кир-пич! Ну!.. В этой деревне одни дерутся, другие с цветами, третьи под поварешкой, шестые с кирпичами бегают… Старушка собрала всех вокруг себя и своего пышного букета. Сергобеж и мать тихо кричали в доме. Дяденька пригрелся на солнышке, читал свою газету и не проявлял ни к чему внимания. Я встал поближе к нему. У меня большой интерес к дяденькам, ведь тетеньки одни вокруг: в школе, в магазинах, в кружках, в кино… Дома – тоже мама, папа очень-очень деловой, у него всегда устала голова. Старушка ставила детский вопрос: – Мне сон, сон сегодня снился! Будто я опять директором в школе, сижу. И заходят… ох, Вика ваша и Сергобеж. Вот с такими ножницами садовыми. Будто бы митинг у них экологический. И Сергобежище этот говорит: "Вот эту надо срезать верхушку. Она сухая уже". На меня. На мою голову. Я как закричу: "Да вы что, ребятки! Я же экологию размножаю! Сколько у меня сортов распущено! Цветы – это дети жизни!". А Bика ваша не слушает, раздвигает ножницы, раздвигает… Глаза у Старушки мелкие, на носу лежат, так и мелькают, так и мелькают. – Ой, божечки! – захлопотала Тетенька в Галошах. – Только председателю не говорите! В сельсовете никому… Наша Вика! – В чем-то грязном, в крови вроде, – подпугнула Старушка. – А! Ну, это не она была! – сказала Викина мать невозможным тоном. – Наша Вика всегда как куколка. Вот-вот! Дети у них как куклы, куклы резиновые, куда нажмешь, туда и клонятся. Что скажешь – то и делают. – Надо peшать, – настаивает Cтарушка, грозя и тряся букетом. – А что, неправда? Чуть задремала днем – Вика драку подымут, Сергобеж – и непременно под моим окном. Деритесь каждый у себя дома! Вы наше будущее! Бу-ду-щее! А пока – дайте нам пожить. Знайте свое заднее место. Вот Лена у вас, она девочка смирная, понимающая. А Вика – такая атаман! Тетенька в Пиджаке с удовольствием взглянула на свою Лену со стороны. Лена в черном физкультурном трико одета с ног до головы, похожа на ворону. Под крылом тетрадка большая, название "Записник". Мать стала критиковать свою Лену: – Да тоже… вещевизм развился. Даже у моей… Все платья взяла и обкорнала свои, все подолы. Моду она в газете вычитала! Теперь в трико ходи все лето! Раз не понимаешь, кем твою мать выбрали. Мне и стирать некогда теперь! Тетенька в Пиджаке осмотрела всех со своей дылдоватой высоты и объявила: – Давайте так, товарищи! Посадим их на режим. Гуляние на улице – часик вечером. Часик. А так, пусть во дворе у себя. Летний детский режим. Звучит? – Очень звучит, – поспешным голосом сказала Старушка. – Режим строгого режима. У меня дочка на таком росла, на строгом расписании. Теперь в городе живет! Режим! У меня же каникулы-гоникулы! Я же хочу… куда хочу и когда хочу! У меня же родители уехали, мы же с бабулечкой болтаем до позднего поздна! Все стали громко высказываться: Дяденька (он оказался Котов, такая фамилия): – Бабы! Газеты читаете? Указ вышел! Тетенька в Галошах: – Опять нам головоломня! У меня у куриц режим, еще у Вики? Тетенька в Пиджаке: – Сончас – обязательно. Спать. Трудчас. Шишки подобрать. Девчонки опустили носы, наверно, считают, сколько на траве шишек? В этом густососновом месте, на этом диком свежем воздухе, на солнцепеке шишки плодятся очень охотно, вся трава ими увалена. Старушка сказала голосом злой мачехи из сказки: – Лена, беги, подбери шишку, не стой бездельницей. Тетенька в Галошах бросилась сгребать галошей шишки в кучу, но тут на пути попалась какая-то нешишка. Это был я. Тетенька в Галошах, а точнее сказать, в одной галоше, очень удивилась: – Это чей такой хорошенький? Это чья такая игрушечка? В штанках? Ну, предъяви себя, кто ты? Ну, я предъявил себя, сказал, что Ваня, что к бабушке в гости приехал. Тетенька в Галошах набежала на меня, обняла, как родного петушка: – Ва-анечка! Девчонки повторяют шепотом: «Ванечка!». Солнышко дружелюбно протянуло мне горячий лучик, сосна – лапку. Дядя Котов приготовил газету, приготовил рот – прочитать вслух Указ, наверно. Но тут я почувствовал, что можно высказаться, и высказался: – Вы стоите – большие тут – бессовестные! Это нечестно так… Кто у вас дети? Ничтожества и никтожества. Вот они и пакостят, от злой обиды. А вы их – кипятильником. От кипятильника боязливей дети, обманчивей. Выпороть ничего не стоит, а вот объяснить… Наступила такая тишина, что слышно было, как в озере купаются рыбы. – Да они сами не знают, что объяснять, – засмеялся дядя Котов и стал меня подманивать, ладонью толстой, как карась. Я еще высказался: – Вы не объясняете, а начинаете лениво кричать. Дети задыхаются от вашего крика. Наташа, рыженькая, с поварешкой, пискнула: – Со всех сторон нападает крик. Я делаю про нее вывод: Наташа – это девочка не врушка, не болтушка, не свинушка. Тетеньки стали свирепеть, свирепеть и рассвирепели. Старушка закричала, что раньше дети, когда она была директором школы, дети крик понимали. Тетенька в Пиджаке бьет кулаком об кулак: – Режим! Режим! Режим! Режим твердого режима! Тетенька в Галошах сорвала одуванчик и одним дувом оставила его голеньким. Девчонки тут струсили, Вика подняла свой кирпич: – У меня во! А то распустились! Я председатель отряда, буду следить, кто как режимит. А Ленка вытащила тетрадку из-под своего вороньего крылышка: – А я буду вашим собственным корреспондентом. Вот, провинения записывать в «Записник». Кто без хлеба ел, кто без мыла мыл. Солнце завильнуло за какое-то облачко. Я сказал девчонкам: – Да вы что! Вы что, как Хаврошечки! Мы же дети у них, а не падчеры, не падчерицы! Я говорил, а дяди Котова лысина мне кивала; ей было интересно. Тетенька в Галошах опять обняла меня, от нее пахнет чем-то луковым: – Ух ты, какой! В штанишках! А в городе у вас не лупят, что ли, детей? Я не успел ответить, уже Тетенькин пиджак надвигался на меня: – Ты кто тут? Ты кто? Ты совесть моя, что ли? Нашлась…Моя народ совесть! Он мне скажет, плохая ли я мать? Встал с пенька дяденька Котов, вытащил из одного кармана сигареты "Помер", из другого очищенную морковку в крошках – стал думать, что ему больше хочется? Откусил все же от морковки, подошел ко мне: – Я тебе, парень, советик дам. Хочешь вкусно жить – гони ты эту совесть. Ее знаешь, кто выдумал, – — начальство, вот эти, – он кивнул на Старушку. – Я рабочим классом работал. Ох, работал! Честь и слава мне от районной бухгалтерии. Вот и пенсия – на морковку; грызи, дядюшка Котов, а на апельсины – извини… Дядя Котов рад разволноваться. Он быстро вытащил сигареты и быстро вонзил одну в зубы. Довольный дым окутал его. – Работал, – засмеялась Старушка беззубым смехом. – Работал! Эгоизму много. Из-за таких и коммунизм не вышел, и мы не в авторитете, заслуженные. Ответа не было, от дяди Котова шел когтистый дым. Тетенька в Галошах примирительно обняла и Вику, и меня хотела: – Про совесть вам рано, ребятишечкам. У вас пионерские правила. А то запутаетесь. Нука, Вика… "пионер должен…". Я отстранился от этих примирений и говорю ей прямо в обширное лицо: – У нас одни обязанности, одни задолженности. Мы всё должны, должны, должны… Всё должны, пока температура не выскочит тридцать восемь. Нет, надо новые правила выработать, справедливые, дружеские! Это Идеальная Идея! Весь наш детский мир стоит в углу и просит прощения. А они? Живу уже столько лет и не могу понять, почему же взрослые, лупя ребенка, не получают никакого наказания? Они бьют детей с ехидной улыбкой на роже. Вы скажете, что рожа – это некультурно, а детей бить – культурно? А ребенок даже щелбана не может дать родителю. Это же несправедливо! Девочка Наташа вдруг состроила мне голубые глазки: – Да, правила дружеские. Мирное существование, – в глазках ее светилась симпатия, как вы догадались, ко мне. – Это в городе можно у вас, – говорит Тетенька в Галошах. – А тут… дом-работа, домработа, да скотина-огород. С нами никто не дружил, правда, люди? – она отвернула голову к небесной синей туче. – Это что, дождик набегает?.. Идти, кур загнать. Небесная синяя туча уже полсолнца закрыла, полсвета. Стало тревожно. Тетенька в Галошах на ходу еще со мной переговорила, наверно, я ей понравился. Сказала, что день защиты детей отмечают каждый год. Я спросил, от кого день защиты, от волков? Она так засмеялась – всем лицом, всей грудью, всем животом: – Просто день защиты наших детей. Понял, пупсик? От чужих детей. – И мне пора, – зашевелилась Старушка, воткнула носик в свой увядший букет. – Пойду… надо красиво жить… Так что решайте, власть. Это уже вопящий случай. Власть застегнула пиджак и стала еще выше, еще властнее: – О детях – в первую подумаем очередь. Эта очередь самая очередная. Иду режим утверждать, летний, детский. Дяде Котову так и не дали свое сказать. Он пробуркотал: – Давайте. Ходили строем, теперь перестроем ходить. Вика и Ленка побежали за властью, громко хлопоча: – А мы вам поможем, а мы… По небу на помощь синей спешили другие тучки и тученята. Залетали комары и комарята. Заплескались караси и карасята… СЕМЬЯ В СПРАВЕДЛИВОСТИ Бабушка любит поговорку: "На бар не угодишь: чем ни навоняй, всё неладно". Эта народная мудрость очень подходит ко взрослым: дети у них всегда виноваты. Вспомним одно выходное весеннее утро. Я проснулся с таким настроением, полупоэтическим. Поэтическое, потому что можно было весь день играть с новой, очень увлекательной игрушкой, пипкой. Кто не знает, пипка - это резиновая такая груша от мужского одеколона. Когда я бросаю пипку на пол, она тут же выпрыгивает, вытаскивает из себя свой животик, отталкивается и летит совсем в другом направлении. И вот, в отличном пипочном настроении я залез под душ, почистил зубы триста раз, вымыл уши, шею, вымыл не только свой нижний этаж, но и этажерку. Чистенький, вышел к родителям в комнату, умненький-благоразумненький. И тут папа стал почему-то кричать: "Это надо убрать, да это надо убрать, да это…". Он велел подобрать с ковра все бумажки, и все мои носки, и другие мелкие вещи… Все!.. Хотя ковер у нас десять метров длиной и двадцать метров шириной. Я, конечно, не мог подобрать все вещи, так много, но тут папа сообщил мне такую весть: он собирается пропылесосить ковер. Я стал нацеливать свои глаза на полочку, где лежала моя рыжая пипка, но папа сказал: "Подотри-ка пыль под диваном". Хотя диван у нас… десять метров длиной и один метр шириной. Я пошел, пошел за половой тряпкой. Я пошел, а папа стал опять кричать: "Скорей! Скорей! Как баба рязанская на месте кружишься, а ты должен как ласточка летать!". Я прилетел с половой тряпкой и стал вытирать под этим oгромным, бройлерным диваном; но тут папа закричал слабонервным криком: "Почему без тапок, дурень! Носки промочил! Таких дурней надо поискать!". Я подумал, я в уме подумал… Каждый ребенок догадается, что я там подумал. Вот поэтому и было у меня настроение полупоэтическое: я ждал по опыту каких-то недовольств и заставлений. Мама, радостно сверкая рисовой кашей, сидела и смотрела телевизор на диване. Я положил тряпку, переобул носки и решил тоже поесть в комнате, чтобы смотреть на пипочку и думать, как я удачно поменял бестолковые марки с нарисованными зверями на такую веселую, прыгучую, почти живую пипку. И тогда я взял, не раздумывая, положил в тарелку рисовой кашки, засыпал сахаром, сверху украсил яблоком и пошел в комнату. Не успел я выйти из кухни, как меня перехватил неугомонный папа: "Ты куда направился?". Я ответил, не гадая, не думая: "Смотреть телевизор и есть рисовую". Каша сияла в тарелке; я обрадовался и подумал: "Как у мамы". Папа спросил голодным голосом, а руки я вымыл? Я взаимно спросил, а зачем мыть руки, если я мыл яблоко; заодно и руки вымылись. Папа хотел мне возразить, но возразить было нечего. Тогда он сказал непримиримо: "Не успел я пропылесосить, там уже рис едят злые люди!". Я стал маленько пугаться. Папчик встал на два уха от моего уха и закричал туда: "Ты понимаешь русский язык?!". Мне захотелось заплакать, но я стерпел. Когда я был помоложе, папа изредка затыкал мне рот, если я громко зареву. Причем он так затыкает, что я чувствую себя, как в космосе, как в безвоздушном пространстве: ушами дышать бесполезно. Я пронзительно посмотрел на папу. Этим взглядом я хотел ему внушить, что я уже взрослый человек и нечего кричать. Тут мама напомнила из комнаты, чтобы папа успокоился. Дело в том, что мама у нас сангвиник. Это человек ласковый, не кричащий. А папа холерик, немного холерый. Холерики больше всех кричат и смеются. И вот папа решил сангвинеть, чтобы смеяться, но не кричать, а мама ему напоминает. Папе стало стыдно, и он сказал сквозь передние усы: "Ваня, зачем есть в комнате рис?". Я сказал: "А мама ест?". Папчик дернул себя за чуб: "Тебе бы можно равняться с мамой, если бы ты столько работал. Она работает целыми днями, на работе, дома, а ты сколько работаешь, а, Ваня? Вчера ты сколько работал? Полчаса, посуду мыл". "Извините, не полчаса, а шесть с половиной часов". "Где это ты столько напластал?" – притворно сангвинистским голоском спросил папа. "Извините, но школа – тоже не удовольствие". Тут папа и заплел косичку из своей бороды. А я ему задал очень многозначительный вопрос: "Ты, пап, на своего директора часто кричишь?". "Нет, никогда, ты что?" – сказал недоуменный папчик, косясь в мою рисовую блестящую тарелку. "А может, ты ему говоришь, что он дурень, что таких дурней надо поискать?..". "Вот! – торжественно сказал папа, – теперь я понял, зачем человеку дети. Чтоб он не хамел". С тех пор у папы язык не поднимается кричать на меня. Даже когда моя шаловливая пипка свалила и разбила его очки. Он только распахнул рот… МУЖСКИЕ РАЗГОВОРЫ Пока я вспоминал, думал, как справедливость навести, как отобрать у взрослых эту хамскую власть над детьми… пока я стоял, дядя Котов хотел уйти, но не уходил. Наташа хотела уйти, но не уходила. Дядя Котов удобоустроился на пеньке, стал растирать больное колено и говорить самому себе: – Надо бросать все же курево, надо бросать. Здоровьем подзаняться… Говорят, в апельсинах здоровья много… А то нога невменяемая уже. Наташа то поднимала зонтик к небу, к туче, то опускала, жаловалась самой себе: – Моя тоже мамка… кошку, Муську беременную, на дождик вчера выбросила. Наташа. Лицо у нее в веснушках, круглое, как подсолнушек. Ей ответил чей-то гордый собой голос: – А как же! Вы у матерей в кулаке. Вышли со двора два сказочных персонажа: Сергобеж со своей боевой мамою. Он на лешего, растрепанный, походит, на лешонка; у нее тоже не прическа, а нахлобучка такая на голове, лешая. Дядя Котов обрадовался новому разговору, отвечает маме Сергобежа: – Да толку от кулачка вашего! Работу им надо, работу, зарплату, ну, и мужика руководящего. Просто, как собачий хвост. Мать стала соглашаться, вздыхать поспешно, что да, нужен мужик, что был у них мужик, молчал-молчал, да и убежал, что… Но тут приехал мотоцикл, остановился вдалеке, на лужайке, рокочет недовольно. Мать Сергобежа хватает свою дикую голову, так вот: – Ой, мотоцикл за мной! Коля, подожди! Сергобеж закричал; в руке у него была фига. – Папка сбежал, и я сбегу! Катайся с Колей своим! Мать закричала: – Ох ты, свиненок! Не понимаешь? Тебе же отца ищу. Му-жи-ка!.. Бегу! Мотоцикл! Побежала, быстро, как на праздник, заскочила на мотоцикл, схватила Колю, помчали. Мимо нас, мимо телеги от лошади, в чисто поле. МУЖСКИЕ РАЗГОВОРЫ (продолжение) Тут хитроусый дядюшка Котов начал с нами мужские разговоры: – Ты вот, парень, говоришь, сотрудничать надо с детьми. Правительство разрешило, вот указ, в газете. Так… Деньги есть? – Нет! – Заработать хотите? – Очень хотим! Деньги. Откуда у ребенка деньги? Где их взять? Мы же ваньки, просто ваньки, взрослые думают, что деньги нам не нужны. А сладкого хочется каждую минуту. Сладкое для ребенка – второй кислород. У него живот заболевает без сладкого, и он начинает медленно задыхаться. – Дети тоже не роботы! – поддержал Сергобеж мои несладкие мысли. Тем более, если дать роботу деньги, он их просто выбросит. А ребенок их никогда не выбросит. Конечно, бывают такие случайные случаи, когда дети теряют деньги, но это редко и случайно. Так наша общая мысль продвинулась к тому, что без денег человеку нельзя. У собак и кошек тоже своих денег нет. – Я человек конкретный, – уверил нас дядя Котов. – Такую работку задам! Аз-зартную! Как раз для таких шустрячков! Развернем с вами личную собственность. Раскидисто заживем, апельсинисто. Согласны? – Очень согласны! – Завтра и приходите, – говорит дядя Котов голосом родного дяди. – Как раз для таких шустряков. А то у меня нога невменяемая. И он пошел к своему дому, походка перевалистая, довольная. Haташа запрыгала вокруг, заблестела на меня глазками своими: – Я с вами! Я с вами! Такой обиход наведу дяде Котову! Вот – не хотел Сергобеж моим женихом! А я такая хозяистая!.. Теперь я не хочу! Но Сергобеж отмахнулся, что жениться рано ему, еще в детях надо пожить! В детях! Чего он не видел – в детях! Чтоб кипятильником грели! Шутит, наверно. Мы продолжили мужские разговоры. – Карманам денежки нужны, – говорит Сергобеж. – Это всемирный закон. – Взрослые спрашивают, зачем тебе деньги? Зачем? Ответа нет. Есть, но он один: покупать, съедать и опять покупать! Наташа молчала, только улыбалась мне таинственновато. У нее женская улыбка: улыбается только мужчинам. МИРОВАЯ ДЕТСКАЯ ТЯГОСТЬ И вот мы идем втроем по дороге из сосен и облаков. Это знает каждый неторопливый человек: задерешь голову, посмотришь – будто по небу шагаешь. Тропиночка такая, будто по облакам шагаешь. Они идут себе, и кажется, что ты по ним идешь. А верхушки сосен – это ограда по краям небесной дороги, чтобы путешественники не свалились. Идем прогулочной походкой: Сергобеж, я и Наташа. Я посередине. Идем и входим в такой интересный разговор: кто такой ребенок? Вообще-то говорю один я, повествую о своей тяжелой детской жизни. Сергобеж восклицает: "У-ух! И-их!", а Наташа вопросительные знаки вставляет: "Да ну? Ну да?". … Ну, и кто же такой ребенок? Чем он отличается от дерева? Не только тем, что у человека кожа, а у дерева кора, но и – у человека есть свобода. Человек, когда ему хочется, может собраться и пойти куда ему хочется, например, к своей городской бабушке. Человек может, а ребенок не может, если его не отпустят родители. Чтобы его отпустили, ребенок с утра должен быть, как Ленин: умыться, сделать зарядку, съесть всё, весь завтрак, приедая луком или чесноком. Ходить надо по дому с подлизливой улыбочкой. Ходить и не вздумать сказать какуюнибудь бяку. Только ребенок скажет "бяк", ему тут же в ответ "бяк-бяк-бяк", а если он еще на один "бяк" обнаглеет… Конечно, чтобы вас отпустили к бабушке на выходные, с ночевкой, вы должны прибрать свою комнату доблеску, добезукоризны. Ну, я быстренько все это делаю, надеваю куртку-непродувайку, сапоги-непромокайки, и что вы думаете, иду я к бабушке? На пороге моей комнатки появляется мама. Я, уже одетый, кричу ей "до свидания" опаздывающим голосом, и тут мама задает странный вопрос: "Ты умывался?". Я не воспитан врать и ходить неумытым, я честно отвечаю, что мыл глаза, остальное и так чистое. Это, можете считать, я сказал "бяк". В конце концов меня заставили мыть остальное лицо, и с мылом, хотя каждый читающий знает, что мыло смывает с кожи дефицитный солнечный витамин "Д". Тут неугомонная мама пошла смотреть, как я прибрал комнату. Зашла – и давай открывать шкафы, залезать под подушку, под кровать. Мама у нас сангвиник, спокойный, невспыхчивый человек, и ставит в разговоре такую невинную рожицу, что сам я, большой сыщик, не отгадаю, чего она хочет? Вот сейчас – чего она хочет? Если она хочет, чтобы ее единственная любимая мать не скучала и не томилась в плену своей пенсии, чтобы ее нервы не летали по всей квартире в ожидании внука Ванечки, – надо быстрей меня отпускать, просто выгонять из дому. А если она не думает о бабушке, если она такая чистолюбивая, так любит чистоту – ведь такой эгоизм может передаться по наследству ее внукам! Господи, да уберу я – развешаю все брюки вниз ногами, выгребу носки, которые ничего не делают под кроватью, подниму подушку, уберу оттуда корочку хлеба, которая бы пригодилась еще. Уберу! Всё, внешний вид и внутренний вид, все в этой комнатке хорошо, хоть женись. Не успел я дойти до коридора и хоть немного выйти из дому, как меня подкараулил папа. Он спрашивает довольным голосом (ведь его мама в деревне, а меня ждет какая-то мамина мама!). Он спрашивает: "А это что?". "Молоток. Мешочек с гвоздями. Плоскогубцы". "Кто бы мог подумать! Молоток! А, простите, чей?". "Семьи". Я-то говорю спокойно, а папа так беспокоится, так беспокоится, как будто его кто-то ждет: "И кто же из семьи все это покупал?". "Наверно, ты". "А, простите, где твой личный молоток, который, кажется, тоже я покупал? И где твои личные гвозди, тебе три раза на них давали деньги?". Как будто он не знает, что мой молоток давно слетел с ручки, туда надо клинышек вбить, а время? Я всеми днями или сижу в школе, или готовлюсь к школе, или готовлюсь готовиться. Одна школа, школа, школа. Как будто я хочу быть профессором Доуэлем, у которого одна голова, а туловища нет! Извините, у меня еще ноги есть, я хочу побегать, попрыгать, полетать. "Вчера кинулся гвоздь забить, так и не нашел ни гвоздя, ни молотка. А они – вот они", – папа, чтобы не волноваться и не кричать, говорит нараспев, есть такой рецепт. Лучше бы крикнул, как заядлый холерик, крикнул и отпустил, ведь меня ждет человек, ждет! Папа поет фальшетиком: "Клади на место… клади на место". Место… Я уже не верю, что попаду к бабушке. Я прощаюсь с пельменями, с цветным телевизором, с газировкой, а назавтра я прощаюсь с пирогами, с фотобумагой, с пластинками. "Место… У меня здесь нет места. В этой семье места для меня нет". "Ну да-а, – поет упоительно папа. – У тебя всего лишь одна комната-а". Тем временем мы перешли на кухню, к маме. Ей тоже интересно. "Комната не моя, я там не могу держать носки под кроватью, а собаку вообще нельзя. Нельзя, значит, она не моя". "А чья же?". "Ваша, конечно. А как бы я хотел иметь хоть кусочек свой. Хоть маленький кусочек! Чтобы поставить туда свои палки, мечи, доски. Мне ведь одиннадцать лет! Одиннадцать лет, а уголка нету. У меня есть только два выхода. Только два". "Это какие же?" – спрашивает мама. Она уже готовит что-то вкусное к моему уходу. Будут пировать без меня. "Два выхода: уход из семьи или самоубийство. Но это мне не поможет. Вы только обрадуетесь, забудете меня и начнете жить дальше. Каждый день есть вредные мне блины". Мама шутя замахнулась на меня не прилипающей к блинам сковородкой. Папа перехватил сковородку и стал открывать дебат: "Это что – одиннадцать! Мне вот сорок, а местечка нет! Посмотри на меня, Ванюша, посмотри вокруг – что у меня есть?". " У тебя есть все, – криво засмеялся я. – У тебя есть власть, и ты ей беспрепятственно пользуешься. Тут все твое, например, твоя комната". "Ха! – папа разрубил ножом кухонный воздух и съел кусочек. – Комната, простите, не моя, она общая. Вдумайся, Ванюша, мужику сорок лет, а у него нету комнаты! Я даже штангу не могу купить, маленькую штангу! Некуда сунуть ее". "А я, – стала подпевать мама, – я женщина, а у меня даже уголочка нету, чтобы переодеться. Гардероб некуда поставить". "У меня только один выход", – трагедийно пропел папа. Потом стал осматривать потолок. "У меня тоже – только один", – мама тоже стала смотреть в том же направлении. Там, наверху, под потолком, скалились два самых прочных гвоздя. Папа недавно вделал их в стену, хотел подвесить холодильник, но не получилось. Холодильник остался на полу, а на стене скелет этого проекта. Папа мысленно попробовал, выдержит ли его гвоздь? "Вообще-то не так уж мне плохо", – сказал я на всякий случай. "Ну да, – согласился папа. (Он живо спрыгнул с гвоздя, снял веревку, стал сматывать ее). – Ну да! Не у каждого, черт побери, есть магнитофон! Собственный магнитофон! Покажи мне такого пацана!". "Да уж! Такого магнитофона точно нет. У всех давным-давно лучше, со встроенным микрофоном". "Или, например, собственный фотоаппарат ФЭД-5!" – папа забыл петь, стал подкрикивать. "У всех уже давно ″Зенит″!. А вот когда им нечего сказать в ответ, когда ты победил, они начинают злиться и посылать тебя к бабушке. Могут сказать: "Бабушка ждет, а ты про свои магнитофоны помнишь". И уж конечно заявят: "Надоело! Отстань! Дай отдохнуть! Мне бы твои заботы!". Дело разве в молотке? Разве гвоздями прибьешь справедливость к равнодушной стенке рабовладельческой тесной кухни?.. ДЕВЧОНКИ – ВРУШКИ, БОЛТУШКИ, СВИНУШКИ И так мы гуляли втроем по дороге из сосен и облаков, пока не встретились с подружками: Ленкой и Викой. Идут, у Ленки походка, как ворона с перекушенным крылом, у Вики – командирская, топающая, как у старинного рыцаря. Остановились они, смотрят на нас с большой бессимпатией. Особенно им несимпатична Наташа, которая гуляет сразу с двумя. Посмотрели, а потом соизволили сказать: – Она сончас хотела с одиннадцати до четырех, а мы уговорили с двенадцати до двух. – Она трудчас хотела с четырех до семи, а мы уговорили с пяти… Девчонки хвастушки, у них есть в характере хвастливость. У парней тоже есть, но они скрывают. Сергобеж обозвал их Хаврошечками, есть такой сказочный человечек – КрошечкаХаврошечка, которая так своей мачехе угождала, даже любимую корову дала зарезать. – А вы Иван-дурачки, – сказала Вика. – Это любой меланхолик придумает, такую кличку, – не согласился я, – ты свое придумай. – Ванька-дурак, – начала Вика. Подумала и добавила: – Ванька-дурак. – Потом еще подумала и сказала: – Ванька-дурак. – Наша Вика хороша, Сочинила три шиша. Я произрек это стихотворение, но меня перебил голос Ленки: – Ванька, – с творческим видом сказала она, – Ванька… Ванильный… a! Воняет! – Фу, там плесень, – Вика стряхнула что-то с плеча. – Вот, будем звать его плесень, – определила Ленка. Нет, не приживется эта кличка. Все-таки народная, которую из поколения в поколение повторяют, роднее, чем какая-то. – Согласен, я – Иван-дурак, – подхитрил я, чтобы помириться. – Конечно, дурачки, – немного утихомирилась Вика. – Думаете, я их люблю, этих взрослых?.. Я могу председателем дружины быть, а учителя не назначили. Наверно, из-за низенького вида. Только на отряд. Отряд! А у меня талант руководящий. Они кричат на вас, кричат, а я… я только кулак вытащу… Слушал я Вику, и опять полезли стихи изо рта: – Ниша Вики поспешила – Шестерык передавила. Теперь у девчонок есть знакомый поэт. Это я. А Вика не обрадовалась: – Обратно пойду, еще семерых передавлю. Ленка, запиши. Хорошие стихи, и как раз про нашу деревню. Ленка развернула свой "Записник", вздохнула: – Ты уедешь, Ваня, а мы на режиме останемся. Надо слушаться взрослых, подделываться под них, пока не вырастешь. Я опять стихами отозвался: - У Ленки характер, как плавленый сыр. Не знаю, какой у ней вырастет сын. Наташа зажмурилась: – Ой, Чехов! Прямо как Чехов! Да, братцы, дураком-то я не выгляжу. Не выгляжу тупоумным, а выгляжу остроумным. Девчонки остроумных любят, это важнее чистых ногтей и длинных волос, как у Пола Маккартни. Я могу вас подучить: надо речь разбавлять словами хорошими, ароматизировать поговорочками, шуточками. У меня никогда не пустует в голове. Как только пусто – голова начинает болеть, требовать нагрузки, стихотворной или шуткотворной. И вот я сочиняю, накапливаю шуточки. И применяю их к девчонкам. Им кажется, что со мной интересно. Таким способом я беру над ними власть. Ленка то открывала рот – сказать, то закрывала – не сказать, потом решилась, замахала крылышками: – Они такие… В газетах, везде, мода до трусов, а нам полподола обстричь нельзя! Дер-рр-евня! Наташа сорвала ромашку, большую ромаху, сказала женским голосом: – Замуж надо, тогда избавишься. Она стала считать ромашкины лепестки, сама пестренькая, лицо в точечку. И я сказал: – Рыжие деревья, рыжая заря, Это обрученье рыженькой меня. – Обрученье, – пропела Наташа с мечтинкой. – Осенью. Обрученье, свадьба. А… жених кто? Я сказал, что жених Сергобеж, она же ему предлагала. Сказал приятным голоском, но при этом так усмехнулся. Сергобеж захотел меня лягнуть своей ногой лягавой, закричал: - Что-о? Обзывок? Ну, Ванька! Я ка-ак! Хотел бы вам сказать, что Сергобеж всегда бегает босиком, пятки у него большие, круглые, цвета земли. Такая пятка если лягнет тебя – свалишься. Но мальчик, он стоит, улыбается, подбородочек такой делает… боевой, а девочка, она неустойчивая, сразу убегать, плакать. Я сказал с храброй улыбочкой; дал Сергобежу характеристику: - Он поэтов уважает, В ухо пяткою въезжает. Сергобежу стихи понравились, он стал смеяться, понимает поэзию! Стал смеяться, приговаривать: – Ну ты, Ванёк, не слабон! Ты не слабо-о-н… Ты с мыслями! Вика с Ленкой стали смотреть на меня с уваженьицем, хоть с небольшими но все-таки. Наташа смотрела на меня, как на прорицателя чего-то хорошего, а Сергобеж понял, что со мной можно ходить в разведку, и хотел идти куда-нибудь, прямо сейчас. Он уже не мог стоять и делал бег на месте уже лысинку на траве вытоптал. И я начал свой осторожный разговор: – А неплохо бы… неплохо бы нам Царевича выбрать, Детского. Он бы за детские права боролся. А то мы все врассыпную, в одиночку боремся. Тут пошел такой быстрый разговор, что я не успевал видеть, кто как себя ведет, только за разговором следил. Ленка: – Против родителей… не знаю. Пионер должен получать… Ваня: – Ремня он должен получать, пионер твой? Да? Ленка: – Если за дело – пусть получит. За дело! За плохую общественность. Наташа: – Это несправедливо, правда, Ваня? Ленка: – Почему? Справедливо. Наших родителей… мою маму тоже дедушка драл, а дедушку прадедушка драл. Ваня: – А вы своих будете драть? Дочек? Ленка, Вика: – Мы?… Нет, не будем! Ты что? Мы не зверихи какие… Вика: – Наши дочки будут понимать с одного полуслова. Сергобеж: – А мы – не понимаем? Мы все ваньки, да? Балбесики, да? Мне нос намочила небесная капелька. Наташины глаза смотрели на меня небесным, облачным взглядом. Мы с ней сразу догадались, что начался дождик. А Вика стала с большим подозрением коситься на Сергобежа, а Ленка с большим неодобрением. Видимо, он большой мастер плюнуть и попасть. Я снова навел разговор на Детского Царевича. – А кто Царевной будет? – поинтересовалась, конечно, Вика. Я скромненько сказал, что трудно это – наперерез идти… Ну ладно, пойду в Царевичи, есть у меня задумочки… Вика расфыркалась, нахохлила кудри: – У тебя задумочки, а у нас продумочки. Пионерское звено, отряд, дружина. А председатели соединяют взрослых и детей. Вот если бы не я, вам бы такой режим написали! Целый день спать. – Лежим дня, – сострил я. – А если бы не я, – каркнула Ленка, – Сергобеж сегодня три раза плюнул, а я только раз тебя записала. Я спасаю. Эх, девчонки! Вот потому их в армию не берут. Я понял: они могут предать. Сильно жить хотят. – Да что с ними! Это же прилизы! Без вас выберем! Наперерез! На, Вика, лови! – Сергобеж оторвал от губы старую болячку и кинул в Вику. Девчонки ужасно завизжали. Девчонки визгуши. Мальчик устойчивый, а девчонка сразу визжит. Ленка, не раздумывая, записала, что Сергобеж такого-то числа кидался болячками. Облака собрались над нами, скучились. Началась небольшая моросильня. Мы с Сергобежем, мальчишки, сразу выставили на дождь усы, носы, лбы, ладони, а девчонки стали прятаться, кутаться, начали свои девчачьи романтичные разговоры: не удружишь ли ты мне зонтик? У тебя кудри не разовьются? Дождь усилился, укрупнился. Вика с Ленкой спрятали "Записник" под Ленкину футболку и пошли домой, головка к головке. Наташа навела надо мной свой железный зонтик и сказала задушевно: – Зачем со всеми налаживать дружбу? Можно хорошо жить своим домом, своим забором. Ты заболеешь Царевичем быть. Сергобеж стал вздыхать, стал намекать, что кошек Наташиных дождем замочит. Она всполошилась, побежала домой своей легкой походочкой. Увеличились капли и скорость их капания. Мы спрятались пока под телегу. Смотрим… такая темнота стала на улице – леший не обрадуется. А дождю такому и водяной не рад. Сергобеж спросил про Наташу, правда, кошками воняет она? Я подтвердил. – Девчонки такие, всю жизнь потеряешь, обманут, съедят. С парнями дружить надо. Правда, Ванёк? Я подтвердил. А вы бы что сделали на моем месте, под телегой? МЫ ОТДЕЛЯЕМСЯ ОТ ДЕВЧОНОК (думы под телегой) Парни – они отборчивей в дружбе. Девчонка не проверяет подругу да еще подлизывается. У девчонки – жажда дружбы. Если есть одиночная девчонка, то она сразу хочет быть не одиночной. Поодиночке они беспомощные, им скучно и страшно. Поэтому они кучкуются. Девчонки кучкуются лет с трех. Когда встречаются две одиночные девчонки – получается самая крепкая девчоночья дружба. А когда к ним другие подлипают – это уже не так крепко. А если в этой кучке первая не дружит с какой-то пятой или четвертой, то кучка распадается на две, иногда на три. Или одну девчонку вытесняют из кучки, и она ищет себе другую кучку. Парни же не образуют кучки. Они выбирают себе первого друга. Они его проверяют, сначала ставят просто в товарищи, а не сразу в друзья. Притираются долго. Стерлись друг с другом – сдружились. Для мужской дружбы должны быть одинаковые вкусы. У одного вкус – тихо поиграть, или дикие игры, средних игр он не признает. А у меня вкус – средние игры. Мне нравится играть в войну, но не рукопашный бой. Я не люблю драться с тем, кто меня сильнее. Вот с девчонками хорошо воевать, Да и то, девчонки нынче сильные пошли. У нас есть в классе одна – непобедимая. Еще – пацаны не подлизываются. Но есть девчатники, бабники, которые подлизываются ко всем, и к девчонкам, и к представителям своего пола. Начинают дружить с девчонками, иногда полностью одевчониваются. Почему они лезут к девчонкам? Да потому, что девчонки не так больно дерутся, это выгодно. А девчонкам он чужой, они его скоро отбрасывают. О нем идет весьма дурная слава, и друга он себе не находит или находит с трудом. Я раньше был бабник, потом опомнился. И очень хочу найти себе мужского друга. И поэтому… ОТКРЫТИЕ ПАКОСТНОГО ЦАРСТВА И поэтому, когда Сергобеж, сидя под телегой, предложил мне немедленно сделать Пакостное Царство, я немедленно согласился. Да, согласился, хотя я пакостей не знаю никаких. Дело было так. Как вы помните, мы разогнали всех девчонок, обругали их и сели под телегу переждать дождь. Я, недолго думая, сочинил про наших неприятельниц довольно острую песенку: Противные девчонки, противные косички, Противные подлизы противчиво кричат. Противные помады, противные колечки, Противные маникюры противчиво блестят. Дождик играл на телеге, Сергобеж на губе, а я подсвистывал себе в перерывах между словами. Получилась хорошая рок-группа. У Сергобежа лицо просияло восхищением и радостью за меня. И я это хорошо заметил и запомнил. И опять начал свой заветный разговор: – Никто не хочет Дружеское Царство. Ни взрослые, ни даже глупые девчонки. Им нравится ходить рабовладельческим строем. Один дядя Котов за наше детское дело, но это когда еще будет?.. Завтра. – А! – вскричал неунывающим вскриком Сергобеж. Вскричал, подпрыгнул, ударил голову об нашу телегу-крышу. – А! Давай Пакостное делать Царство! У меня и друзей-то нет никаких, одни неприятели и неприятельницы. Пакостное! И пакостить им, пакостить, пакостить, пока они не сдадутся. Вот как с ними дружить, с этими взрослыми? Они зазнаистые, зарыпистые такие. Вот за что меня драли сегодня, вся деревня? А? Ответа нет. Я же еще не своровал эти цветы! Давай Пакостное! Ох, и заплачут они у нас, застонут… Я тут один партизанил, меня тут уже ненавидит никто, а с тобой мы!.. Я сказал, что пакостить не приходилось, поэтому Царевичем не смогу быть, надо самого большого Пакостника выбрать. – Ладно, – согласился скоросговорчивый Сергобеж. – А ты будешь ближайший пакостник. Я вспомнил свою одну шуточку: у каждого чистоплюя есть грязная пятка. Это означает, что у каждого человека есть нехорошие мысли и нелюбимые враги, которым хочется поднагадить. Я вспомнил нашу школьную столовую. Я вспомнил, как учителя заставляют сьедать всё, даже если это молоко со вчерашними толстыми пенками. Они стоят в столовой специально, смотрят, а дети по-партизански пробираются под столами и украдкой ставят полную тарелку в грязную посуду. И надо еще пройти с очень сытым видом мимо учителя и не забыть сказать спасибо. – Да, – я мстительно прищурил глаза, выставил вперед подбородочек, – да… мучают нас, кормят котлетами. А учителя суп с говядиной едят. – Что бы им сделать похуже? – сжал нечищенные зубы Сергобеж. – Пошли, гладиолусы у бабки выкопаем? – Нет, это прямое воровство. Я на прямое не согласен. Надо вот… мелкие пакости. У нас же Пакостное Царство, а не Воровское. Сергобеж кивнул три раза, это означало, что он целиком и очень со мной согласен. Потом посмотрел на меня знающим взглядом и сказал: – Пошли туда, не знаю куда. – Пошли, Сергобеж! – Пошли, Ванёк! КАК ПИСАТЬ ДЕТСКУЮ КНИЖКУ В детской книжке обязательно должна быть толщина и растрепанность. Если книжка растрепанная, значит, интересная. Обязательно подпустить фантастичненького. Чтобы читатель хотел плавать под водой, как Ихтиандр, но никак не хотел быть профессором Доуэлем, у которого одна голова, а туловища нет. Хорошо бы напустить в книжку магическое. Магическое, как я понимаю, это способность засунуть горящую спичку в рот или сесть в костер. На первых страницах надо написать что-нибудь веселенькое, чтобы ввести читателя в колею. Чтобы он сел и стал читать. Ну, а потом читателя надо все подталкивать, чтобы он ехал по колее. Должно что-то случаться все время. Вот он едет-едет по колее – бах! – на дороге тупик. Это конец главы. Следующая глава должна быть страшная или грустная. Должно быть чередование бездумного и многодумного. Если вся книжка многодумная – это скучно. А если одни веселые главы – живот заболит. Я сказал, что в конце каждой главы – тупичок, конец. Но чтобы вся история не быстро кончилась, надо между главами строить маленький переходничок, обход тупика сбоку. Самый любимый у писателей переходничок: "А в это время…". В конце детской книжки побеждает хорошее, всегда так. И читатель уже заранее ждет, что Сергобеж перестанет пакостить, а Ванёк вырастет и женится. С моего взгляда, в детской книжке надо сделать средний конец, и не плохой, и не хороший – с изверткой. Как написать конец с изверткой? Никогда не надо писать в конце книги:″Глава такая-то и последняя″. Если написано "последняя", у меня портится настроение, что кончилась такая интересная книга. Не надо доводить колею до конца, до последнего тупика. Надо написать книгу до тупика, а потом – отрубить треть, а две трети оставить. Это и будет конец с изверткой. Не с тупиком, а с поворотом. В книжке всегда два пути: плохой и хороший. Всем ясно, если мы с Сергобежем будем расходиться, то я буду хорошеть, а он плохеть. Это неинтересно, правда? А вот если наши пути пойдут рядом? Если мы не бросим друг друга! Сергобеж меня на свой путь будет сманивать, а я его на свой, вот это интересно. Вы заметили, что он уже клонит меня на свой путь! Я уже повернул, иду между хорошим путем и плохим. Я иду по нехоженному… Господи, что же со мной будет? ОБЪЯТИЕ ТАБАЧНОГО ЗМЕЯ Дождик укротился. Тучки бежали наперегонки от солнечных пинков. Наша отвратительная команда по гадостям пошла искать себе дело. Идем мы по улице. Идем, идем. На улице полное ничтожество и никтожество; значит – ничего интересного и никого. Идем, идем. Навстречу грузовик. В грузовике – грузный шофер. Едет и покуривает. На нас ноль, три ноля внимания. Вдруг из окна бросил окурок под сосну. Сергобеж вздрогнул. Я понял: пора! Подождал, пока грузовик отъедет, и начал окурок поднимать. Сергобеж одобрительно кивал. Окурок попался счастливый. Обычный окурок – это бумажная трубочка, а дальше табак завернут. А на моем окурке фильтр желтенький, а дальше табак. На конце табака виднелось красненькое пламя. - Ты, Ванек, пока покури, – высокопакостно распорядился Сергобеж. – А я на разведку схожу. Да не будь дураком, спрячься, вон, за куст. Не был я дураком, взял окурок и понюхал его. Кто-нибудь нюхал окурки?.. Запах мне не понравился. Тогда я лизнул окурок. Бя, невкусно. Тогда я взял окурок в рот. Но ничего не произошло. Только стало мне пахнуть обыкновенным деревенским мужиком. Тогда я резко вдохнул ртом. Я почувствовал очень неприятное ощущение. Оно внутрь меня неприятно струится. Мне показалось, что в меня лезет Табачный змей – Никита Никотин. Он напоминал собой скелет обыкновенной гадюки, но у него было ядовитым все тело, серое, прозрачное, а главное – с крылышками по бокам. Вместо зубов у змея стояли желтые фильтры. Из пасти летели крупинки табака и искры. Никита Никотин пролез в меня, подвзлетел к мозгу. Мозг у человека самое важное, как директор школы. Табачный змей обвился вокруг моего ума и стал его сжимать. Мозг у меня сморщился, как грецкий орех. Я сразу забыл, как меня зовут, и даже в каком я веке живу. А в это время… змей спустился к сердцу. Закружился вокруг моего сердца, ударил-ударил его своим гадючьим хвостом! Сердце испугалось, из середины меня подпрыгнуло к горлу и чуть там не осталось. Колени мои стали мягкие и нестойкие. А Никита Никотин пробирается все дальше, шерудится во мне. Полез ко мне в печень. Печень у человека – большая печка. Там сгорают разные вредные вещества и вырабатывается энергия, сила. Табачный змей надышал мне в печень, наплевал туда желтой слюной. Потом Никита Никотин пролетел мне в легкие. Легкие у человека – два пацана, которые собирают кислород в свои мешки. Никита Никотин прокусил мне дыхательный путь, по которому идет в мешки кислород. И тут меня осинило. (Так любят писать все писатели: осинило. Значит, синий стал, умирающий). Всё, я умер, до свидания. Лежать бы мне в гробу, да не был я дураком – взял и выплюнул проклятый окурок! Табачный змей вылетел, потому что без окурка он не может жить. Сверху, с сосны, повалились желтые мертвые иголочки. Трава вокруг постарела. Я стал уходить от этого зараженного места. За мной пополз коротенький дымок. Когда я снова оглянулся – он все увеличивался, увеличивался, увеличивался – и за мной. Я понял, что мой организм немного привык к никотину и уже просит покурить. Я повернулся и побежал сломя голову. Сломанная голова катилась сбоку. Вдруг сломанная голова оглянулась и увидела злого и коварного Никиту Никотина. Ай! Тогда она резко присоединилась к туловищу, туловище взяло палку, и я треснул Никитку по прокуренному желтому носу. Табачный змеюга стал растворяться в мировой атмосфере. Растворяется, растворяется – и вот от него остался только окурок. Я задавил окурка ногой. Он потух навсегда. СЛАДКОЕ ВОРОВСТВО Сбоку, из чужой калитки, пакостная сила вынесла Сергобежа. Она пронесла его над теплой лужей и поставила возле меня. – Разведал! – доложил Сергобеж. – В клубе они, хорируют. Пошли, сделаем им красиво! – А что мы им… – Если можно, короче! – приказывает Сергобеж. – А что мы… – Если нельзя, еще короче! Долго ли, коротко – мы в клубе. Это стройный деревянный дом, на крыше трава растет. Культурно. Из окна песня выносится, взрослый хор поет "Противные девчонки, противные косички". Всё хорошее, что только придумают дети, они тут же присваивают себе. Всё принадлежит им, а нам только разрешают. Зайдешь в клуб, за огородкой раздевалка, плащи всякие висят. Сергобеж сразу направился туда: – Пошли, Ванёк, поищем на полу. Я один раз семьдесят четыре рубля нашел. О! Копеечка! Береги копейку, копи. Получится рубль. Я нашел двушку. Ладно, пакостить так пакостить. Тем более, мы ненужное подбираем. Вдруг Сергобеж застонал: – О-о-о! Ванёк Смотри, конфета! Ти-ше. Конфета. "3-л-о-й Пе-ту-шок". Злой Петушок. С перчиком, что ли? Ну-ка, откусим хвостик… Вкусный петух, не злой нисколько. – Наверно, "Золотой Петушок", такие конфеты? Сергобеж обрадовался: – Очень, очень золотой. Ти-ше. Бери, Ванёк, тут много, – и показывает на карман красного плаща. – Прищупайся. О! Целый курятник! Выманивает меня. На вкусное выманивает. Да ведь это чистое воровство! Я стал отговариваться и его отговаривать. Сергобеж еще одного петуха в рот засовывает: – А это, Ванёк, сладкое воровство, не денежное. Зачем взрослым конфеты? А? Принесли специально, детей угощать. Подлизываться к нам. Ешь, Ванёк… Ешь! Я тебе Царевич или кто? И тут у меня в руке начувствовалось что-то нечто шоколадное. В голове кишение-кишение началось… хвать конфету из кармана!.. съедаю. Как ни ужасно – конфета вкусная. – Ешь, Ванёк, ешь! В гостях всегда вкусней. Мы пустились в поедание. Сначала я сильно боялся, а потом ничего, переборолся. Сергобеж стоит довольный, толстощекий, рассказывает: – Мой папка очень любит поесть, и у меня такие же приметы. Мы с ним вообще – одного характера и одного интереса. Он в дальних странах сейчас, его послали динозавров выращивать. Я стал подбираться к выходу, даже про динозавров неинтересно. Мне плохо. Чем слаще в желудке, тем горче на душе. Настроение совсем потухло. – Эх ты! – говорит Сергобеж, выходя за мной на чистоту, на траву. – Настроение! Я вижу, тебе проболтаться охота? Наших предать? Негритят всего мира! Мне… мне проболтаться было неохота. Мне… во внутре… царапало что-то, кусало. – Наверно, конфету забыл развернуть, – ставит диагноз Сергобеж. – Ванька, если проболтаешься… Хоть маленько, хоть на пол-языка… Ox, меня мамка драть будет! Ремнем! Шлангом! И кипятильником! По очереди. И жареным язём. Так что, будь другом. Буду, буду, ваше Пакостное Величество… И мы расходимся по домам. Сергобеж к своему дому, а я, как вы уже догадались, к Наташиному. О ВЛЮБЛЕНИЯХ Невозможно понять, нравишься ли ты, даже если она сказала, что ненавидит. Девчонки народ козюлистый, козявистый. Они могут сказать "да" и тут же дать пощечину. Или даст пощечину, а потом согласится. А мальчишку, когда он хочет признаться, распирает застенчивость, он сам предложение не может сделать, он только дакнуть может. Я всегда в кого-нибудь влюблен, потому что, когда влюблен, много личных мыслей. В школе болит голова от уроков, человек напряжен, а личные мысли играют в голове тихую музыку. Если ребенок видит в школе нравящегося человека, даже если это безответная симпатия, то он легче переносит школу. Девчонкам-то в школе и так весело, с подружками, а парню нужны дикие игры, в школе он стеснен. И получается: девчонки всегда в достатке, они народ не военный, драться не любят. И вот, чтобы пацан не лез с напряженными кулаками на каждого – должна быть девчонка. Как только мне можно будет – сразу женюсь. Я уверен, что каждому парню нравится девчонка, и наоборот. В мальчишке горит страсть к какой-нибудь девчонке, а они изменчивые, могут скоро бросить парня. Дружат, дружат с ним, зажигают страсть, а потом какой-нибудь пустяк найдут – раз, и бросят. Им надо, чтоб он помучился. Они взрывают его страсть, чтобы он мучился. У него нервная система не выдерживает, и он начинает ходить за ней, бегает, как яйцо за курицей. Все это я хорошо изучил на собственном опыте жизни. Мне нравилась одна командир звездочки, красивая, умная. Мы начали с ней не спеша прогуливаться. Потом она какой-то пустяк нашла – пьюф! – и взорвала меня. Я перемучился и поумнел. Я обсмотрел ее со всех сторон и привык к ее лицу; там у нее бородавка нашлась, зуб выпал передний… Теперь я ученый, сам могу помучить кое-которую. НАТАША НА МЕНЯ КОКЕТНИЧАЕТ Перед Наташиным двором лужайка – хороший, наверное, промысел желтых бабочек. Наташин дом не так уж далеко от лужайки, как вы думаете. Там достаточное расстояние: пока воротца, пока огород, пока могила дохлого кота Кузи, пока бочка с водой, а там уже и дом. У дома крылечко, не крылечко, а крыло. Тут вас встречает Наташин велосипед, он мирно пасется на травке. Я постучал в дверь, но безуспешно. Тогда я подошел к окну, это русский народный способ вызвать человека на улицу – в окно постучать. Но тут блеснуло солнце. Мне на голову упал один лучик, отскочил, попал Наташе в окно, оно чуть не разбилось. Крепкая, однако, у меня голова, умная. И на крыльцо выходит как раз Наташа и говорит мне: – А я как раз собираюсь гулять. Бывает такое, что все как раз. Мы пошли за деревню, просто так пошли, с целью полюбоваться рябинами ветвистыми, березами листвистыми. Небольшая синяя тишина. Далеко-далеко над городом облако висит, как лапа динозавра. А мы идем, маленькие… В нутре у меня опять загрызло, и я спросил Наташу, бывает у нее такое: царапает, царапает в нутре и хочется болтать. А поболтаешь, поговоришь – проходит. – Бывает, – говорит Наташа кротким голоском, – конечно, бывает. Я от этого работой лечусь. Вот, с котятами: они же, как дети. Только займусь их мыть – как кольнет! В сердце, вот тут, значит, кормить пора. Кормить – опять кольнет: Муська нагадила, подтирать, пока мама не видела. Бестолкышки они такие… Наташа говорит про котят, а я радуюсь: одинаково у нас с ней. В сердце плохо. Какой-то диатез. У меня на вранье такой диатез начинается. И я бегу с мамой болтать, она все простит, кроме вранья, самый такой нелюбитель. – И ты ей веришь? – спрашивает Наташа. – Не знаю… верю. – Не верь. Взрослые всегда нам врут, это не считается. У тебя за правду, a y нас мама за чистоту борется. У нee от грязи голова болит. От шума всякого. Она… кошек не любит. Как увидит меня с кошкой – кричит и тапком кидается. Тапком кидается? В Наташу? Вот они, взрослые, что творят, а мы в это время мелкопакостим. Вдруг за мою пятку укусил кто-то, остренько так. Я оглянулся – вижу, собачка чернопузенькая, ростику маленького, с пять коробков спичечных, скалит зубы и еще угрызнуть хочет. Я заругался: – Эй, ты что?.. Эй, джинсы порвешь! Нервная какая-то! – Я? – обиделась Наташа. – Да собачка вот. Заигрывает с пяткой. Эй, больно. Но Наташа, хоть и оглядывалась, приседала и подпрыгивала, не видела никого. Я вижу чернопузенькую, а она нет. Чудеса! – Ну ты врунище! Ну ты … – Да не завираю я! Видишь, пятку обслюнявила! Я тебе! Смотрю – а собачки нет как не было. Пропала пропадом. Фью! А только что была. Да, много интересностей в деревенской жизни… Мы опять подошли к деревне. Какие, однако, красивые сосны! Толстенькие, колюченькие, как огурцы. Я бы развернулся и еще походил, погулял до самого светлого утра. Тут, чтобы Наташа не ушла, я стал ей рассказывать происхождение всей жизни. Давным-давно, когда не было на Земле еще ни бабочек, ни Ленина, сначала была Галактика. Галактика. Потом эта Галактика как-то начала крутиться. И Земля крутится, хоть вы не замечаете. Ято замечаю, ребята! Я-то замечаю! Когда отвернусь к полу и закрою глаза, подо мной чтото кругу-у-тится, медленно. Это значит, Земля крутится. Но Наташе стало неинтересно про далекий мир. Она остановилась, ойкнула: – Ой, кольнуло! Ну все, бегу! Кошка должна ощениться, Муська у меня. Будет восемь котят. Тебе я отдам самого лучшего, белого котика. Я говорю, что не знаю, мама не разрешит. У меня был однажды щенок, и у меня кожа стала плохая, с тех пор мама боится всех животных. И тут Наташа сказала очень козюлистую фразу: – А когда вырастем, мои котята и твой беленький будут жить вместе и еще дадут котят. – Котят, – не так уж радостно повторяю я. – А еще, Ваня, еще мы купим собак! Они будут давать щенят! У нас будет полный сад скотины: кошек и собак! Вот это счастье: полный сад собак! – И поженимся, – прибавила Наташа к собакам и котам. – Поженимся, будем жить своим домом, своим забором. Я хотел сказать, что мама не разрешит, она хочет, чтобы я в институт пошел, потом еще куда-то… Вдали, из-за фонаря, высунулась Ленка и Ленкин карандаш, пишет что-то в свой "Записник". Я посмотрел пронзительным взглядом – она всунулась обратно в даль. – Эх, – притворно вздыхаю я, – причесочка лысая у меня, на каждом шагу нас подлысо стригут. Вырасту, поступлю в институт, заведу, как у Пола Маккартни, причесочку: на две стороны, посредине просвет. – А мне как раз лысые нравятся мужчины, – Наташа улыбнулась своей влюбленной в меня улыбкой. Любовь из нее брызгала, как из ягоды клубники, когда пяткой наступишь. Чего улыбается, будто Сергобежа ей не хватает?.. – А про невесту… некогда мне думать, – грубым баском говорю я. – - Видишь… как детей угнетают? В тебя тапком кидаются, режим нам пишут. Надо реформу этого делать. Реформу школы, реформу детского сада. Тебя не садили в детсадик?.. То-то и видно. Хуже тюрьмы. Просто сидишь и неизвестно о чем думаешь. А ты – - опять забор… Глаза у Наташи потухли, и она стала уходить. Сказала на последнее прощание: – Нам с Муськой тоже некогда про женихов. Котиков надо воспитывать. Муська породистая такая, каждое лето котиков дает. Котики, котики… КАК Я СИДЕЛ В ДЕТСКОМ САДУ Так уж завелось в нашей жизни, что детям присуждается несколько лет заключения за то, что их родители работают. Мама сидела со мной четыре года, подрабатывала шитьем, мытьем, а потом не выдержала, сдала в детский сад. Даже по внешнему виду детсад не напоминал ничего хорошего. Это было унылистое серое здание с решетчатыми окнами. Ограда толстая, высокая, черно-ржавая. Во дворе стояли три сломанных качельки, лежали три шины от автомобиля ЗИЛ, покрашенные в белый болезненный цвет. Все это называлось: "Ясли-сад "Солнышко". Шел я туда, думая, что там много умных детей, вкусно кормят, много игрушек, и все дети вечно дружат, и потом, через двадцать лет, собираются на день встречи выпускников младшей группы. Мама весело мне сказала, увидев, что я припечалился: "Как красиво, правда? Как весело! Тут тебе долго жить". "Мама, ну как же так? Ведь это…" – и тут заскрипела дверь в серый дом "Солнышко". Мы вошли. Стоял запах кислой капусты и противной манной каши без варенья. Я понял: тут не дадут пряников, а тем более орехов, не говоря уже о черной корочке с чесноком и розовым салом. Мы прошли по коридору. Живой уголок детского сада состоял из одной кошки в полхвоста, двух зеленых ящериц, мухи-старухи и червяка-старика. Еще там был хромой на одно крыло воробей. Мы пошли дальше. По пути нам встретилась кухня. Поварихи кричали: "Ничего! Сожрут!". Пахло порошковым молоком с порошковыми пенками, неделю как открытыми рыбными фрикадельками и каким-то маслом, наверное, машинным. Мы вошли в раздевалку детсада "Солнышко". Раздевалка мне тоже не понравилась. Везде все было накидано. Раздеться можно было на одной ноге. На каждой дверце шкафчика был нарисован какой-то значок. Лениво пришла воспитательница. Она сказала маме: "У вашего сына будет яблоко". Мы нашли яблоко, открыли. Но там висела чья-то одежда и огрызок. Воспитательница разрешила: "Тогда пускай будет шарик". Я разделся. Было жарко, но не солнечно. Воспитательница меня втолкнула в зал, где я увидел тощих и удивительно живучих детей. Среди них очень выделялся один, усиленно упитанный. Он сидел на игрушечном кораблике. Видимо, это была мафия, фамилия которой, я потом узнал, была Семечкин. Дети хотели подбежать ко мне, но что-то им мешало. Они продолжали сидеть на своих стульчиках, как приколдованные, воспитанно держа руки на коленях. У меня тоже перестали двигаться руки. Злая сила потянула меня к свободному стульчику, на котором был нарисован шарик, свободно летящий. Ладони мои стали прилипать к коленям, ум стал костенеть, мозги соломенеть, глаза стекленеть. Лицо стало фарфороветь. Ноги не успели задеревенеть, я в ужасе побежал назад, спасаться у мамы. Семечкин нехорошо засмеялся. Мама похлопала меня по спине, обрадовалась: "Посмотри, как весело! Сколько детишек. Ничего, скоро привыкнешь". "Смотри, все привыкли! " – надзирательно гаркнула надзирательница. Не нужны мне чужие игрушки заводные-заколдованные! Отдайте одноухого моего Шарика, который впервые остался дома один, плюшевый и голодный. Воспитательница увела маму. Мама сложила руки за спиной. Я остался один, посреди. Мафия-Семечкин что-то подумал. Тут же расколдованная толпа окружила меня. Несколько ударов в спину, и я упал, Семечкин слез с корабля, подошел ко мне. Мне это не понравилось. Я подумал: сейчас пнет в живот. Семечкину это понравилось. Я сбежал в раздевалку. Тут на мое счастье пришла няня. Она была старенькая. Как только она сказала мне слово, я сразу понял, что это – один из единственных людей в садике, который не будет меня бить. Она погладила меня по голове, сочувственно сказала: "Попался?". Я облегченно заплакал. Маму забрала работа. Меня забрал детский сад. Сперва был сон. Я сидел в раздевалке, солено плакал. Пришла воспитательница с палочкой для подгоняния детей и, не открывая рта, сказала. Я не успел подойти к двери, а у всех детей уже были расставлены и налажены раскладушки. Воспитательница шевельнула палочкой, и дети рухнули в постели. Она повернулась ко мне: "Ты чего здесь стоишь? Ты кто такой? А ну - шрам в постель!". Она специально так сказала – "шрам", а не "марш", чтобы дети лежали и разгадывали, а не бегали и не кидались столами. Еще она говорила "лугять" вместо "гулять". На раскладушке был нарисован кружок неровный, мой номер-шарик. Раскладушка пахла детскими слезами. Я постелил, улегся. И долго не мог спать, смотрел на моего соседадомика, на соседку-елочку. На улице кряхтели и сопели машины, хоть форточка и была закрыта. На кухне чем-то вкусным громко чавкали повара. Воспитательницы собрались в соседней педагогической комнате и отвратительно ругали своих мужей и чужих детей. Через каждые несколько минут воспитательница засовывала в дверь голову, шею и цепочку на шее, чтобы посмотреть, спим ли мы. Она гаркала "пасть!" так, что даже те, кто засыпал, пугались и поднимали голову. Наконец-то я заснул. И вдруг: "Петров! Вынь руки из-под одеяла!". Хоть я и не Петров, и никогда им не был, я с ужасом обнаружил, что у меня руки тоже под одеялом. Они выскочили из-под одеяла и успокоились у меня на груди. Все лежали тихо. И тут рассыпался маленький детский хихик. Воспитательница, напоминая ледокол, растолкала коленями раскладушки, причалила. "Петров! Бессовестный! Не видишь – все спят!". Все подняли головы со своих подушек и смотрели. Я не понимал, в чем дело, но девочки предвкушительно хикали. Воспитательница, делая стаскивательные движения, ухватила Петрова за трусы и тащила их к пяткам. Бедный Петров молча бил ее ногами и тянул свои родные трусы назад еще сильнее. Ледокол протрубил, позвал на помощь. Приплыл крейсер. Это был корабль довоенной постройки, толстый, неповоротливый, в ушах висели золотые якоря. Он шел плавно и пыхтя, перешагивал через льдинки. Петров понял: пришла пора погибать, но не сдаваться. Но он не успел оторвать кусок простыни, пропустить его через трусы, сделать лямки на плечи и завязать двойным морским узлом. К тому же он не умел вязать узлы. Битва была недолгой. Петров разбит и раздет. Но еще не всё. Петров был поднят голым и поставлен на своей раскладушке. Он скрестил ладошки над своими сокровенными местами. Он почти не плакал. Он стоял и далеко видел. Он хотел поскорее вырасти и не отдавать своих детей никуда. Я захотел встать, принести Петрову брюки из его шкафчика. Но я не мог это сделать, сами знаете, почему. Как только раздался первый глупый девичий смешок, добрый Семечкин скомандовал всем отвернуться. Все отвернулись. И тут настал подъем. После подъема полдник. Полдник – самая вкусная еда, не дают ничего тухлого. Немного творогу с сахаром и кружку компота. Заставляют есть с хлебом. Еще дают ложку. И наконец – "лугять! " – вздрогнуло в воздухе. Все бросились в раздевалку. Я открыл свой шарик. Но моей одежды там не оказалось. Я нашел ее на Петрове. Еле-еле содрал себе мою одежду. Петров отошел к своему яблоку. И вот выбежали на солнышко. Во дворе оказались стоптанные беседки, гнутые кем-то металлические снаряды, лавочки из одной перекладины и – главное – дерево, на ветвях которого был штаб Семечкина. Семечкин сел под деревом на дощечку, как мафия. Дощечка лежала на взлетной площадке земли. К ней была привязана веревочка. Верёвочка была перекинута через сук. Несколько мальчишек уцепились за конец веревки, повисли на нем. Семечкин взвился, исчез в ветвях. Вслед за Семечкиным в штаб подняли его телохранителя. Я побрел к беседке. С Петровым мы стали играть в ножички. Мы играли другим концом ложки, которую Петров припрятал еще с обеда. Как только я стал побеждать и моя ложка воткнулась, с дерева спрыгнула мафия. Они приставили к моему горлу деревянный нож и потребовали ложку, чтобы алчно играть в азартные игры. Семечкин размахнулся ножом. Я шепотом позвал маму. Я понял: пора умирать. Нож перехватила добрая воспитательница. Она дала по башке Семечкину, сунула нож под мышку. И сказала, что за мной пришла мама. Я побежал. Я поклялся себе не ходить в детские сады, где гocподствуют такие мафии, как Семечкин. Тем же вечером я заболел на долгие годы. И стал несадиковым ребенком. Это был единственный выход – кашлять, хрипеть, температурить – и я его нашел. Когда вы слышите, что ребенок несадиковый, значит, – ребенок умный. Если мама не понимает, что ребенку не нужны никакие чужие дети, даже вундеркинды, а нужна родная-родная мама – что делать? Зачем ей на работу, зачем ей деньги, если сын проводит самые умные, самые важные годы в тюрьме. Был бы я садиковым ребенком, не читали бы вы эту книжку. О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ЛЮДИ Я стою у озера в большой синей тишине. Озеро у нас тоже большое, сравнимое с морем. Перед озером полянка из редкой травы. Редкой не потому, что ее тут мало, а потому, что она не городская, приятная ногам, мягколистная. Лужайка, лежайка. В этой густой травке, как ежата, иногда встречаются шишки. На них иногда наступает детская нога, но ноге совсем не больно. Вы сразу понимаете, что на этой лужайке хорошо стоять на голове, ловить стрекоз, гоняться за собакой, убегать от нее в озеро. Еще тут неплохо просто лежать, наблюдая в бинокль чаек, а если нет бинокля, то через тростинку. Слева от лужайки растет клевер бело-сиреневый, он еще называется кашка, причем с медом. Справа - выжженный черновато-коричневый круг, где дети жгут костер, обсохнуть после купания, испечь картошку. Зимой каждый городской человек мечтает про это. Он мечтает, как босиком встанет на краешек деревянного мостика, чуть не упадя в воду. Как будет смотреть на лесной горизонт, на тонущие в воде облака. Увидит, что карасик клюет снизу озеро и делает круги-мишени. Этот взрослый человек будет стоять и спрашивать себя внутренним шепотом, чтобы не услышали жена и взрослая дочь, почему же он не живет здесь. Он зажмурится и в последний раз поклянется себе, что на пенсии обязательно переедет в деревню. Карасик подплывет совсем близко, и в центре мишени взрослый человек увидит свое детское лицо. КАКАЯ У МЕНЯ БУДЕТ ЖЕНА Выбрать девушку бывает очень трудно. Девушки бывают разные: красивые, но жадные; добрые, но не совсем красивые, с толстой губой, как пряник. А вдруг попадется и добрая, и красивая, а животных не любит? Красивая, как я понимаю, – с тонким животом, обязательно с короткими ногтями, чтоб не царапалась. Она не должна красить губки и уж ни в коем случае не должна красить когтей. Своей жене я много работать не дам, по возможности буду все делать сам. Свободный отпуск мы будем проводить не на чужом нам дорогом юге, а здесь, в деревне. Я весь день буду играть с животными: собаками, кроликами. А моя жена будет играть с котятами. Как вы уже догадались, жить мы будем не в городе. В городе человек учится; учится, как не надо жить, а в деревне живет. Деревня – это начальная жизнь человека, в ней есть прекрасное. Хотя некоторые считают, что в городе такое совершенство! Например, горячие батареи для моей городской бабушки, мороженое для девчонок. Моя жена будет сама делать мороженое, а я сам проведу отопление. И вот прошло доброе утро, кончился добрый день, настал добрый вечер. Моя веселая жена зовет меня ужинать. В городской кухне никаких чувств не бывает человеческих. Потому что если торопишься, обязательно зацепишься за край стола. Если тебе хорошо и неторопливо, и ты хочешь потянуться – с полки упадет солонка и посолит тебя. А если захочешь подпрыгнуть от радости, ушибешь люстру своей головой. В городской кухне ты должен быть заводной куклой, которая знает свой маршрут и все повороты и не может отклониться даже на двадцать сантиметров. А у нас в деревне кухня толстая, с просторным погребком. В погребке слева банки с вареньем стоят. Справа – приличный загончик, там свекла лежит в тишине, редька ее подпирает, репка пузо выкатила. А это – бочка с грибами, бочка с капустой, бочка с огурцами и помидорами. Из всего этого жена сготовила мне винегрет. На тарелке сало розовое с луком репчатым. А лук у нас висит в косичках прямо над входной дверью. А что у нас с женой в сенях, по сусекам… лучше вам не рассказывать, а то вам захочется жениться на моей жене. Если это читает пацан. А если это читает девчонка… ДУШЕЦЕЛЕБНЫЙ РАЗГОВОР Ох, не сидится мне и не ходится. И не думается ни о чем хорошем, даже о полном собственном дворе собственных собак. Ох… весь я в обмане, все лицо, вся курточка преступная. Напакостил… Как царапает около сердца где-то! Наташе не признался – разлюбит сразу вора конфетного. Мамы нет. Бабушка – она старенькая уже, пугливенькая, разболеется совсем. О-ой, не могу! Ну-ка, шепотом пошепчу: я своровал… И Сергобежа не оттянул от воровства… своровал… И тут, братки-ребятки, явись мне собачонка! Собачонка темная из темноты, та самая, которая к нам с Наташей подстраивалась, пятку мне грызла. Я обрадовался и такой собеседнице: – Иди сюда… Господи, исчумазанная какая! Ну и хозяин у тебя. Ты чья? – Твоя, – говорит собачка собачьим ртом, а человеческим голосом. Я подпрыгнул до ветки сосновой: моя собака! Бабушкин подарок! И такая… волшебная. Она приблизила свои глаза к моим: – Я совесть твоя. Всему свету свет. Совесть?.. Моя совесть… Я думал, моя совесть – мама. – Я всем мамам мама, – говорит собачка, выпячивая тощую грудку. – Вот напакостишь ты, как тебе мама пеняет? Ну, как ругает, что говорит? – Говорит… ну, как все. "Как тебе не стыдно, больше так не делай". Собачка взвила свой хвостик, обрадовалась: – Тоже самозванка! Тоже! Взрослые – они самозванцы все! Выдают себя за совесть детскую, командуют, поучают. Есть, конечно, люди, но мало, повывели их. Они вопрошают, а не поучают. Я был с ней, наверно, согласен, но не согласен был, что она трепаная такая, замурзанная. Собачка, оказывается, умела слышать мысли. Да и говорит мне корящим тоном: – Конечно, трепаная. Конечно. Пропамятовал? Ссорное дело у нас. – Ссора у нас? С тобой? Да не ссорились мы… А-а, из-за конфет ворованных!.. Извини, перебеспокоил тебя. Я и сам воровал с небольшим удовольствием. Это Сергобеж. Он был Царевич Пакостный, а я… Собачка опять грудку выставляет: – Совесть человеку поцарей царица. Поцарей-поцарей! Вот встряпался ты в дело. Какое твое самочувствие? Я, как у врача, описал все свое самочувствие: что неважное оно, что скребло что-то в нутре, кусало. Она и говорит приятельским полуголосом: – Кусало? Это я грызла тебя! По умышлению. На разговор приглашала, на разговор душецелебный, а не про салаты-винегреты мечтать. Душецелебный разговор! Вот мне такой и надо, душецелебный. Мы подошли к бабушкину дому. Свет горит, рыжит в окошке – бабушка ждет ужинать. Уж прости, у меня важный разговор. Я сел на лавочку. Собачка тоже присела на травку. Где-то в глубине травы сидел сверчок и сверчил какую-то летнюю песенку. Воздух вкусный, как малиновый кисель. Собачка приступает к моему воспитанию: – Представь-ко, что подеется в мире, если все у всех красть-тянуть будут? Все у всех? Представляю… прихожу с переменки, а учительница – смотрю – лезет ко мне в портфель своровать яблоко. Но ее надежды не сбылись! Зашел директор школы и пресек ворующую: выхватил яблоко, да и сам съел. – Вот что будет, – понял я, – настоящее Пакостное Царство! Спасибо, научила меня: Пакостное Царство – там жить нельзя. Она завила хвостик колечком: – А мы не поучаем, мы вопрошаем. Хотя есть, есть у меня дурная эта привычка – поучать. Но я борюсь. – Ну давай, вопрошай, – тороплю я. Все, кто думает о совести, представляют ее, наверно, в виде учительницы с хмурым лбом или в виде Завуча с поднятым указательным пальцем и с указательным голосом. Некоторые мамолюбы, такие, как я, культурные дети, представляют совесть похожей на маму, не в веселые минуты, а в недовольные, когда мама грозит не пустить, не дать, не разрешить. Нас пугают совестью, а она такая славная, дружелюбная. – А скажи-ко правду, без утайки: что делать будем? – вдруг спросила собачка. – Что делать? Ты в догонялки умеешь? Она как рявкнет по-щенячьи: – Я про сиделицу в клубе, у кого украл, обездолил кого! Как дело будем поправлять? Как дело поправлять? А как его поправишь? Ушли уже из клуба все, разошлись по домам, по телевизорам. – Ловкий молодец! – говорит она, уже не так, совсем не так дружелюбно. – Кругом объехать хочешь? Польготить себе? Тут и я рявкнул: – А ты хочешь, чтобы выдрали меня, да? Как Сергобежа, да? Вон они, взрослые, бессовестные какие, сама говоришь!.. Кровожадина ты! Она отошла к кустику, подняла ногу, как все собаки; но не стала, сделала вид, что кустик нюхает. Потом задрала голову и сказала поэтичным голосом: – И взрослые не без совести. Мы, совестя, у всех водимся, никто без нас не обойдется в человечьей жизни. Только у кого-то далеко она, загнали, чтоб не мешала, не надоедала. Я соскочил с лавочки, подступил к ней, к ее собачьему обличью: – Позор поднять?.. Я тут задумал… мировое такое! Ребятишкам помочь, от ремня избавить. Негритят всего мира! Понимаешь или не понимаешь? Тут она давай наступать, поднялась на все четыре лапки: – Донимать буду, угрызать! Подушку вертеть под головой! Такой задохлик станешь! Извини, моя служба такая. Угрызения эти терпеть? У кого было, тот подтвердит: это хуже математики, хуже молока с пенкой, хуже всего плохого. Да… попался я. Мама бы поняла, пожалела. – Родительницы ваши, – фыркнула собачка, – извадили вас! Вы уже совесть от собачки не можете отличить. Совесть человеку первый друг! – Она заглянула в мои пакостливые глаза своими честными-честными и сказала рекламным голоском: – И удобно, правда? Всегда с собой. А мама? Где вот она? Где? Ладно, признаюсь. Может, простят, не поднимут позор. Найду в красном плаще эту тетеньку. А как? А вот как: дождик начнется, выйдет тетенька в плаще – и тут я с разговором этим. Дождики часто теперь, каждый день, хоть полдождика, да идет. – Подожди, пока дождик пойдет, а? Собачка согласилась, шмыгнула собачьим мокрым носом. Походила по траве, застенчиво понюхала ромашку и спрашивает: – Ну…полегчало тебе? Ушла тягость? Слушайте, а… полегчало! Как будто плыл, плыл, а дна нет и нет. Все тело страхом покрылось. А потом попробовал и достал. И встал крепко. Моя новая знакомая поднимает коготь вверх: – Надо, как я велю! А то некоторые поговорят с совестью, а потом ду-у-мать начинают, рассуждать. Видишь: не успел признаться, облегчение пришло. Вот! Совесть чистая должна быть, упитанная. Как, идет мне такой цвет? Уже осветлена! Она перекрасилась у меня на глазах. Я успел моргнуть, и она другая стоит, папиросный такой цвет шерстки, папиросоватый. Хороший цвет, модный. И луна выползла из-за тучки, поглядеть. Стало ясно вокруг, все стало ясно: и щепка на земле, и бабочка на щепке… Такое облегчение пришло! А если… если мы все взрослым признаемся, а взрослые нам, ребятишкам? Ну, представьте! Мировое облегчение придет! Мировая тягость уйдет… Эй, ты где? Эй, песик? Нету… только что была и тут же нету. И почему взрослые не признаются детям? Не извиняются никогда?.. И совесть их не прогрызает. МОЯ ВЗРОСЛАЯ МАМА Честно говоря, я не ожидал, что у меня родится такая хорошая мама. То есть, родился-то я, а она хорошая – у меня. Если мама захочет меня поцеловать, я всегда вижу. Сразу. Не успеет она дотянуться, как на нее накинется мой поцелуй. Я ее сразу прощаю. Чуть только замечу, что она меня немножко обидела – сразу прощаю. Все время хочется ее держать, хоть за руку, хоть за пуговку. Я все время к ней леплюсь, как облепиха, а мама меня отлепляет. Если у меня настроение сгасло – я поговорю с мамой, и снова все разгорается. И я считал, то она – мой первый друг душевный. Но теперь у меня большие сомнения. Вы уже знаете мой характер. У меня слишком много мыслей в голове, им там тесно, и я не могу думать, у меня все вылазит наружу. В голове как бы переводчик сидит. Только голова подумает, рот сразу переводит на свой язык. За день я не успеваю все сказать, и поэтому самые умные мысли о завтрашнем дне, о сегодняшнем дне – я шепчу под одеялом. Ну и во сне, конечно, приходится разговаривать, даже вслух, громко. И вот недавно, на классном часе, учительница, Нина Николаевна, обозвала меня болтушкой, каждой бочке затычкой. И объявила при всех, при девочках даже, что я во сне болтаю. Тут же у меня появилась кличка новая – болтолог, не знаю, забудется она за лето или нет? Откуда Нина Николаевна узнала? Не хочется думать, но только от мамы, после родительского собрания, например. Отдала меня мама на растерзание хохотунам и хохотушкам, Всё, теперь у меня недоверие к ней – на всю жизнь, на всю судьбу. СМОГУТ ЛИ ВЗРОСЛЫЕ ПРИЗНАТЬСЯ ДЕТЯМ ? А почему бы и нет? Но для этого нужен особый момент, хорошее настроение. Взрослые делятся на три группы. Веселые. Деловые. А вот третья… как бы вам сказать, круглые, замкнутые в кругу своих интересов. Веселые, они, конечно, люди хорошие, близко похожие на детей. У них, наверно, и совесть близко сидит. Они много думают о себе и стараются быть еще лучше. Но у них есть и детские недостатки: они вертлявы и расточительны. Они очень любят всем помогать, как моя мама. Веселые могут признаваться детям, это им не трудно. Деловые – они и такие, и такие, смесь веселого и круглого. Деловой человек напоминает лошадь: на нем все катаются. Мой папа – деловой, он везет на себе весь свой научный отдел. Он веселый, но с ним не повеселишься, он занят чем-то своим невеселым. Деловой тоже сможет признаться. Например, если он пригрохнул ребенка щелбаном, то сразу признается, что убил человека по торопливости и рассеянности. Круглый – он редко играет с детьми, не замечает их, не замечает животных, не замечает людей. Думает только о работе и о телевизоре. Он похож на ребенка только пьяный, но ребенок этот капризный и драчливый. И все-таки, когда у него все хорошо, он может сыграть партеечку в шахматы или посмотреть твои марки, развеселиться. А как только проголодается – опять круглеет. Ему нельзя рассказать тайну, сразу обсмеет. И он тебе не признается никогда, круглые – не признаются. Но можно что-то придумать, накормить повкусней, дать им пивка, тогда они, наверно, кивнут. Чем-то их пробрать, этих взрослых, до глубины, до детства. ОЗВЕРЕЛИ МЫ, ОПОРОСЕЛИ… Солнышко уже выспалось, растаращило глаза. Я вышел на улицу пять минут назад – на улице было никого. И сейчас никого не видно. Иду на самый шумный перекресток. Там стоят, о чем-то совещаются две коровы; вот прополз таракан дальнего следования; вот пес прошел, старый Туз. Это собака Сергобежа, а где он сам?.. Тише! Тише! Слышите? Какой-то писк… Писк, ойк и мамканье. Все понятно, девчонки открыли эту пискотеку. Дерутся, что ли? Я бегу, и солнце катит за мной на веревочке. И вот мы на месте этого происшествия. За домом бабы Насти, как вы помните, есть двор с белой березой и толстыми щенками – это двор дяди Котова. Потом переулочек, потом лужайка перед Наташиным домом. Лужайка - место этого происшествия. Древняя сосна – место моего наблюдения за этим происшествием. Вон Сергобеж стоит, полный рот смеха, стоит, пятками стучит, девчонок подуськивает: – Стукни ей, стукни! Наташа махнула на Вику своей поварешкой: – Ты мне еще сильнее зуб расшатала. Он вот сюда шатался, а теперь и туда, и сюда! Наташа сегодня в голубом платьице со всякими кокеточками или – как их? – оборочками, сборочками. Красиво. А на щеке у нее розовые полосы, на явление природы не похожи. У Вики в авоське три кирпича, она их раскачивает грозно, подступает к Наташе: – Ты за Ваньку, да? За этого Ваньку? Правильно Ленка его записала: он грубит старшим, пререкается. Я стою за сосной. Смотрю вполглаза, слушаю вполуха, дышу вполноздри. Наташа и говорит с презрением к ним и с уважением ко мне: – Ванька – он за детей, за вас, а вы прилизы ко взрослым. Ленка радостно открыла свой "Записник", нацелилась писать: – Та-ак… обзывки, издевки. Ты на осень остался по поведению, теперь на второй год останешься, Сергобеж. А ты, Наташа… Вика сказала про меня: – В городе много ванек таких. Они там все ругают старших, кричат на учителей. Наташа сказала про меня: – И я с ним уеду! Влюбилась! Влюбилась!.. Что делать? Жениться на ней?.. Не знаю. Сейчас разводов столько! А когда разведемся, она меня из дому выгонит и к щенятам пускать не будет. Наташа продолжает хвалить меня, я не слышал такой хвальбы ни от кого: – Он игры всякие знает! Толкание ведра! Вольная борьба с подушкой! Я ухо -хоталась! Он всё! А вы только знаете игру – кто сильнее пнет под зад. Вика тем временем подносит Наташе свой знаменитый кулак: – К нему перемотнулась! Я думала, он будет за мой авторитет, а он за свой авторитет!.. В город собрались! На лифте ездить! Взрослых лупить! Протесты делать! А кулака понюхай деревенского! Эх, я хотел бы выскочить в защиту Наташи, чтобы понюхали эти мелюзги городского кулака. Но это, согласитесь, политически незрело. У меня другая цель, без кулака. Тут слышу – Ленка записывает Вику за драку. – Меня? – завопила воплем Вика. – Меня пишешь? Своего председателя?! Смотри! Кирпич развивает смертельную хватку! Ленка отвечает учительским голосом: – Строгий режим. Надо записывать. Все провинения. – Ах ты, прилиза! – смотрю, Вика уже бьет, лупит Ленку без пощады, три-четыре кулака в минуту. Ленка взвизгивает как только можно. И тут – откуда ни возьмись – я! Сергобеж увидел меня, нос поднял, на носу радость просияла. Уши так и раздвигаются при смехе, а рот при движениях рисует собою пятачок. Очень Сергобеж похож на трех поросят! Только бы на лужайке скакать-резвиться. Девчонки при виде меня отложили драку; я вступил с ними в диалог: – Вика, посмотри на себя, ты же зверь! Не по виду, по виду ты очень девочка, а вот по крику, по повадкам… Извини, Вика для тебя слишком бесцветное имя, тебя на Дику надо перезвать. Это переназвание так понравилось всем, особенно Ленке: – Вот! На телевиденье напишу, в передачу "В мире животных". Дикочка! Запоешь свиным голосом! Вика закричала, что мы все злые, хоть и не по-свиному, но и не по-девичьи. Меня стукнула в лоб. Вцепилась в Ленкину косичку и давай трепать. Да так больно! Мы с Наташей стали разводить девчонок по углам. Смотрим на Ленку: что-то неленкино. – Ленка! А косичка? Ты же косая… косоватая… ну, с косичкой была! Когда постричься успела? Дика победительно подняла кулак: – Это я ее постригла! Всех постригу! Ух! Из кулака висела косичка с бантиком. Ленка заревела нечеловеческим голосом; стала прыгать на Вику, отбирать косу. Да, не получается диалог. Когда матери дерут, не нравится им, а сами… Сергобеж тут еще, подуськивает Ленку тоже Викину челку подровнять. Я посмотрел попристальней на Вику, на ее взъерошенные кудри, диковатые глаза, боевые зубы. – Вика, давай по-хорошему поговорим. Вот ты дерешься, кусаешься, царапаешься – хочешь, чтоб тебя ненавидели все? – Ну ты, Ванька, косоплётки плетешь! Я к жизни готовлюсь, передовая отличница. Чтобы меня любили все, выбирали везде. – А, что ли, в жизни дерутся все? – Конечно. По телевизору говорили: за любовь надо бороться. Любовь должна быть с кулаками. Все бабы мужиков ругают. А пьяных бьют. У тебя мамка с папкой не дерутся разве? – Нет, не дерутся и меня не дерут. В Виковых глазах мелькнуло маленькое недоверие. Она говорит с маленьким недоверием в голосе: – Если не драть детей, они преступники запущенные вырастут. А мужей не бить если, они напьются и бросят тебя. Я напустил столько в свой голос уверенности, сколько мог, напыщился: – Ты, Вика, старомодная очень, хоть и в полуюбочке. Сейчас мода на мир, на дружбу во всем мире. А скоро будет мода на любовь. Интернейшн корпорэйшн! – Корпорэйшн! – всполошилась Вика. – Мода на любовь! Ах, Ленка, пресса на полставки! Кто сказал, что на короткое мода и на красное? Газетчица! – Сейчас в моде телеграфный стиль. Вот я в черном – стройненькая, длинненькая, как столбик, – заманекенилась Ленка, выставила свою худую лапу в трико. – Я тебе, столб телеграфный! – Опять драться! – укоряю я Вику. – Лучше сделать в нашей деревне Мировое Царство Друзей. Фрэндз! Корпорэйшн! Все будут друг друга любить, по последней моде. Горе останется только луковое, когда лук режешь. И тут я такой видок сделал, такой вид… как будто из космоса только что прилетел. И говорю им: – Слушай, ребята! Вот, ребята. Я знаю. Как. Нам. Счастливыми. Стать. Сегодня! Сейчас! Девчонки оглазели. Наташа оторопела. А Сергобеж… тут подходит для красоты слово опоросел, но он наоборот, принял очень человеческий, серьезный облик. Все ждали, что я им посоветую, но тут нужен был сначала отдельный разговор. ЗАЧЕМ ПРИДУМАНЫ ЛЮДИ? (отдельный разговор) Я ведь, братки, много думаю. Бездумником-то меня не назвать. Я давно там, у себя в голове, ищу ответ: зачем придуманы люди? Ведь живем унизительно, огорчительно, обзывательно. Косички друг другу выдираем, мелкопакостим, первому котику попавшемуся всю любовь отдаем. Неужели человек с его такими уменьями, мечтаньями, стихотвореньями создан для того, чтобы другому косичку рвать? Или болячками кидаться? А? Такая легкотня – вопросик, а ответьте? Заблудился я в этих мыслях, еле выблудился. И понял я вот: человек сделан быть счастливым. Бабочка счастлива полетом, рыба – водичкой, поросенок – картофельными шкурками, а человек многим счастлив, и всё у него для счастья есть. Глаза у него всё видят, уши всё слышат, ноги всё бегут, руки всё берут, а голова придумывает всё остальное. Каждый человек: и в деревне, и в Канаде, и на Северном полюсе сделан для счастья. Везде, кроме Того Света. Про Тот Свет я пока не думал, голова не доросла. Вот поглядите: новородившийся малыш. Как он рад, что родился! Радуется, лежит, из своей коляски: пушинке тополиной, воробью бесхвостому, маминым очкам (если, конечно, пеленка сухая). Ни одного нет грустного карапузёнка, правда? Поэтому и целуют все карапузят, и играют с ними, и купают. А нас уже не целуют, любят еле-еле, на полставочки. А уж в шахматы сыграть или в карты – не допросишься. Потому что мы, подростки, полурадостные. Я замечаю за собой, замечаю, и вы позамечайте: все время хочется себя перерасти. Раньше я думал, что третьеклассник – нормальный возраст, а теперь семикласснику завидую. И получается: скорей бы прожить, скорей бы прожить, как будто в тюрьме сидишь. Жизнь – среднекудышняя. Девчонки недовольны, что у них колечки не золотые, помады обглоданные. Когда я был маленьким, я думал, что жизнь похожа на семечко: все растет, расцветает, созревает. А сейчас я думаю: жизнь – это цветок. Взрослые говорят, что мы противные, что у нас – трудный возраст. Конечно, трудный. Трудно из счастливого перерастать в несчастного. Сами-то они, взрослые, переростки – счастливые, что ли? Кто знает взрослого, сияющего? Рос он, рос, учился ходить, говорить, читать, находить икс – вырос. И где его счастье? Тут, конечно, можно отговориться: да что это такое, счастье, да в каком отношении, да в какие сроки… Но счастливчика сразу видно, он светится, вон, как солнышко. От него счастливый цвет идет, счастливый запах. Не скажешь про солнце: несчастненькое? Вот. Ну, и кто такого солнечного знает?.. Мало кто. Я знаю одну маму одного пацана. Взрослым, чтобы развеселиться до карапузного состояния, надо дождаться праздника, собраться, настряпать пельменей, накупить водочки побольше, чтоб хватило (даже у кошек свадьбы безалкогольные, а эти…). И на два часика им станет счастливо. А потом? Все знают, чем у них праздники кончаются: тоже друг другу косички выдирают. А ребенок? Схватил кусок хлеба и пошел таскать паука за паутину, догадываться о природе. Ему все интересно, все вкусно. Ну и куда нам торопиться расти? В кого мы вырастем? Зачем нам такая жизнь бяковая? Нет, братки, чтобы быть счастливым, надо… ЖИТЬ! Сергобеж поддержал этот счастливый разговор: – Давайте делать счастливое детство! Я хочу, хочу в детях пожить! На шее у папки покататься! Наташка все всё: замуж! Замуж! А я еще в детях не жил! Правильно, зачем взрослеть?.. В деревне только одна бабка цветы развела. Им некогда! Несчастные! А я люблю – никакой грусти! Жизнерадостность люблю. Наташа крутит свой голубой, озёрного цвета подол и говорит: – А потому что у меня мамка детей… ну, не любит. Как увидит меня – тапком кидается. Сказала – и навестила меня озёрным взглядом. Ленка тоже высказалась, откинув назад, за плечо, бывшую косу: – А мне, думаете, хорошо? Хожу в черном, как ворона с перекушенным крылом. И всех записывать, друзей записывать! Это не детское детство. Даже Вика распрямила свои кулаки: – Была я Вика, а стала Дика. Одикела совсем. А я девочка, я очень девочка. Я… – Вот! – я согнал шишки в кучу и встал на них, повыше. – Вот! Мы маленькие, и еще унизились. И вышло – переругались все, передрались. А надо нам – возвышаться! Мы готовимся к жизни, а надо – жить! Жить, уже в маленьком возрасте! Девчонки крикнули: – Жить!? – кто с вопросительным, кто с восклицательным знаком, кто с тремя восклицательными. – Нет! Нет! Нет! Нет! – вдруг крикнула Ленка своим телеграфным стилем. И стала говорить, что нет, не дадут нам жизни взрослые, не дадут. И никем они непобедимы. Надо терпеть и расти. У них всё – газеты, радио, телевизор. Вика поддакивает про педсоветы, дневники, что чёрную точку ставят, кто опоздал на урок. Я тоже вспоминаю пионерские лагеря, детсады с воротами. Наташа вздохнула в мою сторону: – Замуж выйдешь – тогда избавишься. Всё, всё у них – все вещи, все деньги, все зонтики. Сергобеж съежил глаза: – Детские колонии – у них, дебильные школы. Да… А у нас, зато у нас ума больше! И время есть, хоть и задают нам полный портфель домой. Давайте сделаем отряд партизанский! Отвратительную команду по гадостям! Целое Царство Пакостей, правда, Ванёк?.. Они лопоухие! Я один раз портфель надел на голову, застегнул. Учительница весь урок снимала, плакала, меня жалела. Всё, урок сорван. Партизанить умеем. – Гадить? – произрек я с громким ужасом. – Поросятничать? Нас же совесть загрызет! На это Сергобеж с хрюкотцой в голосе говорит: – Совесть? Ха! Её тетки придумали, учителя, детей пугать, как Баба Яга. Я понял, что надобится еще один отдельный разговор. ЧЕМ РЕБЕНОК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОРОСЕНКА? (отдельный разговор) Кто-то уберет руки в карманы и потом скажет, что поросята серые, а мы белые. Кто-то всхрюкнёт и выведет, что мы умеем говорить и по-нашему, и по-свинячьи, а поросенок по-нашему не может. Кто-то простодушно проверит свой копчик и обрадуется, что у него нет хвоста, а у поросенка есть. Потом, после всех ви-ви-визгов, хрю-хрю-хрюкотаний, беганья на четырех, навострения ушей и пятачкования носом, задумаются. Кто-то один да задумается: а правда? Чем мы, люди, так гордимся перед свиньей? Бесхвостостью?.. А она может зато хвостом похвастать. Вы скажете, что свинья неразборчива, ест, что попало, – но уж курить и пить водочку ее не заманишь. Вы скажете, что поросенок не умеет говорить. Ну и хорошо, а то бы материться начал. Вы скажете, что поросенок не умеет думать, Тоже хорошо. А то бы такого свинства навыдумал, такой пакости!.. Битых банок бы в озеро набросал. (Кстати, кто вчера консервную банку туда бросил?). Вы скажете также, что свинья не умеет работать, только ест. Но это ее служебная обязанность: она работает будущей котлетой. А вот мы с вами – зачем едим, учимся, думаем? Чтобы ехать на своей машине, весело матерясь и покуривая, бросая из окна окурки и пустые бутылки? Да? Кто-то скажет: ух, да! Это моя старинная мечта. Но многие задумаются: зачем я – бесхвостый и безрогий – нужен? Зачем меня природа затеяла? Такого умненького, беленького, кудрявого? А вот, я думаю, зачем – чтобы всем хорошо было, счастливо с нами: и озеру, и деревьям, и поросятам, и другим людям. Человек – это радость мира. Пастушком работает у природы. Да, братки, должны мы радостить, а не пакостить. И для исполнения этого дан человеку дружок душевный – совесть. Чтобы стыдно было других толкать, в чужую кормушку лазить, по пятачку бить. А кто-то дружка этого не хочет, прогоняет… Хотите поросеть – поросейте, а я не хочу. СОВСЕМ ДРУГИЕ ДЕВЧУРОЧКИ Наташа поддержала этот всемирный диалог: – Да-да, меня очень мает вот тут, когда кошки голодные! Мы пастушками работаем у природы. Какой ты, Ваня!.. – И у меня мучения, – созналась Ленка. – Когда быстро бегу – колет. Это что, совесть? Сергобеж не долго думал: – Да прогнать ее! Мучения! Это все старушечьи дела. А я люблю – никакой грусти! Я тоже топаю тапком левой ноги: – А я говорю – не прогнать! А позвать, позвать поближе! Она всех спасет, всем посоветует! Со-весть – это весть от природы, весть о хорошем, о человеческом. Надо слушать! Хотел сказать: "Надо слушать, свинёнок!" – но этот стиль сюда не подходит, правда? Тем более, что Наташа стала думать про меня: "А может, он вундеркинд?". – А где счастье? – спрашивает Вика вредным голосом. И тут же, представьте себе, извинилась. Я, говорит, вредная, мне хочется орать, если не дают. Видите, действуют отдельные разговоры, душевные разговоры действуют. И я сказал душевным, отдельным голосом: – Счастье вот оно, хоть сейчас. И мы, и взрослые должны сделать Признание. В чем стыдно, в том и признаться. Сойтись вместе – и помириться. Сейчас всем плохо, все воюют, и все несчастные. Признаемся – настанет облегчение и будет легче улыбаться, извиняться. Настанет Царство Друзей! Наташа подумала: "Живой вундеркинд!". Вика тоже что-то подумала и подшагнула ко мне: – Царство?.. Царевну надо. Поняли, о чем она подумала? Поняли, конечно. Я Вику уверил, что выберем – самую мирную, самую добрую. – Счастливое детство, – раздумалась Вика. – Мода на любовь… Дружеское всё… Давай, Ленка, признаюсь тебе? И тут пошел такой милый разговор: Ленка: – А я тебе признаюсь. Надо Главного Редактора – не забудьте в Царство. Буду редактором, ничьим не корреспондентом. Вика: – Я все косы хотела тебе, Ленка, выдрать. Ленка: – А я тебе всю челку проредить! Вика: – Бантик новый хочешь в косичку? Ленка: – А ты хочешь… хочешь… успехов в учебе и счастья в личной жизни? Вика: – А ты… ты… Ленка: – И мирного неба над головой! Вика: – А тебе… тебе… Ленка: – Ты, Вика, голубь мира! Говорили, говорили, всё изговорили. Тут у меня нашлись такие слова: – Ну ты, Ленка! Ты Елена Предобрая! Совесть близко у тебя, близко. Раз – и выскочила. Смотри, какая она? Ленка давай оглядываться, поэтично смотреть вдаль. Да и говорит таковы слова: – А-а, вот шарик летит – это она? Она! Хорошенькая! Все стали тоже поэтично смотреть, но никто не усмотрел Ленкин шарик. Я их утешил, утихомирил, что чужую не видно, каждый только свою видит. Ленка – шарик воздушный. – Шарик, – шепчет Вика тихим, но пронзительным шепотом. – Подумаешь, шарик! А моя… моя… – И ты увидела? – спросил Сергобеж, как вы поняли, нерадостно, отгрызая себе ноготь с обручального пальца. И Вика подтвердила твердо, что увидела, что её совесть – ух! на Земной шар похожа. Ух! Стала показывать, развела руки дальше, чем они у нее растут. Ух! Ну вот! Ну вот! Совсем другие девчурочки стали! Видите, какое облегчение сразу пришло! Какая радость непереставанная! И мы решили – бежать за родителями, всем собраться и помириться. Я предложил как начинатель этого дела, а все согласились как продолжатели. Скорей, скорей, пока солнышко, пока в глаза ему могу смотреть… Вика и Ленка поторопились. Наташа потихонькала к калиточке своей. Мне послышалась Ленка, её недовольства: – Думала, моя на Земной шар похожа. Или хоть на областной. Или на районный. А это клоп - хлоп! - и нету! Я оглянулся на девчонок и увидел, как Ленка ткнула пальцем в небо. Что-то пукнуло. Ну что ж, бывает. Со всеми бывает. КАК НАКАЗЫВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ Помните, как я боролся за справедливость в моей семье?.. Как на меня кричал папа и любила мне ставить щелбан мама? Теперь расскажу, как я их осилил. Я с ними вел долгие воспитательные разговоры, показывал им вырывки из газет о необидных способах укрощения детей, делал замечания. И все-таки ребенок всегда находится под угрозой большого взрослого кулака. Уж очень у них замашки размашистые, раз – дернул за ухо. Потом поговоришь с ним, объяснишь, он извинится, а ухо-то уже дернутое… И вот, чтобы этого уничтожения больше не было… Я предложил, чтобы человек, стукнувший ребенка, и не только стукнувший, но и закричавший, – сразу же, без всяких предупреждений, лез под стол и исполнял кабанчикову балладу. Это значит, что человек хрюкает и говорит: "Хрю-хрю, я свинья, оручая, глупая свинья! Я обидел ребенка!". Папа сказал: "Кто за это предложение, прошу голосовать". И мы подняли руки. Я поднял все свои руки. Это правило у нас заработало. Если уж ты такой несдержанный – будь добр, похрюкай. И именно под столом, это стыднее. Помню, неделя прошла. Справедливость стала гораздо лучше. Жизнь облегчилась. Папа хрюкал десять раз, а мама пока ни разу не хрюкнула. И тут весна опять зазвала меня в лужу. Весной на человека такая нападает взбесённость! И он лезет в лужу. Потому что талая вода дает силы. Некоторые ее в холодильнике готовят и пьют по глоточку. А тут – целая лужа! Ну что?.. Домой я пришел чуть-чуть мокренький, с шапки капала водичка. У мамы дар речи кончился и не начинался, пока я не переоделся, не присел сорок раз, не попрыгал. А когда я лег в горячую ванну с горчичным порошком от простуды, она сказала: "Надо бы тебя выпороть, да хрюкать неохота. Выбирай, Иван, на выбор: неделю жить без телевизора или неделю жить без сладкого?". Я долго-долго выбирал наказание. Мои родители большие нелюбители телевизора, он у нас маленький, полосатенький, шепелявенький. Я без него проживу шесть дней, но по воскресеньям, сами знаете, Уолт Дисней. И я выбрал неделю без сладкого, тем более, что сладкого в доме – одна свекла. Я выбрал неделю без сладкого и терпел весь день. Но вечером папа принес очень шоколадный торт. Родители сели угощаться, а я… Я подошел к маме и предложил: "Может, ты меня выпорешь минус один день? Это значит небольно?". Но мама только отмотнулась от меня головой с куском торта во рту. И отрезала еще кусман с розой наверху. Мне так хотелось тортику, что я готов был сам себя выпороть. Зачем я залез в эту мокрую лужу, прыгал там, брызгался?.. И тогда, ребята, я с решительным визгом полез под стол. Уселся в компании папиных и маминых тапочек и закричал: "Хрю-ю-ю! Я поросенок! Противный свин! Мне нельзя простывать, хрю-ю-ю, а я залез в лужу и чуть не разлегся там! А кому меня лечить? Бедная мама! Переживает! Да еще торту на ночь наелась!". Как вы догадались, остальной торт, самый шоколадный бок, съел я. Потому что признался в свинстве. Чего и вам желаю и вашим родителям. ОНИ УВИДЯТ, ЧТО МЫ НЕ ВАНЬКИ… К этому моменту времени Сергобеж распинал весь мой постамент из шишек. Он молчит, и я молчу, никто переходничок не делает друг к другу. Конечно, еще вчера ты был… ну не пуп Земли, а пуп деревни, а теперь ты полуникто. Так, мальчишка хрюковатый. Но вот, смотрю – Сергобеж дружески подходит. Подходит и дружески говорит: – А, Ванёк, меня не возьмут в это Царство. Учительница считает, я бессовестный. Учительница! Учительница и должна это говорить! Это ее обязанность – стыдить детей. А Сергобеж – он человек. Чело-ве-ек! Ему только совесть вытащить, застряла где-то. Сергобеж стал бегать, опять шишки в кучу сносить – зачем? Я тоже стал бегать, ему помогать – зачем? Мужчинам трудно начать душевный разговор, им надо общее дело, а там и общий разговор пойдет. Общее дело, или общий огонек, или общую бутылку вина. Трудно найти друга, с которым легко. Из шишек получился большой еж, Сергобеж садится прямо на ежика на этого и говорит: – У меня знаешь, что в мечте?.. Папа мой сидит на табуреточке, книжку мне читает, а мамка стоит, блинки нам печет. Но это в мечте-в мечте. Тут пошел у нас задушевный, без остановки, разговор. Ваня: – Почему в мечте? У меня такая бывает компания. Сергобеж: – Твои не дерутся? И не ругаются даже? А секрет какой? Ваня: – Секрет?.. Они признаются сразу. Отец говорит: я виноват, а мама: нет, я виновата. Сергобеж: – Это всё будет в Царстве ваших друзей? Ваня: – Правила мирного разговора. Таблица уважения. Сергобеж: – О! О! Как бы сделать, чтобы учителя были добрые… Нет, где же взять? Ну, роботы давай! Или – о! Чтоб ранец сам в школу бегал. Ваня: – Школа по телевизору будет и по телефону. Поучительные мультяшки, три часа каждая. Передача "Дома у сказки". Всегда сказка: днями и ночами. Сергобеж: – Конура собаки дома висит, к стенке прибить, как скворечник. Ваня: – Ладно. Еще. Во дворе – глубокий бассейн. С газированной водой. Хочешь такое царство? Заманчиво? Сергобеж: – Хочу, хочу! Ну ты, Ванёк, фантазеристый!.. О! Ложиться спать будем – полтринадцатого! Колбаса – только шоколадная. Ваня: – А кто курит, пьет и матерится – с ним надо больше играть, и тогда им просто некогда будет. Сергобеж: – Все будут друг друга поздравлять и дарить, все будут друзья закадушные. А у меня тут одни неприятели и неприятельницы. Я почувствовал, что окончательно переклонил Сергобежа на свою сторону. Он встал со своего неудобного сидения и пожал мне руку: – Ладно. Давай Дружеское. Давай. – Давай, Сергобеж! – Давай, Ванёк! Мамка-то хорошая у меня, веселая, на мотоцикле любит. Только дикая, не домашняя. Ей лишь бы из дому вырваться. У нее от тишины голова болит. А папка – он тихий был, как ландыш. Он тоже говорил: ладно, ладно, я виноват. А мамка: конечно, ты! Кто еще!.. А теперь я виноват… Да, ребята, во всем у них мы виноваты. А на кого еще спереть, не себя же дураком называть! Вот мы у них дурни, олухи, кретины, идиоты… Ничего, мы в своем Царстве красноречьице взрослым привьем. Красноречие – это слово, противоположное крику, груборечию, черноречию. Спасибо, пожалуйста, простите – очень красноречивые слова, не так ли? – Нет, – Сергобеж выпустил тройной вздох. – Моя мамка никогда ласково не скажет. Никог-да! У нее язык сломается. Я иногда специально лезу, чтобы она выдрала, а потом пожалела. У всех нормальных так: стукнут, а потом пригладят. А моя выдрать выдерет, но ей не жалко… Конечно, взрослые думают, что до нас не доходят тихие слова, надо орать. А помните, я сегодня применил к девчонкам красноречие! Совсем другие девчурочки стали. Криком не мог, силой не мог, а тихими словами помирил. Тихие слова – они самые сильные. – Я тоже все слова понимаю, – подтвердил Сергобеж. – А прикидываюсь ванькой таким… Чтоб не лезли. Они занудистые такие, ты им слово, они тебе десять. – Надо потерпеть, Сергобеж. Они увидят, что мы не ваньки, перестанут кричать. И крик исчезнет в мире. А правда, братцы, почему мои родители не кричат друг на друга? Живут себе, улыбаются? В чем тут секрет?.. Договорились, наверно, что не надо ругаться, правила выработали для мирной жизни, натренировались. Тут Сергобеж куда-то целеустремился. Стоит, пятками бьет, я уже знаю его характер. Говорит мне: – Надо… резко! Давай, Ванек, я не к мамке сейчас, а к дяде Котову схожу. Он мужик, работать звал, платить хотел. Я с тетеньками не могу разговаривать. Вот хочу мама сказать, а говорю дура. Как вы себя чувствовали, парни, в этом разговоре? Я себя чувствовал… эти слова проникли ко мне в самое доверие, в самое сердце. И такое там вскипело: и жалость к Сергобежу, и к отцу его, и злость на мать его, и незлость, а досадное такое… Мы договорились с Сергобежем, он к дяде Котову пошел, на мирные переговоры, а я остался ждать всех. СЕРГОБЕЖ УБЕГАЕТ В АМЕРИКУ Пока я ждал, выходила на крыльцо Наташа, садилась на свой велосипед вороной и подъезжала, как вы догадались, ко мне. Модница! Лицо накрасила бледным порошком. Если моя жена будет пользоваться косметикой, колечком, ногти пилить…Не знаю… Женщина должна быть натуральной, как виноградный сок. Наташа мне и говорит: – Мамы дома нет. Поеду к ней, в библиотеку. Только… Ты говоришь – Царство Друзей?.. У нас?.. Не знаю. Опоздало это все. У нас… матерятся, малыши даже. Я говорю: вы что, тут девочки, котята малые, а они… – Это дело не беда. Сделаем. Я им скажу: материтесь, значит, мать ругаете. Значит, ваши дети будут вас материть. Тут, Наташа… надо соединять… надо линию проводить от ребенка до старичка, через взрослого. Наташа слушала, слушала эти мои неглупые мысли, и в глазах ее разгоралась зеленая любовь, как вы догадались, ко мне. – Какой ты, Ваня… в тебе такое защитительное есть… И тут бежит от дяди Котова Сергобеж, злой такой, злость из него прямо выбурливается. Кричит: – Котов живодёр! Живодёр! Я, где встречу тебя, там и крикну: Котов живодёр! Из форточки закричала лысина дяди Котова: – Да ты… с молодых соплей! Да я! Живо надеру! Сергобеж, долго не думая, хвать Наташин велосипед: – Наташка! Садись на багажник! Садись! Поехали! Я стал его останавливать, выяснять дело. – Наташка! Садись! В Америку! Спасайся! – сел на громкоскрипучий велосипед и стал разгоняться по кругу, кружить. Наташа тоже закричала: – Мне и тут хорошо! Слазь! Слазь, говорю! – и стала смотреть на меня с призывом. Я тоже закричал: – Поставь велик хозяйке! Немедленно! Сергобеж кричит: – Пошли, Ванёк, сбежим! В Америке не орут! Делай, что хочешь! Костры будем жечь, с девочками гулять, с крыши прыгать! На динозаврах кататься! Наташа кричит: – Вот и катайся на своем, а мой отдай! Я кричу: – Поставь хозик виляйке! Сергобеж: – В Америке, Ванёк, сосиски! Я: – Их что, сосать надо? Сергобеж: – Эх ты, городской! Сосиски – международное слово! СОС! Они спасают от всего! Я: – Остановись ты! Объясни! Сергобеж: – Позорник, сбежать не может! Ну и оставайся!.. Будут тебе ванькать всю жизнь! Я: – А наша страна самая честная, она за счастье чужих людей! Сергобеж: – А я поехал за своим счастьем! Наташа: – Эй, люди! Проснитесь! Украл! Сергобеж дал газу и умчал, унесенный ветром. Из-под забора махал лапой Туз, напоминая о гуманитарной помощи. Смотрим – бежит вся улица со своими ребятятками. Смотрим – Вика, Ленка, с флажками, шарами, праздничные. Под руку, под крендель взялись. Подходит, хрустя коленом, и дядя Котов. – Кто? Кто украл? Сергобеж? А ну, марш в колонию детскую! Наташа всем объяснила, что украли велосипед. Старушка пропела: – Противные мальчишки… Ленка развернула свою тетрадку, приговаривая: – Ну вот, опозорил нашу детскую честь. Все стали приговаривать. Дядя Котов: – Остопротивели. Нет на них руки трезвой мужской. Тетенька в Галошах: – За что нас Бог вором угостил? Такие ребятишки все растут, а этот… Ребятишкам нравится всем, что они хорошие такие, и Наташа еще подбавляет в сторону Сергобежа: – Один раз до слез меня замаял: выйди да выйди, поцелую тебя! Старушка как замашет своим букетом: – У них поцелуйчики уже, извращения! Грядки – нет всполоть старушкам заслуженным! Потимурничать! – Это уже не модно – тимурничать, – бякает Вика. И другие взрослые пошли нас ругать. Тетенька в Пиджаке стала вспоминать, когда у нас трудчас по режиму. Дядя Котов с каждым дымком папиросы выпускал упрекательства: – А работать не хотят они. Нет! Я сейчас давал работу ворище этому – нет!.. Неутомительную … ф-фу!.. без ущерба!.. ф-фу! Я у него допытывался: а какая работа, какая? Но он меня не замечал. Ленка махнула шариком и тоже стала осуждать Сергобежа: – Он нас всех воровать научит. Выдрать его без штанов на линейке первого сентября. Правда, Викусик? Пропозорить! Викусик ей отвечает: – Отменяю, Еленусик. Надо мирным путем. Я голубь теперь. Ты на него газету выпустишь в Царстве наших Друзей. Какое тут Царство Друзей? Все враги! Наташа, глупая, захныкала: – А велик? Мне до седьмого класса купили… Я стал поворачивать разговор в мирную сторону, сказал, что велик – покатается Сергобеж – и поставит, что парень он безвредный. – Вредный! – крикнула Старушка. – Всем нам голову отрежет! Путевку ему выписать, совсем из деревни! И дядя Котов сказал, что да, надо Сергобежа вытурять, разбоя этого. Наташа совсем сослабилась, великомученица, и продолжала скандалить: – А велосипед? Сергобеж совсем уехал, в Америку. И меня звал, – и посмотрела на Старушку. Старушка расцвела, как свой букет: – А чего ему тут? Деревня и деревня! – посмотрела на Тетеньку в Галошах. Тетенька в Галошах пожалела, сказала, что, ох, пропадет он там. И посмотрела на Ленку. Ленка быстренько раскрыла свой "Записничок", навострила ручку и давай писать: "Уехал в Аме…". – Ты что! Зачеркни! – Тетенька в Пиджаке вырвала тетрадку. – Ты что! Не дай Бог бог, в газету попадет. В Америку! Как же упустила я патриотическое-то воспитание… Ни одной лекции! – она быстро-быстро прочитала всю тетрадку. Припугнутая Ленка открывает рот: – Этот – не карломарксистский, он погнался за сосиской! Ой, стихи! Талант! Старушка поет фальшетиком: – Противные мальчишки противчиво орут… Дядя Котов что-то прикидывает в своем коварном уме: – Отворили, значит, ворота? А-га-а-а-а-а… В Калифорнии у них апельсины круглый год. И тут все увидели Сергобежа. Он ехал быстро, как преступник, в черных очках американских. Некоторые обрадовались, я и Тетенька в Галошах. Тетенька в Пиджаке стала выспрашивать Сергобежа, давал он интервью или нет? Заявлял? Сергобеж высокомерно поздоровался с нескрипучего велосипеда: – Хау дую-дую? Меня зовут Сэргобеж. Где тут у вас Белый дом? Вика не понимает: – Туалет, что ли? Услышав ее знакомый неласковый голос, Сергобеж снимает очки: – А! Это вы опять? Ехал он, ехал, через сто земель, через сто планет, и приехал туда же. Встретил его тот же дядя Котов, та же Наташка, тот же Ванька. От родины не убежишь. Тетенька в Пиджаке говорит: – От Родины не убежишь! – Как еще убежит! – Старушка остановила свои глазки. – Надо предпринимать! Дядя Котов отвернулся от Сергобежа и спросил не у него: – Интересно, почем там, в Америке, шапки? Тетенька застегнула свой пиджак снизу доверху: – Так, товарищи! Выхожу с предложением. У нас был мертвый час для детей. Вводим мертвый день. С патриотическим уклоном. Мертвый уклон! Зачем? Мы же… у нас другой, совсем другой уклон. – Мертвый день? – помертвела Наташа. – А… дружба? – А… мир во всем мире? – опустила флажок Вика. – А… свобода? Равенство? – дернула синий шарик Ленка. Тут мама Сергобежа вбегает, нарядная, как три букета, маникюрная, сумчатая. Вбегает в самую середину нашей всей компании и кричит: – Что опять? – Своровал опять. Доцере-налимонились, – злоехидно отвечает Старушка. – Много? Много своровал? – Да велик вот этот. Машина! - Ох! Мне и драть-то некогда сейчас! Я вмешался, сказал, что это не кража: взял напрокат, покатался и поставил. Сергобеж бездумно сидел на траве и выщипывал ее из земли. Наташа крепко держала руль и смотрелась в велосипедное зеркальце. – Отдал? – спросила Наташу мама Сергобежа. – А чего ж вы! Отдал! Я уж думала, случилось… Тут Старушка подступает к самому Сергобежу и начинает тыкать в него растрепанным букетом и кричать: – Покатался! Он в Америку сбежать хотел! Капитализьму нам привез оттуда, поди? Заразы! У-у! Сидит – развязный, шнурки развязаны, рубаха расстегнута! Мама Сергобежа как выдернет у нее букет, как закричит: – Сама ты зараза! Делать вам нечего, пионеры-пенсионеры, собираете, стоите, на мальчишку. Он и так у меня… Беспапович! Сергобеж стал привставать, приговаривать: – Я у тебя, бабка, все гладиолухи вырву! Старушка отступает, оглядывается, кофточку одергивает: – Я же не про тебя! Я про всех! Всех… надо. Как ни посмотришь – все на улице! Зимой сугробы меряют, весной лужи меряют. – Весной, – говорю я, – на человека нападает некая взбесённость, и он лезет в лужу. – Да у вас весь год взбесённость! – закричали взрослые. Дядя Котов тем временем окуривал маму Сергобежа, говорил ей: – Вот баба ты не дура. Послушай меня. Я твоему Сергобежу работу даю. Платить буду. Мужским ухваткам учить. Вдали загyдела машина. Мама Сергобежа стала вглядываться в эту даль: – Ой, не за мной машина? За мной! Володя, я тут! Эй!.. Давай, Котов, возьми шефство. Мужская рука! Отец-то у него, сами знаете… Бесстыжий! Видели его недавно, в городе, тут. Хоть бы приехал, сынка забрал в гости, хоть на лето бы! А Сергобеж как закричит: – Не хочу! Никого не хочу! Я сам! Один! Как вскочит! Как побежит! Ему мать вдогонку: – Сережка! Сережка! Куда! – тревожным голосом. – В лес! В лесу буду жить! Один! По сосновым верхушкам недалекого леса прыгало солнышко. Лес казался таким пустым и первобытным, что, казалось, сейчас выйдет оттуда динозавр. – Озвереешь там! – закричала Вика. – Одичаешь! Все другие молчали, смотрели, как на дороге прилегается пыль от быстрых пяток Сергобежа. Тут мама Сергобежа бросает Старушке ее вялый букет и бежит за Сергобежем и кричит: – Постой! Сынок! Езжай, Володя! Не могу я! Езжай! До всех других донеслись слова Сергобежа: – Не надо меня! Не жалей! Всё! Я вырос! Я сам! Не жалей! Они убежали. КАК НАЙТИ ПАПУ ДЛЯ CЫHKA? Они убежали. Может такое случиться, что у вас, читатель, временно нет папы, и эту книгу вы читаете с мамой. Задержитесь на этой странице. Хотите – не верьте, но у многих временно одиноких мам отпечатано на лице, что ей плохо. И все люди, которые приходят к вам в гости, на безрадостный день рождения ребенка – все они читают на маминым лице, особенно дяденьки. Как только прочитают, им тоже становится плохо, скучно, и они уходят. Вот мама Сергобежа. Она красивая, правда? Но почему с ней не задерживаются новые папы для Сергобежа? Она слишком поскорее хочет мужа, вот ответ. А если бы она сказала… тому же Володе в кабине машины, сказала бы так: "Нам с Сереженькой одно удовольствие, даже два удовольствия. Нам никого не надо. Не очень известно, будет ли нам три удовольствия, если я выйду замуж". Да не просто сказала бы, а радовалась бы со своим сынком сердечным, не больным, не глупым, не курящим. Играла бы, купалась, земляник бы насадили… Вот тогда к ним с удовольствием постучался бы папа. ВЗРОСЛЫЕ РАЗРЕШАЮТ НАМ СЕСТЬ В ЛУЖУ Старушка мягко села на траву и стала думать, переходя с полушепота на шепот, с полуголоса на голос, на полукрик, потом опять шепотом: – Вырос! Один! В лесу! Это уже… Это надо реша-ать… Мы им мертвый день, а они нам мертвую ночь… Он ведь ночью… ой! Была грядка - стала могила… ой! И не отличишь сразу. Тетенька расстегнула пиджак, ей было жарко, душно, страшно: – Какие предложения, товарищи? Ленка посмотрела на Вику, Вика на меня; Наташа тоже глядела в мою сторону. Я выхожу на середину лужка и вношу предложение: преобразовать деревню в Мировое Царство Друзей. – Милицию вызвать! – не слышит Старушка. – Особое назначение. Отряд! Но я уже знал, знал их тайный страх и предсказал злоехидненько: – Отряд! А Сергобеж – партизанский отряд! Соберет восстание всех сопляков. Была грядка – стала могила. Старушка затрепетала, как лепесток своего георгина. – Ты не пугай! – Тетенька в Пиджаке снимает полпиджака. – И будем все побежденные – и дети, и взрослые. А на вас – детская кровь. И отвечать вы будете, – зловеще предрекаю я. – Мировое… – стала примиряться Тетенька в Полупиджаке.– Царство… хм… Друзей. Звучит или не звучит? Кажется, что-то звучит… – Ура! – кричат девчонки. – Жить! – стали празднично кидаться флажками и шарами. Старушка, сидя на травке, разглядела мои неамериканские джинсы, а потом протянула мне конфету "Золотой петушок": – Тебя как, Павлик зовут? На, Павлик, конфетку – хочешь? На меня смотрела добрая старушка. На меня смотрели растерянные тетеньки. На меня смотрели дружелюбные Вика и Ленка. Смотрела восхищенная Наташа. Смотрело раскрасневшееся от своей жары солнышко. Не мог же я тут сказать: "Это не мы ваши конфеты съели? ". Или: "Это не ваши конфеты мы съели?". Вы бы, ребята, сказали? Когда на вас друзья всего мира надеются? Вот именно, что нет! Я поворачиваюсь к Тетеньке в Пиджаке: – Тут надо, чтобы взрослые признались. Признались нам. А мы – вам. – Признаются, признаются, – бормотнула Тетенька. Она сняла пиджак, просунула руки в рукава и стала аплодировать, приговаривать: – Районное Царство Друзей… Звучит?… Ох, звучит! Первые будем! Мы поедем! К нам поедут! Смена поколений с детьми! Тетенька в Галошах зевнула, что с ними не дружил никто в детстве, а вот – выросли. Но Старушка уже стоит, набодрив свой букет, и кивает: – Я и говорю, пусть поиграют детки. А то взбесились от режима. В сугроб нельзя, в лужу нельзя. А почему?… Пусть в луже сидят. Со стороны своего дома подходит к нам дядя Котов, он – забыл я вам сказать – ходил домой за папиросами. – Надо Царевича выбрать, – выдвигаю я. Но Тетенька без Пиджака все аплодирует и шумно хвалит: – Ай! Умничка! Вы-ы-ыборы! Звучит! Ох, звучит!.. Так, товарищи! Назначаю первый съезд, то есть сход! Открытие Царства Друзей. Выборы Царевича. В воскресенье. – И Признание! – напомнил я. Дядя Котов выпускает изо рта целую цепь дымных наручников, а потом слова: – Уж вы придумаете, бабы. Ну, поглядим, кто Царевич тут. Я шапки надумал шить, как, будете носить? Все стали интересоваться – дорогие ли, теплые ли, пуховые? – Шкуровые, – объясняет дядя Котов. – Шапки шкуровые, собачьи, недорогие. – Из собак? – зажмурилась Наташа. – Вы пошутили, да? – Почему пошутил? Демократия! – Хочешь – кроликов режь, хочешь – царевичей. Тьфу, собак. Наташа беспомощно смотрела на меня, но я ей делаю тайный знак: не обращай внимания! Тетенька в Галошах посмотрела на небо, похвалила, что хорошо сегодня парит, а на завтра дождичка заказала. Дождик, не дождик, у меня время есть – - до воскресенья. Все заторопились по домам, начиналось кино по телевизору. На прощание Тетенька приказывает строго-настрого: – И давайте, товарищи, начинайте любить ребятишек. Они ведь будущие люди. А то… правда… ох… Она была уже в Пиджаке. ЧТО Я СКАЗАЛ БЫ ВЗРОСЛЫМ ВДОГОНКУ Все зло в мире людей – от взрослых. Дети – это робкие, запуганные взрослыми создания взрослых. И взрослые ведь тоже создания взрослых? И родители взрослых – создания взрослых. Надо помнить, что у детей есть инстинкт подражания взрослым. Ребенок, как сачок, – все ловит. Так природа замыслила, думала, что люди будут чем старше, тем прекраснее. И вот представьте себе: один красивый папа украл на стройке доску. Потом папа стащил лопату. А потом украл КАМАЗик. И все это видит ребенок. Но ребенок тоже не нитками шит, не соломой набит! Стащил у соседа мяч, потом насосик велосипедный, потом и велосипедик укатил. Всё взрослое как на промокашке проявляется. А вы как думали? Отец ворует – и не признаётся начальству и тем более детям. Но и дети воруют – и не признаются, тем более родителям. Остается только дать сыну печального тумака. Получается, что все зло – от взрослых. Чтобы наступило добро, надо, чтобы взрослые признались. Но кому? Взрослый взрослому никогда просто так не признается (только перед смертью, или перед своей, или перед чужой). Если он признается, значит, какую-то выгоду ищет взрослую, не просто так. И поэтому мир крутится по злому кругу уже столько тысяч лет. А чтобы на добрую орбиту перейти, признаться надо. Человек раскрывает душу ребенку. От ребенка всегда получишь прощение. К тому же – от своего ребенка. Если бы в Древнем Египте фараоны признавались детям, то не было бы рабов и не было бы захватничества, как в Древней Греции. Но посмотрите, какие вы славолюбы и почтениеводы! Попробуй уличи вас в прятании конфет и денег от детей! Попробуй скажи, что вы скрываете записи в своих записных книжках! Вы тут же начнете метаться, думать, что же делать и как оправдаться. А главное – наброситесь на ребенка, как колорадские жуки на кустик: что он вынюхивает, подглядывает? Говорить начнете: зачем ты залез в записную книжку? Обвинять, хотя он не залезал, а только посмотрел и увидел – сначала в начале, а потом в середине кое-что. А некоторые из вас только отделятся от ребенка – не твое дело! – нарявкают и пойдут записывать дальше. Какие вы все задироносые! Ни один из вас, даже учителя, которые считают себя тонкими дипломатами, никогда первыми не поздороваются с ребенком. Вы думаете: поздоровайся с ним, он тебя догонит, сядет на шею и ногой пришпорит: н-но! Да, не все смогут признаться, не все вступят в Мировое Царство Друзей. Полностью мировой мир не может быть возможным. Даже у них, инопланетян, кажется, есть пираты с лазерными пистолетами. Но ведь вредные, непризнающиеся люди – завучи, рэкетиры, разбойники братьев Гримм будут хотеть в наше Царство! Там будут веселые учителя, добрые лесники, цветоводы, обрадованные продавцы, строгие сторожа. И все плохие люди на территории всей планеты и, возможно, Галактики, будут стремиться к нам. И так, постепенно, плохие перейдут в население хороших людей. Но все это возможно, если взрослые начнут признаваться детям. А сегодняшний наш мир – неважный. В развитых странах есть значительные проблески. А мы не умеем использовать богатства. Например, дайте нашему и американскому мальчику по ириске. Американский отложит ее, накопит много таких ирисок, обменяет их на какую-нибудь дельную вещь, например, на видеомагнитофон. А наш ее просто съест. И последнее мое слово. По законам любого рождения, у двух белых кроликов и крольчата белые. У двух добрых и дети будут добрые. У черных кроликов рождаются черные крольчата. Потому что черные кролики не признаются. Черные кролики ругают своего черныша, что он не вымыл лапы перед едой, не доел морковку, нагадил в дефицитный комбикорм. А белый кролик не ругается. Он старается понять своего крольчонка, извиняется, если отдавил ему лапку. А если в семье белых кроликов случайно родится черныш, то его шерстка быстро выгорит под солнцем доброй доброты. Так что выбирайте, родители, какого кролика хотите ли. НЕМНОЖКО ФИОЛЕТОВЫЙ ВЕЧЕР Вот пришел светло-розовый вечер, позвал меня в сарай. Там бабушка подкладывает в клетки росистую мокрицу и жирные листья подсолнухов. Вот смотрю я и думаю: "А ведь и правильно, много толку от кроликов! И мех у них блестящий, а главное – серый. У серого – такой цвет, поглядишь и представляется, какой этот пух тепло-красивый. Еще у белых кроликов это хорошо заметно". – Баба, у тебя ведь два крола? – Да. И крольчихи. Я многозначительно посмотрел на нее и на кроликов и малозначительно сказал: – Я так хочу завести. И бабушка доверила мне делать клетки, для крола однокомнатную и двухкомнатную для крольчихи. Вот так, друзья, благодаря моему трудолюбию мне досталась бегемотистая крольчиха и черный крол Уголек. Я отпиливаю сосновые палочки для каркаса. Это не мало, целых шестнадцать соснопалок. Потом на этот каркас настилаю досточки, примертвякиваю их гвоздями. Гвозди постоянно гнулись в умелых пальцах упорного кроликовода. Молоток постоянно вылетал из ручки, попадал в сарай, где сидели кролики, иногда попадал по ноге. Тогда я обухом топора забил клин. Молоток перестал летать, но стал ударять мне по пальцам. Когда я отбил пять пальцев на левой руке, я пошел за наперстком. Мне попался волшебный наперсток. Он был старинный, толстый, желтый. Волшебство: как только я надел его на указательный палец руки, шляпка гвоздя стала примагничивать наковаленку молотка. Потом я набил сетку на клетку Уголька. Теперь дверь. Защелка. Кормушка из длинной досточки. Я залез на лестницу повыше и устал. Наставал уже немножко фиолетовый вечер. Солнце хотело нырнуть в озеро с того берега. Руки и спинка у меня были уже в постели, но разум, как будильник, затрезвонил, что надо вставать, настелить сена и посадить Уголька в новую кролюшню. На чердаке сарая разлегся сеновал. Я сразу захотел там читать фантастику Беляева. Есть бутерброды с кабачковой самодельной икрой. А также спать, спасаясь тем самым от комаров. Сушиться после купания в озере. Короче, жить. Но главное – есть белую смородину. И черную с красной. Я устилаю клетку пахучим сеном, насыпаю травки и пять килограмм уголька. Уголек был доволен. Он сразу сообразил, что надо лечь на сено и жевать травку. В деревянную кормушку насыпаю пшеницу и комбикорм. Сверху кладу свежую мокрицу. А в миску наливаю водичку с йодом, чтоб не болел. Ой, уже стемнело! На крыльце я услышал желтенький запах блинов. СПРАВЕДЛИВАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, или ТЕБЯ УДАРИЛА ДЕВЧОНКА … За блинами я рассказал бабушке, как Бегопрыг Иванович Угольков переехал в новую квартиру. Я много еще хочу рассказать - про Америку, про Царство Друзей Мировое, про выборы, про… Но только я забалтываю, бабушка говорит, что устала, спать хочется. Попили мы темного брусничного сока, и она пошла. Хороший сок, всегда бы такой пить, да только жизнь короткая. А у меня, ребята, в голове мысли, мысли, мысли! И все приятные. Прям наружу лезут! Я голову руками обхватил и тут наткнулся на незнакомый лоб. Подхожу к зеркалу над рукомойником – ага! Большая, нежная, розовая шишка. Утренний привет от Вики. Я бы ей треснул, да… Вот еще один отдельный разговор, про девчонок. С кем поболтать? Хоть на улицу беги. Но на небе темно, ни звездочек, ни луны, ни месяца. А вот что, ребята, давайте-ка я с вами поболтаю? А? Кто согласен, залезайте ко мне в книжку, подсаживайтесь за стол. Забалтывай! Жалко, блинов не осталось, так что захватывайте любой свой припасец. Мы увкуснителем побрызгаем – любой сухарь вкуснее торта будет. Эй-эй, не толкаться! Стол у нас – сами видите – деревенский, большой, всем хватит. Ну что, уселись? Удобно? А теперь хочу спросить у пацанов (если рядом девочки, у них потом спрошу). Представь, брат: тебя ударила девчонка. Первая. А ты – заметь! – ей повода никакого не давал. Ты только тряс парту, дружески, чтоб у нее почерк испортился. Снимал ей тапочек и щекотал пятку на уроке. Бантик привязывал к стулу. И вот подходит она к тебе на переменке, с небольшим таким ехидством лица, и при всем народе – тресь тебе в лоб! Твой кулак так и хочет ответить! Справедливо будет – ответить? Девочки, не подсказывать!.. Вы, парни, говорите – справедливо. Ты же позором угнетен! Ты же ее не бил, а только бантик привязал. Что?.. А вот, нашелся пацан, говорит, что не будет девчонку бить. Интересный пацанчик. Тогда я ему еще вопросик из жизни. А если тебя лягнула старшая девчонка, из девятого – ого! – класса? Такая большая кобыла. Отодвинула тебя со своей дороги да еще язык высунула, толстый от всего мучного… Отодвинула, ты чуть не упал. Справедливо ее догнать и на копыто наступить? Справедливо, братцы? Тут уж все скажут – надо! Надо возмездие возместить! А один – тот же интересный – все равно не хочет девчонку бить. Обыкновенный пацан, на лицо овальный, некудрявый, среднего роста, средней силы. Сам не знает почему, а не хочет к девчонке силу применять. Ну и пусть они его колотят. А давайте-ка у девчонок спросим. Представь: ты толкнула меня, да так, что я в стенку влип. Справедливо будет, если я тоже стенку об тебя стукну? Безобидненько так, легонько? Вы, ребята, проверьте меня. Я тоже в своем классе спрашивал, я люблю людей изучать, какие они. Так вот, большинство девочек говорит почему-то, что бить их нельзя. Они, выходит, нас могут, а мы их не тронь! А почему? Это они и сами не знают, только отмухиваются от меня, как от мухи. Загадка! Пойми их женскую породу, их закон курносый генетический! Вот девчонки, в уголке сидят, догадались. Что?.. Говорят: женщин надо уважать. Ха! Пальто им надевать. Хо! Из автобуса помогать выйти. Сами выскочат!.. И еще – говорят – место уступать. Три ха-ха! Слышали такую несправедливость, братцы? Ухаживать надо за ними! Да они здоровее нас и живут дольше, это уже никому не секрет. По всему миру наш брат помирает, а их сестра живет припеваючи и конфеткой приедаючи. Наверно, они сами всё это придумали, про слабый пол; мужиков, нас, дурачить? А давайте-ка объявим равноправие! Полную справедливость установим! Приходит ваша мама домой, стоит в коридоре с двумя сумками – не бери, пусть стоит. У тебя тоже ранец тяжелый – пять учебников, вторая обувь, физкультурная форма. И пистолет с пистонами. Зашла соседка, дает тебе яблочко. Ешь скорей, пихай в рот, выкуси пол-яблока сразу. И вот мама пол моет, хоть он и чистый, свеже-тобой-подметенный вчера. А ты подними, подними свои лапы и сиди; сиди дальше, сопи, смотри телевизор. Это тебя не касается, а тем более не касаешься ты этого. Утром посуду мыл. Черт, я так не могу. Не могу и всё! И папа не может. Все самые красные яблоки мы маме отдаем; а она ест. Самые тяжелые сумки мы у нее отбираем; а она соглашается. И это нам кажется справедливо. Получается, и над мужчинами какой-то природный закон царствует? Всё предусмотрено матушкой-природой. К примеру, хвост. Перестал человек держаться хвостом за ветку, хвост у него отпал. А человек дальше стал жить и даже стал умнее без хвоста, придумал конфеты, подарочки, дни рождения, каникулы, отпуска. Значит, все лишнее природа сбрасывает. Листья с деревьев. Дождик с тучи. А уважение к женщине почему-то не сбрасывает. Почему? Всё предусмотрено матушкой-природой… Природа – матушка. И земля – матушка. А родина – мать… Ну, не знаю, как вы, а я понял, парни. Это же так просто понять! Тебя кто родил? Мама. А тебя? Мама! А ты - так заржал, как мотоцикл — тебя что, папа родил? Нет, тоже мама. Женщины – они из ничего человека делают. Ты родился – такой же слюнявенький и глупый, как поросенок. А мама тебе старинную песню спела, человеческую. И девчонки наши песню эту петь растут. А ты ее об стенку хочешь! Так. Так… Извините. А какой закон заставляет девочку драться? Рожить противные корчицы и остро царапаться? Заниматься гимнастикой "укушу"? Дразниться? До этого у меня точно голова не доросла. Это надо у какого-то папы узнать, почему женщины дразнятся? Так и просят, противные косички, чтобы их дернули! Что-то говорит пацанчик этот, лицо с небольшой впучиной вширину. Зовут тебя как? Ваня? И меня тоже Ваней зовут. И вот Ванюша этот, похожий на меня, но только умнее, – гадает, гадает и догадывается. Догадывается, что женщина, оказывается, проверяет. Она проверяет, кто ты – он или оно? Она себе и своему дитенку будущему защитника выбирает, испыташку делает. Если ты мужского рода, защитного – ты нападать не будешь, найдешь, как уклониться. Ее женская природа заставляет мужскую природу искать. Так что думай, парень, – мужчина ты или оно в штанах? Мы вон с Ванюшей – мужчины. Хотя, если правду сказать, он – это я был. Приемчик такой литературный, сочинительный. Хорошая детская книга – толстая должна быть, растрепанная, с приемчиками. Конечно, уморительная, фантазёристая. И поучительная должна быть, а как же? Так что извините за поучения. Да вы не стесняйтесь, макайте свои сухарики в брусничный сок. Девочек вперед. КАК Я РАБОТАЛ ГИПНОТИЗЁРОМ Перед самым сном, на пухлой подушке, вспоминается самое приятное, что было в этот день. А самое приятное – это Наташин озёрный взгляд, он весь день навещал меня. Ее взгляд и ее слова "Какой ты!.. В тебе такое… есть!". Каждый человек, последняя отличница и последний двоечник, в самой тайне души считает себя умным. Я тоже думаю, что я большой недурак. Но сегодня оказалось, что у меня-то есть еще свойство: гипнотизировать и внушать все хорошее. А, кстати, я уже работал гипнотизером. Я сам был очевидец того, как детям становилось небольно от моих слов. Однажды отвезли меня в больницу. Всем, кроме меня, там делали операции. А меня положили просто на обследование. Стою я, братцы, в коридоре. Двери палаты приветливо закрыты. Ко мне подошла девушка с иностранным акцентом: "А ты что тут стоишь?". Взяла меня сзади за шиворот рубахи, ввалила в многолюдную палату, ткнула пальцем в кровать. С четырех сторон у меня оказались неприятные соседи. Ногами я лежал к Александру, который все время пищал резиновым петухом, а также бил меня шариком по голове воздушным. Справа от меня лежал Васька, который первым испытал силу моего гипноза, о чем я вам еще сообщу. Слева от меня лежал Костик, который храпел ночью и даже днем. А в головах у меня была самая неприятная соседка - стенка. Стенка служила дорожкой, по которой бегали тараканы. Настал суровый час клизмы. С иностранным акцентом заорала на весь коридор: "Ванька, клизма!". Девчонки стали выглядывать из своих палат: кто же это – Ванька? Увидев меня, они захихикали. Они захихикали, показывая пальцем: "Ванька, клизма, хи-хи-хи!". Мне стало стыдно. Я прошел в сан.комнату. Потом я быстрее велика без тормозов влетел в палату, закрыл дверь, лег, стал читать "Слепой полет" Александра Беляева, и тут… Приехала каталажка, такая телега медицинская. На нее лег Васька. Когда иностранный акцент стал отвозить телегу на шестой роковой этаж, я крикнул ему вслед: "Васька, крепись! Пиши мне!". И вдруг страшный голос с нечеловеческим акцентом: "Ванька, клизма!". Девчонки захихикали: "Ванька, клизма, хи-хи!". Глупые, глупые девчонки. Они не понимают, зачем я сюда лег. Когда уже я был в палате и давно уже читал "Слепой полет", вдруг в комнате затих плач детей и даже жужжание мух и тараканов. Ввезли сонного Ваську. Он бредил и бродил. Он хотел зареветь, но я подошел к нему, пользуясь тем, что он еще не окончательно проснулся, посмотрел ему в глаза и сказал: "Спи!". Он откинул голову в подушку и заснул. Он подумал, что я врач, а это был обыкновенный я. Он проспал еще две главы Александра Беляева. Когда он поднял голову, он срожился, видно, от боли. Я подошел и сказал чуть-чуть надзирательно: "Спи!". По моим расчетам, он должен был спать, во время сна быстрее ткани заживают. И вот я ему сказал надзирательным таким тонцем. Он помамкал, помамкал, потом посмотрел на подушку и уснул. Причем, ребята, обратите внимание, он даже не храпел, хотя в обычное время храпел, как Константин. Я стал обдумывать вместе с вами этот важный научный факт, но тут раздался голос грубого акцента: "Иван, клизма!". Девчонки, хи-хи, глупые. Опять сан. комната, ну, и всё такое… Когда я отдернул дверь своей палаты, оказалось, что Ваське принесли две толстых передачи. Конечно, он разугостил всех своими яблоками и орехами, испеченными из муки первого сорта. Но мне было нельзя. Еще много раз доносилось: "Ванька, клизма!" – четыре раза! Даже пить было нельзя. Такое обследование. У Васьки начались боли в области его операции. В один сильный приступ он завыл. Я сел рядом и стал думать, чем помочь. Никто не обращал внимания на Васькин взвой. Мама Александра говорила: "Много у нас таких братцев-кроликов, никто не воет". И тут я вспомнил, что боль снимают гипнозом. А я ведь уже проверил Ваську – поддается ли он гипнозу, слава богу, оказалось – да. Тогда я сказал ему: "Закрой глаза. Считай до пятидесяти. "Пятьдесят" скажешь вслух!". Я поставил руку над его швом и начал представлять, что я – телевышка. Моя кисть – антенна. Ну а шов Bаськи, конечно, телеприемник (по-простому – телевизор). Он долго… до-олго считал… И наконец: "Пятьдесят!". Я спросил: "Ну что, стало лучше?". Он заойкал: "Ванёк, как? Как это у тебя получается?". Я развел антеннами: "Профессиональный колдун". Про меня прошелестела по палате весьма недурная слава. Я почувствовал себя человеком. Примерно как будто мне купили наконец-то мопед и я на нем поехал покупать кроликов. Но тут раздалось: "Ванька, клизма!". Когда я пришел, Костика на своей койке уже не было. Увезли. Все уже знали обо мне и говорили: "Ох, как это у него получается?". Мне было приятно на моем мопеде, а как же! Но вот привезли сонного Костика. Ему даже не пришлось говорить: "Спи!". Он отлично выполнил свой долг перед гипнотизером. Когда я пришел с операции "клизма", он простонал: "Ванька, загипнотизируй. Или как ты там делаешь". Васька поддакивал ему через койку. На сей раз я гипнотизировал двумя руками, чтобы получился эффект получше. Получилось на славу. Не досчитав до пятидесяти, Костик воскликнул: "Мне стало небольно – почему?". Я развел антеннами: "Профессиональный колдун!". По всей больнице разнеслась слава про гипнотизера. Ко мне стали идти люди (мальчишки), говорили: "Это ты, что ли, гипнотизер? Ну-ка, загипнотизируй!". Я не хотел на глупости тратить свою волшебную силу и говорил: "Нет, не я". Ох, друзья, тяжела судьба гипнотизера! Всех увозили в неизвестность. Александра увезли. Мать с ужасом проводила его. И вот – Александр спит. Его мама сидит над ним, горюет. Потом: "Вань, говорят, ты можешь сделать небольно. Сделай, пожалуйста, Александру". Но тут… Затрясся воздух в коридоре: "Ванька, раздевайся!" Я разделся, лег на каталажку. В лифте стояла бабка, стала говорить: "Где вы их только берете, таких братцев-кроликов?". Иностранный акцент угрюмо молчал. Меня ждал Шестой Этаж. Мне поставили укол одноразовой иглой (зеленая башка). Это было самое больное. Потом меня провезли в операционную. Я шутил: "Сейчас стану наркоманом". А когда мне дали кислород, сказал: "Нет, буду токсикоманом". И заснул. Проснулся. Не было никаких неприятных ощущений. Оказывается, меня посмотрели, и оказалось, все у меня в порядке. Все смотрят – я веселый, не плачу. Мать Александра стала меня ругать: "Себя загипнотизировал, а мой ребенок чем хуже?". Вдруг запищала медсестра тонким безакцентным голосом: "Ванечка, ты выписан! Вот, за тобой пришла бабушка!". Все проводили меня и бабушку удивленными глазами и взяли адрес. На всякий случай операции. Бабушка посмотрела, как меня уважают больные, и тоже взяла мой адрес. Кстати, не хотите ли записать адресок? Ох… Ох, знаете, ребята, может, все-таки днем? А то у меня пол-головы уже заснуло, вдруг неправильно скажу. Настанет день… Приятных вам снов и дений. Я, ВАНЬКА, ТАКОЙ ПРОСТОЙ… С утра был дождик слабый, поплевал чуть-чуть и перестал. Я оделся, побежал во двор – посмотреть солнышку в глаза. Во дворе у бабушки, как в тридевятом царстве: вот огурчики лежат на грядке, два мальчика; вот репка выкатилась из земли; вот ягода-малинка на меня кокетничает, Ну, ребята, скоро начнем перестановку всей детской жизни. Выборы только завтра, но стал я в деревне очень положительный герой. Иван Великолепович. Я себя хвалю, ну и что? Таких нет людей, которые себя внутри ругают. У каждого есть внутренняя кличка, и она всегда хвалебная. У меня Иван Великолепович внутренняя кличка. Иногда я вслух признаюсь в своей скромности: говорю, что я глупый, что некрасивый, но это все неискренне. А завтра… завтра надо вслух признаться, что я вор. Все друг другу признаются, и мне надо. А зачем? Безгрешных людей, как известно, не бывает. Каждый человек имеет маленький грех позади, маленький черный хвостик, который с каждым добрым делом все укорачивается, но остается. Ну и что, что украл конфеточку? Ведь на свете столько людей, которые воруют и не признаются. А я признаюсь. Признаюсь, но потом. Если признаюсь сейчас, всё еще больше огадится, распространится конфетокрадство. Рухнет мой авторитет и все планы. Все царство мировое. Перестройка русской народной речи. А когда стану Царевичем, никто и не посмотрит на мой маленький хвостик. Ведь я начинатель такого дела! А что если пойти на такой оборот: сказать, что это Сергобеж, а я тут ни при чем? Нет, не поверят… Серега бы столько конфет не съел. Двое ели. А в общем, потом-то я признаюсь. Старушка уже забудет, она с цветами. Да и никто уже не вспомнит об этом. Я признаюсь, а мне не поверят, я уже такой славный буду. Отложим на потом, а когда потом настанет, скажут: "Это ты фантазёришь! Ты такой хороший человек, ты не мог украсть конфеты никогда!". А если нет, если сейчас признаться? Кто всем людям поможет? Кто эту перетряску всей детской жизни сделает? Вопрос роковой: КТО? Я давно об этом подумываю, ребята, я давно… Человек хочет сделать большое дело, но раньше сделал маленькое зло. Или даже так: маленькое зло он сделал кому-то одному, зато через это маленькое зло вышло десятерым людям добро. Например, выкрутил мальчишка лампочку в подъезде, и все ходят в темноте, малыши боятся, мамы боятся, и ты этому мальчишке говоришь: "Или сам вкрути, или я скажу твоему отцу". А мальчик этот говорит тебе, что ты предатель, и он всем во дворе расскажет, с тобой раздружат все. Вот, читатель, представь: завтра наступает перестановка всей детской жизни. И надо выбирать Царевича. И опять в твоей детской голове закувыркается вопрос: КТО? Один смелый, но всегда с угрозой, с кулаком в голосе. Другой не дерется, но вреднюга, жаднюга. Третий вроде бы хороший, ходит к твоему братишке, но еще малышеватый, не ставить же его над всеми. А главное: у каждого есть грешки (даже у тебя, читатель, ведь правда?). И при том ты чувствуешь, что у тебя получится Царевичем, ты можешь людям помочь. Я, например, хочу написать Всемирную Декларацию Двадцатого съезда, Двадцать Восьмого даже – об уничтожении воздействий на человека кулаком, а также воздействий на человека любой грубостью. В конце декларации все поставят свою роспись. А если в конфетном деле признаюсь? Кто всемирно людям поможет?.. Кто? Да! Спасибо, читатель! Так и знал, ты на мою сторону переклонишься, не вырвешь мою страницу. Правильно! Признаваться не буду пока. Потом. Попозже. Решим вопрос, потом признаюсь… Oй! Ой! Собачонок! Кусает меня за пятку ноги. Ой! Ростику сто грамм, а кусается остро. Приблудился какой-то… Ты чего? А собачонок и говорит: – Козырем ходишь? К царскому имени примеряешься? – Ты совесть моя, что ли? – спрашиваю дружески, хотя вид ее очень не нравится: черная, с нерезкими серыми пятнами, глаза тусклые. Затертая, заерзанная. И говорит мне: – Признаваться будешь в конфетном деле? – и смотрит таким зверским взглядом, как будто я людоед, а не простой конфетоед. Я ей стал втолковывать, что я, Ванька, такой простой, дам счастье всем детям мира! А она – с конфетками своими! – Ты про человечество, а я про человечка. Только примерил ботинки царские, пошел топтать! Топтать! Я столько сделал хорошего, я детей уговорил, взрослых уговорил! Я!.. Всклочная какая собачонка, а? Скандальная. Вика вон – полупакостница уже была, Ленка – четвертьпакостница… Она продолжает талдычить скучные, всеизвестные слова: – .Многие хотели мир осчастливить. Да… много было Иван-Царевичей. Затевали славные дела, а кончали… на лягушке женились. – О! Поучать начала! До чего у тебя привычка вредная! – Спасибо за указку. Конечно, срываюсь. Тяжело с тобой. И тут я говорю решительным баском: – А не могли бы вы, ваша серость, исчезнуть, желательно навсегда? Без вас проживем!.. Проживем! Ум-то мне для чего вделан? Я, извините, всё в своем уме соображаю. Она почесалась правой лапой задних ног. Я стал не так почтителен: – Обойдемся без блохастых. Всё предусмотрено матушкой-природой и отцом - умом. Пошла! А то придет вечно, грязная, как помоечная какая, блохастая, наверно. Мама говорит, все собаки заразные. Она стала серая-серая, похожая на выхлопной газ грузовика, и пропала. Ушла. Куда, не знаю. Только чья-то кошка, которая мирно паслась около нашей березы, вдруг пересиганула через забор, бросилась сломя хвост через дорогу и оказалась на сосне. Ф-фу… ушла… До чего же хорошо, хорошо тут все: зелено, шумно, шмели жужжат, кузнечики кузят. Растения тебя – идешь – касаются: лучок, свекла, капуста. Подсолнух целоваться лезет. Можно посидеть себе на лавочке. Приятно сидеть, когда на тебя смотрит зеленый кустик гороха. Когда на тебя всё смотрит. Ну, ничего. Завтра выберут меня Царевичем всех детей и взрослых. Эй, воробей, удобно я себе гнездо свил? На высоком дереве, правда? Будешь пением меня ухмелять… Заживем! Царевич будет дома сидеть, разбирать ссоры, назначать казни. Если девчонка не играет с Царевичем, слуги ее связывают и заставляют играть. Взрослые тоже… на поклон будут ходить, подарочки носить. Вот я вижу, как входят тетеньки, старушки кланяются, кладут подарочки… машинапеченьевоз… освежитель плохого воздуха… хорошо… а это? Это что? О-о! "Золотой петушок"! Конфеты мои любимые, ну-ка, откусим хвостик! Я, конечно, угощать буду детей, отпускать, когда мама домой зовет. Да… Раньше я думал, Царевича только на год выбирать, чтоб не зазнался, а теперь перерешил. Выбирать – так навсегда. Самого вундеркинда! Умный не зазнается. Навсегда! Все простые дети за меня. Правда? ТРИ ЖАДНОСТИ СЕРГОБЕЖА Забор у бабушки бедный, каждый может увидеть, что происходит во дворе. Каждая кошка, лягушка, собачонка может прибежать и лечь на твою грядку морковки. Просто публичный какой-то двор! Забор закажу себе царский, непроглядный, кошконепроницаемый. И вот вижу через худые жердочки нашего забора – идет от леса Сергобеж. Не бегом обычным, а шагом, шагом-волоком. И зачем я его защищал вчера, снижал свой авторитет? Украл велосипед и еще Наташку звал, невесту чужую. Очень уж он жадный, что увидел – то мое! У него не жадность, а самая настоящая человеческая алчность. Три жадности, жадность до невозможности – это уже алчность. Алчность – она человека в рабство подминает. У каждого ребенка бывает такой ценный возраст: он изучает цифры и начинает везде читать цену: на всех банках, пакетах, сигаретах. Читает цену, а денег нет. Глупые родители не дают ни копеечки, заработать негде, и ребенок начинает воровать. У него развивается алчность. Есть парни, им нравится купить за рубль колечко и продать девчонкам за два рубля. Рубль за то, что стоял в очереди, шел, покупал. Я только в мыслях могу – перепродать, ведь девчонка может проверить, узнать настоящую цену. У женщин обычно алчность к цветам. У Вики алчность – лазить на крышу сломанного трактора, она говорит, что без крыши не может жить. Ей нравится, что она колотит по крыше ногами, а сидящие в кабине затыкают уши. А бывает и хорошая алчность: к зарядке, к бегу, как у папы, к чтению, как у мамы. У меня алчность – болтать. У каждого есть какая-то алчность. У папы алчность на розовое сало. Ему хоть две тонны дай – съест и будет бороться за свое дело до конца, хоть и вегетарианец. Алчность желудка не так хороша, как алчность ума. Я – БЕССОВЕСТНЫЙ Идет Сергобеж, жадность впереди него бежит. Зашел, как я и ожидал, ко мне во двор. Во костюме школьном вороном, в иголках и травинках весь. Зашел походочкой блатного крокодила, встал под большую сосну, в полумрачок, стоит и молчит. Я тоже – воссел на лавочке и молчу. Проходят минуты молчания. Сергобеж ка-а-ак пнет сосну! Она не растерялась, наставила ему шишек. Я глядел царственно. Он сказал наконец: – Давай, Ванёк, болтанем. – Ну, забалтывай! – Мне бы это, Ванёк… в Дружеское Царство записаться. Ты записываешь? Я важно кивнул, чуть корона не слетела. – Я бы клумбы распустил по всей Земле, – стал уверять Сергобеж, – георгины с вот такой башкой, гладиолухи есть цветы, розовые. Я розовое люблю. Человек всегда на розовое нацеливается. Я начал предъявлять Сергобежу свои возражения: разругался со всеми, дядю Котова обхамил – куда ему в Дружеское? Ему в Пакостное Царство прямая дорога. Сергобеж посмотрел на забор дяди Котова, мы ведь соседи с ним, тесно живем, и сказал сниженным голосом: – Он мне какую работу давал? Знаешь? Не знаешь. Собак ловить. А он шапки шить будет. Дядя Котов? Я вспомнил его приветливую лысинку, хитромудрую улыбочку… Шутит он. Я его тайну понял: он сам хочет Царевичем быть над всеми, да на него не обращают. Ему обидно, он и расшучивает всех. Тут Сергобеж говорит смущенным голосом: – Мне, понимаешь, Ванёк, мне… совесть нужна. Ну вот, новая жадность! То конфеты, то цветы, то невеста чужая, то сосиски. Ненасытный какой паренек! – Я думал, – досказал Сергобеж, – я думал, в Америке папка мой. А он … мамка говорит, он здесь болтается, в городе. Как, ты говорил, совестей-то этих выманивать? Он подсел ко мне на лавочку, просительно согнулся, как запятая (тогда уж запятак, запятая женского рода). В тайне души я очень хотел ему помочь, да как? У меня у самого… помните?.. До нас долетел с ветром голос, это шла Тетенька в своих галошах. Издалека можно подумать, что это гигантская бройлерная курица. Остановилась, склонила голову гребешком вниз: – Ой, Сергобеженька, на чужой ты лавочке сидишь. Пропадет что, тебя в колонийку посадят. Сергобеж бешено вздохнул. И тут я сделал ему такое предложение: – Давай пакостное делать Царство! Всем кличек обидных придумаем. Я большой мастер по кличкам. Меня за это девчонки лупят. Давай?.. Викину мать будем звать Галоша, а Ленкину, в пиджаке – Пиджак. Старушку – Разносчик красоты. Они придут на выборы завтра, признаются во всем, в грешках своих, а мы на них в милицию заявим! Взрослых в тюрьму, детей на свободу! Я разжигал Сергобежа и сам разгорелся. А Сергобеж даже отодвинулся от меня: - Да вы что?.. Вы же… по совести? Ну, стал я ему объяснять, что тут такое дело… тут вышло… я бессовестный стал. – А где? А как? Врешь! – закричал он, стал прыгать передо мной, махать, кричать, сокрушаться и меня сокрушать. Я тоже начинаю махать и кричать: – Где! Как! Вы прямо думаете, такой она друг сердечный! Советница такая! Ох! Зануда она, ехида ехидная! Ошибся ты чуть, на полчутя, она высунулась уже, явилась! Придираться к человеку! Уж лучше режим соблюдать… А лучше – пакостить! Тебя Царевичем выберем. Свобода! А я ферзь, ближайший пакостник! Будем родителей наказывать, двоечки ставить учителям. К этому у меня такая мысль подскочила. Если в Пакостном Царстве бессовестный Царевич – это полбеды. Люди будут знать: собак посадят, замки повесят. А если у Друзей бессовестный Царевич – это уже страшно. Он пакостит, а все думают: какое добро! Все двери ему откроют, весь хлеб отдадут… обеднеют и будут кричать друг на друга. Драться. Проклинать. Беззащитных детей лупить, чем попало под руку. Ой! Сергобеж сидит, стал горюниться, кулак под бороду подставлять. Приговаривать: – Не хочу Царевичем. Не хочу Пакостевичем. Совесть мне надо. Я делаю последнюю попытку его оттянуть в свою сторону: – Если боишься всех испакостить, давай на год Царевича выбирать. Каждый год другого. Тогда пакости будут разные, и человечество не привыкнет. Но он отнеткивается, как будто всю жизнь ходил в короне и ему надоело, натерло. Ну, тогда я предложил – дело спорное – подраться. Чья победа – того и Царство. Кто кого выдворит со двора, за калитку. Выдворит меня – сделаем Дружеское. Всё честно, правда? СРАЖЕНИЕ ДВУХ ПОЛУПАКОСТНИКОВ Сражаться решили тяпкой и лопатой. Тяпай, моя тяпка, оттяпай пятку! А Сергобеж размахался нешуточно. С каждым махом лопаты он кричит дико-бешено: – За детей брошенных, пакостина! Отцов спаиваешь, пакостина! Детей скуриваешь, пакостина! Как будто я его подзуживал покурить, а не он меня. Я только пятился и отговаривался: – А тебе… а тебе… вот тебе! За день рождения, который раз в году! Сергобеж скинул свой школьный пиджак, остался в футболке, мускулы выставил, выбил мою пакостную тяпку и схватил крепко меня: – Работать заставляешь мамок! Всеми днями-вечерами! Я своими пакостными зубами укусил ему руку. Он поднял бабушкин поясок и начал окружать меня им, прижимать к воpотцам. Я закричал пакостным голосом: – Дядя Котов! Проснись! Помоги! Дядюшка! Сергобеж стал возмущаться. Но я сказал с наглецой: – Я же бессовестный! Бе-е-е… Обманул тебя! Сергобеж, смотрю, психует, бегает везде, подрывает меня лопатой своей. Смотрю – идет, подхрамывает мой сосед дядя Котов. У него болит голова. Сейчас ругать будет, что визготеку открыли. Я почувствовал, что у меня кровь стала белая. Не голубая, не красная, не буро-малиновая, а самая настоящая прозрачная белая кровь. Мне попадались люди с белой кровью. Все они имели качество – очень быстро наглеть. Такая кровь – символ наглости. Наглого сразу видно. Он сначала просит, а потом наглеет и требует. – Визготеку открыли! – закричал дядя Котов. Одной рукой он держится за калитку, другой – за свою седую лысину. Я встал перед ним в почтительную позу, руки по швам, подбородочек прямо (этому каждый научился в школе): – Вы уж извините, дядюшка. Вон… этот… покушается на меня лопатой. Выдворите его со двора, пожалуйста. Дядя Котов сказал басом строгого дяди: – Выдворить?.. А у вас же с бабами дружба! Бабье царство, или какое там… А ты дядю зовешь. А? Я ему говорю, что у меня нога не движется на человека. Вот хочу из Сергобежа этого смятку сделать, а нога не движется. – А ты попробуй; попробуй, – советует дядя Котов. – Я его подержу. Победишь, тебя уж точно Царевичем бабским выберут. – А ты живодёр! – крикнул Сергобеж, сначала отпрыгнув подальше. Я поднял ногу, и она пнула Сергобежа. Ой, а никогда не получалось!.. Сила-то есть у меня, а вот дух не драчливый. Дядя Котов разулыбался, разнежился на меня: – Хорошо… Не такое получится. За власть борешься. Родную мать сошлешь куда-нибудь на остров необитаемый. Видели, видели мы всё это! Начинается совестью, а кончается островами. Я вспомнил, батюшки! – что мама поехала в отпуск на полуостров Крым, и спросил: – А совесть… куда девается? – А прогоняют ее, чтоб не мешала вкусно жить. Сергобеж кричит, полный обиды и злости: – А ты! А ты!.. У тебя три щенка в сарае, а будут три шапки! Живодёр! Мне почудилось чье-то движение в луковых зарослях, чье-то прыганье. Не лягушка ли? Какие волосы у лука длинные, надо постричь. – А чем ты сегодня завтракал? – приступил дядя Котов к Сергобежу, открыл дебат. – Ничем. Я в лесу ночевал. – А вчера – чем? – Чем? Курицу ел, ну и что? – буркнул Сергобеж. Он берет свою курточку, счищает с нее лесные былинки и небылинки. Интересное дело – в лесу ночевал… – А! – закричал дядя Котов, ему попалась хорошая мысль! – Курочку съел! Вот и есть живодёр! Курочку бедную съел! Пеструшку. За что?.. А польза кому? Koмy?.. То-то. А я, я голову народу утепляю! Народу! – Какой дядя Котов… премудрый, – похвалил я его. И он обнял мое плечо: – Поддай-ка ему еще! Чтобы нос распух! Куроеду. – Я собак не дам, – сказал смущенный Сергобеж, немного смущенный съедением своей Пеструшки. – Опять на воровство нацелил? Живо надер-р-ру! – рычит дядя Котов и надвигается на Сергобежа. А тот сжался в комочек и стал удирать, дразниться: – Нога отломится – догонять! Из хоть кого шапку сошьешь! Вот ругает Сергобеж взрослых, а сам зарыпистый! Такой уж характер дал Котову белый свет, шутливый характер, с небольшой ехидцей. Умный человек, я заметил, всегда шутливый и наоборот. Дядя Котов похромал тоже со двора и крикнул мне поверх калитки: – Ты, Иван, заходи, работу дам! Мужскую! Аз-за-ртную! Я остался один, пошел в обход по огороду и сказал себе сам: ну и что? Ну и фигушки. Бессовестные зато хорошо живут, без очереди. Дефициты едят. А маму не отпущу больше никуда. Зачем ей море? У нас такое же озеро, только волны пониже. И размером – в три четверти моря. И так я успокоился, поел горошку, бобиков – чудесность! – пошел мимо луковой грядки и вдруг! Глядит на меня с грядки – там такая впучинка – а там… лягуха сидит и глядит на меня, да с такой претензией! Не знаю, успела она сказать: "Женись на мне!". Я не слышал, я сломя ноги выскочил на улицу. СЕРДЕЧНАЯ ТАЙНА СЕРГОБЕЖА Я выскочил за воротца. Пойду всем расскажу, как я победил Сергобежищу лютого. Смотрю – а на лавочке нашей Сергобеж сидит, благоустроился. Это я увидел краем левого глаза, а правым ухом услышал, что он всхлипывает. Если уж он заплакал, значит, это настоящее горе. Тут ко мне подлетел комар, и я начал его догонять, репрессировать. И только хотел запустить тапком в несчастного, как он сдох сам. Сергобеж сидел без движения, опустив челку на нос, и я сказал безразличненько: – И чего так комары кусаются? Мы же их не кусаем! Ответа не было слышно. – А! Я понял, – говорю, – они мстят за погибших товарищей. Тут Сергобеж зарыдал невеселым голосом. Я подумал, что из-за меня, и стал говорить, что не надо на бессовестных рыпаться, какие с ними дела? – Тебе хорошо, – говорит он наконец-то и опускает нос до груди, – у тебя и мама, и папа, и бабушка, и Наташечкина-невеста. A у меня… В его глазах взвился белый флаг зависти. Я стал оправдываться, говорить, что у него тоже папка недалеко, в городе, вроде… И тут Сергобеж открыл мне свою тайну. Он заглянул сперва под лавочку и сказал вполуслух: – Он… бессовестный, бросил меня. Я думал, он в странах… где-то… в самой Америке. А он… тут… вот именно – близко! И не приехал ни разу, не повидал сынка сердечного. Ни письма… Сергобеж опять заплакал по своему горю. ПАПЕ, КОТОРЫЙ ЗАБЫЛ ПРО СЫНА Когда я слышу, что кто-то бросил ребенка, я представляю: стоит дяденька у обрыва, своего пацанчика обнял, а потом – ух! – и бросил его вниз, в эту ямину, в пропастину. Иногда бывает, что отец не живет со своей семьей, не ест с ними, не бреет бородичку по утрам (бородичка – неболышая борода). Но все зависит от взрослых – будет ли у ребенка отец. Злая эгоистка не пустит отца к сыну и сына к отцу. А добрая будет их соединять и улыбаться. Но бывает злой отец. Он сам не приходит к ребенку. Некоторые отцы стараются вообще забыть о своем ребенке. Они заводят себе новых, чистеньких девочек, чтобы они им варили суп, чистили обувь. Но в сердце интеллигентного отца никогда не угаснет его сын, каким бы лохматым сын ни был. Вот случай из моей жизни. Я бежал по комнате и набежал на диван. Но как только это сделал, я чуть не упал под папиным интеллигентным ударом. Оказывается, я набежал на его часы и сломал. Весь день папа неудобился, улыбался, а ночью ушел на дежурство. По ночам он сторожил свой институт за деньги. В третьем часу ночи услышался тихий скреб в дверь. Я открываю, заходит белый папа. У него замерзла вся личность, а рукавичность он забыл надеть. Он встал на одно колено и сказал: "Иван, ты на меня не сердишься?". Я погладил его и сказал, что уже давно не сержусь. И он ушел обратно сторожить. Вот так поступают настоящие интеллигентные люди. Но отцы бывают злые, которые, если уж пришли ночью, то чтоб еще по головушке треснуть. Может случиться так, что книжку эту читает чей-то папа, который развелся. И не ходит к своему сынку или к дочери, потому что не хочет. Он шлет деньги и успокаивает себя, говорит, что бывшая жена не пускает. Но это не мужские разговоры. Если папа не ходит к сыну, значит, не хочет. Даже если человек уехал в другой город, он может остаться папой. Он может писать сыну частые письма, слать посылки, прилетать на каникулы или взять ребенка на каникулы. Мне кажется, совесть взрослого похожа на его ребенка. С ней не поссоришься, не прогонишь. Она не кусает, не царапает, а просто тихо глядит и глядит. Прошу папу, который забыл про сына или не вспомнил про дочку: поскорее выручайте себя, подтягивайтесь на своих бицепсах до ребенка, загляните на его второй этаж. Он ждет вас – хоть какого, хоть откуда, из-за границы или из тюрьмы. Ребенок сначала прижимается к маме, а потом прилипает к отцу. И если нету отца, он прилипнет к кому попало. И вот, ребята, я представил, что у меня нет папы. Он, может, гордость поимел или что… Я сижу, и меня так подмучивает… Давление в голове гудит… ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВОДКУ ПЬЮТ? Я бы не стал об этом думать для своего любопытного интереса. Но уже скоро нам с вами, парни, протянут сигарету, подадут рюмочку. И мы, как все, начнем курить и пить. Почему? На этот вопрос я весь свой ум наострил. И увидел: две разницы между взрослыми и детьми, только две. Первая: взрослым, чтобы развеселиться в праздник, понеобходимится водка. А детям не нужна – ни в праздник, ни в школьный простой день. Радость брызжет из них, как из клубники, когда пяткой наступишь. Почему? А если захотел бы ребенок хлопнуть водочки – мама так вскричит, как будто он захотел укусить змею. Папа закурит… Сами-то они с этим змием целуются. Нам вредно, а им что, полезно? Да нет, конечно. И никто не скажет, что водка вкусная, все рожат корчицы от неё. Понюхайте, лизните – бя… – настоящая бякость! Тогда… почему? Почему они пьют – и еще здоровые, и уже больные, и очень ученые, и очень неученые? И бедствующие, и богатствующие? Почему они пьют с таким важным видом, как будто тетя у них графиня, а дядя – графин? Что делается с пьяным? Он сначала добреет, веселеет, молодеет, он становится ребячливым ребенком. Правда, если этот ребенок неумный, он еще выпьет и быстро опоросеет. А потом он вообще упрощается до червяка, лежит и чуть-чуть шевелится. Значит, взрослый хотел, всю рабочую неделю хотел чуть-чуть побыть ребенком! Зачем? Тут уж догадается любой непьющий: чтобы отдохнуть, стать беззаботным, прогнать напряжение жизни. Но пользы от водки и сигареты на чуть-чуть, а вреда на десять чутей. Ничего себе! – обидитесь вы. Дети разве не устают? Посиди-ка шесть часов школы под угрозой вызова к доске! Поживи-ка с этим страхом: накажут – не накажут? отпустят – не отпустят? заставят – не заставят?.. Я с этим первый согласен, ребенку труднее. Да, его одевают, есть дают, тут он беззаботный. Так рассуждать, то взрослым самый рай в тюрьме: там тоже одевают, поесть дают. Живи! Вот то-то! У детей такое перенапряженьице! Особенно после контрольной. А кстати, как вы отдыхаете после этой контрольной? Бегаете, скачете, будто у вас батарейки внутри, правда? Мы так же отдыхаем в нашей школе, бесимся, как бесы, хоть и не разрешают. У меня по дурению пятерка. А десятиклассники уже перебесились, ходят важно, без припрыжки под лестницу курить. А десятиклассницы прогулочно едят булочку. Они жрицы булочек уже. У кого родители бесятся, когда домой приходят с работы? Прыгают, танцуют, кувыркаются, на стенку лезут на шведскую? Вижу, вижу, вы покатились куда-то со смеху! Даже представить уморительно – такое брюшко прыгает!.. Оно поест – и на диван. У него организм всем своим телом просится полежать. А нас, братцы, на диван не усадишь, за столом не удержишь! И это вторая большая разница. Теперь вынесем за скобки эти две разницы. Получается: взрослое большинство пьет, курит, объедается и живет малоподвижно: ненаклончиво, неподпрыгчиво, некувырчиво. Детское большинство не пьет, не курит, не объедается. Зато, если бежит, то вприпрыжку, если стоит, то вприсядку. Получается, в этих подпрыгах и кувырках – спасение? Единственный способ отдохнуть без сигареты дымучей и вонючей водки? Получается… Ну да, ну да, слышали краем уха, читали краем глаза – спортсмены не курят. Просто правило без исключений: идет человек – курит, бежит – не курит; едет в машине – курит, едет на велосипеде – не курит. Почему? А им не надо: они по-детски борются с напряжением жизни. А другие взрослые живут вниз головой и радуются, что ботинки у них чистые. Так же, как детям стыдно отдыхать по-взрослому, с выпивкой, взрослым стыдно почему-то отдыхать по-детски: захотеть - и запеть, взять – и побежать. Почему? Вот сколько больших вопросов о маленькой рюмочке. Неужели это природа так подхитрила? Рос человек, рос, вырос. Поторопился, пока здоровый, родить здоровых детей – и всё. И стал глупеть, сам себя скуривать, спаивать… Извините, что такую невежливость говорю про ваших умных охающих мам и ученых кашляющих пап. Извините, пожалуйста, пожалуй-двести. Они болеют и болеют, толстеют и болеют, болеют и глупеют. Они все хотят похудеть – и не могут, хотят бросить курить – и не могут. Они не могут и уныло смотрят в могилу. Почему? Почему природа такая злоехидная? Почему разрешает людям жить неправильно и умирать раньше природного срока? Я долго думал, я перемучился вопросом этим – но не додумался. Мозги устали и стали беситься во лбу. Пришлось спросить у папы. Он относится к взрослому меньшинству и каждый вечер потеет, чтобы вышла вся грязь дня. "Подожди", – еле выкряхтел он. Опустил свою гирю так, что пол затрясся, стряхнул пот со лба и сказал: "Да нет, природа не злая, не глупая. Она суровая тетушка. Закон у нее такой: глупый, умирай скорей! Уступи место другому, он, может, поумнее. Умный – живи долго, учи детей, радуй людей". И папа опять стал бороться за длинную жизнь, отжиматься от пола, подтягиваться к потолку. Ну что, устали, ребята? Тогда идите на улицу, в догонялки. В убегалки… КУДА СПРЯТАЛАСЬ СОВЕСТЬ СЕРГОБЕЖА? А Сергобеж почему-то спросил меня: – У тебя что, Ванёк, живот болит? И вдруг – явилась! Откуда ни возьмись – черноморденькая моя, чернопузенькая. Сначала показался виляющий хвост, потом шмыгнул собачий мокрый нос, потом вся она нарисовалась, черненькая, кроме больших глазок. Я просиял радостью: – Ух ты, моя хорошенькая! Вернулась… Сергобеж! Вернулась! Вернулась совесть моя! – А где она? Где? Не видно, Ванёк! – он так закричал, что у бабушки в комнате зазвенел незаведенный будильник. Я сделал ему знак, он понял, просиял радостью. Собачка спросила с возвышенным видом: – Зачем звал? – Я не звал. Я… Мне Ссргобежа – у него отец… ну… потерялся – мне жалко. Она губки прижала: – Не звал? Развод, значит? Ну, тогда я обратно пошла. Рассора на всю жизнь, на всю судьбу. Я стал ее останавливать, ой, нет! – кричать! – не уходи, ты нам нужна! Сергобеж переполошился: – Куда она? Держи! Она ворчит: – То нужна, то не нужна. Затрепал меня всю. Вон шерсть лезет. Я ведь не плюшевая какая, магазинная – купил да бросил. Конечно, очень нужна. С ней так… весело?.. Нет, не так уж весело. Вкусно?.. Нет, не вкусно, не сладко. Наоборот, не дает чужую конфетку даже развернуть. Спокойно с ней?.. Куда там! Все время беспокоит. С ней – вот! – не страшно! – С тобой – вот! – не страшно! – признался я. – Ничего не страшно. А одному - у-у… – Со мной светло. Я всему свету свет. – Собачка загнула хвост семеркой. Сергобеж давай меня толкать, подучивать: – Спроси, спроси, как мою-то выманить? Какие повадки у них, спроси, у совестей. Я уж и подорожник, и одуванчик ел, думал, мне витаминов не хватает каких. Мы переглянулись с собачкой, перекивнулись, и я завел Сергобежа в такой разговор: – Вот, Сергобеж, ты хотел гладиолусы выкопать у бабушки… – Ой, это фу… это воровство! – А почему? Почему – фу? – Заловить могут. Мамка скакалкой расстреливать будет. – А не заловят если? Не стыдно чужие цветы копать? – Если заловят – стыдно. А если по-пластунски, по-партизански… – Ох. Представь, что ты бабка. Встала ты утром цветочков понюхать – хвать, а цветочков нету. Жалко бабку? – Бабку?.. Нет, не жалко. Цветы жалко от земли отрывать. Я же не все выкопаю, пятокшесток. У нее знаешь сколько, замаешься поливать. Собачка моя озаботилась, стала прохаживаться туда-сюда, хвост за спину; дала совет: – Попытай еще, попытай, у детей совесть близко. Я тягодумно вздохнул: – Ох-хо… представь, что ты бабка. Скрючься. Ты растила цветочки, маялась-поливала, поила-кормила, а кто-то свись – и выкопал. Обидно тебе, бабушка? Скрюченный Сергобеж отвечает беззубым голоском: – Нет, внучок, не обидно. Он не для себя же свись, а для всей улицы, для любования. У меня-то, у карги, где растут? На задах. А человек вперед, в палисадничек посадит. Сергобеж распрямил свой крючок: – Я давно, Ванёк, хочу такую жизнь цветочную, а семян-то нету! Я, когда розовые вижу цветы, как будто сладкие уколы получаю, медовые. Разговор толокся и толокся на одном месте. Я его сдвинул: – Закрой глаза. Посмотри себе во внутро. Смотри, где она там? Совесть, я думаю, живет где-то в сердце или около. И живет не сама совесть, а ее дух, душа. Как только человеку занеобходимилось – он ее вызывает, и она превращается во что-то, приятное и нужное этому человеку. У меня была тоска по собаке, а у Сергобежа? Может, отец? – Сергобеж, может, она похожа на папку твоего? Он жмурился-жмурился, но нет, не увидел ничего: – Темно… темно, как в сарайке. Черная тишина. Я уже забыл, какое у папки лицо. – А может, в пятке засела у тебя? Сергобеж подскочил с лавочки, будто на батарейках: – Точно! Точно, ребятки! В пятке, чесслово! Мне наступать больно, вот, на ногу! А ну-ка! Он встал на голову, придавил ромашку и другую траву, задрыгал пятками, грязными, как репка. Постоял-постоял – соскочил с головы. Вид у него был безутешный. Он безутешно сказал:. – Учителя говорят, я бессовестный, плохо учусь. А…может, крикнуть на меня, погромче так! Нет, не поможет, кричали. – Ладно, не горюй. У меня тоже недостаток есть, – признался я потускневшему дружку. – У тебя? – проворно спрашивает Сергобеж. Вы уже знаете мой недостаток. Что я… думать не могу, я только вслух думаю. Не успела голова подумать, а рот уже переводит, на свой язык. – А может, я робот?.. Да нет, роботы холодные, а вон я горячий какой! – Сергобеж продолжал изыскания. Я сказал ему, что он зато умный. Даже со стороны видно, какой он сообразительный, даже со стороны. Лицо Сергобежа немного просияло. Он поддержал этот разговор: – В правилах, в математике, я не соображаю, мне это лень. Но мне не лень строить дом, разводить клумбы, делать зимний сад. Почему ни у кого нет зимнего сада? Им лень. Даже летнего сада не садят. Лень. Просто у каждого своя лень. – Ленивым тебя не назвать, – преувеличенным голосом говорю я, – и глупым не назвать. Я устал от этого разговора, проголодался, да и вы, наверно, тоже. На небе теплые облака собирались в толстенькую тучку. Пролетела ворона, в клюве чтото белеет, наверно, сыр. Пробежала чья-то собака, во рту вкусное грызиво. Прошла Тетенька в Галошах, что-то пожевывая. Всегда она ест, наверно, даже во сне. Интересно, что ей там дают? И только я хотел предложить Сергобежу перерыв на обед, он и говорит: – Нет, Ванёк, мне именно совесть надо. Тройную порцию. Твоя-то собака – большая? – Тройную? Ну, ты алчный! Он сел на траву, подложил под себя пятки и сидит, как ворона в гнезде. Между прочим, ребята, собачка-то подросла моя. Была щенок, стала подросток собачий. Сергобеж молвил горьким голосом: – У меня папка бессовестный – раз. Дедушка тоже отказался от нас, мамка ему не нравится наша – два. А если и я бессовестным вырасту, а, Ванёк? Как сынок мой горемыкаться будет! Без отца, без дедушки и без прадедушки! Наступило длинное молчание. И вы, ребята, помолчите, подумайте. Хоть я и навевал вам аппетит полстраницы назад. Подумайте. Ведь cтоит вам повзрослеть в полраза, из вас получится папа. ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ПАПА? Как зачем? – громко, с выражением лица скажут многие. И даже с возмущением лица добавят, что книжка эта скучная, вопросы глупые, всеизвестные. Папа ребенку нужен, чтобы… чтобы… ну, чтобы… ну… воспитывать, – скажут эти многие. Но я не видел ни одного ребенка, который грустит: какой-то я недовоспитанный, мне бы пап штуки три, и всех с ремнями. Да дети вообще не хотят, чтобы их воспитывали! Что им надо для жизни – они прочитают, или спросят у взрослого, или напишут в детскую передачу. И почему для воспитания мало мамы и двух бабушек, а надо обязательно еще папу? Тут вы многоумно рассмеетесь: папа нужен, чтобы воспитывать мужчину: мужское отношение к женщине, к дракам, к молотку и топорику, к остальной жизни. Это, конечно, может папа, но может и никуда не спешащий дедушка, и мама кое-что о мужчинах расскажет, и учитель труда в школе научит. В общем, не пропадешь, изучишь мужскую науку. И вообще получается тут, что девчонкам папчик не нужен? Их мамчик научит… Скажи им это – сейчас запищат, такую пискотеку устроят: нужен папчик! нужен! И не дедушка им никакой, а вот именно папа! Ведь не жалеют ребенка: "Ох, бедняжка, бездедушный." А вот беспапошного жалеют. Я и сам, честно сказать (а зачем писать нечестную книжку, бумагу портить?), я и сам иногда думал: зачем нам с мамой этот шумный дядька, наш папчик? Он храпит ночью, он сморкается утром, он много ест, в том числе и варенья. А главная моя обида: он приходит с работы, и вся любовь мамы переносится на него, мне только объедочки. Они начинают болтать, хвастаться, смеяться, ругать своих начальников, а я и словечка нс скажи. Не мешай. Но потом произошел один случай, и теперь-то я знаю, зачем мне папчик, и не хамею, не ссорюсь с ним на всякий случай, который может произойти со мной. Так вот, в середине учебного года к нам в класс постучали. Вошло серая тетенька и сказала невзрачным серым голосом: "Mы новенькие. Можно войти?". Нина Николаевна спрашивает: "А где ученик? Пусть заходит". Тут тетенька попросила: "Вы уж, ребята, его не обижайте. Отца нет, заступиться некому". Она вышла, а зашел простой мальчик в очках. У него был долгоносый куриный нос (клюв). С первого взгляда можно было подумать, что это гигантский бройлерный веснушчатый петух в очках. "Как фамилия?". "Не-ку… ку… ку…" – закудахтал мальчик. "Некупилов!" – крикнула в дверь его мама, Некупилова. Некупилову следующим уроком досталась физкультура. Когда сделали несколько припрыжек и присядок – построились на перекличку. Bсе быстренька якнули, и тут Некупилов попросил слова: "Неку-пи… пи… пи… пи…". Учитель не мог понять, что надо этому ученику, а другие ученики уже такую говорильню развели, такую бесильню! "Неку-пи… пи… пи…" – продолжал Некупилов. "В туалет, что ли?" – досадливо спросил учитель. Тут началась такая хохотальня! Некупилов порыжел и перестал издавать свои звуки. Раздалась грозная команда учителя: "На первый-второй рассчитайсь!". Некупилов стоял за мной, а как только я крикнул "Первый!", послышалось фырканье. "Ф-ф-ф-ф…". Послышался детский всхохот. Учитель все злодел и злодел. Начали все сначала. После моего слова: "Первый!" фырканье возобновилось: "Ф-ф-ф… Фторой!". Дети заржали, как мотоцикл, который долго не заводится. Из глаз учителя выглянул смешок. В третий раз сделали попытку уничтожить фырканье Некупилова. В третий раз охрипший я крикнул: "Первый!". "Ф-ф-ф-ф…" – начал Некупилов. "Выйди из зала", – сказал ему учитель. Некупилов пошел, опустив голову. Один раз он даже наступил на свой чуб и стукнулся головой об пол. "Потише и побыстрее, – рявкнул учитель. И сказал нам: – На первый-второй рассчитайсь!". "Первый!" – обрадовался первый. "Второй!" – обрадовался второй. Всем хотелось скорей полазать по канату, попрыгать через козла, кувыркнуться на брусьях. "Первый!" – обрадовался я. Из дверей показался цыплячий нос и произнес: "Ф-ф-ф-ф-фторой!". Все легли на пол, стали накатываться друг на друга и хо-хо-хо… Учитель стукнул кулаком об стенку и всем велел сидеть до конца урока. Физкультура была сорвана. Но мы получили урок того, как надо срывать противные уроки. Некупилова посадили со мной. И как только учителя спрашивали у новенького фамилию, я тихонько подсказывал: ку-ку-ку. И тогда Некупилова заедало на кукуканьи: "Не-ку-ку-ку-ку…". Если он одолевал два слога, я начинал попикивать. Некупилов послушно пипикал: "Неку-пи-пи-пи…". Конечно, всякий, воспитанный даже одной бабушкой, знает, что над физическими недостатками неисправимыми смеяться стыдно. Человек не виноват, что он заика. Правда? А почему вы сейчас так сме-ме-ме-ме?.. Потому что люди, когда собираются в стаю, с удовольствием превращаются в обезьян (даже если они ходят в. художественную школу или в му-му-му…). И им уже на стыдно. Перед кем стыдиться, если все вокруг обезьяны? А в классе нас – сорок мартышек. Я креплюсь, борюсь, делаю серьезное человеческое лицо, но как только вызывают Некупилова, обрастаю шерстью и отпускаю роскошный хвост, который так нравится девчонкам. И если Некупилову надо ответить на совсем простой вопрос, например, какого цвета снег, я с его помощью отрываю от урока четверть или пятерть. Пока не раздается приветливый звонок с урока. Но вот однажды, когда раздался неприветливый звонок, как вы догадались, на урок географии, открывается дверь, и в класс просовывается гора. На вершине седоватый ледник. Гора вызывающе подмигивает мне – именно мне! – и зовет выйти меня – именно меня! – в коридор, в альпийские луга коридора. С удовольствием! Большой толстый дяденька ведет меня к дальнему окну, опаздывающие ученики опаздывают, но все равно стоят камушками, смотрят на непривычный вид отца в школе. Гора говорит мне: "Я папа Некупилова". Я улыбаюсь полу-улыбкой смущенного павиана: "А может, вы ошиблись? У Некупилова нету папы". "Не было, а теперь есть. И будет всегда! Понял?". Мое плечо попалось ему под холодную руку, хорошо, что не под горячую. Я уворачиваюсь, как последняя мартышка: "Тогда вам нужен Некупилов. Может, вы ошиблись? Я его… ну, однопартеец, на одной парте сидим". Тут гора наклоняется надо мной, хочет обрушиться: "Ты-то мне и нужен…". И он мне сказал что-то. Потом еще, еще и чуть-чуть еще. Я стал красный, как обезьяний зад, и трусливо потрусил в класс. Заскочил, чуть хвост не прикусил дверью. Некупилов мне ничего не сказал, и я ему не сказал. Когда его вызвали отвечать, я сидел с человеческим лицом, а Некупилов отвечал человеческим голосом. Вот так. Не знаю, как вы, а я… Если моя жена со мной разведется, мой ребенок не будет безотцовщина, а я не буду безребенщина. Поняли? Так что пусть ваш пацан на моего не рыпается и мою дочку не толкает. Поняли? Отец нужен, чтобы ребенок мог быть ребенком, а не маленьким старичком. Поняли? ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ДЕДУШКА? Дедушка – он ходит неторопливо, он насмотрелся стран, напробовался блюд, попил винца, и теперь он понимает поговорку: твое счастье то, которое бежит навстречу. А навстречу ему бежит внук. У дедушки иногда болит сердце, и он думает, что умрет. И тогда на земле останется его маленький листик. Он смотрит на внука и видит улыбку, как у маленького когда-то сына. И то, что происходит с внуком сейчас, уже когда-то произошло с самим дедом. Вот представьте, ребята: к вам приехал дедушка. Вам кажется, что этот почтенный седой мужчина сейчас начнет поучать, набрюзжит, наважничает. Но дед останавливается вдруг перед дождевым червяком. Стоит в неторопливости… Потом выбрасывает свою вонючую папиросу, достает удочку, о которой мечтал шестьдесят лет, кладет в баночку вкусного дождевого червя и с детской улыбкой ведет внука куда-то. Взрослые считают, что у меня жизнь еще не началась, а у него уже кончилась. А у нас с дедом и есть настоящая человеческая жизнь. Вместо орденов и колодок у дедушки на пиджаке висит рыболовная блесна. Вместо инвалидской палочки – удочки и спиннинг на спине. А в кармане вместо папирос и спичек долгожевательная резинка. И вот вы садитесь в такси и едете на речку. Вы говорите дедушке, что такси – это дорого, а он отвечает: "Ничего, жизнь одна, и она началась!". Вы никуда не торопитесь, а главное, не торопится дедушка. Счастливый дедушка со счастливой улыбкой берет несчастного червя и закидывает счастливую удочку. И вот у вас полный садок лещей и ершей, и поплавок дергается опять. А дедушка тянет щуку на спиннинге и не дергается. Рядом счастливый внук. Он счастливый потому, что наконец-то стал ребенком. Он стал наконец-то ребенком, а не рыбенком, которого ловят. Ребята, очень-очень советую вам: не спешите рождаться у молодых родителей и нестарых бабушек и дедушек. Подождите, пока дедушка уйдет на пенсию. МЫ ЗАДАЕМ ВОПРОСИКИ Тишину перебил голос Тетеньки в Галошах: – Викусик, поставь мне щелбан, я твою куклу уронила! Откуда ни возьмись – голос Тетеньки в Пиджаке: – Еленусик, это будет справедливо, если я тебе кашку сварю? – С вареньем? – спросила Ленка вредным голосом. – Конечно, с вареньем, – ответила мать. – Тогда лучше одно варенье! – развредничалась Ленка. – Это еще справедливее, – сказал голос в пиджаке. Пока мы тут сидим, детское счастье уже приблизилось! Я вскочил. Сергобеж вскочил. Подскочила моя совесть-собачка. – Эх, репьев-то натыкалось, – проворчала она и стала их выкусывать. И я сказал: – Да! Надо делать Царство Друзей, резко! Мирить отцов и сынков, дедушек и внучиков. Соединять! Чтобы этого уничтожения больше не было! – Не было! – вторит Сергобеж быстрым голосом. - Я признаюсь завтра, признаюсь, что мы конфеты воровали, а ты кивай. Кивай! Сергобеж кивнул так, что во рту щелкнуло. – Опять в Царевичи метишь, – пролаяла собачка с леденцой в голосе. – Хорошо жить на почете, да ответ большой. Не связывайся! Опять рассоримся! В общем, нарявкала на меня. А я же не для себя, не для вкусной жизни! Зачем подозревать в плохом, а не в хорошем? Мы давай с ней спорить. Я говорю: – Видишь, бессовестных сколько на Земле? Им, думаешь, хорошо? Им – как? Сергобеж вторит: – Да. Как? Опять я говорю: – Я бессовестным был, знаю. Страшно. Хоть куда, хоть с кем, только не одному быть. Вот скажи-ко правду, без утайки: хорошо отцу без сынка? Сергобеж: – Нет! Я: – А ему другие бессовестные говорят: а! выпей водочки, и все забудешь. Сергобеж: – Он забыл! Я: – А кто им скажет: признайся иди сынку, он простит, он ждет? Кто им вопросики задавать будет? Вопросики устыдительные? Сергобеж: – Да! Кто? Тут Сергобеж махнул рукой в сторону невидимой ему собачки и отозвался о ней неуважительно: – Ей только лишь бы ее Ванечке было хорошо, а другие – ну их! – пускай мучаются. Собачка отерла лапкой лицо: – Ох, править – хуже нет. Одному дать, у другого взять надо. И мы же с тобой виноватые будем. Первый в совете, и первый в ответе. Русские народные слова. – Эх ты, – сказал я. – А совесть у тебя есть? Она подняла ушки домиком: – Совесть? У меня?.. ГДЕ ЖИВЕТ СОВЕСТЬ? Бабушка сказала: – Ваня, спать! Я нехотя, скрипя пятками, поплелся в постель. Лег, прогнал комара и стал думать. Стало думаться про совесть. Кто, например, ее видел? Вы скажете: а, по телевизору кино было, бегала там какая-то. Но какого она вида, мало кто помнит, если честно – никто. А где бы, вы думали, живет совесть? Не в конуре, и не на дереве. Что? В пятках?.. Нет, там душа. Кто-то скажет: в голове она, в уме. Вроде бы правильно, а на самом деле нет. Потому что в голове все мысли, все и про всё, и они перемешиваются, толкаются, лезут друг на дружку, каждая старается подружку перекричать, каждая думает, что она – самая умная. В голове перекресток, а совести нужно укромность, ей стыдно на всеобщем виду, неудобно. Я думаю, она в сердце живет. Как я это узнал-уведал? Я вечером, когда спать ложусь, глаза прикрою ладошкой и в сердце гляжу. Там, на дне, сидит светлая собачка. Ну, иногда, конечно, чумазенькая она, трепаная… Бывает… А у вас – на что похожа? Я думаю, у разных людей совесть похожа на разное. А бывает, она ни на кого не похожа, не видно ее. Ничего, надо смотреть! Если человек стыдливый, совесть у него большая, во всё сердце, а если бесстыжий – комар там летает. У злых людей, я думаю, совесть похожа на змею, или муху, или на ехидную колючку. У добрых – на зайца или на домашнюю корову, утку или петуха. На лошадь похожа совесть у людей с сильным характером. А если на речку с корабликом – значит, умный человек. На дерево похожа совесть щедрого. А у веселых людей – на солнце или на балалайку. Если у твоей совести благоприятный вид – не зазнавайся. Сегодня ты помог старушке донести яйца до двери, и совесть у тебя в виде благоприятного домика с трубой. А завтра ты взял сумку с яйцами у старушки и бросил ее на лестнице. Да еще и убежал, громко хохоча. Совесть тогда похожа на тряпку половую. Тобой вытирают с пола всю грязь, а потом под порог тебя положат, ноги вытирать будут все подъездные жители. Если ты пытаешься смотреть в свое сердце, но не видишь там даже самой маленькой мухи, даже блохи, не видишь ни лютик, ни даже незабудочку – не думай, что ты совсем бессовестный. Не думай! По-моему, она водится у каждого человека. Смотреть надо! Самый лучший наблюдательный сезон – после хороших поступков: совесть вылазит погордиться. Например, помог ты, читатель, первокласснице портфель в автобус затянуть. Едешь, посиживаешь, в сердце поглядываешь. А совесть твоя раньше не росла совсем. А сейчас большое что-то лежит, и мокрое такое, даже блестит. Ты вгляделся – батюшки! – целый бегемот! Ты думаешь: ах, какой у меня бегемот большой! Приду домой, сяду в ванну, будем с ним нырять в теплой воде, он и приручится. Выныриваешь из теплой ванны, чтобы воздуху глотнуть, глаза открываешь и видишь, что ты сидишь в автобусе, а рядом старичок стоит. Ты скорей опять глаза захлопнул, полюбоваться на бегемотищу своего. Еще бы! До этого случая смотрел – никого не было, серая тишина одна. А тут – целое животное! А старичков вокруг каждый день много стоит. Заглянул ты в себя и видишь: бегемотик твой уменьшается, ногами топает, вот уже от него гемотик остался, вот уже просто мотик, а вот один ик… Ты вскакиваешь, кричишь: садитесь скорей! Дедушка! Тут маленький ик встает на задние лапки, раздвигает челюсти, показывает язык и становится большим серым бемотом. Ге потом. А вот теперь спрошу: есть у вас привычка смотреть видеомультфильмы? Небось, ни полдня не пропустите. А есть ли у вас привычка жадно есть конфеты? Конечно, пока родителей нет дома. А есть ли у вас привычка громко слушать магнитофон? Это уж точно! Два часа после школы, чтобы в себя войти! А есть ли у вас привычка посоветоваться на ночь с совестью? Днем, я думаю, она не всегда на месте сидит. Если вы ее зовете и не можете дозваться, может, она по белу свету побрела? Или на съезд совестей отправилась! Или с неофициальным дружеским визитом к соседней совести посплетничать про вас. Вот почему всё тайное становится нетайным. Так что лучше с ней встречаться перед сном, когда тихо и неторопливо. Попробуйте! Конечно, у всех получится по-разному. У кого-то сразу, а у кого-то с десятого раза не получится. Тут терпение надо. Совесть, она пугливая, как снежинка. И гордая, как жираф. ВЫСОКИЙ ВОПРОС И вот наступило утро. У каждого бывает утро, которое начинается с "и вот…". Кто-то уезжал на каникулы, кому-то дарили часы. А у кого наступал день выборов в Царевичи или в Царевны? Ни у кого. Вот поэтому, я думаю, всем интересно, как я провел это утро. Я проснулся, пошел во двор. Летом в деревне так – выйдешь по своим делам на полчаса, а задержишься на полдня. Потому что тут и малиновые дела начинаются, и реповые, и морковные, и гороховые, и огуречные. Перчик во рту брызгается. Подсолнух целоваться лезет. Солнышко глядит на меня во все глаза. Интересно – да? – признаюсь я взрослым? Маме-то я всегда признаюсь. Я всегда был нелюбитель вранья. Она мои тайны легко выпытывает. Умеет разгадывать людей по улыбке и неулыбке лица (я, может, тоже научусь). А вот на всенародный позор выйти… Да, выдрать бы меня следовало за ухо… Признаться мне надо первому. Хороший пример подать. Все всем признаются, и все всем простят. Вот собрались вместе люди, весь мусор, шелуху из карманов выгребли, собрали большую кучу и сожгли. И можно карманы хорошим чем-то наполнять, чистое класть. Вода в бочке ясная. Я, когда умываюсь, стараюсь не замочить ничего – только палец обмакну и глаза протру. Не очень, извините, люблю умываться. А сейчас сунул голову в бочку и волосы соединились вот сюда. Помыл шею, уши, стал свеженький, умненькийблагоразумненький. Сделаю-ка себе массаж лица, а то улыбка как-то не действует. Я, когда улыбаюсь, зубы всегда на виду. Это английская улыбка, папа говорит. У всех силачей на фотографиях такая улыбочка, Теперь – одеться, раз-два! Оделся я остро. Желтую такую рубашку… какую-то морковную… рыжие штаны вельветовые. Бабушкиным одеколоном натройнеодеколонился. Есть я не буду ничего и пить не буду – надо быть легким. Ну вот, время – без пятнадцати, пора на полянку. Когда я шел, мне было так легко, будто тащу не тридцать килограммов веса, а лишь одну свою душу. ОТКРЫТИЕ МИРОВОГО ЦАРСТВА ДРУЗЕЙ Собрались люди на деревенский ленивый лужок. Всегда, наверно, будет на земле это цветное лето, эта мирная жара. А кругом все растет. То ли травка, то ли ягодки какие, и кажется то ли, что скоро вырастет из макушки красивый цветок. Сколько народу, комару негде присесть! Вот старушка – разносчик красоты, вечнорозовый букетик торжественно держит, вперед себя на полруки. Сама в белом, с голубыми кудрями. Очень приятного вида старушка. Поглядишь на нее – хочется коленки отмыть и на пенсию. Сергобеж прибежал – походка у него городская, всегда бежит. Нарядился в школьный костюм, волосы на бочок сдвинул. Вика подъехала на матери, сидит, ножки свесила. Серьезная Вика, похожая на дорогую куклу, которую садят наверх, на шкаф. – Тяжело в галошах, – сказала мать Вики, – сняла галошу, почесала пятку. – Тяжело, все ноги замотала. А, наша Наташа!.. Достоинство Наташи в глазах. Они у нее всегда разного цвета, как у природы. Сегодня, как вода в колодце, ясные, отражаюсь в них я. И дядя Котов пришел – приветливая лысинка – в руке папиросы, "Помер" называются. Закурил папироску – мухи от лица отлетают, полуживые, полумертвые. Ленка, Ленка – батюшки! – в четверть-юбочке пришла, на ногах каблуки. Прическа такая, дыбная нахлобучка, дыбом, значит. Куда только мать смотрит. А мать смотрела вдаль, в другой район, в другую область. Потом она в своем темном пиджаке строгого цвета вышла на всеобщий вид. Стою я – и приятно думаю: исполнилось мое душевное желание! Тетенька в Пиджаке праздничным голосом объявляет: – Сегодня у нас, товарищи, открытие первого в районе Царства Друзей. – Она описала три извилистых круга головой и продолжила. – У соседей в районе, я узнала, есть детский центр. А вот Царство Друзей с детьми – я не слышала. Все закивали, никто не слышал о таком Царстве. Многие, я думаю, мечтают о нем, но никто не превратил в дело. Тут дядя Котов вытаскивает из кармана швейный сантиметр и подходит к Тетеньке в Галошах: – Дайте-ка, бабы, голову смеряю. Я теперь – личнособственник, заказывайте шапки. Тетенька присела, он стал мерять, напевать: – Трепал нам кудри ветер перемен, да-да-да-да, да-да, да-да. Да-да! Тетенька в Пиджаке прихмурилась на него, продолжила съезд: – Сейчас, товарищи, выборы Царевича! – А потом Всеобщее Признание, – подсказал я. – На должность Царевича рекомендуются: я и Ваня. – Достала из кармана клетчатую бумажку, прочитала в ней и говорит: – Давай, Ваня, какие правила предлагаешь к новой жизни? Я вышагнул скромно, недалеко вперед: – Главное правило в Царстве наших Друзей: помни, что был маленьким и будешь стареньким. Тетенька в Пиджаке стала качать головой. – Не звучит как-то. Маленькие, старенькие. Нет. Тетенька в Галошах поддакнула: – Не празднично как-то. Ну, я спросил тогда у всех собравшихся на лужайке: – А вы… старенькими будете? – Не знаю, – говорит Тетенька в Пиджаке, думать ей некогда. – А будем, наверно, – говорит Тетенька в Галошах, думать ей неохота. Старушка с цветами только кивнула сухо и незаинтересованно. Тут у меня началось красноречие. Нужные слова попадали на язык, они были спокойные, короткие. Такие: – А когда состаритесь, сослабитесь совсем, до ребенка, у вас кровать будет, кружка своя и всё. Тетенька в Галошах поправила Вику на своей шее: – А так и будет, куда денешься. – А дочки, – я выразительно посмотрел на Вику, – будут кричать на вас и давать пять копеек. Вика озирает окрестности, чувствует себя важной птицей, а я в ее обзор не залетаю. – А и сейчас покрикивает, – кротко согласилась Тетенька в Галошах. Старушка сказала с сильным, грубым выражением: – Да, старость… Стою на кухне, кашу варю, а руки уже не берут, и голова на плечах не держится. Неужели к дочке ехать, к хамке этой? Хамка и хамка выросла. А на каком режиме росла! Как в санатории. Тетеньки стали кивать с уклончивым видом, а я сказал с особенным красноречием, с тремя восклицательными знаками: – А ваши внучата будут кричать вам "дура". Тетенька в Галошах подняла глаза: – А мне… х-г-м…. Тетенька в Пиджаке стала торопливо снимать его, будто ей только что стало жарко. Руки у нее бледные, городские, чужие ей. Она стала сминать пиджак, сжимать в комок. Из кармана попадали очки, ручка, бумажки еще. Она не замечала, говоря: – Старики, они как дети. Как дети малые. У меня отец, извините, на клеенке на голой спит. А что делать? Стирать-то кому за ним? Сами видите. Вся общественность на мне, вся полезность. – Вы опять унизитесь до детей, – продолжаю роковым голосом, – а дети перерастут во взрослых. Завоображают, забудут, что были малые и будут старые. Старушка давай хлестать воздух своим неразлучным букетом: –- Мне моя хамка так и сказала: "Умирать будешь – перешагну и дальше пойду по своим делам". Такая, знаете, уродилась хамковатая! Тетенька в Пиджаке стала совать свой комок-пиджак Ленке, та стала его не брать. Тетенька стала говорить: – Да, жизнь задурена у нас… А ты, Лена, тоже… Хоть бы с дедушкой зашла-поговорила когда. Хоть бы на минутку заходила в комнату к нему, а? – Фу! – Ленка ударила каблуком оземь: – Я зашла один раз. Зашла. Ручку, что ли, искала. А он реветь стал. Знаешь, как ревел! Фу! Она отмахнулась опять от пиджака и произрекла: – Он тебя драл, ты и заходи к нему. А я к тебе заходить буду. Вдруг я заметил, что все изменились, поменялись кто чем: у Сергобежа стали хозяистые, конкретные глаза дяди Котова, а у дяди Котова – глаза ищущего свою совесть Сергобежа. Тетенька в Галошах стала оглядывать мир ясным, разноцветным Наташиным взглядом, а у Наташи глаза обесцветились, стали неповоротливыми. Ленка прижала губки решительно, как Старушка, а у Старушки в лице появились неопытные сомнения. Тетенька в Пиджаке присвоила мою открытую английскую улыбку, а я почувствовал, что стиснул зубы и растиснуть не могу. Боже! Вот оно какое, Царство Дружбы со взрослыми!.. ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ Старушка пробормотала плачущим бормотом: – Но ведь неправильно так жить! Раньше люди семьями жили, и грузди семьями росли. Тетенька в Галошах заревела, по-девчачьи взвизгивая: – Ви-икочка!.. Ты не бросишь мамку свою, а?.. Не перешагнешь, а? На это дядя Котов засмеялся громче всякого: – Она тимуровскую команду пришлет к тебе, председатель отряда. Жди! Ох, задавили нас бабы, бабья власть! Каблучком вот таким давят. А мужик… он спит, спит на клеенке на голой. Тетенька в Галошах протягивает мне свое изобильное лицо: – Ва-анечка, а что ж делать нам? Ты городской… Я сказал с простотой, но решительно: – Что делать?… Мы и собрались. Надо признаться сейчас, признаться в своих провинениях против детей. А они вас простят и тоже признаются. Дети… они любят вас, только боятся. Тетенька в Галошах позвала Вику: – Наклонись-ка, я шепну тебе… А Тетенька в Пиджаке деревянным голосом: – Лена, вырви листочек, я напишу тебе… А дальше было вот что. Тетеньки стали хотеть признаться, но я напоминаю, что надо выборы закончить, послушать второго кандидата. – А, да, – опомнилась Тетенька в Пиджаке. – Мои правила к новой жизни. Она раскомкала пиджак, ищет по карманам; тут ей подали бумажки, очки, всё, что выпало в траву. Правила нашлись, развернулись и стали читаться: – Первое: пионер не курит в школе. – Очень, очень отлично, – Тетенька в Галошах притопнула галошей. – Второе: пионер не матерится на старших. – Неплохо, – Старушка понюхала свой растрепанный букетик, пригладила растрепанные волосы. – Третье: пионер не пьет. – Из ведра, – подсказал Сергобеж. – Сергей, выйди, – сердится Тетенька в Пиджаке. Но опомнилась, поправилась мягким голосом: – А, да! Да… Спасибо, дружок! Третье: пионер не пьет из ведра. Четвертый пункт: пионеры-ленинцы никогда не женятся. Тут Наташа высказала протест, замахала рукой: – Это нет! Всю жизнь с мамкой! Это недействительно! – Спасибо, дружок, – голос Тетеньки смягчился до мягкости подушки. – Зачеркнем. И пятое: пионер должен получать… не разберу… Леночка! Ленка говорит капризно: – Да скажи просто: пионер должен получать. – Спасибо, мой маленький друг. Пятое правило: пионер должен получать! – это все Тетенька проговорила быстро, недоходчиво. Уже Старушка ее перебила, зашумела, показывая всем показательный палец: – Ох, я такое вам признаюсь! Такое! Я все-таки директор всей школы была! Заслуженная все-таки! – У вас в прошлом, а у меня въяве всё, расскажу – не поверите! – рвется высказать Тетенька в Пиджаке. Она рисует в воздухе какие-то фигуры своими незагорелыми руками, какие-то цифры и мешки. Ленка солидно откашлялась, подошла к матери на полусогнутых каблукастых ножках: – Я тебе, мама, сказать хочу… ты не сердись только. – Выборы! – кричу я. – Выборы! Кого выберем? Вы скажете, что я не использовал ситуацию в свою пользу, надо было не мешать, пусть выскажутся все в этом настроении. Но я хотел быть справедливым, вести съезд объективно, никому не помогая, не подмигивая: ни взрослым, ни детям. Сейчас у нас по пункту были выборы. Тетенька в Пиджаке отмахнулась от меня: – Ваню, Ваню выбрали. Говори, дочка! Тут вперед выступила Тетенька в Галошах. Она взяла не видимый никому микрофон, поднесла к лицу и громко, как большой оратор, прокричала (хотя к оратору подходит слово проорала, но сейчас я не хочу говорить ехидно о взрослых): – Вика, я скажу! Сейчас скажу… Я каждый день считаю, когда ты вырастешь, подсчитываю. Ведь хозяйство такое, куры, огород. Я мечтаю, когда ты вырастешь, козу взять. Мечтаю о козе. Попьешь молочка, детям коза полезна. Наташа подходит ко мне, берет за руку и хочет сказать признание: – А я… а я… Голоса взрослых и детей слились в один звук; все тянули друг другу руки, а кое-кто и цветы, плакали, обнимались, целовались. Только дядя Котов стоял, отвернулся и вздрагивал: то ли плакал тоже, то ли… Я изо всех сил держался, не пускал слезы. Тут прорвался голос Ленки: – Каждый день, каждый день, каждое утро и вечер, и ночь я жду, когда же я вырасту? Я хочу вырасти поскорей и уехать навсегда, стать Главным Редактором и всё-всё про тебя, мамочкина, в газете написать. Все твои издевки, недавания, неразрешения, кричания. С портретом твоим, портрет будет в черном трико, в каком я хожу. Всё. Точка. Наташа: – А я… а я… Тетенька в Пиджаке: – Конечно, дружок! И я жду – не дождусь, когда ты уедешь. Я и стараюсь, чтобы ты уехала. Вика стала подпрыгивать на шее матери, как в седле, шпорить ее ногами: – А я не дождусь, когда ты, мама, умрешь. Ты надоела мне. Ты… глупая. Как вон курицы твои. Дура ты, дура! – Конечно, дружок, – растрогалась Тетенька в Галошах. – Конечно. С нами не дружили, уроки с нами не сидели, к столу не звали. Конечно. Ну что, давай обнимемся, заживем теперь! Она прижала к себе Викины ножки, стала ходить, напевая колыбельно и потряхивая, баюкая маленькую. Тут уж я не побоялся выступить на середину и сказать гласно: – А я конфеты украл. Я не один был. Я конфеты украл из кармана… плащ такой… – Красный, – подсказал Сергобеж; он кивал, как мы договаpивались. Не кивал, а кланялся во все стороны, как артист особого жанра. Старушка подпрыгнула выше себя и машет приветственно букетиком своим: – А-а! Поймался! Поймался, ворюга!.. Я специально конфеты ношу, вора поймать! У меня всегда приманочка… себе отказываю, для вас ношу! Все стали смотреть на меня; я красный стал, как мордочка у мухомора, облился стыдом. Наташа заступилась: – Ну что вы кричите? Зачем тут крик? Ваня признался, вы тоже признались, бабушка. И всё. Но было не всё. СКАНДАЛ В НАШЕМ ЦАРСТВЕ – Я призналась?.. Я не призналась! Я таким Царевичам-Воревичам не признаюсь! – стала отнеткиваться Старушка. Сергобеж с кипящими глазами подскакивает к ней: – Ты призналась, что детей ловила! Призналась! Вы все такие! Всё место на Земле заняли! Всю Землю картошкой засеяли! Ты цветы носишь, хвастаешься, чтоб меня подманить! Чтоб я залез в огород твой! Старушка завизжала, как пила застряла в бревне: – Это вы всё заняли! Везде вы, везде! Ненавижу этот голос детский, когда они хохочут! Только прилегла вздремнуть – вот он, в окно всовывается, этот гогот, лезет. Я сказал с улыбочкой, с небольшим ехидством: – Вот спасибо, вот признались. Она кричит взбесенным голосом: – Надо заслуженную Царевичем! Ей признавайтесь! А этим – никогда и ни в чем! – Конечно! Вы же – о! – Наташа стала на длинные цыпочки, руку вытянула. – А мы у вас – у! – так, из породы домработников. Хаврошки. – Это мы в дурочках ходим у вас, в галошах, – рявкнула Тетенька в Галошах. Ленка стала говорить ехидно и ехидно рожить корчицу: – А вы мечтаете, чтобы мы пропали пропадом, в луже утонули, в сугроб вмерзли. Тетенька в Пиджаке раскинула руки длинней, чем они у нее растут: – Смерти нашей ждут! Сначала поиздеваться, распозорить на весь район. Дядя Котов стоял на пригорке шишек и дирижировал, давал слово тому, кто его брал. Сейчас он сам сказал слово: – А дуры вы и есть. Зачем рожали? Тетенька в Галошах стала думать. Стоит, наклонила голову гребешком вниз. Этот вопрос дяди Котова ей понравился. Она сдвинула морщины пониже, потом раздвинула и сказала: – Ну как – зачем рожали?.. Род продлять. У всех дети. Дядя Котов стал поучать поучительным пальцем: – Они выросли, дети – у них свои дети. Опять помогай. Опять давай! Не-е-е-ет! Ни друзья, ни родственники – Кошелёк Иванович лучший друг. – Опять давай, – шепчет горестно Тетенька в Галошах. – Помогай, – хрипит Тетенька в Пиджаке. – А тебе, тебе ничего, – завяла Старушка. – Стакан пустой воды не дадут. Перешагнули… Да, надо без детей. Ты, Котов, оказывается, умный! – она кокетливо мелькнула глазками. – Все силы на этих детей уходят, а на старушек не хватает уже. Я не знал, как перевернуть этот разговор в пользу детей; я успел сказать только, что без нас взрослые будут печальные безработные. Они меня не слушали, громко хлопоча свое. – Без детей… – Тетенька в Пиджаке выставила руки на самый солнцеприпек и стала покрывать их загаром. – Без детей мы бы… жить стали! Уже сейчас, не дожидаясь пенсии. – Жить! – крикнули тетеньки живыми голосами. – Розочек бы развели! Козочек! – Тетенька в Галошах скинула галоши, стала выплясывать что-то, козью пляску на лугу. – Массаж всего лица! – закричала Тетенька в Пиджаке. – Жить! – Зубы вставили бы! – улыбнулась Тетенька в Галошах со счастьем, малозубой улыбкой. Старушка прошелестела, вздохнув протяжно и безнадежно: – Пожить бы… красиво. Дядя Котов нарастил себе шишек побольше, кучу повыше и умело, как виртуоз Москвы, дирижировал женским хором. Лицо такое довольное, как будто ест, наконец, апельсины, а не морковку грызет. Я тоже организовал кучу шишек, утвердился на ней и показал рукой на Наташу. Она выкараулила моментик, вышагнула вперед: – Вы распоряжаетесь всем, а нас угощаете только. У собак и кошек тоже своих денег нет. Дядя Koтов мaxнул Teтеньке в Галошах. Она закудахтала: – Всё им! Всё им! Я за всё лето ни ягодки не съела, ни клубнички. Тут я вставил свой аргумент, свое разоблачение: – В школе омлет холодный, не из яйца и не с молоком. Макароны холодные, как глисты Гулливера. Тетенька в Пиджаке опять стала круглить и квадратить руками. Наверно, хотела признаться, куда делись яйца и молоко, но промолчала. Только сказала: – Уже и глистов нету. Наташа опять пробилась к микрофону: – Мы же бездомные, мешаемся вам под ногами. Вы нас на улицу гоните "Иди, побегай". Мы как беженцы. Беженцы от вас. Дядя Котов дал ответное слово Тетеньке в Пиджаке. Она стала жалобно оправдываться: – Хоть немного побыть одной, хоть немного… Слово попросила Ленка. Она заявила: – Уж такие вы чистолюбивые! Из-за одной пылинки убьете ребенка. Вся жизнь у вас состоит из чистоты, а сами раскидываете. На это справедливое заявление Тетенька в Пиджаке только простонала: – Должно же хоть где-то чисто, хоть где-то… Должно же быть чисто! Сергобеж вывернул карманы своей школьной курточки – оттуда посыпались двойки и колы, вырванные из дневника – закричал: – Так пусть же будет грязно на свете! Вика тоже крикнула: – Дайте нам жить! Старушка: – Мы сами не жили еще! Сергобеж: – Жить! Пошевелиться нельзя на уроке, почесаться. Учителя кричат, как Кинг-Конг. Старушка: – Это их обязанность – кричать. Вы же мартышки, стая… Сорок мартышек! Вика: – Я жить хочу! Дядя Котов закричал гусем: - А-га-га-га-га… Получили, бабы?.. Да. Посади свинью за стол, потом ее оттуда не вытащишь. Вдали мирно паслись гуси. Они услышали клич дяди Котова, пришли, посмотрели – стоит огромная толпа и кричит. Гуси сунули нос в середину толпы, тоже стали кричать. И я не различал уже, кто кричит, гусыня или Тетенька в Пиджаке; кто-то из них кричал: – Правильно нам Макаренко говорит: с детей надо требовать! Требовать! Это, кажется, Тетенька в Пиджаке; выросла высокая, чтобы возвышаться над людьми, и получила высшее образование. Кто-то кричал: – А-га-га-га-аа! Перешагнули-и-и-и… – Ленка сегодня туфли забрала. Ты, говорит, старая, ходи в галошах. – Остопротивели! А-гa-га-аа! Нет на них руки трезвой мужской! – Взять их в ежовые руки! – Давай, Вика, слазь! Слазь, говорю! – Тетенька в Галошах гордо скинула Вику со своей шеи. Вика неохотно слезла. Стало ясмурно. Ясмурно – это одновременно: кругом темно, а на кусочке неба солнце. И на это солнце тоже натягивались облака. Стали взлетать с земли листья, иголочки сосновые. Хотела быть гроза. Дядя Котов говорит грозно: – Пошли, бабы. Хватит в ладушки играть. Я мужик конкретный. Мужиков надо слушать. А то – на клеенке положили нас. Бабы, дружно хлопоча, потянулись за ним гуськом. Рядом шла гусиная стая, возглавляемая лысым гусаком. Дядя Котов приостановился, сказал мне: – Ну-к, Царевич, а у тебя какая окружность ума? Он стал обмерять сантиметром мою голову, потом в полный рост измерил зачем-то. Я стоял, как приколдованный к этому месту, и молча не сопротивлялся. Старушка свернула глазки в сторону Котова и говорит: – Котов! Котов, подожди! A у меня голова?.. Пятьдесят?.. Мало. Ну, это от жары. Ветер толкнул меня, начался иглопад и шишкопад. Капелька упала на нос… вторая… третья. Поднялась четверть-юбочка у Ленки. Она завизжала, стала юбочку усмирять; волосы у Сергобежа встали дыбом. Стукнуло, сверкнуло и полилось! Так неприятно, когда на тебя столько воды выливается сразу! Мы одиноко побежали в старую баню. ЗАЧЕМ ВЗРОСЛОМУ РЕБЕНОК? Интересно, что это взрослые без нас бы делали? Представьте, сегодня ваш усталый папа придет с работы. Ему будет зло и голодно. Но тут слезаете с дивана вы (отложив эту книжку), кормите папу лепешкой, спеченной так вкусно, что чавк стоит, и подаете ему ваш фирменный кисель под названием "Трясина". Папа развеселится, забудет о своих усталостях и голодностях, наевшись лепешкой и киселем. Потом вы сыграете партеечку в шахматы или в крестики-нолики. Тут папа совсем войдет в настроение, позовет вас в фотолабораторию (это по-научному, а по-простому – в ванную). Там вы будете печатать фотографии сестренки. За этим делом папчик расскажет про свое детство. Это самое интересное для детей – когда родители вспоминают своё детство: какие у них были герои, какие обзывки, в какие драки дрались, каким стилем ныряли, чем их били родители, с каких лет влюблялись и в кого, как приманивали девчонок. И вот папа уже другой человек. У него заблестели волосы от проявителя, уши покраснели от фонаря, и в глазах глянец, как на бумаге. Уже ничего не хочется – ни есть, ни курить, ни ругать начальника. А теперь представим, что вас нет, вы не родились. Пришел папа с работы, воткнул окурок в коврик, пошел на кухню, сказал унылой жене: ″Газеты брала из почтового ящика?″. Мама уходит за газетами, а папа открывает кастрюлю, черпает тарелкой противный суп с луком. Приходит мама, папа начинает ругаться, что нет газет и детей. Посылает маму в киоск. Она не хочет ничего. Начинается крупненький скандал. Мама злая, потому что она безработная и безденежная, бездельная. Она окончила пединститут, а детей никто не рожает, детей нет, и учить некого. Во все игры с мужем они уже переиграли, про своё детство рассказали. Газеты можно не читать, там одна бездетная политика. Да и папа злой, потому что на его заводе перестали выпускать самокаты, велосипеды, резину для рогаток, мячи. Все стали шибко умные и перестали заводить детей. Стали жить для себя и обнаружили, что себя нету. И тут родился я и позвал папу играть в шахматы, а маму – варить кисель. ЖАЛОБЫ ДЕТЕЙ Мы бежали так быстро, что стал болеть лоб впереди. Потом заломило переносицу. Потом заболела шея и раздался страшный свист в ушах, как будто я еду на самолете. Потом я почувствовал язык в горле. Из-за дождя я не видел никого, кто бежит рядом, только слышал топот и шлёпот: наверно, Ленка сняла свои мамины туфли и бежит босиком. Изредка слева, справа, сзади доносились жалобы детей на взрослых. – Хотят, чтобы дети были, как роботы, без недостатков, а у самих крикливость. – А сами – на работе еще держатся, а дома они совершенно глупые. – Еще у них недостаток – злоба. Когда они разозлятся, им уже ничего не надо. – Они все время усталые; у них болит голова. – Заставляют пить молоко с пенками. Если не пьешь, они говорят: "Пенки не пьют только дураки". – Они угрожают, что не дадут сладкого! – А дети не могут без сладкого жить – это всемирный закон! – Они дают нам только по одной витаминке! – Учителя заставляют писать красиво, хотя рука у ребенка, чтобы чесаться. Чтобы попу закрыть от ремня. – А сами подписываются в дневнике – почерк на двойку! – Они заставляют съедать всё! И сдавать им чистую облизнутую тарелку. – На уроках не разрешают пошевелиться и почесаться. – Дневник у ребенка, как жалобная книга! – Сергобеж кончит школу с красным дневником! – На переменке бегать не дают, хотя ребенок приспособлен бежать, это же всем понятно. – На уроке стараешься отвечать, а учительнице лень пятерку поставить, три движения ручкой. – Не разрешают чавкать под ухом! – Детей заставляют делать тимуровские команды. А дети назло делают шайки. Почему, например, Том Сойер не стал создавать тимуровскую команду, а захотел стать пиратом? – А сами никогда не признаются! ГPO3OГРОМЫ Это бывает у каждого, даже у взрослого: человек готовится, готовится, а потом – бах! – всегда неожиданно начинается новая жизнь. Например, надо быстро уезжать в другой город. Или жениться. Или наоборот. Или приходится жить без взрослых. Даже самый умный, самый смелый, правильный самый на таком переломчике шатается. И чтобы не пропасть, он идет к другу. Читатель, у тебя есть друг? Верный человек? А ты уверен, что он – друг? А ты уверен, что ты ему – друг? Как все это проверить? Это проверяется по-разному, на переломчиках в том числе. Вот представьте, вы хотите разводить кроликов. Во-первых, они ласковые и красивые, их можно всегда погладить, принести на кровать, чтобы вместе грызть яблоки и читать, просто держать, как кошку. А во-вторых, их можно разводить. Когда бабушка покупала первых двух кроликов, ей сказал добрый продавец: ″Запомните на всю жизнь: кролики это деньги!″. Но это все во-первых. А во-вторых, из чего строить клетки? Где накупиться гвоздями? Откуда доски брать? А сетку железную? Кто будет чистить клетки? Где взять сена на зиму? Комбикорм? И вот вы идете к своему другу. За советом дружеским. И если на этом переломчике друг вам скажет: "У тебя не хватит корма… Они сбегут… Ты просто обленишься…". А под конец: "У тебя их просто украдут!″ – если все это или примерно это вам будет сказано, спросите-ка себя, ребята: – Друг он мне или?… Когда вас стиснут грозогромы, вам скорее хочется под крышу. Но если крыша оказалось дыроватой, надо скорее искать другую, крепкую, без обманчивых прорех. Вот почему, ребята, когда друг приходит к вам с каким-то ужасно-советным разговором, вопросом жизненно-смертельным, и вы чувствуете, что он хочет услышать "Да!″ – говорите ему только это "Да!. Ему не нужно вашего "Нет!, он не за этим пришел к другу. Потом, когда он отогреется, его можно отговорить. Но сейчас, когда такие молнии!.. Когда такой градохлыст! ЦАРСТВО ДРУЗЕЙ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ Вот прибежали, заскочили в предбанник. Батюшки, мокрые все, как рыбы! Я стал отпыхиваться. Понемногу свист в ушах замолчал, язык стал отрываться от горла. Шея разболела, переносица разломила, мозги перестали беситься во лбу. Мы зашли в баню, расселись по полкам. Было тут полутемно и полустрашно. Все молчали, никто не хотел первый говорить о плохом, так всегда бывает в жизни. Наконец собрался Сергобеж: – Видишь, Ванёк, какие с ними дела? – Да, – увидел я. – Особенно старушка лютая. Была бы она моей мамой, меня бы и на свете не было. Тут все заговорили. В темноте, сами знаете, легче говорить, смелее. И получалось так, что все дети уговаривали меня никогда не связываться со взрослыми. Голос Ленки: – Отделяться надо! Выходить! Все газеты – детям! Взрослые уже глупые! Голосок Наташи: – Все платья – нам! Все духи, все помады! Взрослые уже некрасивые! Голос Вики: – Все ремни – детям! Взрослые уже сослабились! Голос Сергобежа: – Всё вкусное – детям. Взрослые уже беззубые! Голос Наташи: – Мы будем жить, а они помогать. Ваня, а как мы котика назовем? Я отвечаю вскриком надоевшего мужа: – Котики, котики!.. Царство Друзей развалилось, а ты – котики! – Мне стало стыдно за свое раздражение, я сделал голос мягче: – Почему-то так выходит, что один человек всегда зависит от другого, а другому наплевать. Точно так же со взрослыми: дети зависят от взрослых. А взрослые от детей?.. Наташа говорит необидчиво (хороший у этой девочки характер): – Надо поставить так, чтобы ребенку было наплевать. Чтобы взрослый зависел от ребенка. Я возражаю, хоть мне и не хочется возражать: – Тогда дети начнут унижать взрослых. – Дети? – удивляется Наташа. – Ребенок много не потребует, он не так прихотлив. И росту маленького. Господи, что я от мамы потребую? Чтоб не кричала – и всё. Ну, брошечку попрошу. Наташино кругленькое лицо сияло мне из темноты. Ей было холодно, наверно, но не мог же я ее согреть! Только пригрей – сразу жениться скажет. Не-е-ет. Девчонки, они такие… обманут, съедят. – Надо, чтоб никто не унижал, – веду разговор дальше. – Ну, от взрослых этого не дождешься, – вступает Ленка. Мы заговорили, что природа создала взрослых так, чтобы они вспоминали, как сами были детьми. Но они почему-то не пользуются этим даром природы. А может, у них заржавел этот ключик, поэтому-то они пьют водку; пьяные они точно, как дети: дурят, признаются, поют. А трезвые не поют. Сергобеж взлез на скамейку, бегает по ней туда-сюда, приговаривает: – Им просто лень. Вот учитель. Учитель всегда смотрит свысока на детей. Он стоит, а дети, они сидят. И поэтому у учителя такое отвращение на эти рожи противные. А он бы увеличил в мыслях этого мальчика в два раза и поставил на место себя… а самому уменьшиться и приобрести себе такую рожу – тогда бы он понял. Понял бы, как этому мальчику сидеть. Вика обрадовалась: – Надо посадить их на место детей, на пострадавшее место. В детские садики посадим, воротца на замок. Все раскричались, стали казни придумывать взрослым. А сначала отобрать все оружие: ремни у отцов, шланги и кипятильники у матерей. Всё, чем родители лупят своих ребятяток. И тут Сергобеж предлагает: – Сделаем Детское Царство Друзей! Будем жить, совесть слушать. А они – как хотят. Их выслать на остров, обитаемый львами и тиграми. И колокольчики на шею, чтобы дети разбегались. – Царство Друзей без взрослых! – обрадовались дети. Стали прыгать, щекотать друг друга, пинать небольно, махать руками и косичками и всячески беситься, как заядлые бесильники. – Ванька Царевич, я – Царевна! – пищала Наташа. – А я, ладно уж, Главный Бухгалтер! – согласилась Вика. – А я Главный Редактор! – ликовала Ленка. – А я – Главный Цветовод! – назначился Сергобеж. – Разведу детские клумбы, независимые. Семья свое богатство не даст с семейной клумбы. А с детской – хоть зараздавайся! Хоть всё подари! Давай, резко! Я характером нетерпеливый. И я хотел обрадоваться. И мне, друзья, надоели эти глупые себялюбы взрослые. Их – сами знаете – вечно надо уговаривать, им подчиняться, улыбаться. Но было и большое возражение. Я представил свою маму, своего отца с колокольчиками на шее. А им кричит: "Построиться!″ – Вика командирским своим голосом. А Сергобеж заставляет их работать на огороде, и глаза у него конкретные, как у дяди Котова. Тут выхожу важный я, и они начинают испуганно причесываться и одергиваться, как учителя перед кабинетом директора. – Понимаете, – говорю я, – они нас унижают, а мы их не будем. Если мы их унизим, то сами превратимся в хамоватых взрослых. Чем мы от них отличаемся? Не ростом же. Это не главное. Тогда Сергобеж получается лучше Наташи, а они оба хорошие. Не ростом. И не возрастом, тогда бы старики были самые угнетатели, а они тоже страдают от взрослых. У взрослых такое положение, они за всё отвечают – вот! – и за нас, и за стариков. За нашу пищу, здоровье, учебу. А это трудно, за всё отвечать. Тут всяко получается – и обманут кого-то, и обидят… нам-то легко с совестью разговаривать, мы на готовом живем. И старики на готовом. А взрослым приходится подальше эту совесть загонять, чтоб не мешала добывать еду и деньги. Послушайте – все взрослые говорят про деньги. Они всегда озабочены. У твоей мамы, Вика, всегда в глазах маленький испуг. – Да, – подтверждает Вика. – Она боится председателя сельсовета и вообще начальников всех. Она боится, что могут всё отобрать, и огород, и куриц, и всё. У них много отбирали, у бабушки с дедушкой. Ее мечта, чтобы я председателем стала, тогда она не будет бояться. – А твоя мама, Ленка, всегда озабочена кем-то. – Она всеми озабочена, – подтверждает Ленка. – Чтобы про нее плохо не сказали, а сказали хорошо. Про нашего дедушку одну строчку в газете написали, он потом в тюрьме двадцать лет сидел. Она боится, что про нее плохое напишут в газету. Ее мечта, чтобы корреспондентом стала я, тогда она успокоится. – А моя мама, – признается Наташа, – она библиотекарь, а хочет стать поэтессой. Она сама не рада, что меня родила, и мечтает, чтоб меня не было. Если б я утонула… не знаю… Говорит, чтобы я детей не заводила, от них грязь и шум. А я хочу – полную кухню детей. – Ну вот, – догадываюсь я. – Они озабочены, охлопочены, мечтают о хорошей, спокойной жизни. А ее всё нет и нет. Кто виноват? А вот они, дети, под ногами путаются, грязнят, едят, шумят, плохо учатся. Мы перед глазами, значит, мы и враги, главные враги их счастья. – Так что, не будем отделяться от взрослых? – разочарованно остановился Сергобеж. – Не бу-у-у-удем? – заканючили Вика и Ленка в один звук. – Мне иногда кажется, что я уже взрослая, – тихо сказала Наташа. – Я уже мама для кошек своих. Мама моя, наоборот, капризная, как девочка, а я спокойная и хозяистая. Я уже могу жить одна. Или с мужем. Но кто мне разрешит? – Я тоже, – сказал Сергобеж, – я тоже мужичок. Я всё умею, могу своим домом жить. А мои дети будут ходить в детях сколько хотят, я им буду сказки читать и не буду ни о чем беспокоиться. Закроюсь за забором., и – не лезь ко мне никто. Мне только вырасти и денег наработать. А взрослые мешаются, тут и дом ставить негде, и денег заработать не дают. Свергать их надо, выслать отсюда к зверям собачьим. Сами не живут и нам не дают. Если б они защищали детей, а они защищают себя. Всё! Меня не защищайте, не жалейте – я сам! – А мне иногда кажется, что я уже старушка, – вздохнула Ленка. – Как родилась, так и старушка. У меня иногда такая безнадежность бывает. Так подумать: я уже всё знаю, всё ела, всё читала. Я боюсь, что никогда не вырасту и не освобожусь… тогда уж лучше… в сугроб вмерзнуть. Давайте их выгоним, Ваня, я готова зубами драться. Пока она это говорила, я всё понял. Я, наверно, тоже стал взрослым. Я всех полюбил и пожалел. И сказал взрослым голосом: – Да не со взрослыми воевать надо! Не гордитесь, что вы дети. А воевать надо с бессовестными. Они и нам, и нашим мамкам, и бабушкам жить не дают, прогнали свою совесть и знать ее не хотят. Надо объединяться с хорошими взрослыми. Искать, переманивать на нашу сторону. – Хороших… – сказал Сергобеж. – Heтy! – говорит Наташа. – Я не видел, – говорит Сергобеж. – Слышал от народа, что есть, а сам не видел. – Hе много, но есть, – говорю я. – Вот мама моя. Она понимающая, понимает русский язык. С ней можно договориться. Отец, когда в отпуске, такой хороший парень становится. Надо искать совестливых. Хоть ты маленький, хоть большой – ты хам или ты не хам. У детей у всех совесть есть. – Надо выдвигать детских депутаток! – вступила Вика. – Не какой ты сам большой, а какая у тебя совесть большая. – Правильно! – говорю я. – Проникать в их взрослое правительство! Выдвигаться в президенты! Вот! Ленка вытащила Записник: – Уже сейчас писать свое общественное мнение во взрослые газеты! Мы обменялись детскими дружескими рукопожатиями и решили жить по-новому, почеловечески, а не по-маленькому, не униженно. А чтоб не наделать неопытных глупостей – слушать всегда совесть. С ней не пропадешь. Так, ребята, открылось Царство Друзей. Меня выбрали Царевичем, единогласно. Вы не против? Мы вышли на улицу, на простор. Была тишина. Всё было на закате: солнце на закате, старое колесо на закате, телега на закате. Вокруг красиво, и в серединке красиво. Неясный день превратился в ясный вечер. ПРИЯТНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОХОД Каждый вечер я хожу за водой. В этом походе много приятного. Конечно, и просто приятно знать, что ты принесешь воды, напоишь кроликов, бабушку и попьешь сам. Но если б вы видели, какой у нас в деревне благодатный вечер! Идешь, как в одеяле, тепло. Вот я пришел за водой. Рядом с колодцем стоит ведро. К ведру привязана палка. И тут на палку ведра садится ворона. Молодая такая, элегантная. Сразу видно, не городская. А Тузик сидит на крышке колодца и стережет, когда ворона спустится. Послушайте, как они разговаривают. Ворона сверху говорит: – Приятный такой вечер, не правда ли? Теплый такой, мошек много. А Туз на крышке колодца отвечает: – Да, это правда, только вороны нынче глупые. Раньше сами в пасть лезли. Тут он как подпрыгнет, как щелкнет ушами! Стукнулся хвостом о палку, чуть палку не сломал, шлепнулся обратно. Я из остатков ведра немного обкатил Туза, чтоб не лежал на чистой крышке и не ловил ворон. А вокруг стоят почти голубые древние сосны. Туз закрыл глаз горсточкой лапы. Солнце уже уезжало в Западное полушарие. Кто-то бросил тень на землю. Это была ворона, которая с перепугу облетела вокруг меня, Туза и Земли. Трава тоже приобрела синий оттенок. Даже Туз, серый по своей природе, казался синеватым. Было слышно, как где-то в лесу прорастает мухомор. Один западный луч упал в ведро, и я вспомнил, что надо достать воды. Я вытащил луч из ведра, посадил на синюю траву. Подхожу к длинной палке, на конце которой ведро. В колодце вижу себя. Я похож на кота, кот напоминает рысь (потому что радостно светятся глаза в темноте, а на ушах застыли кисточкой волосы). Я набираю воды, поднимаю тяжелую палицу с полным живым ведром (вода живая, потому что в ней уже плещутся звездочки, купается белая луна). Переливаю в свое ведро. Иду домой в приятно мокреющих кедах. На трубе нашего дома сидит прилетевшая из-за Земли ворона и счастливо улыбается. ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГРЯЗНО РУГАЮТСЯ? Вы уже знаете, что в нашей деревне почти морское зеленое озеро. Я не видел ни одной картины, ни в одном кино, чтобы море жило посередине леса. Передо мной до самого того берега розовый коврик лежит. Вокруг стрекозят голубые стрекозы. Тихонько, чтобы не расплескать коврик, лежу на нем. За ноги меня кто-то клюет. Потом за ладошки. А, это наши ласковые серебряные карасики. Не знал я, что они ручные. Поворачиваю обратно, к людскому безлюдному берегу. На этом берегу растут розовые сосны. Теперь я плыву по их прозрачным верхушкам, рядом прыгают караси, сосны ловят их своими лапами. На берег прибежал малышеватый малыш, он смеется, я тоже засмеялся, нам вместе подеревенски хорошо. За малышом пришла на берег его мама, вся розовая на последнем солнце. У нее есть еще один карапуз, еще не рожденный. Он лежит в животе у мамы и всё слышит. Он не видит этой розовости, но уже слышит, как смеется родной братик, как смеюсь неродной, но веселый я, как в своей лесной квартирке кукушка зовет дятла на ку-кукушанье, на угощение. И тут неродившийся карапуз услышал грязные матерные слова… Каждый из нас их слышит. В городе это везде. Когда стоит ележивая очередь, или автобус ломится, или просто… два дяденьки встретились, давно не виделись. И даже дети то и дело вспоминают изделие из теста, которым угощают на масленицу. И вот карапуз, не успев родиться, не успев полюбить свою маму – уже слышит про нее грязные, не-розовые слова. Мне уже не себя, не эту маму, мне карапузёнка жалко. Мне страшно, а вдруг он не хочет теперь родиться? Матерные слова прозвучали снова - и я понял, что это… Это ругалась сама розовая беременная женщина. Она была не пьяная, не злая, не больная. Она просто говорила старшему малышу, чтобы он не лез в воду. Он и не лез, топал только пяткой по мокрому песку. Господи, Господи! Мне стало холодно. Мне стало тускло. Стало плохо, как будто пришла война, которая снится. Я каждое утро этот кусочек сна ножницами обрезаю, но все равно и днем боюсь войны. Я схватил свои вещички и торопом побежал домой. Кукушка показывала дятлу ку-ку-кукиш. Бабушка в огороде ловила кролика Уголька, он сбежал из клетки на свободную травку. Никогда бы не подумал, что такой жирнобрюх может так быстро проскакивать между ногами человека и быстро исчезать в зарослях капусты, выжирая ее изнутри. Я тут же нырнул за ним в заросли, а когда вынырнул… Этот крупный ушастый скот уже сидел на руках у бабушки и торжественно аплодировал мне ушами. – Вот кишкомотатель, – ругает его бабушка. – Погонял же он меня по огороду! Какой я бегун – шлёп-нога! Пока мы с бабушкой кормили травой эту бочку с ушами, я всё думал: вот ведь и бабушка обругала кролика, а слово необидное, даже забавное – кишкомотатель. – Бабушка, а почему люди матерятся? – Тебя обидел кто? – Меня-то никто. Мне просто понять хочется – почему? Почему обругать легко, а похвалить – тяжело язык поворачивается? Почему плохие слова на языке, а не хорошие? Бабушка держит букет крапивы и улыбается: – Ты у нас из роду выделился. Философ! Понять… Иди их пойми, почему такие пустолайки? Четырьмя словами обходятся. И лают, и лают. Раньше так и говорили: матерно лает. Вот бабушка… И не только моя. Вы послушайте, братки-ребятки, как говорят наши бабушки! У них говорок, как грядка прополотая. Ни одного сорнячка, ни одной значит-крапивы, ни одного это-самое-пырея, ни одного ну-осота не растет. – Бабушка, а тебе что, нравится слова наискивать хорошие? – Наискивать? – бабушка наклоняется, вырывает из морковной грядки ромашку; приморковилась, думала, не заметят ее. – Нравится наискивать. Поищешь в голове – и красное словцо выпустишь по свету гулять, людей радовать. Это добрая работа. А, понял теперь. Плохое словцо по свету пустить – это не работа, оно само на языке сидит, а хорошее словцо – его наработать надо, придумать, вспомнить. Мы не привыкли к такой работе, правда? Мы чужой только пользуемся работой – телевизор слушаем, магнитофон, учителя. Слушаем, слушаем, слушаем чужую нестарательную работу. Слушаем, а сами-то не говорим. Так что… это самое… ну, значит… звереем, в общем. Нам-то что делать, ребята? Так и будем покорно лаять? Или выключим телевизор – сядем на завалинку? Поговорим? ЭТО МОЖЕТ ТОЛЬКО РЕБЕНОК В доме у нас никого. Мы с бабушкой одни из человечества, да под окном кузнечик один из кузнечества. Бабушка не ходячая, нога у нее расхворалась. Но мне, ребята, совершенно не страшно. В деревне, я заметил, вообще не страшно. В деревне я совсем никого из землян не боюсь. Я боюсь только НЛОшников. Хотя, если разобраться, на НЛОшке тоже интересно полетать, узнать, чем у них там кормят. А главное, как у них дела со справедливостью? Справедливость должна быть всеобщая, космическая. Тут главное – начать. Если на Земле будет справедливость, она быстро распространится по всей Галактике. А начинаю справедливость – я. Да, я – просто Ванька. Первый додумался до такой простой детско-взрослой справедливости. Но ведь это же всегда кто-нибудь первый придумывает простые вещи. Например, мороженое. Или компьютер. Тут главное – мысль. Пушкину явился шестикрылый Серафим. А я придумал, как быстро всю жизнь по справедливости сделать. И знаете, ребята, смотрю я сейчас в окно, там темно и пахнет теплой землей, а я себя вижу – большого, как подсолнух. Как будто я иду по главной дороге деревенской, а люди добрые меня поздравляют со всеми праздниками, даже с Международным женским днем. А я всех людей понимаю, и всех зверей, и птиц, и рыбок. Весь ход справедливой природы вижу, природу не мучаю, мне и рук-то мыть не надо. А если встанет какой-то вопрос, то я подумаю-подумаю и мудро отвечу. Да, даже в космос полететь хочется, всем звездам рассказать. Ложусь в свою кровать-шестикрылку, глаза закрываю. Тут вопрос любопытный, приятно подумать над вопросом таким: почему же раньше никто не додумался? Почему я-то первый? Не дадут ли первому Нобелевскую Мировую премию? И не учредить ли премию Ивановскую Галактическую? Вручать исключительно детям один раз в два года. За особо выдающиеся мысли и проекты. Только ребенок может придумать, как сделать, чтобы не было разводов. Даже я этого не могу. А какой-нибудь мальчик где-нибудь в Коста-Рике, какой-нибудь Костя – разгрызет эту проблему. Самое главное – заставить взрослых давать детям деньги и хорошую еду. Все остальное дети сами придумают. Или школа с домашним заданием… А детские ревущие сады? А работающая зачем-то мама? Ну, назовите хоть одного взрослого, который всё это толково устроит. Взрослому, как всегда, некогда. Это может только ребенок. Потому что ребенок еще чувствует природу, он невысоко вырос от земли, он ходит босиком, а когда останавливается, у него между пальцами ног растет розовый клевер. Потерпите еще немного, ребята, еще полстранички… Сейчас придумаем всё самое справедливое. ДЕТСКИЙ PЫHOK (мысли и проекты) Кто такой ребёнок? Он, по-вашему, человек? Тогда скажите, братцы, чем он отличается от щенка или котёнка? Человек, когда он хочет, может пойти и купить, что ему надо, а щенок? А котёнок? А ребёнок? Если признать, что ребёнок это человек, то он нецелый человек, вот как голова профессора Доуэля. Голову накормят, дадут почитать, позаниматься чем-нибудь научным, включат телевизор. Но она не сможет даже сходить погулять без разрешения, а сходить и купить себе, что хочется, например, жевательную резинку, она и не мечтает. Хотя взрослые – вы заметили? – всегда что-то держат во рту: мужчины папиросу, женщины – булочку или ватрушку. Ребёнок должен сам уметь заработать выгодно и выгодно купить. Сейчас вы скажете высокомерно: да, правильно, детей надо готовить к жизни. А я скажу вам: нет. Детям надо жить. Жить, а не готовиться полжизни к жизни. И нам нужен не игрушечный, а настоящий Детский Рынок, который очень поможет нам в настоящую минуту. Детские маленькие базарчики уже работают: в каждой школе, в туалете или под лестницей дети продают и меняют что-то нужное на что-то очень нужное. Около взрослого вещевого рынка, на дороге, на самом ходу сидят дети – они продают или отдают расплодившихся рыбок, собак, кроликов. Любой живодёр может отобрать у ребёнка и товар, и деньги. Теперь вы поняли, что все дети – за Детский Рынок? Каждый ребёнок приохотился к какой-то работе: кто-то вышивает, кто-то фотографирует, кто-то разводит курочек или кроличков, и вся эта детская работа, детский мир, детская жизнь никому не нужны. Вот ты уже уфотографировал всю семью, всем починил утюги, радиоприемники. Всё, ты встал в тупик, ты никому не нужен со своим делом, ты начинаешь тупеть… А тебя только ругают, что разбросал по всей комнате железки или лоскутки. Ты уныло просишь рубль и уныло идешь смотреть унылое кино. Если ты можешь прийти и продать свой нужный труд, и тут же получить деньги, и купить тут же!.. Зачем тебе уныло бить фонари или привязывать к дверям соседей ведро известки? Да, на рынке можно продать, а можно и обменять. Могут матери и бабушки менять детские вещи – малые на большие, и наоборот. Чтобы не продавались сигареты и другая порнография, нужна полиция. Я бы нарядил полицейских в старинную сказочную форму. Полицейскими будут работать взрослые мужчины, потому что мужчина – это защитник, и женский, и детский. Будут и пацаны-полицейчики, следить, нет ли обмана, ссоры, разврата, какой-то гадости. Если есть нарушение, сопротивление, тут зовут на помощь взрослую полицию. Если кому-то нечего продать, а охота повеселиться или купить гвоздей, птиц, рыб или крокодила – на Детском Рынке можно заработать, ведь там, у Рынка, будут всякие мастерские. Девочки могут сшить косынки, фартуки, прихваточки для горячей кастрюли. Пацаны делать табуретки, обувные полочки, шкафчики. Приходишь, смотришь книгу заказов – ага! А если нет заказов, придет заказчик лично. А если не придет, продашь шкафчик на Детском Рынке. Там, на Рынке и около, будет множество служб и службочек. Конечно, кафе, конечно, видеозальчики, тир, комната матери без ребенка, где мать покрасит губы, выпьет кофе и похвалит своего бизнес-сынка в разговоре с другой матерью. Там будут мастерские для художников, и можно заказать свой портрет или портрет взрослого себя, и даже портрет своего будущего сынка или дочки. Можешь петь свои песни, или читать свои стихи, или свои пародии на свои стихи. Любой взрослый и усталый в таком веселом месте может обратиться в ребенка, и ему не надо пить водочку, чтобы поребячиться и подурачиться. Пой громко, на тебя никто не покажет пальцем. Прыгай, кто дальше, или канат перетягивай, есть и спортивная площадка. Если отец развелся с мамой и приходит к тебе по воскресеньям, вы не будете мерзнуть на лавочке, а сразу пойдете на Детский Рынок или на Детскую, около Рынка, Площадь. И там твой папа покажет тебе, что он не пьяница и не подлец, а хороший мастер, талант. Он научит тебя мастерить в мастерской, или делать корзинки, или он умел в детстве дудочки, а сейчас никто нс умеет. Я думаю, все уже согласны делать Детский Рынок, или внести деньги на его строительство, или побежать обсудить это с друзьями… Подождите, еще что-нибудь придумаем. Самое главное, я думаю, чтобы на этом Детском Рынке, на Детской Площади дети видели, что можно жить лучше, по-другому, по-доброму. Ну, например, если пацан пришел в цветочный магазинчик и сказал, что хочет купить цветы матери или бабушке – ему отдадут их бесплатно. Вы засмеетесь, что он эти цветы перепродаст… Пусть, но тогда он перепродаст немножко и свою маму, он узнает, как кусает и царапает совесть. Или вот. Старым людям на Рынке должны быть сделаны кресла с подогревом и массажем спины и другие удобства, например, горячий чаек с медком. Если ты заработал денег и пошел на Детскую Площадь, в "Театр про детей" – ты, извини, должен умыться перед входом в зал. Не хочешь – иди на мультики, неумытый. Будет на Рынке "Зоологическая камера хранения". Представьте: приходит папа и показывает веселые билетики на юг. А мама задает свирепый вопрос: а куда мы денем кошку, попугая, рыбок? А ты, конечно, находчиво отвечаешь: "Мы их отнесем в "Зоокамеру хранения". За ними там присмотрят, покормят, полечат, поиграют и даже, возможно, пустят в случку. Если у вас заболел голубь отитом или кошка бессонницей – приходите в "Зообольницу". Теперь, наверно, все хотят поскорее сделать что-то детское, потому что радость – всем! Если кто-то сидит и ворчит, что этот Рынок навредит детям, что дети обнаглеют и начнут… ну, не знаю, что начнут, только не хулиганить и не воровать. Если кто-то ворчит, я спрошу у этих взрослых: а кто из них хотел бы быть головой профессора Доуэля? Никто!!! Это для них ужасно: ни пошевелиться, ни почесаться. Целая книга про это написана, давно, и всё печатают, печатают, печатают, как ужасно быть одной только головой. А ребёнку без денег хуже, хуже, чем этой голове. Голова хоть профессор, а ребёнок – кто? ЖИВОЙ СТИМУЛ (мысли и проекты) У вещей и живых существ может быть вторая жизнь, хотя и не в вашем доме. Представьте себе: у вас окролилась крольчиха или окотилась котиха. А вам, как назло, не надо крольчат или котят, но зато надо щенка, хоть заболей (хоть умри – говорят, но мертвому не купят, а вот больному могут купить). Но если есть в вашем городе или поселке Детский Рынок, вам не надо болеть. Надо делать обмен. Но не из рук в руки, в недобрые руки или в неумелые руки, а в магазине "Живой стимул". Вы приходите и сдаёте трёх котят, сдаёте тетеньке-продавцу, которая обязательно любит животных и других может научить. Хотите – возьмете за котят деньги, хотите – щенка. А хотите – пару канареек и три аквариумные рыбки. Если у тебя нет котят, поросят, а тебе нужно щенка, ты можешь взять прочитанную книжку и продать в магазин "Вещевой стимул". Если книжку жалко, всегда найдутся штаны, из которых ты вырос, и тогда можно обменять их на беспородного бульдога. Кстати, когда ты приобретаешь кого-то в "Живом стимуле", то должен написать декларацию о коте или декларацию о черепахе, смотря кого ты хочешь. В этом документе ты собственной рукой пишешь, как будешь ухаживать, чем кормить и сколько раз своего нового дружка. Это – обязательно, и тебя проверит детская комиссия. На Детском Рынке можно поменять испорченный будильник на разбитые очки, обрезок провода на десять пробок от одеколона, пакет молока без молока на пачку мела без мела. Все это интересно ребенку, потому что он – быстрорастущий организм и ему нужна быстрая, растущая жизнь. Друзья, меняйте надоевшие вещи! Вы получите новую жизнь! ДЕТСКАЯ БИРЖА БЫСТРОГО ТРУДА (мысли и проекты) Не каждый человек может сделать табуретку или сшить платье, даже если это ребенок. Зато у каждого хватит ума помыть стекло, вставленное в одинокое окно одинокой старушки. Для этого существует Биржа Быстрого Труда. Ты звонишь по знакомому тебе телефону и спрашиваешь: где можно сегодня заработать пять рублей, а может, и двадцать пять? Тебе говорят: у Медведевой Настасьи Петровны, проживающей наискосок от вашего дома. Ты берешь тряпочки для мытья посуды, окон и пола, вырезаешь из газеты карточку-отзыв. Карточку заполняет Настасья Петровна, пишет, что я сделал и с каким качествам. А также она дает тебе чайку с пряником. На Детской Бирже Быстрого Труда сидит добрый приветливый человек (можешь и ты устроиться). Он смотрит твою карточку, оценивает твой трудолюбивый труд. И тут твой карман радостно толстеет, потому что деньги выдают немедленно и приветливо. Но откуда берутся деньги у Детской Биржи? Их дала не Медведева Настасья Петровна из своей небогатой пенсии. Дело в том, что на Детской Площади и на Детском Рынке есть много магазинчиков, киосков и окошек, где продаются неумные и неполезные вещи: пирожные, мороженое, чипсы, котлетки., газировка, леденцы. Они стоят дороговато, а наложик от продаж идет на оплату хороших дел, в том числе и на помощь старушкам. Небольшой наложик наложен на компьютерные игры, видеобоевики, глупые мультики с пинками и подножками. Полезные и умные вещи стоят совсем недорого. Так что – зашивайте свои дырявые карманы! ДЛЯ СБЕЖАВШИХ ИЗ ДОМА (мысли и проекты) Бывают дети, которые сбегают из дома, потому что чувствуют, что больше не нужны родителям. Часто это бывает, когда в дом приходит другой мужчина, а прежний уходит. Пока женщина приручает мужчину, она забывает о ребёнке: невкусно кормит, не играет с ним. Мужчина при виде ребёнка делает такое лицо, как будто ему в кашу залез таракан. И ребёнок убегает, вернее, уходит, потому что его никто не догоняет. На этот случай на Детской Площади приветливо и бесплатно работает гостиница "Заходите, люди добрые". Там вас накормят, успокоят, выяснят ваше настроение. Но вот родитель стал искать ребёнка. Он сразу звонит в эту добрую гостиницу и узнаёт , что его сын жив-здоров. И вот родитель бежит в гостиницу. Умный психолог и педагог поговорят с ним, выяснят настроение. Если ребёнок и родитель помирятся, они идут домой, заплатив, извините, за гостиницу. Если не хочет мириться ребёнок или не может воспитывать родитель – почему бы им не пожить отдельно? И ребёнок уезжает в загородную Детскую Деревню. Там, конечно, есть и школа, и бассейн, и мастерские, всё, что надо ребёнку, даже у каждого свой сарайчик. Когда у родителей наладится жизнь или ребёнок захочет обнять маму, он возвращается домой. (Родители, извините, должны заплатить за его жизнь в Детской Деревне). Конечно, родитель обязан воспитывать ребёнка , но почему ребёнок обязан терпеть всякое воспитание? И ремнем, и кулаком, и щелбаном? Если мать будет знать, что ребёнок имеет право уйти от нее в Детскую Деревню, она начнет думать… РАССУДИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (мысли и проекты) На Детской Площади будет работать Рассудительный Совет. В Рассудительном Совете будет два судьи в черных шапочках. Один судья – девочка, другой – мужчина. Если мальчик будет судьей, он может рассуживать людей неправильно и зло, потому что в мальчике слишком много борьбы, стремления к войне. К тому же у мальчиков очень неправильное отношение к девчонкам, отчужденное; они просто не берут их в расчет, как, например, кошка червяка. Но и у девочки могут быть неправильные мысли, или она не увидит выхода. Например, один украл у другого конфету и говорит: это моя. Что тогда? Тогда умный мужчина, второй судья, не растерянный, как женщина, и совсем не злой, как мальчик, поможет. Он возьмет конфету и спросит, как она называлась? Воришка от неожиданности скажет: "Что я, смотрю, что ли?". А настоящий хозяин предъявит кулек конфет: "Конфета из этого кулька. Она называется "Попробуй, отбери". Еще в Рассудительном Совете будут прокурор и два адвоката. Прокурор – это мальчик, который не курит и знает все детские законы. Он обвиняет виновного, по его мнению. Адвокаты – мальчик и девочка, они тоже знают все законы и защищают виновных от прокурора. Это все равно, что прокурор бегает с лазером, а адвокаты ставят всем зеркала, как щиты. Например, ты не знал, что в кружке на полочке сырые разбитые яйца. Хотел посмотреть, полная ли она? И случайно все это вылилось на пол. А мама заставляет тебя убирать. Любому низенькому понятно, кто виноват: мама, которая не предупредила. Ты начинаешь громко спорить. А мама говорит: "Опять полтергейст виноват?". И хватает, что под руку попадет: скакалку, или шланг от стиральной машины, или поварешку – что-то обидное и немягкое. Ты ей здраво объясняешь, что не полтергейст, а мама сама виновата. И тут тебе попадает по одному очень больному месту. Для таких разъярённых случаев и сделан Рассудительный Совет. Ты и мама проходите в зал ожиданий. Там будет тепло, там принесут бесплатно мороженое и включат мультики, чтобы людям стало хорошо и они расхотели судиться. Если ты все-таки решил проучить маму, вас пригласят в адвокатский зал. Адвокат знакомится с вашим уножным или узадным дельцем (не уголовное же оно? Хотя есть родители, которые лупят по голове). Адвокат определяет правду и говорит истинному преступнику: "Вы виноваты, сударыня (или сударь, или сударнёнок). Советую не доводить до рассуживания, а извиниться". Если преступник не соглашается, вы идете в следующий, прокурорский, зал; зал этот похож на букву Ы: стол – мягкий знак, а палочка – прокурор. Прокурор читает ваше дело, говорит преступнику: "Вы нарушили закон. По решению Рассудительного Совета вам могут преподнести денежный штраф. Предлагаю все-таки извиниться перед ребёнком и завести ребёнку щенка. А если собака в доме есть, то попугая″. Если преступник закоренелый и не слушается даже прокурора, вас рассуживают по детскому закону. Вы проходите в последний, зеркальный, зал. Там собрались судьи, уже знакомые с вашим делом прокурор и адвокат и незнакомый вам адвокат – девочка. Сначала говорит прокурор. Он одет в оранжевый костюм (оранжевый цвет заметный и возбуждающий). Он знакомит всех с происшедшим узадным делом и предъявляет обвинения тому или иному лицу (или заду, который сел и раздавил очки). Тут встает знакомый вам адвокат (напомню, что адвокаты – дети) и защищает преступника, хотя уже наругал его в адвокатском зале. Потом преступника защищает другой, незнакомый, ребёнок – адвокат. Зачем защищать преступника? Ну, во-первых, он стоял в длинной очереди, чтобы купить эти яйца и сделать своему сынку яичницу; во-вторых, чтобы мать не обозлилась и не поддала ребёнку после этого суда еще раз поварешкой. Судьи (мужчина добродушный и умная девочка) задают вопросики. Ты и мама отвечаете. Судьи уходят на совещание и выносят приговор. Если виновата мама, она должна купить двух попугаев: одного – своему потерпевшему, а другого – тому ребёнку, у которого вообще нет мамы, даже такой оручей и деручей. Если же виноват ребёнок, то он должен сделать компенсацию маме – например, генеральную уборку кухни. Помыть все шкафчики, все баночки для круп, подтереть пролитые яйца. Не правда ли, справедливо? Но, допустим, мама не хочет идти в Рассудительный Совет. Ты поговорил с папой, и он не хочет отвечать за жену, которую выбрал тебе в мамы. Ты тут же идешь, при первой же прогулке, на Детскую Площадь. Там есть Утешительная комната. Добрая женщина-утешитель поговорит с тобой, посоветует, как себя вести с уставшими родителями, напишет письмо маме, дружески приглашая ее на Рассудительный Совет. Но и допустимо, что мама все-таки не придет. Тогда ее осудят со слов ребенка. И если она не хочет извиняться за свое хамство (представьте, если бы ее начальник разлил эти яйца? Она бы не стала бить его поварешкой, правда?)… Если мать не хочет даже извиниться и купить щенка, в крайнем случае – попугая, то про все это напишут во взрослых газетах, на последней, самой главной странице, около программы телевидения. Все взрослые будут читать про своих знакомых или начальников, чтобы понятливо смотреть при встрече. А лучше обойтись без суда! КАКАЯ БУДЕТ ШКОЛА (мысли и проекты) Самое главное в школе – не директор, не компьютеры, не красивые шторы, а чувство радости ученика. Сейчас дети ходят в школу с неудовольствием или с отвращением. Чтобы хоть чуть-чуть было интересно, парень насильственно себя влюбляет в первую попавшую на глаза девчонку. Влюбляется и начинает с ней борьбу, чтобы и она влюбилась. Как только она влюбилась – всё, неинтересно в школе. Что с этой девчонкой делать? Целоваться пока рано, жениться тоже. Поэтому все школьные романы и повести такие длинные, запутанные. Дети их сами запутывают. Девчонка и пацан не шагнут друг к другу, это означает конец. Если она шагнет полшажка, он тут же отступает, делает безразличный вид, высмеивает или делает шажки к другой. Если я ни в кого не влюблен и хожу в школу, я как бы вне себя. Мысли мои остаются дома с фотоаппаратом, с книжкой, а тело идет в школу. Там оно поднимает руку, рассказывает стихи. Как создать чувство радости? Все школы у нас созданы для будущих людей, а надо делать школу для уже живущих. Ребёнка готовят к жизни, а он, извините, живет. Кто из взрослых с удовольствием будет изучать то, что пригодится ему через десять лет? Ребёнка в школе учат, чтобы он не ошибался во взрослой жизни, а в сегодняшней, детской, он все время ошибается, его бьют и наказывают за это. Ребёнку очень надо изучать науку общения людей. Простой вопрос: почему никто не любит, когда ты хвастаешься? Тебе ведь хорошо, а у людей неприязнь к тебе. Эти тонкости надо знать. Ребёнку нужно знать психологию ребёнка, психологию взрослых, психологию старичка. Например, ребёнок уверен, что никогда не умрет, а старичок уже одежду себе приготовил, деньги на похороны. Видите, какие все разные? Очень нужна наука о любви. Какие парни нравятся девчонкам? Мы думаем, что сильные, а девчонки, как я понял, любят спокойных, уверенных, Мы тренируем силу руки, а надо тренировать силу улыбки. Надо рассказывать, откуда человек берется. Но эти разговоры должны идти с каждым человечком отдельно. И говорить, чем женщина отличается от мужчины и почему нельзя лупить девчонок. О национальностях надо говорить. Если украинец живет в русском месте, зачем его дразнить? Приедут к вам гости, будут жить в вашем доме – их что, дразнить за это? Нас учат лепить кроликов, весну заставляют лепить из пластилина. А человеку надо разводить кроликов, потому что это настоящая жизнь: не покормишь – умрет. Надо приучать к сельскому труду: орудовать косой, серпом, кобылой, трактором. Чтобы маленький человек всё умел, не зависел от взрослых на каждом шагу, не был получеловеком. Вот еще обязательная наука: что есть, чтобы не болеть. Ведь есть пища, которая лечит, яблоки, например, капуста; а есть пища, которая калечит, например, жареные пирожки или колбаса с макаронами, которой кормят в школе. Какими травами лечиться, если здоровье ушло – разве это не важно? Собаки это знают, а нам не надо? Мальчики должны уметь обращаться с током, с паяльником, с топориком. А не то, что мы до пятого класса салфетки делаем, выдираем из салфетки по ниточке, чтобы получилась бахрома. Психология салфетки парню не интересна, а интересна психология мотора. Уроки должны быть короткие, и не надо сидеть: ребенок приспособлен двигаться. Можно подпрыгивать, приседать в прохладном классе или на полянке. Информация на уроке должна быть, как косточка арбуза; арбуз большой, но вся тайна его в косточке. И если всё будет так, про сегодняшнюю жизнь, про то, как стать красивым, удачливым, обаятельным уже сейчас… Ребёнок будет бежать в школу и хотеть бежать еще и еще. Это я вижу из жизни. КАКОЙ НАМ НУЖЕН ГЕРБ Детский герб должен символизировать детские увлечения, смысл детской жизни, детские права и немножко обязанности. И герб, по-моему, должен быть такой. По центру тянется цветок бессмертник. Справа от цветка стоит мальчик. В одной руке он держит магнитофон, в другой - косу. Слева от цветка стоит девочка. В руках она ничего не держит, потому что девочка освобождена от тяжелых работ. Коса у мальчика – символ тяжелого мужского труда, потому что косить тяжело. Магнитофон – символ мужского увлечения. Сверху цветка стоит собака. Собака – символ охраны, собака всегда на виду. Снизу цветка сидит кошка. Кошка охраняет дом изнутри. Собака и кошка, мальчик и девочка – это понятия противоположные, но между ними бессмертник. Сам цветок – символ примирения, а цветок бессмертника – это символ бессмертного примирения, оно идет всегда. Там, где девочка, цвет должен быть голубой – это цвет мира, а также Венеры. Венера – богиня, повелительница любви. Там, где мальчик, цвет оранжевый, напоминающий о Марсе, боге мужества, а также это цвет космонавтики, когда приземляется космонавт, на нем костюм оранжевого цвета. Там, где собака и кошка, там цвет белый. На белом все видно. Это цвет зубов, костей и молока, которые они так любят. Хороший герб, детский. СОВЕСТЬ ЗОВЕТ ВОРОВАТЬ За бабушкиным забором, как вы знаете, разлегся двор дяди Котова. Раньше он был не мал, не велик, как у всех, но недавно дядя Котов прирастил к своему хозяйству пустырёк, две сосны и три березы. И всегда он хлопочет во дворе: то в огороде морковку полет, то в сарае что-то ладит. Вот сегодня с утра проскакивает через высоту забора въедливый какой-то железный звук, а причину звука не видно. С утра я нарвал крапивы бабушке, которая лежит и крапивным веничком лечит свою остановившуюся ногу. Потом пришел ко мне Сергобеж, обсудили все проекты хорошей жизни: и Детский Рынок, и Детскую Биржу Быстрого Труда, и Рассудительный Совет. А теперь сидим во дворе на лавочке, как две отличницы, пишем обращение ко всем честным людям. Слушайте, что получилось: ″Все честные мира! Все дети и взрослые, кто живет по совести! В нашей деревне мы создали Мировое Царство Друзей. Кто хочет улыбаться, а не драться – вступайте! Условие: детям без палок, камней, рогаток, пинков, кулаков и обзывков. Взрослым: без ремней, палок, шлангов, скакалок, прутиков, криков и шлепков. Наш девиз: худой мир лучше толстой ссоры! Честные всех стран, объединяйтесь!". Неплохое обращеньице, правда? Мировое! Мы с Сергобежем пожали друг другу руки, выпили по кружке малинового киселя, облизнулись, потянулись, улыбнулись… Хорошо! День хмурился, хмурился, не выдержал – рассмеялся. Разбежались по мировому небу тучи и тученята, облака и облачата. Скоро лету конец, но ничего, вон пышность вокруг какая! До зимы до облезлой еще далеко, до вьюги северной ледовитой. Захотели отдохнуть мы с Сергобежем, побегать по лужам. Скинули бр-бр-брюки, фу-фуфутболки, пошли в одних трусиках шлепать! Вода в лужах теплая, как квас на окне, воздух огурцом пахнет. Эх, какая окрошка, только крошки летят! Разбесились! Вдруг – откуда ни возьмись собачка, совесть моя. Большая стала, уже не скажешь щенок, уже подросток стала собачий. И порода изменилась: видно, что не помоечная собака, а любимая, конурная, приглаженная. Предстала – и говорит-задыхается: – Душепагубное дело сосед ваш затеял. Ножи точит, щенят резать хочет. – Дядя Котов? – вскричал я. – Значит, правда… живодёр! Не шуточно. – Что, Ванёк, совесть вылезла? – спрашивает Сергобеж. – Вот! Я говорил! Говорил! А ты все: шутит, полушутит. Железный звук с дяди Котова двора не кончался, вжикал, вжикал, вжикал. Собачка и говорит, заглядывая мне в самое лицо: – После обеда обдирать похвалялся. Живодав!.. Будешь свободить? Как? Как свободить-то? Денег у Ваньки никаких… Попросить добром дядю Котова – на издевки нарваться только, он человек конкретный. – Добром не добьешься от него, от живодава, – подтявкнула собачка. – Отступиться тоже нельзя, нельзя, Ваня, себя будешь не уважать. – А…на что ты хочешь намекнуть? Она упорно смотрела своими ясными глазами и повторяла, что надо щенят свободить. – Украсть? – тоже в упор спрашиваю. – Ты хоть думай, что говоришь! Чужое нельзя – твои слова? Она и говорит – представляете? – с честной мордой такой: – Мои слова. Мои. А щенят под топор отправить, да? С благословением, да?.. Как представлю – душа занывает. И у меня, конечно, и у меня душа заныла. И Сергобеж зауныл, на лице хмурца. Я начал к нему приспосабливаться: – Слышь, Сергобеж… совесть говорит моя… надо щенков этих… щенят этих… от Котова. Сергобеж посмотрел на меня косым взглядом и с косой улыбкой: – А, испыташку мне делаете? Воровать? Я уже выучил наизусть: чужое нельзя! – Придется украсть. Я тоже с небольшим удовольствием, – гoворю я. – Совести надо верить, мы же в Царстве теперь. Собачка забегала вокруг меня, начала такую жестикуляцию, хвостикуляцию: – Ох ты, Боже, слово забыла! Не воровство это, не для своей корысти! Это… другое!.. Забыла! Я стал переводить Сергобежу, что не воровство это, не для корысти. Он вздыхает; ходит от куста к лавочке: – Я уже столько держусь без воровства. Третий день. Собачка прихвостнула за ним: – Стой! Вот! Это спасение! Спасение безвинного и беззащитного. И ко всему добавьте – родственника! Я передаю Сергобежу: это спасение беззащитных родственников. – А если бы это были котята? – упрямится он. Хороший вопрос, на пятерку. Собачка подняла хвост знаком восклицания и восклицает: – К чему эти вопросики злоехидные?! – Ох, пропадем, – бормотнул Сергобеж тихим бормотком. А я стал не сомневаться, Не простая собачка с нами говорит! С совестью не пропадешь! Она везде защитит: если нападет на тебя злость, или завидки берут, или принизить маленького хочется. И Сергобеж согласился. Мы быстренько накинули штаны, я обулся. – Давай, Сергобеж! – Давай, Ванёк! – Давай! Еще минутку постоял Сергобеж, закрыв глаза, сказал с большим желанием: – Да… Совесть… И не купить ее нигде и не… не своровать. ВОРОВАТЬ? СПАСАТЬ? Мы лежим в зарослях травы, я и Сергобеж. Жара – кошачья. Кто удивлен, что кошачья, скажите, а почему холод собачий, а? Сквозь щелочки забора глядим внутрь дяди Котова двора. Где они там, где щенята, осужденные на шапки? Ага! Вот из дома вышел дядя Котов в синей майке, подходит к сараю… Оглянулся быстрым глазом и прицепил две фотокарточки на спецгвоздики. На фотокарточках стоят, силятся силач и силачка. Дядя Котов становится к ним лицом и давай махать руками, как бабочка. Силачка приободрила его, кивнула; Котов обрадовался, схватил две синие лейки с водой, поднял и держит. Руки трясутся, вода бесполезно поливает песок. Силач издал фырчок. Дядя Котов кинул лейки, подскочил к силачу и повернул его лицом к сараю. Потом дядя Котов схватил по лучику солнца, стал держаться за них и хотеть присесть на здоровой ноге. Лицо красное, шея красная, даже майка покраснела… Ну-ну-ну… Раздался такой хруст, что в сарае взлаяло его содержимое. Понятно, щенята содержатся там. Дядя Котов смущенно упал. – Поздновато начал, – объясняет он силачке. – Ничего, я мужик конкретный! Рой счастье там, где ты лежишь. Он поднялся, заглотил полный живот чистого воздуха и крикнул на весь белый свет: – Хвоссссст! Потом спросил у силачки: – Правильно кричу для очищения потрохов? Она не успела ответить, в сарае опять взвыли щенки. Тут дядя Котов открыл сарай, вытащил оттуда большую корзину и вывалил из нее толпу кошельков с разинутыми ртами. Разложил их, и старые, и поновее – на солнышко, сушиться. Наверно, готовится разбогатеть. Посмотрим. Теперь дядя Котов снимает силачку, жмурится, облизывается, идет в дом. Будет есть сметану из банки пальцем, чтобы ложку не мыть. Приятного аппетита! А мы, как вы и думали, сейчас перелезем забор, схватим корзину, сунем туда щенят и… Оставайся, Котов, с пустыми кошельками! ОКЛЕВЕТАЛИ НАС В ВОРОВСТВЕ Мы стоим на сарайке, где очень легко расшибить голову. У Сергобежа в руке корзина с тремя щенками. С одной стороны сарайки переулочек, с другой – двор дяди Котова, с третьей – пустырек. Надо прыгать туда, через высокий забор и через саму метлу. И вдруг на нас нагрянул чей-то крик! Похожий на дядю Котова лютого. Мы живо спрыгнули, но спрыгнул только Сергобеж. – Прыгай! – закричал он последним голосом. – Прыгай, Ванёк! Тут не сломаешься! Прыгай же, прыгай скорей, мои ножки! Не бойтесь, глаза, не упадем! – Это кто тут? – голос дяди Котова совсем близко, со стороны переулочка. – А ну, ремнем! Я прыгнул! Но не приземлился. Я пригвоздился курточкой за гвоздь в заборе. Чертов гвоздь! Я иссек забор своей острой пяткой, но гвоздь не пускал. Дядя Котов надвигался прямо на нас, мотал лысиной заядло: – Держи вора! Крапивы в штаны! Подо мной стояла целая толпа крапивы. Листья большие, с мою ладонь, жала длинные, так и ждут… Сергобеж поставил корзину, стал прыгать, чтобы снять меня с гвоздя. Но я не снимался. Сверху мне видно, как наступает дядя Котов. На груди в кармане недоеденный огурец. – Беги, Сергобеж, заловит, беги! Сергобеж схватил корзину, но остановился, сомневается между мной и щенками. Остановился, глаза закрыл. Тут и схватил его дядя Котов. Вытащил свой кудрявый кулак, схватил Сергобежа за ухо: – Ишь, любитель легкой наживки! А-а, и Царевич! Попались! Свидетели! Сюда! Голос у дяди Котова такой радостный, будто он щуку поймал в нашем карасёвом озере. Сети не ставил, удочку закинул и поймал. А может, ставил… сети? Вот она и Ленка бежит, послушать свежих известий. Одета опять отвратительно, в воронье свое трико, отвратительно, даже голова отворачивается, не смотреть на нее. Через пустырек, через дорогу – Викин двор. Выскочила Вика на крыльцо, увидела меня на заборе и ссору вокруг – заторопилась на выручку, Дядя Котов торжественно обращается к этим девочкам: – Товарищи дети! Вот преступники! Жертва – я! А вы – свидетели этого дела. – Пусти! Пусти! Завел себе лысину и думаешь – хороший! Сергобеж вырывает свое ухо из клешни, но не получается. Вика раздвигает алую улыбку: – Ой, из Ваньки портретик такой хорошенький! Еще рамочкой обделать! Забыла, что ли, не проснулась: у нас теперь Царство Друзей? Друзей, а не остряков и остриц. Я кричу ей заполошным голосом: – Вика, Вика, укуси ему! Руку! Он выпустит! Беги, Сергобеж! Но Вика вальяжно так села на травку, натянула юбочку на коленки и говорит: – Нет, Ваня, я голубь мира! Криком своим я встрепенул Ленку. Она встрепенула свою тетрадку "Записник". – Так. Запишем. Котов нанес детям крик и насилие. Вот это Ленка! Вот это – Главный Редактор! Настоящий! Наташа подбежала легкой своей походочкой, увидела меня висячего, чуть сознание не потеряла от такого изумления. – Ваня! Попался?! Я так и знала. Говорила тебе, не связывайся. Совесть – это для неженатых… Ну, Котов! – Наташа, как маленькая рыжая рысь, стала шипеть: – Ну, Котов! Живодёр-р-р! Твой отец, наверно, из кошек шил? А ну, отпусти Ваню! Каждый другой на моем неприятном месте крикнул бы Наташе укусить дядю Котова, и она укусила бы своими верными зубами. Но я не крикнул, сами знаете, почему. Я свои тайны не могу на весь мир разбалтывать. Если тайну узнает хоть один человек, хоть читатель этой книги, если узнает тайну мою… ну, например, что я Наташу люблю… он сразу остальным разболтает. Остальные остальным будут рассказывать, и все тайное прославится. Наташа стоит, узит на Котова зеленые глаза, но тут ее оттесняет Вика, не таким уж голубиным движением. – Наташа, извини. Главная тут – я. А ну, Котов! – Самая главная – жена Царевича! – Наташа оттесняет Вику, все веснушки от злости выявились. Тут Ленка: – Главный Редактор главнее всех. Снимай, Котов! Слезай, Ванька! – растаращила глаза, растопырила пальцы пошире, растревожила голос – ух! Дядька поджался, но Сергобежа не отпустил. – Что, Котов! – говорю я свободным голосом. – Хотел из детей шапки шить? Не вышло! По переулочку – я вижу – торопится куда-то по народным делам Тетенька в Пиджаке. Услышала звуки скандала, завильнула сюда, на пустырек. – Так, товарищи! Какое мероприятие? Дядя Котов с удовольствием стал навирать на нас: – Щенят моих украли, пролазы! Он выдвигает перед Тетенькой Сергобежа, и она давай допрашивать грозно-нагрозно: – Крали? Признавайтесь! Сергобеж, заслышав слово, такое значительное в нашей новой жизни, закричал мне громко, как в лесу: – Не признавайся, Ванёк! Не признавайся, не… Я говорю с расстановкой, с просветами между словами: – Мы не крали, а спасали щенят. От живодёра спасали. Усыновить хотим. – Он убийца! – кричит Сергобеж, и куры, которые мирно паслись в Викином дворе, закокали, подскочили к забору полюбопытствовать. – Он меня нанимал собак ловить! – Не ваше щенячье дело! – отвечает дядька. – Я услуги оказываю, сколько голов сохраню в тепле! Голову народу сохраняю. Голову! И, между прочим, единственный вегетарианец в деревне. Не ем мясного ничего. Куроеды! И кроликоеды. Он доел свой карманный огурчик и со значением посмотрел на меня. Я вспомнил, что в день приезда ел чье-то мясо. Тетенька в Пиджаке продолжает строгий допрос: – В чужую сарайку залезли? – Залезли, но… – говорю я. Сергобеж махнул рукой; Наташа сжала кулачки; Ленка топнула лапкой; Вика кудряво качнула кудрей; Тетенька в Пиджаке произрекла: – Воровали. Воровали? Настоящая полуклевета! На куриный кокот вышла из дому Тетенька в Галошах. Лениво смотрит из-под руки в нашу сторону. – Мамка, иди-ка сюда! – зовет Вика. – Да ну! – отмахнулась мамка. – У меня голова от вас вспотела. Вон бурьян какой растет. Никто его не организовал, не полил, не прополол – а вырос! Вырос! Потому что лето. И дети вырастут, потому что детство. – Мамка, курья лапа! Поняла ты или нет? – настаивала Вика. – Сейчас перевыборы, раз Ваня на таком нехорошем попался! Дядя Котов почтительно закричал Тетеньке в Галошах: – Щенят хотели продать, в город кому-то, на шапки! Плоды бабьего воспитания. Один вот – созрел, другой еще висит. Навалил на нас такую кучу вранья! Нестыдно как! Тетенька в Галошах тяжелым бегом подбежала, причитая: – А мы без шапок опять, деревня! Всё в город, всё городским! Говорила, надо Вику выбирать, председателем Царства! Тут из-за угла вынеслось розовое облако, большой праздничный розовый букет, а за ним и сама Старушка лютая, тоже в розовом платьишке. Тетенька в Галошах отвлеклась от шапок: – Ой, бабушка, это все ваши цветы? Какой букетик! Старушка только и ждала этого разговора цветочного: – А всю ночь не спала. Все казалось лезет кто-то, цветы стрижет. Все дети мира! И только светать – я пошла и срезала все. Ух, вы, розовые! Уж я розовое люблю. А мне-то виселось невесело! Курточка жала под мышками, спина устала прижиматься, ноги устали болтаться. Я закричал царским голосом: – Тебе, Котов, ультиматум от меня! Ждал, что дети все поддержат сейчас, сядут в забастовку, объявят голодовку или беззвучное молчание, что-нибудь… А Вика – если бы вы слышали! – пищит проворным голоском: – Ай! Матом! Матом ругается на старших! Тут же на сторону взрослых переметнулась Ленка, вечная повторющка; навострила карандаш: – Записываю. Ваня. Воровал. Матерился. И висел! Наташа обозвала их злорадами и встала под меня, подставила плечико: – Ваня, вставай! Попробуй кверху подпрыгнуть – и вниз. Вставай, получится. Знаю, получилось бы. Мне опереться только, оттолкнуться – и вниз, сняться с гвоздя. Но я не мог оттолкнуться от Наташи, сами понимаете, почему. Наташа хотела сбегать за бабушкой, но я сказал про больную ногу. – Ну что, Серегa! – торжественно торжествовал Котов, – извиняться будешь? Или в колонию пойдем? Тут Ленка и говорит: – Ой, какие цветочки махровенькие! – как будто только сейчас увидела Старушкин букетище. – Понюхать можно? – голос она так подсластила, подсахарила, что и не узнать. Старушка ласково протянула ей букет, Ленка протянула туда свой подлый нос и, конечно. вынюхала бы весь благоух, но вмешалась мать. Она как крикнет: – Нельзя! Не нюхай! Привыкнешь! Нюхальщица. – Фу! Кака! – подкудакнула Тетенька в Галошах. Старушка от возгласов таких испугалась, выронила букет. Он рассыпался по траве. Сергобеж накинулся на розовые цветы, пинает их, топчет, лепешки делает розовые своей могучей пяткой. – Ах ты, щенок! – распсиховался дядя Котов и стал больно крутить Сергобежино ухо. – Цветы мои, цветики, – запричитала Старушка так безутешно, как будто кто-то умер. – Растоптал. Красные растоптал. Вот кто нам экологию топчет. Ничего святого нет, ничего. Все стояли в скорбном молчании. ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ? (думы на гвозде) Вишу, думаю на гвозде: почему взрослые такие скорбные? По любому поводу грустят, психуют, бьют, кричат. За молоком пойдешь в магазин, бутылки возьмешь пустые – не принимают. Захочешь купить жевательную резинку – нету; есть, но грузчики ленивые, не разгружают. Всегда у взрослых чего-то не хватает счастливыми быть. И вот, ребята, я догадался до того, что… У них не хватает сил. Силы свои взрослый человек тратит неправильно. Наша учительница Нина Николаевна говорит надзирательно: "Надо успевать всё! И всё надо делать хорошо!″. А я думаю – не надо успевать всё. Всё не успеешь, только устанешь. Всё не перечитаешь, не переучишь, не переиграешь, не переработаешь. Правильно мой папчик говорит маме, чтобы она побольше отдыхала. Он говорит, что главная обязанность женщины быть счастливой. От нее идет счастье к мужу, от мужа и жены – к детям, от детей – к старикам и ко всем людям. Если эту книгу читает девочка, очень прошу, хоть я и на гвозде, поверить мне и не становиться Тетенькой в Пиджаке или в Галошах, или с Сумкой. А тетеньки из нашей деревни хотят всё успеть. Это я только что понял, на гвозде. Тетенька в Пиджаке – она столько хочет успеть для других районных людей, для районных детей, что на свою Ленку сил нету. И у них с Ленкой нету счастья. А если разобраться, что Тетеньке в Пиджаке надо? Неужели ей надо вот так стоять – в скорбном молчании? В этой молчаливой трехминутной минуте. ДВОЮРОДНАЯ РОДСТВЕННИЦА Тут я увидел с гвоздя – бежит спасение наше в лице, платье и кудрях мамы Сергобежа. Сейчас разгонит всех этих пионеров-пенсионеров, издеваются ведь над детьми! Я всем своим видом стал показывать Сергобежу, что помощь близка. – Ой, натворил? – вбежала помощь в нашу компанию. Сергобеж закричал: – Maмa! – и сам испугался непривычного слова. Я стучу пятками по забору с целью привлечь внимание к своему дурацкому положению. Надоело висеть, как последний ванька. – Натворил, – говорит довольный дядя Котов. Лысина довольно блестит. – Натворил! Дружить не стал со мной. Предлагал я тебе, а ты отмахнулась. – Ой! – она отмахнулась то ли от комара, то ли от мухи, то ли от Котова. – Ой! Мне и послушать некогда. Сейчас грузовик за мной. – Она тревожно оглянулась, грузовика не было. – Хоть вы помогите, общество! Определите как-то… Раньше в люди отдавали, в гимназию… Видите, не справляюсь, хоть лупи его, хоть не лупи. – А нас-то как лупили! Вожжой! – успела дать свое пожелание Старушка. – Скоро меня лупить будет, – жаловалась на Сергобежа эта очень дальняя ему родственница. "Мама" про нее не скажешь. Моя бы мама меня в такие люди не отдала на воспитание. Где она?.. Чувствует мою беду? Как сынка ее сердечного подвесили за шкирку? – Эй! Константин! Константинчик! – двоюродная родственница тронулась идти, хотя никакого звука машины не было. Тронулась, остановилась, попросила Тетеньку в Пиджаке: – Побегу, ладно? Вот устрою свою жизнь… Грузовик! – она побежала, побежала по дороге, выскочила из положения. Теперь и я слышу, как где-то вдалеке едет какой-то Константинчик… ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫЙ ДЕТСКИЙ ДЕНЬ Тетенька в Пиджаке засуетилась: – Надо что-то святое…святое…святое. Что-то было намечено у нас… Вот! Мёртвый день! Объявляю Мёртвый Детский День! Вика! Где у меня Виктория? – Всегда готова! – Вика услужливо щелкнула костлявыми коленками. Тетенька в Пиджаке командует, блестит нетерпеливыми глазами: – Вика! Будешь самая мёртвая! Тьфу, самая главная! Командуй! Все это время Тетенька в Галошах что-то жевала, от нее несся запах пирожка. Когда она услышала, что Вику назначили командиром мёртвых, она так просияла, что выбросила в крапиву тайно еденный пирожок. Я безутешно захотел есть. Но Тетенька одумалась, быстро вытащила из крапивы обкусок пирожка и понесла его своим курам. Бросила через забор и наказала ласково: – Ешьте! И чтоб ни лапкой в картошку! Курицы крутились вокруг пирожка, кричали: клёво! клёво! Каждая хотела уклевать хоть кусочек. Кажется, с капустой был пирожок… Ест курица и гребешком потряхивает. Конечно, я бы тоже потряхивал. И тут, наблюдая дебат длиннохвостого петуха с куцехвостой курицей, я услышал знакомый милый голос: – Гляжу, совсем беззубая совесть у вас. – Газета старинная, что ли, пришла? – удивилась Старушка голосу со старинным акцентом. Все оглядываются вокруг, Старушка дальнозорко оглядывает старую "Пионерскую правду", на которую сел воробей, чтобы мягче сидеть и больше знать правды о пионерии. Я делаю подсказку: – Это не газета, бабушка, это совесть. Старушка вдруг разнервничалась: – Да что вы всё: бабушка, бабушка! Беззубая… Перешагивать через меня? Я сама еще могу… перешагивать! – С этими словами она разбежалась и перепрыгнула через "Пионерскую правду", согнав в небо воробья. – Всё! – сказала свежим, подновленным голосом. – Выхожу с пенсии на руководящие работы! Наташа, которая ходила по окрестности, видимо, искала, что под меня подставить, чем помочь, испуганно споткнулась. Ленка съежилась, точнее сказать, своронилась. Вика стала маршировать на месте, как заводная кукла. У Сергобежа волосы поднялись дыбиком, снопиком. Тетенька в Пиджаке улыбается; ее высокомерная улыбка стала низкомерной. Солнце завильнуло за небесное облако. – И хватит совестить! – Тетенька в Пиджаке стала меня тщательно обругивать. – Ишь, приехал, детей на взрослых натравлять. Как его – Павлик зовут или как?.. Распелся! Соловейчик нашелся! Ишь, какой… – она стала искать слова про меня. – Спиноза, – подсказала Старушка. – Кто такая? – шепотом спросила Вика у Ленки. – Кто такая? Кто такая?.. Заноза на спине! – громко и гордо отвечает Ленка. Девчонки стали зубоскалить и скалозубить, показывая на меня. Как будто я – веселая картинка. - А вы… вы… у вас голова засохлая! – крикнула Наташа Старушке, а у Тетеньки в Пиджаке стала просить-молить: – Снимите его! Мы всё сделаем! Всё лето спать будем. И так мне себя жалко стало! Всех жалко. ЭХ ВЫ, ЛЮДИ-ТЕТЕНЬКИ! И так мне себя жалко стало! На глазах что-то прослезилось, водичка какая-то. И себя жалко, и жалко Наташу, что она унижается. Бабулечку, что не может дойти до этого позорного гвоздя. И страшно, что останусь тут висеть навсегда, заклюют меня всякие вороны и другие дуры. Жалко Сергобежа, что он такая сирота, и мы все здесь такие сироты. И я закричал: – Мама! Мамочки! Тетенька в Галошах вздрогнула, расширила на меня глаза, как будто я только что повис. Котов поднял свой усатый нос: – Что, Царевич, неславно висеть? А ты эту… совесть позови. Она тебя снимет, – и засмеялся победительно. – Совесть – ее не видел никто, – с честными глазками сказала Вика, лизнула себе руку, прижала к голове свои кудри, чтоб не быть растрепой. И показывать свой хороший пример. Наташа подошла ко мне и во всеуслышанье, раскаянным голосом дала совет: – Ты извинись, Ваня. Два слова – и всё. Тебе же больно на гвозде. Больно! Тетенька в Галошах совсем проснулась, захлопала руками по своему необъятному боку: – Ой, божечки! И правда… Висит, мучается мальчишечка! А мы не обращаем, куры такие! Она зачем-то сняла галоши, взяла их в руки, подступает к Котову: – Снимай, Котов! Снимай ребёнка! Давай-давай, быстро! Мы с Наташей ответно улыбнулись друг другу. Наташа тоже подумала, что Тетенька сейчас прихлопнет своей большой галошей дядюшку, освободит всех своей богатырской рукой. Тетенька обернулась еще к Тетеньке в Пиджаке и ее ругает: – А вы, власть, куда смотрите? В небо?.. Не видите маленьких людей? Эх, вы! Уж больно нос кверху затёсан! Тетенька в Пиджаке пожала ватными плечами: – Не полезу же я в крапиву. Я совсем не по-крапивному одета сейчас. Вот нам наша демократия! Я всем сердцем… всем лицом… для народа! – голос стал, как горький перец. Дядя Котов грозно сверкнул лысиной: – Пусть, пусть повисит, подумает над поведением. Родственникам так и скажем: вызывающее поведение. Заврался, заворовался. А что? Оставили на больную бабушку, а возраст у них самый вороватый сейчас. А если мы, общество, отвернемся, загорать ляжем? Кто-то должен воспитывать! Эх, мама-мама, зачем ты оставила меня в таком бессилье?.. Дядя Котов выкатил напоказ круглое пузико, вывернул назад плечи: – Я из него мужика делаю! Всё! Кончилась бабья власть! Я вам не какой-то обыкновенный пузочёс! Я… – Сейчас сама! – кричит Тетенька в Галошах. – Стоят, смотрят… – она смелой голоногой походкой направилась меня спасать, по крапиве прямо. Я хотел показать ей обходную тропку, но она выскочила уже, с охом и ойком! Котов ее заругал: – Куда лезешь, дура! – Ах ты! – она замахнулась на него своей черной лаковой галошей. Потом пообещала мне со всем своим толстым темпераментом: – Подожди, мальчик. За людьми сбегаю. Сейчас! Сейчас! Наша команда уже обрадовалась скорому спасению и освобождению от позора, но тут глупые куры посовещались о чем-то и так вскудахтали! И Тетенька навострила галоши к своим ненаглядным курицам. Оглянулась и утешила: – Задам корму – снимем тебя! Режим у них, время – обед! Так и пригвоздила меня этими словами, отложила на потом, а когда этот потом настанет?.. Эх вы, люди-тетеньки! ЧЕГО НЕ ВИДЯТ ЛЮДИ (думы на гвозде) Заметили? – Вика не очень-то уважает свою маму. Я думаю, это видит и Ленка, и Наташа, и все взрослые в нашей деревне. Неуважение ребенка не видит только сам родитель. Викина мама не слышит ее вредного голоса, нахального взгляда. Потому что, если бы она замечала, она бы задумалась: почему меня не уважает самая родная дочка? А дети часто своих родителей принимают за слуг, за приносчиков продуктов, за наливальщиков супа. Проведем научный эксперимент. Вот сегодня придет с работы папа, свалится в кресло и будет сидеть, отпыхиваться. А детишки на кухне тарелки себе достали, языки приготовили, правда? А позовут ли детишки папу, хлебца нарежут? Салат подсметанят?.. Нет. В этой семье растут поросята. И чем они выше ростом, тем длиннее у них хвостик. Я очень рад, читатель, если у тебя счастливо в семье, а если не очень? Что делать? Кто должен начинать? Я думаю, начинать надо взрослым. Вот Тетенька в Галошах. Бросилась мальчика защищать, одна, как русский богатырь. И все дети смотрят, что получится. А главное, Вика смотрит. Она, Вика, и подумать не успела, справится ли ее мама с целым Котовым и другими в пиджаках. Не успела подумать, видит: Котов только усом дернул – и мамки нету, убежала своей богатырской походкой. А если б она не отступила, вгалошила бы этому Котову, если б она за большое детское дело до конца пошла? Уважала бы Вика мать? Если мой отец заступается за чужого мальчишку, я его во много больше уважаю. Особенно, если мальчишка незнакомый. Люди не видят, что за каждым их полушагом и полусловом на улице, в кухне и в коридоре смотрят дети. Люди этого не видят. Им мешают гаражи, запчасти, генеральные уборки, ремонты квартир, грязные тарелки, пустые бутылки от кефира. А еще им мешают курицы. ДЕВОЧКА-СОЛНЫШКО Ленка выдвинула себя вперед, стоит, манекенится в своем черном бездыром трико, говорит. знающим голосом: – Люди тут не помогут. Тут надо главного, а он уж напишет, как Ваню снять. Вика ткнула Ленку сзади кулаком, прошипела: «Сотру в зубной порошок!» выдвинула себя на первый план: – Тут надо Председателя выбрать, а она прикажет мальчика снять. Наташа сделала мне предложение: – А вставай на голову мне и подпрыгни. – Нет, больно будет тебе. Дядя Котов неприятным взглядом посмотрел: – Вот такие нас и утешают, убаюкивают мужиков. Вот такие, теплые, с поварешкой. Наташа взметнула свою поварешечку и пошла прямо к Котову, драться, что ли? Я рванулся из последних силёнок, но уже силёнок не было, киселёнки одни. Но Наташа миролюбиво говорит: – Дядюшка, а котиков не хотите моих? Я всех отдам. Из них такие шапки будут, ласковые! Вы поняли, ребята? Вы поняли? Наташа за меня всех своих любимых отдает! Котов засмеялся обдирающим смехом: – Котиковые шапки? Тащи! Посмотрим! Сергобеж стоит безучастно, переживает за свою мать, за то, что бросила на растерзание живодёру. А я никогда теперь не буду шапку меховую носить, мне будет казаться, что из нее выглядывают зарезанные мордочки щенят или крольчат. Наташа машет мне поварешкой: – Потерпи, Ваня, я сбегаю! Он отпустит! Подожди, не умирай! Что за солнышко-девочка! А я-то еще не соглашался, не хотел. И я кричу ей вслед: – У нас будет полный сад кошек и собак! Сколько хочешь! Наташа! Наташа! Она услышала, опять махнула поварешкой. БУДЕТ ЛИ ЦАРСТВО ДРУЗЕЙ? Тетенька в Пиджаке раздумалась, глядя на все эти трогательности: – Может, снять?.. А?.. Крови нет?.. А? Дядя Котов рявкает на нее: – Я из вас мужиков сделаю! Из всех! Я говорю, глядя на эту обомлевшую от жары Тетеньку (даже атомы и микробы обленились, перестали двигаться, не то что рабочие Тетеньки), я говорю с независимым видком: – Не беспокойтесь, мне хорошо тут, на гвозде. Видно всех. – Снимай, хрыщуга старый! – кричит с новой силой Сергобеж. – Ты… Ты… – он старается укусить дядькину руку, но больно ухо. – Ты мясо не ешь, ты зарядку по утрам скачешь! А где дети твои, где? Где внучата? – Хамило какой! – возмущается Котов. – А когда-то мы с тобой неплохо были. Вон, приехал Царевич и всех перепакостил. Проси, гад, прощады, может, прощу. Старушка разлепила сонные глаза: – Извиняйся хоть до конца пятилетки! Выселить бы их всех на необитаемый! – и потянулась, хрустя отложениями солений, соленых огурчиков, грибков. – Или в колонию, – подсказывает дядя Котов. Они посмотрели друг на друга особым взглядом, старушкины кефирного цвета глазки так и замелькали. Они заключили некий договор про нас, детей, организовали комитет старого спасения. И начали спасаться: Старушка оттянула от Ленкиной руки черный кусок трико. – Протокол надо писать. Документировать. Пошли, у тебя про всех записано, пошли, Леночка. Тетенька в Пиджаке сопротивляется, не отдает Ленку: – Лена! С нами пойдешь! Мёртвый день отражать, дело новое. В газету пошлем заметочку. Заметочка одна, другая – и заметят нас. Что-то надо детское… детей все любят… всегда им хлопают на празднике. Ленка сомневается между веселой нарядной Старушкой и угрюмой матерью в Пиджаке. Мать приказывает со всей пиджаковостью: – Кому сказано! – Кричишь? На подчиненных повышаешь? Хочешь, чтоб записала тебя? – напускается Ленка на мать, грозно достает и грозно открывает свой "Записник". Все ждут, что Ленке теперь не миновать… что её сейчас… ну, не знаю, что… ну, пригвоздят к позорному забору тоже. Но Тетенька в Пиджаке вдруг расцветает, как с утра Старушкин цветок, и такой молодой становится, что Ленки и быть не должно на белом свете. – Молодец, дочка! Моя растёшь! – сочиняет она счастливую песню. Тут Вика не выдерживает и быстро заступает на новую должность председателя Того света: – Пра-а-авый глаз! Ле-е-евый глаз! Закры-вай! Правый! Левый! Раз! Два! – командует подчиненным под нее детям. Дядя Котов вытирает свободной рукой запотевшую лысину: – Хватит демагогировать! Моё слово короткое. Пока ты, Сергобеж, другим пакостил, а ты и ко мне полез! Всё. Пошли в колонию! В людях не хочешь работать, гимназии нет, а колония есть. В колонию? Этим словом пугают всех городских пацанов, начиная с пионеров. Октябрят пугают завучем, а пионеров – колонией. Фотографии из колоний я вижу в папиных газетах, лица такие… не хотящие ничего. Такое же лицо нехотящее хотят сделать Сергобежу? За что? Но Старушка отменила это предложение, сказала, что возраст ему не подошел. И тут же придумывает: – А… давайте во вспомогательную его! А? В школу для умственно-отсталых! А? – Сами вы отсталые! – закричали мы с Сергобежем. Я изловчился, но не спрыгнул с гвоздя, а он изловчился – укусил дядьку за руку. – Ах ты, щенок! – освирепел Котов. – Живо надеру! – он замахнулся дать Сергобежу. – Ленка! Ставь подножку ему! Пинай! Беги! Сергобеж! – кричу я с последним отчаянием. Ленка виляет глазками, прижимается щекой к руке своей новой начальницы: – Старые лучше знают, как надо. А Старушка огрызается на меня: – Кричит – курам на смех! Я посмотрел: во дворе, у сарая, ласково потчевала курочек Тетенька в Галошах. А две курицы, сытые уже, белокурые, стояли у калитки и правда, смеялись, пересмеивались, как две ученицы умственно-отсталой школы. Все, все стали против нас. Все, даже солнце. Жара, как в печке у Бабы Яги, а я, как Терёшечка на сковородке. Старушка тем временем договаривается звонкозубо с Ленкой: – Будешь моим собственным корреспондентом. Ты девочка благоприятная. Тетенька в Пиджаке посмотрела на руку, на мужские свои часы, на солнце, подкрутила часы, еще сверила с солнцем. Вздохнула, потопталась на месте, мелко маршируя, потом тронулась крупным маршем, крикнула с собой Вику. Та пошла стучать пятками за Тетенькой, приговаривая: – Вырасту, сошью пиджак, такой же, как у вас. Такие пиджаки всегда в моде. Они удалились стройными рядами распространять по району свою мертвечину. – Пошел! – дядя Котов тянет Сергобежа за ухо, чуть не отрывая ухо от бедной головы. – Ах ты, конь привередливый! Там тебе в малоумной школе детства дадут! Этой школой для дураков пугают самых запущенных учеников, беспробудных драчунов, это самое страшное, отсталый детский дом. Но извините, Сергобеж-то не отсталый, он очень-очень даже не отсталый, он не подходит для этой школы! Может, они шутят, взрослые, от жары немножко запутались? Первым делом в нашем Царстве Друзей надо изучить все взрослые законы. Они придумали и казнят непослушных всякими казнями, а нас заставляют делать морфологический разбор всего, что на их ум взбредет: и существительных, и прилагательных, определять начальную форму, постоянные признаки, непостоянные признаки… Я вгляделся – нет, не шутят взрослые, не шутят. Так же понял и Сергобеж, который по шажку двигался за дядькой. – Смотри, Котов, я вырасту! Теперь я вырасту! Я никого не жалеть буду! Заплачете у меня, застонете! Я из тебя такое пальто сделаю, шкуровое! Будешь лежать обесшкуренный, скелет из пятки торчит. Старушка подпугнулась, прошептала: – Он нам всем голову отрежет! – представила свой скелет с пяткой и сказала миролюбивеньким голоском: – Там, в школе малоумной, специально для детей оборудовано. И спорт, и площадка, и слесарят они там. Хором поют. Строем ходят, культурно. Учителя к ним специально подготовленные. А тут им скушно, ребятишкам: деревня и деревня. Шишки перекладывают из кармана в карман. Ленка, вечная повторюшка, тоже сомневается: – Вообще-то да. Нет. Вообще-то нет. Или да? Дядя Котов приостанавливается, начинает меня укорять: – Ну и кого ты, Царевич, оцарил? Кому лучше сделал? Совестил всех… Ленка вон родную мать записывает – отреклась. Наташка голову подставляет свою девичью – задурил красивыми словами. Вика – та нам еще даст! Мы все у нее будем левой ходить… Кто у тебя хороший стал? Сергобеж, парень один был, ты его дурачком сделал своим, царским. Вот! Постарше будешь, опомнишься. Скажешь: правильно мне дядюшка говорил Котов: надо жить для себя. Деньги не главное, а самое главное. Вдали маршировали Вика и Тетенька в Пиджаке; Старушка повела к своему дому Ленку; Котов потащил Сергобежа на тракт, на большую дорогу в город. Всех взрослые развелирастащили. Солнце пошло ужинать, одинокое, куда-то в поле. Сейчас Сергобеж уйдет за поворот, за старые неповоротливые сосны, за ленивую березу – в глупую жизнь, недетскую, не взрослую, глупую. Один я и теплая тишина вокруг. Один я… Да вот… прыгает подо мной собачонка замурзанная, ростом в пять спичечных коробков. И кого я, Царевич, оцарил? Кому лучше сделал? Я поднапрягся и кричу: – Сергобеж! Я приеду! Приеду к тебе! Я узнаю! В школу эту! Эй! Вытащу тебя! А Сергобеж развернулся ко мне, так что дядя Котов испугался. До меня донеслось: – Я вижу! Вижу её! Ванёк! Не бессовестный я! – Кого ты видишь? Кого? – На папку похожа моего! На папку! Совесть моя! Такой папка! С чемоданчиком! – А думали – непроглядная, – сказал я вниз, собачонке своей. И тут вижу – стоит на дороге какой-то скромный дяденька. Стоит и смотрит на Сергобежа. Стоит и смотрит. С чемоданчиком.