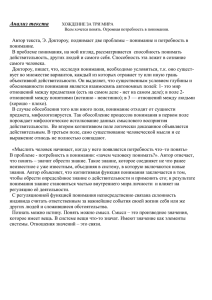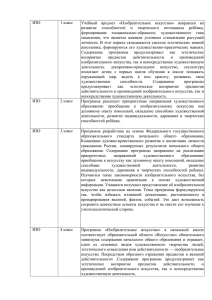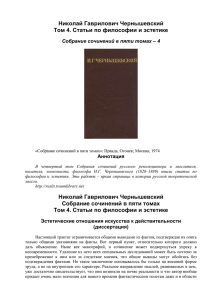Терещенко Е.В. Век XX-й: эмансипация прекрасного и принцип дегуманизации в искусстве
реклама

Терещенко Е.В. Век XX-й: эмансипация прекрасного и принцип дегуманизации в искусстве // Философия в современном мире: Материалы междисциплинарного теоретического семинара / Под ред. В.И. Маркина, В.А. Яковлева, О.Д. Волкогоновой; Кафедра философии естеств. ф-тов филос. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. – М.: Полиграф-Информ, 2009. Век ХХ-й: эмансипация прекрасного и принцип дегуманизации в искусстве Одна из заслуг постмодернизма – обновленное понимание искусства как игры познавательных способностей по законам воображаемого мира. Интересно проследить те пути, по которым культура пришла к осознанию этой истины в ХХ веке, ведь и сам постмодернизм – лишь логическое разрешение тех тенденций, которые присутствовали в культуре задолго до романов Гессе, Кортасара, Кундеры или Турнье… Множество культурно-исторических документов1 свидетельствуют о том, что к середине XIX века саморефлексия искусства достигает беспрецедентной интенсивности. Основной ее проблемой является поиск «целесообразным без цели» искусством самообоснования в эпоху, когда практическая польза в ее наиболее вульгарном понимании становится критерием, определяющим все сферы бытия в индустриальном обществе. Вовсе не случайно этот поиск осуществляется в рамках полемики добра и красоты, трансформируясь из романтического противопоставления «поэта» и «толпы» в проблему «совместимости» «гения» и «злодейства», актуальность которой не ослабевает и в XX веке2. Этот конфликт, обнаруживающий себя в конкретных социокультурных условиях, несмотря на то, что некоторые авторы указывают на его историчность, как например Вл. Вейдле, имеет обусловленность несколько более сложного характера, не связанную непосредственно с изменением способа общественного производства (переходом к капитализму). Квинтессенцией культуры является философия, и потому исследуемая антиномичность ценностноэтического и ценностноэстетического связана, в первую очередь, со специфическими для западноевропейской культуры предельными основаниями рациональности 3, Таковы литературные манифесты западноевропейских романтиков, дневники и личная переписка писателей – Гофмана, Бодлера, Гонкуров, Флобера, эссеистика Оскара Уайльда. 2 Судить об этом можно на основании того, что именно в ХХ веке был создан ряд произведений (таких, как цикл эссе «Литература и зло» Ж. Батая (1957), роман «Доктор Фаустус» Т. Манна (1947), роман-биография «Гойя, или Тяжкий путь познания» Л. Фейхтвангера (1952)), в которых нашло свое отражение представление о демонической сущности искусства. 3 Это этический рационализм Сократа, отождествляющий знание о том, что есть добродетель, с самой добродетелью, и как следствие – разумность и рациональность с качеством «добра», не-разумность, иррациональность – с качеством «зла»: «темное», «стихийное», «неразумное», «демоническое» – эти понятия в западноевропейской культуре традиционно помещаются в один семантический ряд. «Что разумно, то и действительно» – панлогизм Гегеля, также связанный с античным отождествлением истины и действительности, – еще один краеугольный камень западноевропейской культуры, в полном согласии со своим прагматическим характером, предпочитающей стабильность, прогнозируемость логических структур 1 своими корнями уходящими в эпоху Античности. В плане эстетики принципиальное значение для понимания предполагаемого ценностного конфликта имеет с ними связанная теория мимесиса. В ее основе лежит убеждение в соизмеримости объективной действительности и художественного мира вплоть до адекватности, влекущее за собой применение к последнему этических оценок на основании представлений о добре и зле. Будучи впервые обозначенной в философии Демокрита4 в 5 в. до н. э. и детально разработанной в «Поэтике» Аристотелем, концепция подражания удерживает монополию на эстетический образец, начиная с эпохи Ренессанса, взявшей на вооружение интеллектуальные достижения Античности, вплоть до конца XVIII века, о чем свидетельствуют сочинения просветителей5. В частности, в качестве подражания лучшим образцам, отыскиваемым в наличноданной действительности, понимается следование природе6. Логическое развитие подобного понимания сущности искусства – это отношение к нему как к «учебнику жизни». Подобное утверждение дидактической функции искусства обнаруживается уже в «Государстве» Платона. При этом само искусство носит, по Платону, двойственный характер: оно способно обращаться и непосредственно к идеям (творческая интуиция, «священное безумие» поэта), и всего лишь к чувственным вещам, тем самым создавая «тени теней», что препятствует социальному познанию истины, доступному лишь отрешенному созерцанию мудреца. Фактически, именно с подобного политически детерминированного определения смысла художественного творчества и предназначения искусства в «Государстве» начинается история профанации прекрасного в общественной жизни: художник должен изображать истинное бытие, то есть объективно существующие идеи, и никаких вольностей и искажений – «подражай» тому, что «действительно» и «разумно». Таким образом, и платоновская эстетика и теория мимесиса Аристотеля фундированы одним общим принципом, а именно: искусство, подражая жизни, следует ее правде, которая и определяет в конечном итоге эстетические оценки. Характерный для античности идеал калокагатии в и механических взаимодействий стихийности, непредсказуемости и парадоксальности, составляющих сущность жизни. 4 См.: В.Ф. Асмус. Античная философия. М.: Высшая школа, 1998. С. 120.. 5 См., в частности: Дидро Д. Разрозненные мысли о живописи, скульптуре, архитектуре и поэзии, служащие продолжением «Салонов» // Дидро Д. Эстетика и литературная критика.: М.: Художественная литература, 1980. 6 В то же время Аристотель указывает на то, что в мире художественного образа правдивым считается даже то, что в жизни невозможно, однако в эстетике Нового времени его идеи были восприняты прежде всего как учение о подражательном характер искусства, а то, что «Поэтика» в этом смысле не столько однозначна и содержит в себе предпосылку для рассмотрения художественного мира в качестве мира возможного, как будто осталось незамеченным. Тем не менее в ХХ веке эта идея активно развивалась и европейскими (Р. Ингарден, Н. Гартман), и американскими (М. Бердсли, С. Лангер) феноменологами , своей основной задачей считавших отделение эстетических чувств от жизненных эмоций. [См.: В.В. Прозерский. Виртуальная реальность художественного образа – мир возможного // Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции 11-13 апреля 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 81-82.]. социальной действительности выражается в поглощении прекрасного «добрым». Однако наступает исторический момент, когда в эссе «Перо, полотно и отрава» О. Уайльд рассказывает о судьбе Томаса Гриффита Уэйнрайта, «личности, необыкновенно полно развившейся из преступления»7, чтобы, максимально заострив столкновение моральной и эстетической сфер бытия на примере художника-отравителя, доказать, что, в противоположность эстетике мимесиса, «о произведении искусства надлежит судить лишь по законам, выведенным из него самого»8 и тем самым радикально отделить художественную реальность от объективной действительности. Искусство бесполезно; «цель искусства – Искусство, Порок и Добродетель не более чем материал для его творчества»9. Эти высказывания направлены на то, чтобы прояснить: сущность эстетического не носит подражательный характер. Более того, не искусство копирует жизнь, а жизнь подражает искусству, утверждает писатель в эссе «Искусство лжи». Очевидно, что к моменту создания названных текстов понимание искусства претерпело концептуальную эволюцию, сущностью которой, очевидно, была «эмансипация» прекрасного. Панэстетизм стал действительной антитезой к теории мимесиса, подразумевая поглощение теперь уже этического эстетическим. Формирование данной установки представлено следующими этапами. Первый из них связан с немецким романтизмом и его философской платформой – «Философией искусства» Фр. Шеллинга, в которой искусство определяется как канал иррациональной связи с запредельным. Впоследствии идея искусства как «прорыва к трансцендентному» в «бескорыстном созерцании» художника развивается А. Шопенгауэром в третьей части трактата «Мир как воля и представление», в которой эстетическому познанию приписывается иррациональная способность постигать сущность мира. Именно с развитием в XIX веке философии иррационализма (Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше) связан второй этап преодоления установок теории подражания. Эстетическому придается едва ли не высочайший онтологический статус. Это способствовало формированию в европейской литературе теургических концепций, авторы которых (символист Рембо и модернист Арто), унаследовав в «Алхимии страдания» Бодлера ключевые мировоззренческие принципы, выраженные в понятиях романтического бунта, символичности мироздания, истерии, имморализма и принципа абсурда, претендовали «исцелить и возвысить» жизнь искусством. Впоследствии, питаясь идеями о существовании подсознания и необходимости его освобождения, окончательно избавить мир от «шор разума» и утвердить таким образом иррациональное в качестве необходимого и, следовательно, «действительного» надеялись теоретики сюрреализма. Однако уже первая треть ХХ века отмечена существенным отрезвлением после эйфории панэстетизма. Философия искусства приходит к открытию, Уайльд О. Полное собрание сочинений. М.: Терра, 2000. т. 3. С. 115. Там же. С. 102. 9 Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Предисловие. М.: Правда, 1987. С. 5. 7 8 что «поэзия» и «правда» бытуют совершенно по разным законам, и потому в принципе несоизмеримы. В частности, радикально разделяя жизнь и культуру, неокантианец Г. Риккерт в критическом труде «Философия жизни» (1920) делает вывод: Все, что мы переживаем как только живое, само по себе лишено не только логической, но также эстетической ценности. Эстетический человек должен отвернуться от самой живой жизни, чтобы понять смысл произведения искусства, который не витально жизнен 10. Однако Риккерт разделяет жизнь и искусство в очень специфическом смысле, отличном от мировоззрения Уайльда, т.е. без претензий на преодоление действительного воображаемым (жизни – искусством). Эстетика начала прошлого века разрешает проблему взаимосвязи художественной реальности и объективной действительности таким образом, что попытки лечить «жизнь» «искусством» становятся бессмысленными, и это связано с рядом эстетических открытий в самом искусстве11.. К ним апеллирует, устанавливая соотношение между художественной реальностью и объективной действительностью в эссе «Дегуманизация искусства» (1925), Х. Ортега-и-Гассет. Итогом становится открытие принципиально новой ценностноэстетической платформы – принципа дегуманизации, требующего от аудитории, к которой обращается современный Ортеге художник, сойти с орбиты антропоцентризма в своей оценке художественных произведений. Важно отметить, что получившее широкий культурный резонанс эссе нельзя рассматривать в отрыве от того культурно-исторического контекста, в котором оно создавалась. Откровение испанского философа было исторической закономерностью – сама эта идея, как говорится, витала в воздухе: Все заставляет нас верить, что существует некая точка духа, в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое12, прошлое и будущее, передаваемое и непередаваемое, высокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия, – в 1929 году декларировал Андре Бретон во «Втором манифесте сюрреализма»13. Соответственно, в этой «некой точке духа» снимаются все противоположности и ценностные конфликты, а также разделение культуры на сферы ее влияния (искусство, мораль, государство) – собственно, само явление культуры как порождение человека приобретает негативную маркированность в силу определенно антисоциальных настроений, властвовавших умами этой эпохи, что подтверждает и сюрреалистическая Риккерт Г. Философия жизни // Философия жизни. Киев, 1998. С. 413. Как отмечает Т.Е Шехтер, «отрыв от реальной действительности в ее материальном выражении наметился именно тогда, когда в сферу эстетического освоения вошли нематериальные, во всяком случае, невидимые явления: (скорость, либидо), запечатленные в символически-понятийных образах, отражающих синтез художественного воображения и интеллектуальной способности к абстрагированию и сочетанию не сочетаемого в действительности» [Шехтер Т.Е. Художественное воображение и логика фрактала // Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции 11-13 апреля 2000 г. СПб.: СанктПетербургское философское обзество, 2000. С. 61.]. 12 Курсив мой – Е.Т. 13 Бретон А. Второй манифест сюрреализма // Антология сюрреализма. М.: Издательство «ГИТИС», 1994. С. 290. 10 11 литература и кинематограф французского авангарда. А вот показательное замечание из текста романа «Доктор Фаустус»: «Идея культуры – исторически преходящая идея, <...> она может раствориться в чем-то ином, <…> будущее не обязательно должно ей принадлежать <...>»14. Как таковая, идея дегуманизации впервые возникла отнюдь не в связи с философской эстетикой и отнюдь не в первой трети XX века. Задолго до этого в культурной традиции мы обнаруживаем духовные практики, тяготеющие к преодолению антропоцентризма: таково понимание жизни как непрерывного психо-физического потока в даосизме, отдельные этические доктрины стоицизма, буддизма и индуизма. Более того, апофатическая теология вполне может рассматриваться в качестве одной из предпосылок дегуманизации15. Впоследствии, в связи с освоением космоса и развитием естественно-научной сферы знания, эстафету расширения человеческого сознания с целью преодоления антропоцентризма и космизации человеческой жизни принимают философы русского космизма и создатели этики космической телеологии (Ф. Вудбридж, У. Шелдон, О. Степлдон). Требование дегуманизации искусства в первой трети прошлого века представляет собой самое непосредственное приближение к артикуляции этой идеи: порвать все связи с человеческим миром, существующим в той ограниченной форме, которую придает ему социум, – такова основная интенция искусства того времени. В плане эстетики дегуманизация подразумевает следующее: абсурдно искать какое бы то ни было назначение искусства вне его самого. Производимый не для переживания, а для понимания, художественный мир определяется как мир возможный, функционирующий по законам художественной, а не объективной действительности и не соотносимый с нею, несмотря на существующий между ними изоморфизм. (В этом заключается важное отличие от идей, высказываемых Уайльдом и Рембо.) Так, феномен Нерона, поджигающего Рим с тем, чтобы как можно более вдохновенно описать пожар в поэме, казалось бы, подтверждает наличие понимаемой в духе Канта антиномичности эстетического и этического принципов. В действительности же этот конфликт локализован в наличноданной, объективной реальности и не затрагивает воображаемую реальность прекрасного как таковую. Поскольку реальность искусства представляет собой возможный мир, это уникальное измерение действительности не нуждается в этических критериях: в реальной жизни этические ценности и нормы необходимы человеку, чтобы действовать; в перспективе искусства – все человеческие ценности суть повод для осуществления художественного замысла. Более того, художник волен определять, как правила игры, те ценности, в соответствии с которыми живет его воображаемый, ирреальный мир. Эти Манн Т. Доктор Фаустус. М.: Республика, 1993. Ряд «Духовных проповедей» Мейстера Экхарта однозначно выражают идею духовного нищенствования, подразумевающего свободу от всего «человеческого, слишком человеческого»: верующий должен быть «пуст», чтобы исполниться не ущербным человеческим умствованием, а непосредственно трансцендентной ему божественной истиной. См. «Об отрешенности», «О неведении», «О разуме и его молчании», «Мария и Марфа», «О нищете духом». 14 15 ценности и без соответствующей артикуляции, и при наличии соответствующей артикуляции, могут быть ориентированы отнюдь не на геоцентрическую модель мироздания, то есть как будто художник не имеет представления о длительной традиции, согласно которой в центре мироздания располагается человек. Нашим современникам эти истины представляются очевидными. Однако для того, чтобы они стали таковыми, потребовалось, как видно из этого беглого экскурса в историю, длительная работа философской мысли и смена многих культурных эпох16. Необходимое обоснование имеющих место в статье принципиальной редукции прекрасного к художественно-эстетическому, а также установления связи конфликта этического и эстетического с противопоставлением рациональное – иррациональное, действительное – воображаемое осталось за рамками данной статьи, поскольку названные проблемы требуют специального рассмотрения. 16