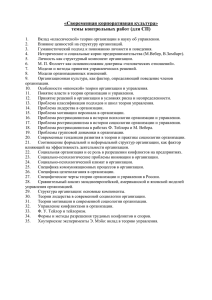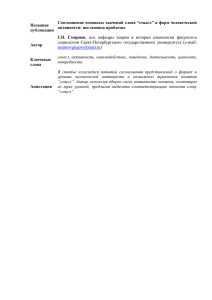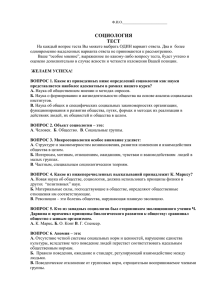Литература - Экономика. Социология. Менеджмент
advertisement

СОВЕТСКИЙ ОРГКОМИТЕТ XI ВСЕМИРНОГО
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
НЕМАРКСИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ:
МАТЕРИАЛЫ К XI ВСЕМИРНОМУ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ КОНГРЕССУ
ЧАСТЬ 2
Актуализация социологической классики
Москва-1986
1
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СБОРНИКА:
В.Н.
ИВАНОВ
-
доктор
философских
наук,
ответственный
редактор,
И.С.
ВЫХРЫСТЮК-АНДРЕЕВА - доктор философских наук, Ю.Н. ДАВЫДОВ - доктор
философских наук. И.Т. ЛЕВЫКИН - доктор философских наук, Г.В. ОСИПОВ -доктор
философских наук, А.И. РАКИТОВ - доктор философских наук, А.Ф. ФИЛИППОВ кандидат философских наук.
Научный редактор второй части сборника - Е.В. МИХАЙЛОВ
2
СОДЕРЖАНИЕ
Часть вторая
АКТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИКИ
Веберовский ренессанс" в современной западногерманской социологии: Предпосылки,
особенности и программные установки 4
1. Кризис буржуазной "хозяйственной этики» и возрастание интереса к Максу Веберу 4
2. Особенности "веберовского ренессанса" 10
3. Программные установки "веберовского ренессанса" 13
4. Идеологические аспекты "веберовского ренессанса" 22
Два пути актуализации социологии Макса Вебера 34
1. "Ценность" и "смысл": Истолкование основополагающих принципов веберовского
учения в духе социологического радикализма 34
2. "Рациональность" и "профессионализация": Опыт конкретно-социологической
расшифровки основных категорий социологии М. Вебера 56
Новые интерпретации Т. Парсонса в буржуазной социологии 70-х - начала 80-х годов
86
Поворот к Канту в современной буржуазной социологии 118
3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АКТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИКИ
"ВЕБЕРОВСКИЙ РЕНЕССАНС"
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ
1. Кризис буржуазной «хозяйственной этики"
и возрастание интереса к Максу Веберу
Нынешний "поворот" буржуазной социологии характеризуется участившимися
попытками западных социологов, работавших в 60-х - начале 70-х годов под знаком
иней "кризиса буржуазной социологии", преодолеть умонастроение безысходности,
предложив "позитивную", "конструктивную" и т.д. перспективу выхода из кризисной
ситуации.
Как известно, в США провозвестниками идеи кризиса буржуазной социологии
были (кроме неомарксистов Франкфуртской школы - Хоркхаймера, Адорно, Маркузе,
говоривших об этом еще до второй мировой войны) леворадикальные социологи: Р.
Миллс,
подвергший
(представленную
критике
американскую
"академическую
социологию»
структурным функционализмом Т. Парсонса) в 1959 г. в книге
"Социологическое воображение" (9); его последователи во главе с И. Хоровитцем;
наконец, Э. Гоулднер, написавший в 1970 г. книгу "Грядущий кризис западной
социологии" (5). В ФРГ, например, об этом кризисе и сейчас продолжают говорить
социологи-марксисты, в частности, Хорст Хольцер, выпустивший в 1982 г. в ГДР книгу
"Социология в ФРГ: Хаос теорий и производство идеологии"(7).
Своеобразие глубокого внутреннего кризиса западногерманской социологии,
обозначившегося, по его мнению, уже в 60-х годах, Хольцер связывает прежде всего с
утратой веры в американскую социологию точно так же, как и в американское
общество вообще.
Так вот, против этой обшей тенденции в буржуазной социологии (и в
обществознании вообще), получившей название "кризисного сознания", и начали
"поворачивать" западные социологи на протяжении 70-х годов как в США, так и в
Западной
Европе. В
противоположность "кризисному",
сознание буржуазных
социологов, предлагавших различные варианты "выхода" из кризиса социологии,
предстает как "стабилизационное".
4
Как выяснилось уже позднее - к середине 70-х годов, одним из существенно
важных источников обострения общего кризиса буржуазного сознания, получившего
отражение в западной социологии в виде "сознания кризиса" ее теоретических
оснований,
было
далеко
зашедшее
в
условиях
так
называемого
"общества
потребления", "общества вседозволенности", "гедонистического общества" и т.д.
разложение "протестантской этики" - этики индивидуального труда частной
инициативы и личной ответственности. Между тем, именно с нею, с этой "буржуазнопротестантской хозяйственной этикой", западные социологи, начиная с Макса Вебера
(проанализировавшим
этот
феномен
в
книге
"Протестантская
этика
и
дух
капитализма") (28), связывали экономические успехи капитализма "и "западной
цивилизации" вообще. В странах, капиталистического Запада это убеждение до сих пор
разделяется достаточно широкими кругами буржуазной интеллигенции, не говоря уже
о так называемом "среднем классе", обеспечивающем социальную стабильность
современному западному обществу. И именно по этой причине "открытие" того, что
буржуазная "хозяйственная этика" находится в состоянии глубокого разложения, не
могло не вызвать крайне отрицательных, с точки зрения "капиталистического
истэблишмента", идеологических последствий.
Тот факт, что на Западе резко упал этический престиж индивидуального труда,
личной инициативы и персональной ответственности был засвидетельствован, с одной
стороны,
целым
рядом
социологических
опросов,
касающихся
проблемы
"удовлетворенности трудом", взятой в связи с оценкой трудящимся значимости
"свободного времени", "досуга" и т.д., а с другой, - фактом широкого распространения
на рубеже 60-70-х годов (в особенности среди молодежи) идеологии контркультуры с
характерным для нее обессмысливанием труда и " тотальной войной" против трудовой
этики (см. в этой связи книги идеологов контркультуры - Рича "Зеленеющая Америка"
и Розака «Где кончается пустыня". -17, 18) Подобно тому, как инфляция, в условиях
экономического кризиса 70-х годов парадоксальным образом возрастала наряду с
безработицей, последняя не только не способствовала возрастанию престижа труда (в
особенности в глазах молодежи), но, наоборот, сопровождалась его падением.
Осознание и теоретическое осмысление этого обстоятельства углубило ощущение
общего
кризиса
буржуазного
миросозерцания
в
широких
кругах
западной
интеллигенции и "общего кризиса буржуазной социологии" - среди профессиональных
социологов. Ведь под вопросом оказались не больше и не меньше как "высшие
5
этические ценности" буржуазной цивилизации, образующие, согласно Веберу и его
современным последователям, исток и содержание «духа капитализма».
Однако на протяжении второй половины 70-х годов в этой же самой
идеологической атмосфере возникла и начала нарастать в противоположность ей принципиально иная мировоззренческая и теоретическая тенденция, направленная к
стабилизации буржуазного общественного и прежде всего нравственного сознания.
Первоначально она была связана с непосредственной реакцией самых различных слоев
американского общества на стремительный рост преступности. прогрессирующий
распад семьи, упорное нежелание определенной части молодежи трудиться и т.д.,
словом, всего, что на Западе стали называть общим "падением нравов", "упадком
нравственности", "моральным вакуумом", и проч.
С некоторым опозданием к этой столь же широкой, сколь и пестрой по своему
социальному
источнику,
волне
новых
умонастроений
присоединилась
часть
интеллигенции, возраставшая год от года. В теоретических и публицистических
работах 70-х годов этот сдвиг в умонастроениях интеллигенции отливался в форму
новой идеологии — идеологии стабилизации: сначала - нравственного сознания, затем общественного сознания в целом, наконец, буржуазного общества как такового. Эта
идеология и получила название неоконсерватизма. И только впоследствии, когда стало
очевидным, что речь идет о новых умонастроениях основной массы избирателей,
которые поддаются вполне определенной идеологической и пропагандистской
обработке, общая волна реакции на "моральный вакуум", образовавшийся в
современном капиталистическом обществе, была использована определенными
политическими силами для организации «сдвига вправо" оси политической жизни как в
США, так и в Западной Европе.
На фоне этого общего "сдвига" общественно-политического сознания, взятого,
разумеется, с учетом всей глубокой противоречивости образующих его тенденций и
устремлений, и следует понимать "поворот", характеризующий новейшую тенденцию
современной буржуазной социологии.
В соответствии с общим духом "морального перевооружения", с которым с
самого начала связывало себя современное "стабилизационное сознание", буржуазные
социологи, ищущие выход из "кризиса социологии", видят перспективу такого выхода
на путях не только методологического, но и этического "перевооружения" социологии.
Связь
этих
двух
достаточно
разнородных
моментов
"стабилизационного»
социологического устремления обеспечивается тем, что этическая проблематика, в
6
послевоенный период явно недооценивавшаяся буржуазными социологами 1, теперь
выдвигается
на
передний
план,
причем
именно
в
связи
с
проблематикой
социологической теории. Вновь актуализируется, приобретая характер злободневной
проблемы, сформулированная М. Вебером проблема "хозяйственной этики", т.е.
проблема сопряжения экономического и этического аспектов общественной жизни.
Поскольку же, по убеждениям самого этого социолога, в качестве "протестантской
хозяйственной этики" определенное сочетание этики и экономики стало основным
источником
"духа
капитализма"
вызвавшего
к
жизни
соответствующий
(капиталистический) тип общества, более того - тип цивилизации (европейскую
буржуазно-капиталистическую цивилизацию), постольку данная проблема выросла до
уровня философско-исторической.
Связывая, подобно М. Веберу, судьбу капитализма и западной "буржуазнокапиталистической цивилизации" с перспективой утверждения, распространения! и,
что теперь главное - сохранения соответствующей "хозяйственной этики", его
нынешние последователи (число которых скачкообразно возросло как раз на
протяжении последних 10 лет) пытаются прогнозировать дальнейшую» судьбу
капиталистического общества, отправляясь именно от социологического анализа
сегодняшнего состояния "этики индивидуального груда и личной ответственности" в
странах Запада. А коль скоро, опять же согласно социологическим исследованиям, это
состояние явно оставляет желать много лучшего, обещая к тому же гораздо более
мрачную перспективу как в ближайшем, так и в более отдаленном будущем, постольку
социологи в своей конкретной работе снова и снова сталкиваются с гой же самой
проблемой, которую давно уже ставят консервативные социальные философы и
публицисты: как стабилизировать "трудовую этику" на Западе? И можно пи сделать это
вообще, учитывая далеко зашедший процесс ее прогрессирующего разложения?
Для тех западных социологов, которые исходят из положительного ответа на
второй из этих вопросов, сам собой напрашивается если не ответ на первый вопрос, по
крайней мере подход к нему. Нужно вернуться к истокам искомой ""трудовой этики",
т.е. ко временам генезиса капитализма, и, проанализировав методом сравнительноисторической социологии, как она формировалась в прошлом и какие социальные
факторы способствовали тогда ее утверждению и укреплению, предложить нечто в
роде "модели" условий стабилизации нравов, привычек и традиций, которые
обеспечивали бы "ре-активацию" хозяйственной этики капитализма.
7
Подобный ход мысли прослеживается, в той или иной мере дает о себе знать в
целой серии работ 70-х годов, посвященных веберовской социологии2, хотя, разумеется
в каждой из них предлагается своя - более оптимистическая или, наоборот, более
пессимистическая - вариация этой исходной темы. В данной связи представляют
интерес работы Бенджамина Нелсона, - начиная с его статьи "Веберовская
протестантская этика" (14) и кончая его докладом " "Макс Вебер и трудности и
дилеммы
современной
универсально
рационализированной
постхристианской
цивилизации" (12), ср. также его книгу, вышедшую в 1977 г. в ФРГ под названием
"Происхождение современности" (13). Обращают на себя внимание работы В.М.
Шпронделя, начиная с опубликованной в 1973 г. статьи "Социальное изменение, идеи и
интересы: Систематический анализ "Протестантской этики" Макса Вебера» в сборнике
"Религия и общественное развитие: Штудии к веберовскому тезису относительно
протестантизма-капитализма" (25). Весьма симптоматична также работа В. Шлюхтера
"Парадокс рационализации»: К характеристике отношения "этики" и "мира" у Макса
Вебера", опубликованная в 1976 г. (21) и давшая толчок целому ряду более поздних
исследований этой проблемы в социологии ФРГ3.
Столкнувшись
с
вопросом,
оказавшемся
в
точке
пересечения
этики,
политэкономии и философии истории, современные - злободневно ориентированные (и
не лишенные претензии не только на "прогноз будущего", но и на активное участие в
осуществлении этого прогноза) - западные социологи обнаруживают возрастающий
интерес к социальным мыслителям, работавшим в духе сравнительно-исторической
социологии и сосредоточивавшим свое исследовательское внимание на вопросе о
генезисе капитализма и его культурно-исторической специфике. А среди них,
разумеется, на первом месте оказывается Макс Вебер, который, как известно, не только
выдвинул идею связи "духа капитализма" с протестантской "хозяйственной этикой", но
также увидел в самом факте существования подобной связи этики, с одной стороны, и
экономики — с другой, культурно—историческое своеобразие современной "западной
цивилизации"; в отличие от индийской, китайской и т.д.
О таком смещении социологического интереса, результатом которого оказалось
возрастание исследовательского внимания к теоретическому наследию Макса Вебера,
достаточно выразительно свидетельствуют, например, содержание сборника "Макс
Вебер и рационализация социальной деятельности", изданного в 1981 г. в ФРГ { 8 3 по
материалам коллоквиума, проведенного Архивом социальных наук в Констанце. В
предисловии к этому сборнику, написанному его редакторами-издателями Шпронделем
8
и Зайфаргом, сегодняшний интерес к Веберу сопрягается с возрождением интереса "к
эволюционным аспектам социокультурного изменения" и их роли в "образовании
социально—научной теории" (26, с. V). Хотя, как признают авторы предисловия,
веберовское мышление было ориентировано "антиэволюционистски", творчество
Вебера тем не менее содержит стимулы, побуждающие современных западных
социологов углубляться в "эволюционные аспекты» социокультурных изменений. И,
как следует из дальнейшего изложения замысла сборника материалов, посвященного
Веберу, эти стимулы связаны именно с особенностями веберовского подхода,
комбинирующего, с одной стороны, сравнительно-исторический и универсальноисторический анализ, а с другой — основополагающую социологическую теорию,
включающую
определенную
схему
развития
и
"кульгурсоциологическую
конструкцию" (26, с. V-VI).
Причем, как свидетельствует уже названный сборник, обращение к проблематике,
находившейся в центре внимания Вебера, - например, к той же проблеме
"рациональности, рационализации и рационализируемости рационального действия»"
(так формулируют основную веберовскую проблему редакторы-составители сборника),
— не только не отдаляет исследователей творчества этого немецкого социолога конца
XIX- первых двух десятилетий XX в. от сегодняшних социологических дискуссий, но,
наоборот, приближает к ним, открывая им теоретический нерв" нынешних споров.
"...Эта тема, — пишут Шпрондель и Зайфарт, имея в виду веберовскую тему
рациональности и рационализируемости социального действия, — всегда уже какимлибо образом, эксплицитно или имплицитно, определяет обсуждение основоположений
социальной науки и одновременно различные попытки метатеоретического и
методологического обоснования социологии» (26, c.V).
Иначе говоря, Вебер представляется нынешним западным социологам одной из
тех ключевых фигур, обращение к которым открывает перспективу плодотворного
обсуждения
затянувшимся
принципиальных
кризисом
вопросов
социологии.
социологической
Неслучайно
теории,
обсуждение
заостренных
вопроса
о
рациональности у Вебера оказалось "силовым полем", в которое были втянуты едва ли
не все "сфинксовы проблемы" современной западной социологии: «Развитие структур
рациональности в области религии, права, политики, профессиональной деятельности и
воспитания, в области науки, хозяйства и техники, равно как и его значение для
социокультурного развития в целом и к тому же его роль в процессе перехода к Новому
времени и в динамике общественного развития в Новое время (развитие политического
9
и бюрократического господства; оценка различных типов рациональности, напряжения
между бюрократизацией, демократизацией и рационализацией и т.д.) "«(26, c.V). И все
эги сюжеты обсуждаются на страницах сравнительно небольшого (265 страниц,
включая большой справочный аппарат сборника). А ведь этот сборник - только один из
примеров, взятых из потока книг, посвященных Веберу.
Специфический
интерес
к
веберовской
сравнительно-исторической
-
—
"понимающей" социологии стимулируется в настоящее время также выделением в
специальную область социологического знания социологии развития, проблемным
узлом которой является взаимоотношение промышленно развитых стран со странами
развивающимися,
находящимися
на
самых
различных
ступенях
социально-
исторической эволюции. Здесь все время приходится иметь депо с социальными (и
социокультурными) структурами не просто переживающими различные фазы
общественно-исторического развития, но и сталкивающимися, вступающими во
взаимодействие друг с другом в сегодняшней действительности - в конкретноэмпирическом
"пространстве
одновременности".
Конфликты
и
трудности,
возникающие при этом, получают в современной социологии развития осмысление в
понятиях, получивших, в частности, углубленную разработку в рамках сравнительноисторических
социологических
сопоставительного
анализа
исследований
"хозяйственной
Вебера,
этики"
например,
мировых
в
рамках
религий
и
соответствующих регионов, где они имеют наибольшее распространение.
2. Особенности "веберовского ренессанса"
По этим причинам и возникло в западной социологической жизни и литературе
характерное явление, получившее название «веберовского ренессанса". И если,
например, западногерманский социолог Рихард Мюнх, все еще предпочитающий
Веберу Парсонса, выражается по этому поводу более осторожно, говоря о "заметном
оживлении дискуссии о Вебере в последние годы" (10, с. 774), то Вальтер Шпрондепъ,
Констанс Зайфарт, Элизабет Конау и Герт Шмидт в коллективной статье в связи с 80летием Иоханна Винкельмана - известного исследователя творчества М. Вебера и
издателя его трудов — с полной определенностью говорят именно о "веберовском
ренессансе", связывая с ним конструктивную социологическую перспективу.
"В 70—е годы, в особенности в самое последнее время, -пишут авторы этой
примечательной статьи, — немецкая социология переживает ренессанс Вебера,
представляющий собою нечто иное, чем наплыв литературы о Вебере в связи со 10010
летием со дня его рождения в 1964 и 50-летия со дня смерти в 1970 г. Этот ренессанс
мог бы показаться неожиданным и непонятным перед лицом "прогресса" социологии.
По нашему мнению, в нем находят свое выражение сдвиги и новое понимание
социологии" (24, с. 7).
Хотя и в других странах капиталистического Запада количество работ о Вебере
ежегодно возрастает в гораздо большем темпе, чем раньше, сегодня в этом отношении
явно лидирует ФРГ, да и само содержание западногерманских работ, равно как и
оживленные дискуссии, которые они вызывают среди социологов Федеративной
республики, свидетельствует о том, что эпицентр "веберовского ренессанса" находится
в настоящее время именно в Западной Германии. И в той мере, в какой в рамках
"веберовского ренессанса" выдвигаются в настоящее время новые социологические
идеи, в данной связи можно говорить также и о том, что, соответственно, перемешается
в Западную Европу также и "эпицентр» современных, теоретических новаций в
буржуазной социологии. Особенно выделяется здесь ФРГ, где теоретическая мысль,
увлеченная перспективой выхода из кризиса социологии на путях "целостной
интерпретации» Вебера и "новой реконструкции" основных идей его сравнительноисторической "понимающей" социологии, работает особенно напряженно. Причем
характерно, что эта тенденция нарастает «снизу", со стороны исследователей,
работающих в конкретных областях социологии.
Как пишут Шпрондепь и Зайфарт в другом месте (в предисловии к сборнику
"Макс Вебер и рационализация социального действия"), в рамках нынешнего интереса
к фундаментальным категориям веберовской социологии, в том числе и к категории
рациональности, перспектива этого интереса "определяется социологически в точном
смысле слова" (26 с. VI ). Между тем, в 60-е годы в литературе, вышедшей в связи со
100-легием со дня рождения Вебера, перспектива этого интереса была, скорее
социально-фило-софской, поскольку гон обсуждения веберовской проблематики
задавали тогда, во-первых, философы, во-вторых, экономисты и историки, « но не
социологи (там же). По этой причине, - делают вывод Шпрондель и Зайфарт,
"веберовская социологическая трансформация" таких проблем, как "рациональность",
"рационализация", "рационализируемость социального действия", взятых к тому же на
фоне
веберовских
"сравнительно-исторических
и
универсально—исторических
анализов", до сих пор еще остается "неисчерпанной" (там же). С этим обстоятельством
и связана та особенность нынешнего "ренессанса Вебера", что, его инициаторами и
провозвестниками выступают не социальные философы, равно как и не историки и
11
экономисты,
а
социологи-профессионалы,
специализирующиеся
в
предметных
социологических областях — индустриальной социологии и социологии yправления,
социологии политики и социологии интеллигенции, не говоря уже о специалистах в
области социологии религии и социологии права.
В статье с характерным названием "Вклад Макса Вебера в эмпирическое
исследование индустрии" Г. Шмидт все время подчеркивает, что Вебер интересует его
(и представляемую им группу социологов, работающих в специальных предметных
областях) именно с точки зрения разработки новой
стратегии конкретного
социологического исследования, в частности, и исследования в области социологии
индустрии. Прикладные социологические дисциплины, по его мнению, нуждаются в
таком "исследовательски-стратегическом сознании", которое объединяло бы изучение
своего предмета в аспекте "проблемной ситуации", с одной стороны, и "проблемной
перспективы" — с другой, сделав это на базе методологического отождествления
общественных "проблемных ситуаций и проблемных перспектив" (22, с. 88).
Напомним, что все это говорится не в связи с общесоциологической проблематикой, но
в связи с проблематикой предметных областей социологического знания.
Сегодня, как правило, необходимость обращения к Веберу мотивируется вполне
конкретным
социологическим
интересом,
возникающим
в
рамках
отдифференцировавшихся областей социологии, испытывающих потребность в такой
методологии, которая полностью учитывала бы качественную специфику предмета
исследования — как он выступает в пределах каждой из областей. Этому интересу и
отвечает стремление Вебера разрабатывать социологическую методологию не только с
помощью развития некоторых "общих идей", но и с помощью поддающихся
конкретизации и спецификации "аналитических понятий", вырабатываемых на путях
углубленной теоретической обработки вполне "эмпирического" материала социальноисторической реальности. Способность органически связать конкретно-эмпирический
уровень исследования с абстрактно-теоретическим, поставив с помощью сравнительноисторической методологии исследуемый факт" в широкую социально-историческую
рамку, — вот чем впечатляет Вебер нынешних социологов, явно "уставших" от того
разрыва теории и эмпирии, под знаком которого до сих пор совершается развитие
буржуазной социологии. Поскольку же этот разрыв» воспринимается западными
социологами как одно из проявлений (и "фермент") кризиса социологии, постольку и в
этом отношении "возврат" к "понимающей" социологии Вебера" также связывается с
надеждами на "преодоление" этого кризиса (24, с. 7-9).
12
Разумеется, тот факт, что интерес к общей социологической теории и «
методологии нарастает в социологии ФРГ «снизу», из сферы конкретного исследования
в предметных областях социологической науки, не отменяет (и нам предстоит
убедиться в этом не раз) традиционного для социологического знания движения
"сверху" — от теоретико-методологического уровня к эмпирическому. Стимулируемые
увеличение интереса социологов - "прикладников» особенно в ФРГ (что также
свидетельствует о перемещении "эпицентра» социологических "новаций" в эту страну),
к стратегической проблематике социологических исследований, т.е. к тем проблемам,
которые будут определять направление конкретных исследований завтра, социологи "теоретики" предпринимают дополнительные усилия, чтобы по крайней мере, не
отстать от этого общего процесса. Этим их усилиям опять-таки способствует
"ренессанс Вебера" — социолога, известного не только своими исследованиями,
положившими начало ряду предметных областей социологического знания, но и
обостренной "социологической рефлексией", о необходимости которой так много
говорили (и говорят) на Западе в связи с "кризисом социологии".
3. Программные установки "веберовского ренессанса"
Само собой разумеется, что уже сам факт неуклонного возрастания интереса к М.
Веберу в западной социологии на протяжении прошлого десятилетия должен был
вызвать попытки его теоретического осмысления. Хотя эти попытки и не заставили
себя долго ждать (тем более, что каждый из авторов, выступавших с новой работой о
М. Вебере, должен был так или иначе мотивировать свой интерес к нему, связав его с
более широким социологическим интересом), однако более или менее развернутые из
таких попыток начали появляться лишь на рубеже 70 - 80-х годов. Одна из них была
предпринята авторами уже цитированной нами статьи о Винкельмане, в которой
утверждалось "программное" значение возрастающего интереса социологов (во всяком
случае - западногерманских) к веберовскому теоретическому наследию, а также
предлагалось нечто в роде "сводки" программных положений "веберовского
ренессанса": причем не только применительно к его прошлому и настоящему, но и
будущему.
"Возврат к "понимающей" социологии Вебера...- утверждают авторы статьи, связан с преодолением многократно обсуждавшегося "кризиса" социологии, который
не может быть понят соответствующим образом безотносительно к последствиям
быстрой экспансии и институционализации социологии — ее "обобществления"
13
(Vergesellschaftung) Веберовский способ анализа и его имплицитная исследовательская
программа делаются объектом нашего внимания в меру их актуальности, когда
становится неотвратимым вопрос, не имеет ли социологическое исследование сегодня
дело с фундаментальными трудностями науки о действительности (24, с. 8-9).
"Экспликацию" этой "исследовательской программы", не выявленной самим
Вебером, по утверждению авторов статьи, впервые предпринял именно Иоханнес
Винкельман, заложивший тем самым прочный фундамент будущего "веберовского
ренессанса". "Современный веберовский ренессанс, — говорится в статье, —
базируется, особенно в аспекте его текстовой основы (что в других странах признано в
несравненно большей степени, чем в ФРГ), на работах Иоханнеса Винкельмана" (24, с.
1). Причем его научно-исследовательская деятельность вовсе не ограничивалась чисто
текстологической
стороной
дела:
"Винкельман
связывает
с
Вебером
общее
представление о "науке как форме жизни". А это делает для него возможным, исходя из
веберовских, текстов и в полемике с ними, сформировать "конструкт Вебера", который
определил всю его работу», В свете этого "конструкта" Вебер предстает у Винкельмана
как ученый, осуществивший "для методологии наук о культуре и социальных наук тот
самый поворот, который для естествознания означала теория относительности
Эйнштейна» (24, с. 5).
Идея, согласно которой обоснование Вебером социологии как науки о
социальном действии представляло собой радикальный поворот, проникающий в
самый корень поворота от XIX в. к XX,и была положена И. Винкепьманом в основу его
"экспликации» веберовской исследовательской программы. В свою очередь авторы
статьи о нем характеризуют эту программу как имеющую актуальную значимость для
"сэвременного вебеоовского ренессанса».
"Обращенный против, позитивизма, историзма [в смысле "историцизма". -Авт.],
психологизма и исторического конструктивизма, этот [вёберовский, - Авт.] поворот согласно принципиально важному тезису статьи — означает обоснование познания на
базисе исторического реляционирования"(24, с. 6). В изображении Винкельмана и,
соответственно, следующих за ним провозвестников веберовского ренессанса, — Вебер
предстает прежде всего как исследователь всеобщей социально-экономической
истории, на базе которой и вырастает веберовская "большая социология". Последняя,
если верить Винкельману и авторам статьи о нем, не только, не была завершена самим
Вебером, но и не выявилась адекватным образом в "авторизованных" веберовских
текстах. И задача поэтому состоит в том, чтобы сделать за Вебера то, что он не успел
14
сделать сам: опираясь не только на прямые, но и на косвенные веберовские
свидетельства, не только на "авторизованные" но также и на "неавторизованные"
тексты социолога, сделать обозримой для всех его "большую", универсальноисторическую, социологию. Имеется в виду социология, понятая как всеохватывающая
"эмпирическая наука об обществе и культуре в истории" (24, с. 6).
Последовательное решение подобной задачи возможно только в том случае, если
"актуальность Вебера усматривается именно в этой универсальности его мышления",
— тезис, звучащий в статье как программный лозунг "веберовского ренессанса", как
ведущая идея современной "реактивации" веберовской социологии.
Вместе с Винкельманом (а подчас и за него) авторы статьи выделяют наиболее
существенные, по их мнению, аспекты веберовского творчества, изучение которых и
должно, по всей видимости, представить "большую социологию" Вебера в адекватном
освещении, соответствующем внешнему уровню развития социологии. В связи с
характеристикой "предметного ядра" творчества Вебера, как оно выявляется в его
фундаментальном груде "Хозяйство и общество", они выдвигают на передний план
«социологию господства», взятого в его отношении к современному "политическому
гемайншафту" и рациональному государственному управлению, и в ее [социологии
господства, — Авт.] связи с социологией права и социологией управления" (там же).
В противоположность увлечению веберовской теорией развития религии и
рационализации", выдвинувшейся в последнее время в центр социологической
дискуссии, в статье утверждается, что на самом деле "не менее важной для понимания
творчества Вебера" должна быть "экспликация структуры и динамики господства,
специально также традиционного и харизматического господства — в особенности с
привлечением социологии права и социологии управления» (там же). При этом авторы
рекомендуют ограничить "исторически ориентированную специализацию теории
господства на типологии", найдя здесь место для скорее" имплицитной теории
революции» Вебера, о которой "Винкепьман неоднократно докладывал на семинарах"
(24, с. 6-7). Наконец, в той же связи в статье обращается внимание на "до сих пор не
осуществленный» винкельмановский замысел: проследить на основе веберовскик
текстов и имевшейся в распоряжении Вебера литературы "культурное значение
протестантизма для развития западной формы господства» (24, с. 7).
Подчеркивая "глубокую антипатию" Винкельмана к распространенному в
западном вебероведении "методическому изолированию" понятия "рациональности
цели-средства», с тем чтобы найти в этой категории "ключ к творчеству Вебера",
15
авторы статьи утверждают, что именно винкепьмановская оппозиция к такому подходу
позволила исследователю веберовского наследия разрешить контроверзу "легальности
и легитимности" у Вебера, "которая до сих пор кажется неразрешенной". Причем
руководящей идеей Винкельмана, на которую он опирался, реконструируя веберовское
решение этой контроверзы, была, как утверждается в статье, мысль о различии
рациональной и повседневно-упрощенной модификаций отношений господства —
"мысль, указывающая направление истолкованию Вебера" (там же).
Однако самое главное и основное, что акцентируется в статье как поучительная
особенность винкельмановских интерпретаций Вебера, — это их "дух", отвечающий
веберовскому
творчеству.
Согласно
решающей
установке
Винкельмана-
интерпретатора, "постижение целостности" важнее, чем попытка реформулирования
Вебера в терминах замкнутой теории". Авторы статьи выражают одобрение по поводу
того обстоятельства, что у Винкельмана нигде нельзя встретить ни одной попытки
втиснуть веберовскую концепцию или аргументацию "в четырех-шести или
девятиклеточную
таблицу"
(гам
же).
В
противоположность
"бесчисленным
сегментализациям" творчества Вебера" в форме рядоположенных безо всяких
опосредовании обособленных тем (Макс Вебер как социолог религии, социолог права,
социолог музыки, социолог политики и т.д.)", - у Винкельмана, согласно статье,
веберовская социология действительно предстает как объединяющая "опытная наука о
человеке и обществе в истории" (24, с. 7).
В конце концов мысль о "целостном" понимании Вебера оказывается основным
программным положением нынешних провозвестников "веберовского ренессанса",
вновь и вновь повторяющих его. ссылаясь на авторитет всемирно известного
исследователя и издателя сочинений Вебера. "Мысль о том,— говорится в статье,, —
что актуальность Вебера заключена в самом его конструктивном принципе,
противостоит все новым и новым попыткам сперва актуализировать его социологию, а
затем, как бы дополнительно, задним числом предложить принцип конструкции" (гам
же)4.
Все сказанное в статье о Винкельмане как исследователе и истолкователе
веберовского наследия, нашедшем адекватный подход к нему, и обеспечило, по
мнению ее авторов, исключительную актуальность винкельмановского влияния на
западногерманскую социологию. "Воздействие Иоханнеса Винкельмана приходится на
тот период, когда ситуация немецкой социологии заметно изменилась, что отразилось
также и в развитии рецепции Вебера", принявшей характер "веберовского ренессанса»
16
(24, с. 7). Авторы статьи считают, что "веберовский ренессанс есть ... выражение
экспансии социологии и связанных с ней дифференциаций внутри социологии...» ч
Наконец,
"ренессанс»
этот
является,
по
их
мнению",
"рефлексом
на
институционализацию социологии и сопряженную с ней разработку ее собственной
истории" (24, с. 7-8).
К сожалению, предостерегают авторы статьи, "веберовский ренессанс" рискует
стать формой, в которой «учебные отрывки" из Вебера, его "основные понятия", "типы
господства", "статья об объективности", "статья о свободе от ценностей: и т.д.
"встраиваются в учебное и исследовательское производство» и встраиваются, конечно,
чисто ритуально, без видимых предметно-содержательных последствий. В этих случаях
творчество Вебера предстает как "каменная глыба", а его отдельные фрагменты — как
осколки, вырываемые из целого с "прагматическими" цепями. Между тем "отдельные
понятия, как, например, социальное действие или обобществление, либо такие типы,
как, например, харизматическое господство или бюрократия, либо также специфически
веберовские перспективы, теории развития, как, например, "рационализация» или
«разволшебствление", — все это не может быть осмысленно использовано, если не
определено его место в обшей связи веберовского творчества и его развития и если оно
не рассматривается на пинии понимания исследования, которая является для Вебера
решающей инстанцией. Повсюду распространенная изолированная рецепция, скажем,
«теории» бюрократии или понятия цеперационапьной деятельности, быстро уводит
прочь от Вебера" (24, с. 9).
Все это и есть пагубная "фрагментаризация» теоретического наследия Вебера,
которая возникает с тем большей легкостью, что «предвосхищающие экскурсы Вебера
в такие частные области социологии, как аграрная социология, социология культуры,
социология
идеологии,
социология
воспитания
и
профессий,
социология
интеллектуальных слоев... еще сегодня содержат значительные творческие импульсы
(24, с. 9-10). Против такого раздробления веберовского творчества и хотели бы
предостеречь провозвестники — истинного, в отличив от ложного, — веберовского
ренессанса» — возрождения "большой", "универсально-исторической" социологии
Вебера, внутренне организованной вокруг единого "конструктивного принципа", из
оживотворящего ее исследовательского "духа".
Предлагая свою "программу",,определяющую исходный принцип и основные
направления «возрождения" и реактивации веберовского социологического наследия,
авторы статьи об И. Винкепьмане опираются также на тенденции вебероведения,
17
наметившиеся на Западе в самое последнее время. Они противопоставляют "новейшие"
исследования, посвященные Веберу, тем, что проводились ранее и были, скорее,
"естественно возникшей" определяемой случайной доступностью текста, рецепцией,
которая осуществлялась, по сути цела, не социологами, например, историками,
философами и геологами» (24, с. 8).
В целом же, согласно статье об И. Винкельмане, современное обсуждение
веберовской проблематики отличается:
-во-первых, тем, что оно проходит на фоне подготовки историке—критического
собрания сочинений и писем Макса Вебера;
-во-вторых, стремлением определить место Вебера в истории интеллектуального
развития,
связь
его
мышления
с
идеями
и
понятиями
современников
и
предшественников (при этом упоминается статья Г. Кюнцлена о неизвестных
источниках социологии религии Вебера, книга X. Шпеера, посвященная проблематике
веберовской социологии господства и социологии города и книга Д. Кеслера, вводящая
в изучение веберовского социологического наследия вообще:);
— в—третьих, обновлением и проработкой вспомогательной литературы о
Вебере (документация, касающаяся исторического контекста веберовского творчества,
как взятого в целом, так и в отдельных его аспектах; справочно-библиографическая
литература и т.д.);
-в-четвертых, стремлением к "актуализирующей и де— контекстуализируюшей»
интерпретации социологии Вебера и систематизации ее центральных элементов (в этой
связи упоминаются две книги 6 Вебере, вышедшие в 1979 г. — В. Шпюхтера "Развитие
западного рационализма" и Р. Прево "Научная программа Макса Вебера") (20, 16).
Как специально подчеркивается в статье, "это новое изучение Вебера по
преимуществу осуществляется "специалистами" в области социологии, которые не
находятся более — ни в негативном, ни в позитивном смысле — всецело под обаянием
личности, "фигуры" Макса Вебера" а скорее "профессионально" систематизируют,
упорядочивают и классифицируют в- различных направлениях веберовские работы.
Рецепция Вебера идет навстречу внутреннему решению: Вебер становится классиком, о
творчестве которого могут быть предприняты работы, подобные названным выше" (24,
с. 8). Тот факт, что Вебер воспринимается современными западногерманскими (и не
только западногерманскими) социологами как классик, исполнен для авторов статьи о
Винкельмане глубокого смысле, поскольку свидетельствует о современном состоянии
социологии, во всяком случае в ФРГ: "Если Вебер, таким образом, становится
18
"классиком", то это, конечно, может означать, что решающий мотив веберовского
ренессанса отступает на задний план. «Возврат к веберовской "понимающей»
социологии
связан
с
социологии"
(там
же).
преодолением,
Таким
многократно
образом,
программа
обсуждавшегося
"кризиса»
веберовского
ренессанса
растворяется в гораздо более далеко идущей программе преодоления кризиса
буржуазной социологии.
С точки зрения содержательно-теоретической, такое изменение положения
Вебера в современной западной культуре означает также, что ему уже нельзя
предъявлять требование, чтобы он по-прежнему «выступал как главный свидетель
исследовательской методологии причинного объяснения н скороспелого образования
теории", ибо Вебер, согласно нынешним провозвестникам «веберовского ренессанса»,
прежде всего "практик»" понимающей и типологически конструирующей социологии»
(24, с. 9).
Там, где встает вопрос об отношении "веберовского ренессанса" к более глубокой
проблеме — проблеме определения перспективы преодоления современного кризиса
буржуазной социологии, авторы статьи идут на риск вступить в конфронтацию с самим
Вебером, выдвигая одни его работы как образцовые и отодвигая другие как не
соответствующие этой перспективе. "Что, по нашему пониманию, отличает Вебера, пишут В.М. Шпрондель и его соавторы, — это его социологическая исследовательская
практика,
т.е.
его
предшествующих
"искусство»
пониманию
типологически
исторических
ориентированной
и
экспликации
эмпирических
связей.
Парадигматическим образом это обнаруживается в "Протестантской этике". Что же
касается веберовского "Наукоучения" и пагубных по своему воздействию основных
понятий этого труда, то здесь, если верить авторам статьи, " не всегда ясно выражается
"дух" веберовской исследовательской перспективы и способа исследования" (24, с. 9).
В заключении статьи, которая все больше становилась "программированием»
общего направления, в русло которого ее авторы хотели бы ввести "веберовский
ренессанс" (по крайней мере в ФРГ), они формулируют "руководство» по дальнейшей
разработке веберовских идей, состоящее из пяти пунктов. "Необходимы: во-первых,
тщательный учет исторических предметных исследований о времени [Вебера. -Авт.];
во-вторых, представление об имеющих хождение в его время, следовательно,
предшествовавших работе Вебера пониманиях и понятийных структурах; в-третьих,
объяснена изменений, которые эти понимания и системы понятий испытали у Вебера;
в—четвертых,
-
понимание
"теоретической"
концепции
и
исследовательски19
программного "духа» его работ; и, наконец, в-пятых, - включение достигнутого с
веберовских времен состояния исследования".
К ним добавляется также "требование" веберовской "исследовательской
программы", которая, как пишется в статье, "требует постоянного, предполагающего
напряженные
усилия
комбинирования
исторических
(эволюционно—
ориентированных) исследований частных случаев, какие сам Вебер предпринимал в
рамках изучения протестантизма и сравнительных религиозно-социологических
штудий, равно как и шаг за шагом осуществляемой понятийной ревизии, если
необходимость таковой достаточно определенно удостоверяется исследуемыми
обстоятельствами дела» (24, с. 10).
Этот подход и призван, по убеждению авторов статьи, обеспечить выявление
социологической»
"мегапарадигмы",
выразителем
которой
—
среди
прочих
"классиков» — был также и Вебер и современное осмысление которой так важно для
западной социологии, ищущей выхода из своего затянувшегося кризиса.
Хотя "программа" которую формулировали в качестве обшей перспективы
нынешнего "веберовского ренессанса» его предметно-социологически настроенные
провозвестники, утверждалась как будто от «имени всех (по крайней мере
западногерманских) социологов, так или иначе вносящих свой вклад в "реактивацию»
наследия Вебера, на самом деле она выражала только одну - (назовем ее условно
"винкельмановской") тенденцию этого в общем-то довольно нестроги и разноречивого
социологического устремления. Как свидетельствуют, например, работы И. Вайса,
наряду с этой со всей определенностью заявляют о себе иные тенденции, связанные с
другим
представлением
о
перспективах
"веберовского
ренессанса",
иначе
мотивированные с точки зрения идейно-теоретической. Неслучайно самим авторам
статьи о И. Винкельмане пришлось заключая ее, сделать некоторые» оговорки» даже по
поводу тех новых работ о Вебере, которые в их же тексте фигурировали как симптом
"нового веберовского ренессанса».
Согласно заключению статьи, "попытки реконструкции и экспликации, как они
недавно были предприняты Прево и Шлюхтером ... по существу опираются на
современные социологические или социально-психологические системы понятий. При
этом на задний план отступает особенность веберовской социологии, типологический
проект (Entwurf), конструкцию которой всегда имеет основание в вещах (фундаментум
ин ре). Классификагорские, формально-аналитические систематизации и (или)
20
иерархизации "линеаризуют» Вебера в отношении его исследовательски-программной
ориентации" (24, с. 10).
Как видим, здесь также обнаруживается раскол между "винкельмановски"
(скажем
так)
ориентированными
провозвестниками
"веберовского
ренессанса,
желающими "предписать" ему свою собственную "программу", с одной стороны, и
теми авторами, которые, не пытаясь "программировать" перспективу возрождения
Вебера, вносят свой вклад в развитие и углубление интереса к этому основоположнику
немецкой буржуазной социологии XX в. своими конкретными исследованиями о нем.
Камнем преткновения при этом оказывается вопрос, искать ни у Вебера ответа на
"проклятые проблемы», с которыми столкнулась ныне буржуазная социология,
стремящаяся найти выход из затянувшегося кризиса, или, наоборот, решать "загадку
Вебера", отправляясь от современных социологических представлений? В первом
случае (Шпрондель и его соавторы по статье о Винкельмане) вопрос о кризисе ставится
более радикально: кризис представляется настолько глубоким, что выход из него
предлагается искать с помощью обращения к теоретическому наследию автора, вообще
находящегося "за пределами" нынешнего "социологического истэблишмента". Во
втором случае (Шлюхтер, Прево и др.) социологический кризис не представляется
настолько глубоким, чтобы современные социологические воззрения мешали бы в
решении "загадки Вебера", наоборот, только отправляясь от них, кажется возможным
более адекватно постичь саму веберовскую социологию.
В первом случае выход из кризиса социологии предполагается вообще
немыслимым без обращения к Веберу и его - подлежащей реконструкции — "большой
социологии". Во втором - выход из кризиса в общем-то мыслится возможным и без
обращения к веберовской социологии, хотя ее современное осмысление и не
исключается как один из позитивных моментов процесса нынешней "стабилизации"
буржуазной социологии. В одном случае сегодняшняя западная социология предстает
как
жизненно
заинтересованная
в
углубленном
освоении
веберовского
социологического наследия: современность заинтересована в адекватном прочтении
Вебера гораздо больше, чем его наследие — в проясняющих анализах современных
представителей буржуазной социологии. В другом случае, наоборот, кажется, что
именно веберовское наследие нуждается для своего адекватного постижения в
"современном прочтении": Вебер — будь он жив — был бы гораздо больше
заинтересован в современной западной социологии, чем она — в нем. Таким образом,
уже здесь, на уровне самой общей постановки вопроса "Вебер и современность»,
21
прочерчиваются по крайней мере две линии (в рамках одного и того же "веберовского
ренессанса") — более радикальная (в смысле критичности оценки современной
социологической ситуации и значения правильно истолкованного — веберовского
наследия как спасительного средства от "кризиса социологии") и менее радикальная,
для которой обращение к Веберу — лишь один из моментов движения современной
западной социологии по пути "стабилизации".
В плане собственно теоретическом осознание этой ситуации побуждает
радикально
настроенных
провозвестников
«веберовского
ренессанса"
задаться
вопросом ("простым и одновременно труднейшим, который встает в свете
современного прочтения Вебера"): "Как должна была бы выглядеть общая теория
социального действия, которая была бы одновременно адекватна духу веберовской
социологии и удовлетворяла современным требованиям" (24, с. 10)? В конце концов
этот вопрос оказывается центральным в рамках нынешнего "веберовского ренессанса",
однако таким вопросом, который не столько объединяет, сколько разъединяет западных
социологов, апеллирующих к Веберу. Хотя, разумеется, сам факт подобной апелляции
различных социологов к одной и той же социологической традиции мог бы выглядеть
— и действительно выглядит при поверхностном рассмотрении — как свидетельство
общности
нынешних
устремлений
представителей
достаточно
различных
социологических ориентации, решающим, как мы убедились, оказался все-таки не факт
апелляции к одной и той же фигуре, а то, с каких позиций, в русле каких
социологических устремлений к ней апеллируют.
Как свидетельствуют явления, имеющие прямое отношение к "веберовскому
ренессансу", "стабилизационные" тенденции современной буржуазной социологии
остаются пока что всего-навсего лишь благими намерениями и более или менее
разнонаправленными попытками найти выход из ""ситуации кризиса", в которой
находится
западная
социологическая
мысль.
Причем
как
раз
сама
эта
-
разнонаправленность и разнохарактерносгь попыток найти выход из состояния
несовместимости конкурирующих друг с другом "парадигм", к которым тяготеют
различные направления, течения и школы современной буржуазной социологии, лишь
подчеркивает глубокую противоречивость, антиномичность задачи, постав— пенной
перед собою выразителями "стабилизационной" социологической тенденции.
4. Идеологические аспекты "веберовского ренессанса"
22
Существенной идеологической особенностью нынешнего "ренессанса Вебера"
является тот факт, что он пришел на смену «ренессансу Маркса» в буржуазной
социологии, имевшему место в 60-е – начале 70-х годов.
"Ударной силой", пробившей дорогу Марксу (разумеется, соответствующим
образом истолкованному) в буржуазный "социологический истэблишмент", был, как
известно, "неомарксизм", ставший важнейшим социально-философским истоком
леворадикальной социологии5. По мере утраты "неомарксизмом" и леворадикальной
социологией своих позиций в 1970-х годах (а утрачивали они их, в частности, потому,
что не смогли учесть возрастающего интереса социологической аудитории к этической
проблематике, к осмыслению " -стабилизирующих" социокультурных факторов и т.д.)
исчерпывался и "марксистский ренессанс" в буржуазной социологии6.
Правда, в общем интерес к К. Марксу в буржуазной социологии не угасает — К.
Маркс постоянно фигурирует первым в триаде основоположников современной
запасшей социологии: «Маркс - Вебер - Дюркгейм". Но интерес этот не имеет уже
характера "моды" и "ажиотажа», как это было не Западе, скажем, во второй половине
60-х гонов. Судя по всему, объектом такого ажиотажа является сегодня в буржуазной
социологии именно Вебер, хотя "веберовский ренессанс" находится в определенной
зависимости от "марксистского", так что, по мнению, например, западногерманских
социологов, "ренессанс Вебера" "несомненно следует рассматривать прежде всего в
многослойной связи со спадом марксистской волны (24, с. 7-8) на Западе.
Провозвестники "ренессанса Вебера», начиная с Иоханнеса Вайса, выпустившего
свою книгу об этом социологе еще в 1975 г., и кончая авторами только что
рассмотренной нами статьи, пытаются истолковать Вебера как фигуру, гак сказать,
"равновеликую» Марксу, У И. Вайса, например, подобная интенция находит
выражение в характерном подходе к анализу веберовского творчества. «В констатации
того факта, что сам Вебер не развил принципиально и систематически свое понятие о
социологии, — пишет он, возражая тем западным авторам, которые на этом основании
говорят о "необъединимости" различных веберовских подходов в единое целое, —
конечно, не следует, что невозможно и непозволительно якобы искать у него такого
рода понятие. Ведь точно так же — а вероятно, еще более остро -»-обстоит цело и в
случае Карпа Маркса, однако это не помешало тому, что появилось множество
соответствующих работ [о нем. - Авт.] и это определенно связано не только с
совершенно иной исторической и политической позицией этого автора" (30, с. 11).
23
Здесь показательно уже само стремление поставить М. Вебера, гак сказать, "на
одну доску" с К. Марксом. Характерно и свидетельство И, Вайса, что "тем не менее
[т.е.
несмотря
на
приведенное
соображение,
кажущееся
ему
само
гобой
разумеющимся»— Авт.;] в потоке литературы о Вебере такого рода усилия почти
полностью отсутствуют» (30, с. 11)7. И, следовательно, новое в подходе к веберовскому
творчеству самими представителями нынешнего "поворота к Веберу" связывается
прежде всего со стремлением установить единство и целостность его понимания
социологии, которое - в этом отношении - было бы сопоставимо с Марк-совым
пониманием.
Причем самое симптоматичное здесь заключается в том, что упомянутое единство
веберовского понимания социологии ("единая и однозначная интенция" всего
веберовского творчества) усматривается И. Вайсом в стремлении Вебера построить
социологию
как
"науку
о
действительности».
"Предложенная
экспликация
веберовского обоснования социологии, — читаем мы в заключении книги И. Вайса, —руководствовалась пониманием, согласно которому существует именно единая
целенаправленность
этого
обоснования,
которая
и
обусловливает
интерес
к
веберовской социологии в современной дискуссии. Эта единая интенция заключалась в
том, чтобы развить социологию как науку о действительности (чтобы сохранить этот
обиходный термин)" (30, с. 158). Речь идет, согласно автору книги о Вебере, о том,
чтобы
построить
социологию,
органически
связанную
с
общественной
действительностью, Сознательно вписывающую себя в определенный социальноисторический контекст,— "эмпирическую социологию, опосредованную историческим
действием» (30, с. 159). Однако, если учесть, что в русле "ренессанса Маркса»
подобным образом истолковывалось именно марксистская социология — как теория,
социологически осмысляющая свои собственные мыслительные предпосылки, го
станет совершенно очевидным, что в этом отношении И. Вайс стремится по крайней
мере "уравнять» марксизм и веберианство. Так что в данном пункте совершенно
отчетливо ощущается нечто в роде "негативной" зависимости «веберовского
ренессанса" - от «ренессанса Маркса" в современной буржуазной социологии. Тем
более, как пишет И. Вайс, что "новая актуальность и применимость веберовских
устремлений
и
методологического
утверждений
возрастает
развития
социологически-научной
его
именно
из
последовательного
(Wissensoziologischen)
предпосылки" (там же), - имеется в виду предпосылка социологии научной,
отправляющейся от идеи социальной обусловленности всякого научного знания (в том
24
числе и ее собственного). И поскольку та же предпосылка общепризнана как
характеризующая в первую очередь марксистскую социологию, постольку "новая
актуальность" Вебера оказывается связанной именно с тем, что сближает его с
марксизмом, причем "сближение" это устанавливается в существенно важном пункте.
Естественно, что при этом И. Вайс оказывается перец необходимостью вступить в
полемику с теми — марксистски ориентированными — исследователями творчества
Вебера, которые именно в этом пункте проводят "водораздел» между веберианством и
марксизмом. "В (диалектической) сплетенности с общественной практикой, констатирует И. Вайс, — заключается, по ее собственному суждению, специфический
признак и преимущество марксистской социальной науки. Напротив, для многих
марксистских теоретиков Макс Вебер все еще имеет значение представителя
буржуазной
социологии,
отчужденной
от
практической
действительности
и
увековечивающей само это отчуждение, — той социологии, каковая в качестве
объективистской, номиналистической и свободной от оценочного подхода является,
якобы одновременно и зеркалом и идеологическим оправданием овеществленных
отношений" (30. с. 159-16О).
Полемизируя против подобного понимания веберовской социологии, И. Вайс
утверждает, что при такой квалификации позиции Вебера его критики упускают из
виду существенно важный угол зрения, который открывает социальная наука,
решительно ориентированная на интересы деятельности. Именно такую науку пытался
построить Вебер, стремившийся к рассмотрению общественной реальности под углом
зрения человеческой деятельности. И обращение к его социологии способствует, если
верить автору книги о Вебере, решению важнейшего вопроса "марксистского
образования понятий и формирования теории" (гам же), а именно: вопроса о том,
реализуется ли в этом процессе постулированное марксизмом "единство анализа и
критики овеществленных отношений" (там же). Ведь "критическим измерением
марксистского анализа, — развивает И. Вайс свою мысль, -является то, которое
"прежде всего освобождает общественную деятельность как таковую, поскольку он
(этот анализ) раскрывает овеществленные, "естественно выросшие" (naturwuchsihen )
отношения как постижимые в их общественной и исторической сущности.
Несомненно, отчужденное поведение как таковое можно раскрыть лишь в том случае,
если анализ руководствуется предварительным понятием (Varkegriff ) социальности и
заложенных в ней возможностей отчуждения" (30, с. 160). В рамках же "марксистских
предпосылок", как кажется автору монографии о Вебере, "до сих пор лишь
25
недостаточно развит понятийный и методический инструментарий для постижения
подлинно социального действия", и чтобы развить его в достаточной степени, следует
обратиться к правильно понятой веберовской социологии (там же).
Хотя самому И. Вайсу и кажется неудовлетворительной перспектива решения
вопроса
об
"истинной
социальности"
на
путях
противопоставления
Марксу
"абстрактного разделения... труда и взаимодействия (Interaktion)" людей, предложенная
Ю. Хабермасом, тем не менее автор книги о Вебере считает обоснованным
неомарксистский тезис, согласно которому "пренебрежение уровнем социальности
проистекает из непроясненного понятия материальности" (там же) в марксизме. "Хотя,
— пишет Вайс, — ранние работы Маркса содержат специальное антропологическое
обоснование теории социального действия, но его политическая экономия (как
"анатомия буржуазного общества") сосредоточивается на том, чтобы раскрыть
"естественные
законы
капиталистического
производства»,
"эти
с
железной
необходимостью действующие и осуществляющиеся тенденции" как таковые (т.е. в их
овеществленной, естественно выросшей форме проявления). Закономерные процессы и
тенденции не раскрываются, как это соответствовало бы критической и аналитической
интенции, систематическим образом в качестве овеществленных общественных
процессов (или: в качестве еще не пришедшей к самой себе социальности (там же). Вот
этот, как ему кажется, в такой же мере понятийно-теоретический, как и методический
"дефицит марксистской позиции" (там же) – И. Вайс и хотел бы восполнить с помощью
новой интерпретации Вебера, которая сама, как мы убедились, находится в
определенной зависимости от "ренессанса Маркса" в буржуазной социологии (со всеми
его негативными теоретическими аспектами).
Нам еще предстоит вернуться к специальному критическому рассмотрению
понятия "истинной социальности» и, соответственно, ее "отчуждения", апеллируя к
которому И. Вайс приходит к выводу о факте "понятийно-теоретического... и
методического дифицита" в марксистском понимании общества. Пока же важно
констатировать, что на том этапе "веберовского ренессанса", который выражает
рассматриваемая книга о Вебере, между этим основоположником буржуазной
социологии XX в. и К. Марксом западные социологи пытаются установить отношения
своеобразной "взаимной дополнительности". В Марксовых трудах констатируются
фундаментальные социологические постановки вопроса, в качестве "ответа" на
которые предлагается веберовская теория социального действия. "Веберовская теория
социального действия — как "снова и снова констатирует " И. Вайс, — насущно
26
необходима, прежде всего если иметь в виду механизм и формы оплотнения
смысловым образом ориентированного социального поведения во "вторую природу".
Разумеется, такого рода дополнение, во-первых, в принципе не выходит за
пределы веберовского само толкова ни я (Selbstbedeutung.).С другой стороны, как мне
кажется, у Вебера социальность действия в принципе определяется так, что она
раскрывается как предмет и масштаб отчуждения или овеществления" (30, с. 160- 161).
Но если истолковать Вебера таким образом (а в этом Вайс и видел важнейшую
задачу своей монографии о нем) -то "уровень и целенаправленность социологического
образования понятий и формирования теории", достигнутый веберовской социологией,
оказывается совсем не противостоящим "критической (и практической) интенции" (30,
с. 161), о которой гак много говорится в "радикальной", в частности, неомарксистской,
- социологии. Если же исходить из вопроса "об опосредствовании социальной науки и
общественной практики", - актуализованного на Западе именно неомарксистами, в
частности, такими, как Ю. Хабермас, то, согласно выводу И. Вайса, "можно было бы
доказать
несостоятельность
абстрактного
противопоставления
марксистской
и
веберовской установок - также и на теоретическом и методологическом уровне" (там
же). Во всяком случае И. Вайсу представляется, что между К. Марксом и веберовской
теорией социального действия гораздо больше общего, чем, скажем, между ним и
"«системной теорией", хотя "нынешние марксистские теоретики" (имеются в виду Г.
Клаус из ГДР и К.Тьяден из ФРГ) "принимают и усваивают скорее системнотеоретические предпосылки, чем теоретико-деятельностные понятия в духе Вебера"
(там же). Это тяготение автор книги о Вебере склонен объяснять тем, что "Марксово
понятие общества как диалектической тотальности все еще имплицирует остаток
гипостазирования целостности, которое противостоит опосредствованию этого целого
смысловым горизонтом действительных общественных акторов" (30, с. 162). И в виде
"прививки» против такого "гипостазирования целостности" общества в ущерб
составляющим его индивидам, которое, находит свое дальнейшее развитие в системной
теории, в книге предлагается "веберовская критика всякого гипостазирующего
образования понятий и формирования теории в социологии" (там же).
Избежать упомянутого гипостазирования "общественной тотальности" можно,
согласно И. Вайсу, лишь обращаясь, вслед за Вебером, к исследованию смысла,
вкладываемого индивидами в свои действия, ибо только анализ этого «субъективного,
имеющегося в виду, смысла" может быть единственным путем к открытию социальной
каузальности как таковой» (30, с. 162). В этом направлении двигаются, по его мнению,
27
и неомарксисты, амальгамирующие «материалистическую и психоаналитическую
теории", поскольку и с их точки зрения "материальные отношения воздействуют
постольку, поскольку они "имеются в виду" (там же).
Но в то же время и сам И. Вайс чувствует, что простой ссылкой на "смысл,
который констатируется, утверждается и становится действенным в социальном
взаимодействии
(Interaktion)",
нельзя
решить
"центральную
проблему
социологического исследования": "как смысловая отнесенность к поведению других
людей", характеризующая, по Веберу, всякое социальное действие, утрачивает свой
открыто общественный характер и трансформируется в природную (naturwushige)
детерминацию" (30, с. 163). По мнению Вайса, трудность заключается здесь в том,
чтобы "понять эту квазиприроду гак, чтобы она раскрывалась одновременно как
овеществленная смысловая отнесенность и как социальность" (30, с. 163). Как видно,
это все га же проблема объективации, овеществления и отчуждения. впервые
переведенная на язык науки об обществе именно марксизмом. Только «автор книги о
Вебере вносит свои "коррективы" в этот перевод с помощью веберовской
терминологии, которая —- будучи введенной в неорганический для нас контекст
гегелевской и марксистской традиции -не столько проясняет, сколько запутывает
проблему.
Но из этой "нужды", возникающей в результате "амальгамирования" двух столь
мало совместимых подходов к проблеме "объективации: " и "овеществления", автор
книги
о
Вебере
пытается
делать
"добродетель".
Полная
непрояс-ненность
соответствующих понятий, проистекающая из такого противоестественного "слияния",
используется им для того, чтобы, с одной стороны, подвергнуть критике марксизм за
"пренебрежение уровнем социальности", которая — в этом случае - понимается им в
духе символического интеракционизма как "чисто символические взаимодействия
людей, представляющие собой "неовеществленную форму объективации смысла" (30,
с. 163). Однако, с другой стороны, И. Вайс критикует и символический
интеракционизм, причем именно за то, что "в рамках этой теории объективация
понимается исключительно как символизация, а не как овеществление..." (30, с. 164).
Иначе
говоря,
теперь
символическому
интеракционизму
противопоставляется
марксизм, хотя и он ставит проблему "овеществления" в совершенно иной плоскости,
чем та, на которой выстраивают свою теорию символические интеракционисты...
"Синтез" этих двух (мнимых) односторонностей предлагается искать-(опять-таки!) - у
М. Вебера, с одной стороны, "имплицировавшего» в своих понятийно-теоретических
28
анализах "теорию символизации", а с другой — создавшего методологический
инструментарий для постижения "не только ... символически объективируемых, но и
овеществленных смысловых и деятельностях связей" (там же).
Таким образом, М. Вебер, "углубленный" в неомарксистском (в особенности
хабермасовском) духе и "уточненный» с помощью символического интеракционизма (в
особенности
его
феноменологически
ориентированной
разновидности)—
вот
перспектива преодоления кризиса западной социологии, которая прорисовывается на
этом
сравнительно
раннем
этапе
"веберовского
ренессанса".
И
сколь
бы
"компромиссный" характер ни имело решение неизбежно возникающей здесь
антиномии "К. Маркс — М. Вебер" - в общем, в качестве основы "компромисса»
предлагается именно веберовская социология.
Аналогичную
тенденцию,
хотя
и
обосновываемую
с
помощью
иной
аргументации, мы встречаем и в более поздних работах, относящихся к "веберовскому
ренессансу". Так, в цитированной выше статье Шпронделя и его соавторов,
посвященной 80-летию И. Винкельмана, К. Маркс и М. Вебер "уравниваются" именно
как "классики" социологической мысли. "Поскольку Вебер является классиком
социологии, -читаем мы в этой статье, — постольку он является таковым прежде всего
в том же самом смысле, что и Дюркгейм, Маркс или Зиммель. Классики отличаются
тем, что они (эксплицитно или имплицитно) бились над теми же методологическими и
теоретическими проблемами, которые и сегодня все еще являются определяющими для
соответствующих
дисциплин.
Классики
не
подчиняются
никаким
отдельным
"парадигмам»8, они не должны причисляться ни к каким отдельным «направлениям»,
напротив,
они
—
«верстовые
мупьтипарадигматическом
представление
о
развитии
социологии
как
столбы"
в
социологии.
допарадигмагическом
Если
ориентируются
мультипарадигматической
дисциплине
и/или
на
[т.е.
ориентирующейся одновременно на несколько "парадигм», не отдавая решительного
предпочтения ни одной из них. — Авт.], то остается вопрос о- социологической
"метапарадигме" [т.е. о некотором объединяющем принципе, позволяющем как-то всетаки увязать друг с другом упомянутые «парадигмы". - Авт.]. Тогда классики
выступают как репрезентанты разновидностей этой мета-парадигмы и "верстовые
столбы" в ее развитии. На этом фоне Маркс и Вебер, например, предстают не в их
предметно—содержательной противоположности, равно как и не в отношении
дополнительности, но прежде всего в отношении временной последовательности. Они
описывают различные фазы общественного и экономического развития; они
29
репрезентируют различные фазы развития социальных наук и наук о культуре, прежде
всего политической экономии и социологии" (24. с. 9).
Как видим, способ, каким "уравниваются" здесь К. Маркс и М. Вебер, не лишен
изрядной доли двусмысленности. С одной стороны, первый и второй ставятся "на одну
доску" как мыслители, отразившие два одинаково важных и существенных этапа
развития капитализма и его теоретического осознания (в политэкономии и
социологии). Но с другой стороны, между этими этапами устанавливается некая
временная субординация — ведь один из них оказывается более, а другой — менее
"современным". И, естественно, что мыслителю, отразившему более близкий к
нынешнему этап развития капитализма — т.е. Веберу, — отдаются все предпочтения. В
этом и состоит идеологический подтекст приведенного рассуждения о Вебере как
"классике" в том новом смысле, в каком он предстал, по мнению авторов статьи,
именно в свете нынешнего "веберовского ренессанса".
Но хотя этот идеологический момент "возрождения Вебеpa» буржуазными
социологами и бросается в глаза на фоне их недавнего увлечения "возрождением
Маркса", он не должен отвлечь наше внимание от другого — достаточно важного и
симптоматичного
—
момента
веберовского
ренессанса",
также
имеющего
идеологическую нагрузку. Среди разнородных устремлений, подогревающих интерес к
Веберу именно, в Западной Европе (в отличие от США), нельзя не почувствовать
вполне определенного привкуса антиамериканизма — стремления социологов
западноевропейского региона использовать фигуру социолога Вебера для того, чтобы
противопоставить европейскую (как более изначальную и аутентичную) науку
американской (как вторичной" и поверхностной).
Аналогичная тенденция отчетливо прорисовывается, например, в статье Герта
Шмидта "Вклад Макса Вебера в эмпирическое исследование индустрии", 1980 (22).
Автор статьи связывает ложное, по его мнению, толкование социологии Вебера как "
атомистической и волюнтаристски субъективистской» (22, с. 87) с тем фактом, что гак
выглядел Вебер, будучи "реимпортированным из США", где его взгляды и подвергнись
соответствующей обработке. Предлагая "дистанцироваться" от подобного толкования
Веберовских воззрений, Шмидт тем самым встает в полемическое отношение к
Парсонсу, который, как известно, и был одним из тех социологов, "импортировавших"
Вебера в США, а затем истолковавших его теорию социального действия в
"волюнтаристски-субъективистском духе".
30
Полемически заявленное стремление истолковывать Вебера исходя "из духа" его
собственного мировоззрения •— и совершенно безотносительно к тем толкованиям,
которым он подвергся у Парсонса, явственно прочитывается у И. Вайса и Вольфганга
Шлюхтера (20), Пытался интерпретировать Вебера" "проскользнув мимо Парсонса",
чья интерпретация долгие годы считалась едва пи не канонической, Ф. Тенбрук (27), за
что получил отповедь Рихарда Мюнха, выступающего защитником интересов Парсонса
в западногерманской социологии. За попытками подобного рода стоит настойчивое
стремление
отстоять
самостоятельность
европейской
(в
данном
случае
—
западногерманской) социологии от ставших уже традиционными притязаний США на
"социологическую гегемонию". Причем "веберовский ренессанс" дает для этого
идеологического устремления в социологии достаточно удобный повод» если иметь в
виду и то, какое влияние оказал Вебер на теоретическую социологию США, и то,
насколько
односторонним,
тенденциозным,
а
подчас
просто
поверхностным
истолкованиям он подвергался во времена "американской эмиграции" веберовской
социологии.
В целом идеологическая позиция провозвестников "веберовского ренессанса"
явно отмечена стремлением обосновать "третью линию" — между неомарксистской
социологией и американским структурным функционализмом. Эта претензия со всей
определенностью выражена, например, у Герта Шмидта, специализирующегося в
области проблематики, связанной с индустриальной социологией и социологией
техники. Призыв "назад к Веберу" он расшифровывает не столько как обращение к
"содержательным веберовским высказываниям", сколько как разработку опирающейся
на веберовское наследие "исследовательской стратегии", позволяющей избежать
"специфической слабости, с одной стороны, функционализма [естественно, прежде
всего парсоновского. –Авт.], а с другой — марксизма [непосредственно имеется в виду
не столько классический марксизм, сколько "неомарксизм", выдающий себя, как
известно, за "аутентичный марксизм".- Авт.] (22, с. 86).
"Аутентичному" Марксу, на единственно истинное понимание которого
претендовали
неомарксисты,
нынешние
веберианцы
противопоставляют
"аутентичного" Вебера, противополагая одновременно свое "новое понимание"
веберовской
социологии
структурному
функционализму
американского
происхождения, который долгов время претендовал на обладание веберовским
теоретическим наследством».
Литература
31
1. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года, -Маркс К., Энгельс Ф.
Соч., 2-е изд., т. 42, с. 41-174.
2. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. -288 с.
3. Неомарксизм и проблемы социопогии культуры. - М.$ 1980. - 352 с.
4. Bendix R. Max Weber : An intellectual portrait. - Berkeley eteM
1977.-LI, 522 p.
5. Gouldner A.W. The coming crisis of western sociology. — L.,
1971.- 528 p.
6. Habermas J. Erkenntnis und Interese» — Frankfurt a. M., 1968.- 364 S.
7. Holzer H. Soziologie in der BDR : Theorienchaos u. Ideologic reproduktion. - В., 1982. 128 S.
8. Max Weber und die Rationalisierung sozialen Handelns. — Stuttgart, 1981.- 265 S.
9. Mills C.R. The sociological imagination-L., 1959. - 234 p.
10.
Munch
R.
Max
Webers
"Gesellschaftsgeschichte"
als
Entwicklungs
logik
gesellschaftlicher Rationalisierung. - Kolner Ztschr. fur Soziologie u. Sozialpsychologie,
1980, Jg.32, N 4, S. 774-786.
11. Munch R. Theorie des Handelns : Zur Rekonstrukdon der Beitr. von Talcott Parsons,
Emile Durkheim u. Max Weber. — Frankfurt a. M., 1982. - 693 S.
12. Nelson B.N. Max Weber and the disc on tens and dilemmas of contemporary universaly
rationalized Post—Christian civilisation. — In : Max Weber und die Rationalisierung sozialen
Handelns. Stuttgart, 1981, p. 1-8.
13. Nelson B.N. Der Ursprung der Moderne: Vergleichende Studien zum Zivilisationsprozess.
- Frankfurt a. M., 1977. - XV, 212 S.
14. Nelson В.N. Weber’s Protestant ethic»: Its origins, wanderlings, a. forseable futures. — In
Beyond the classics: Essays in the sci. study of religion. N.Y., 1973, p. 71-130.
15. Parsons T. The structure of social action. — N.Y.; L., 1937. - XII, 817 p.
16. Prewo R. Das Wissenschaftsprogramm Max Weber. — Frankfurt a. M., 1979.- 615 S.
17. Reich C.R. The greening of America.L., 1970. - 329p.
18. Roszak T. Where the wateland ends: Politics a. transcendence in postindustr. soc. - N..Y.,
1973. - XXVIII, 451 p.
19. Schelting A. von. Max:Webers Wissenschaftslehre: Das logische Problem der hist.
Kulturerkenntnis. Die Grenzen der Soziologie des Wissens. - Tffbingen, 1934. - VIII, 420 S.
20 . Schluchter W. Die Entwicklung des okzedentalen :Rationalis-mus : Eine Analyse von
Max Webers Gesellschaftsgeschichte. - Frankfurt a. M., 1980 . - 320 S.
32
21. Schluchter W. Die Paradoxe der Rationalisierung : Zum Ver-haltnis von "Ethik" u. "Welt"
bei Max Weber. - Ztschr. fur Soziologie, Bielefeld, 1976, Jg. 5, NII, S. 256-284.
22. Schmidt G. Max Webers Beitrag zur empirischen Industdefor-schung.- Kolner Ztschr. fur
Soziologie u. Sozialpsychologie» 1980, Jg.32, N 1, S. 76-92.
23. Schmidt G. Technik und kapitalistischer Be trie b: Max Webers
Konzert der industriellen Entwicklung u. das Rationalisie-rungsproblem in der neueren
Industriesoziologie. — In : Max Weber und die Rationalisierung sozialen Hamdelns.
Stuttgart, 1981, S. 168-188.
24 "Soziologie soil heissen..." : Einige Einmerkungen zur Weber—Rezeption aus «Anlass des
80 Geburtstages Johannes Winkelmann/Sprondel W.M., Seyfarth C., Konau E., Schmidt Gi.
Kolner Ztschr. fur Soziologie u. Sozialpsycholgie.: 1980, Jg.32, N 1,S.1-11.
25. Sprondel W.M. Sozialer Wandel, Ideen und Interessen : Sys— tematisierungenzuMax
Webers"Protestandscher Ethik». - In : Religion und Gesellschaftliche Entwicklung. Frankfurt
a. M., 1973, S. 206-224.
26. Sprondel W.M., Seyfarth C. Vorwort,— In : Max Weber und die Rationalisierung
sozialen Handelns. Stuttgart, 1981, S. V-VVI.
27. Tenbruck F.H. Das Werk Max Webers. - Kolner Ztschr. fur Soziologie u.
Sozialpsychologie, 1975, Jg. 27, N 4, S. 663-702.
28. Weber M. Die Protestantische Ethik. - 5»Aufl. - Munchen, 1965. - Bdl.- 317 S.
29. Weber M. Die Protestantische Ethik. - 5 «Aufl. - Gutersloh, 1978. Bd 2.-400 S.
30. Weiss J. Max .Webers Grundlegung der Soziologie, — Munchen, 1975.-240S.
Ю.Н. Давыдов
33
ДВА ПУТИ АКТУАЛИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИИ МАКСА ВЕБЕРА
1. «Ценность» и «смысл»: Истолкование основополагающих принципов веберовского
учения в духе социологического радикализма
Одним
из
весьма
симптоматичных
явлений
«веберовского
ренессанса»,
достаточно рано обнаруживших его общую тенденцию, была уже упоминавшаяся нами
книга "Иоханнеса Вайса «Обоснование социологии Максом Вебером», вышедшая в
1975 г. В противоположность доминировавшей до него традиции осмыслять Вебера как
фигуру кризисную, а его социологию - как исполненную непримиримых противоречий,
И. Вайс стремится показать эти (мнимые, по его мнению) противоречия как форму
постановки и, главное, решения фундаментальных социологических проблем, что и
позволяет
ему
отвергнуть
представление
об
антиномичности
веберовского
миросозерцания. «Фактически, - утверждает И. Вайс, - относительная бесплодность
прежних дискуссий о веберовском понимании науки [имеется в виду прежде всего
социология] тезис о противоречивости Вебера и вырастающие на его основе крайне
противоречащие друг другу истолкования его мысли, - все это имеет своим источником
зависимость истолкователей именно от тех научно-теоретических утверждений, на
преодоление которых как раз к была направлена веберовская рефлексия» (28, с, 14),
Там, где прежние истолкователи Вебера видели непримиримо противоположные
утверждения, И. Вайс открывает «веберовское стремление к опосредствованию» (там
же) противоположностей, вытекающее из единого мировоззренческого и научного
устремления основоположника немецкой буржуазной социологии начала XX в. Как
пишет И. Вайс в введении к своей книге, "важнейшая предпосылка предлагаемой
работы» заключается в утверждении, что «в веберовских теоретических и теоретиконаучных устремлениях есть единая и однозначно понимаемая интенция, и эта единая
интенция не присутствует лишь в качестве благого намерения рядом с гетерогенными
мыслительными элементами, но имеет своей целью их опосредствование» (28, с. 15).
Применительно к веберовскому пониманию социологии это «единство интенции»,
представавшее в глазах многих истолкователей веберовского творчества как
«комплекс» несовместимых утверждений, выражалось, согласно И. Вайсу, в том, что
Вебер стремился выстроить социологическую науку «по ту сторону» обиходных (в
тогдашней Германии прежде всего) разграничений «между «науками о духе» и
34
«науками о природе» (там же). Социология выстраивалась Вебером, по мнению И.
Вайса (воспользовавшегося здесь выражением И. Флетчера), не как духовно-научная
(принадлежащая к «наукам о духе»), но как «социально-научная» дисциплина (там же).
Иначе говоря, ее нельзя было рассматривать ни по типу естественных наук, ни по типу
наук гуманитарных. И все те, кто по-прежнему держался здесь за привычное
различение этих наук, как за что-то незыблемое, неизбежно должны были видеть
сплошные противоречия Вебера там, где or предлагал вполне последовательную и
цельную, - но совершенно новую!, — позицию: социология не должна уподобляться
естествознанию, но и не должна строить себя по образцу гуманитарных наук в
традиционном их толковании. . Аналогичным образом, по И. Вайсу, обстоит дело с
обвинениями насчет противоречивости отношения веберовской социологии к
действительности, а тем более с упреками насчет ее отрыва от действительности и
вообще
"недействительности"
противоречивости
веберовской
(28,
с.
16).
позиции,
Критики,
настаивавшие
противопоставляли
друг
здесь
Другу
на
как
взаимоисключающие веберовский постулат «об отнесении к ценностям», с одной
стороны, ч требование «свободы от ценностей» (Wertfreihe it) —с другой, утверждая,
что первый предполагает неизбежную для социологии «отнесенность» теоретического
исследования к определенным (внетеоретическим) «ценностям», тогда как второе,
наоборот, рекомендует ученому освобождать свое исследование от всяких оценочных
привнесений извне. Те же истолкователи Вебера, которые принимали за отправной
пункт его постановки вопроса требование «свободы от ценности», взятое в отрыве от
«принципа отнесения к ценности», с неизбежностью приходили к превращению
веберовской социологии в нечто «недействительное», поскольку сама общественная
действительность, согласно И. Вайсу, немыслима вне ценностно ориентированной! деятельности людей.
Между тем, как утверждает автор книги о Вебере, источником обвинений в адрес
последнего
является
чистейшее
недоразуменение,
покоящееся
на
«ложной
альтернативе»: или «отнесение к ценности» (отождествляемое с оценкой исследуемой
действительности на основе этой ценности), или «свобода от ценности» (понятая как
«свобода» не только от «практической оценки» этой действительности, но и
«освобождение»
от
какого
бы
то
ни
было
теоретического
соотнесения
действительности с вплетенными в нее ценностями (28, с, 17). На самом же деле
воздержание
от
«практической
оценки»
при
исследовании
социальной
действительности не должно препятствовать ее теоретическому пониманию в свете
35
отнесения этой действительности к ценностям, поскольку именно ими определяется и
деятельность самих людей - активных субъектов, творящих эту действительность.
Однако понять своеобразие веберовской позиции в этом вопросе можно, по
мнению И. Вайса, лишь в том случае, если учесть «фундаментальное значение»,
которое
вообще
имеет
«проблема
отнесения
к
ценности»
в
веберовском
«наукоучении», хотя именно ею-то как правило, и пренебрегали критики Вебера,
сосредоточивавшие основное свое внимание на важном, но все-таки производном от
принципа «отнесения к ценности» требовании «свободы от ценности».
Отсюда - одна из основных интенций работы И. Вайса, которая, по словам ее
автора, «прежде всего противостоит весьма распространенной манере выводить из
постулата свободы от ценности враждебность веберовской позиции практике (и в силу
этого ее социотехнический характер)» (28, с. 18). В противоположность этой
«распространенной манере», И. Вайс выдвигает в центр своей книги о Вебере именно
проблематику «отнесения к ценности», раскрывая ее решающую ; роль в веберовском
обосновании социологии, а Также используя метод "отнесения к ценности» для анализа
генезиса Основных тем будущей веберовской социологии, равно как и формирования
ее общетеоретических «предпосылок в процессе мировоззренческого развития
молодого Вебера.
Тем самым, утверждая значимость социологии Вебера именно как «науки о;
действительности», И. Вайс стремится одновременно вскрыть ее происхождение из
действительного «жизненного мира» самого основоположника немецкой (и мировой)
буржуазной социологии XX в.
Существенно, однако, иметь в виду, что в качестве теоретика, испытавшего
большое
влияние
феноменологической
ориентации
в
современной
западной
социологии, И. Вайс понимает (социальную) действительность как «жизненный мир» т.е. в духе А. Шютца (25), первым перенесшего это понятие позднего Гуссерля на
почву социологической теории. В соответствии с этим проблема обоснования
социологии как науки о действительности представляется И. Вайсу как вопрос о
степени адекватности выражения в социологических понятиях вышеупомянутого
«жизненного мира» людей. А потому «особой интенцией» своей работы автор книги
называет раскрытие того, «в какой мере веберовское обоснование социальной науки
отвечает собственному праву жизненно-мирского опыта» (28, с. 30).
В духе этой постановки вопроса в книге и осмысляются различия толкования
отношения социологии к действительности у Вебера, с одной стороны, и его учителя
36
(во всякое случае в области методологии научного знания) Г. Риккерта - одного из
основоположников баденской школы неокантианства»-с другой. Для Г. Риккерта (4;5 )
истинной наукой о действительности,- в отличие от естествознания, не способного
постичь индивидуальное в его индивидуальности, -была история. Социологии же он
отказывал в праве называться наукой о действительности, полагая, что ее роднит с
естествознанием именно стремление к постижению общего в человеческой жизни и,
соответственно, использование "генерализирующего метода" познания в качестве
основного.
Вебер
же,
напротив,
не
считал
использование
социологией
"генерализирующего метода» естественных наук препятствием для того, чтобы считать
социологию наукой о ("самой») действительности.
Согласно
И.
Вайсу,
веберовская
социология
берет
(человеческую)
действительность такой, какова она есть, т.е. как результат осмысленной деятельности
творящих ее людей, и эта осмысленность действительности и постигается в
осмысляющих понятиях социальной науки, отправляющейся от сознательных
человеческих действий. «Основное положение Вебера, - по утверждению его
истолкователя, - в этом отношении покрывается тезисом А. Шютца: "Именно этот мир,
который мы переживаем как имеющий смысл, является миром, имеющим смысл, также
и в качестве предмета понимания социальной науки» (цит. по: 28, с. 31).
Как видим, И. Вайс доказывает, что веберовская социология является "наукой о
действительности", путем изменения первоначального смысла, какой вкладывал в это
понятие Г. Риккерт, Если для последнего критерием науки о действительности (в
отличие от естественных наук, "дистанцирующихся» от нее в желании "обобщить» ее)
является именно направленность на постижение индивидуально-неповторимого, что и
является, по его убеждению, основополагающей характеристикой действительности
как таковой, то для Вебера, если верить его комментатору, таким критерием является
«осмысленность", «смысловое строение» этой действительности. Вопрос же о том, в
какой мере она "индивидуальна» по своей (онтологической) структуре и является ли
решающим для ее аутентичного постижения именно «индивидуализирующей» метод,
при этом, естественно, отступает на второй план, если вообще не снимается с повестки
дня.
В связи с тем, что главным признаком (человеческой) действительности,
изучаемой социологией, является - согласно Веберу, взятому таким, как его толкует И.
Вайс, именно ее "смысловое строение"(«осмысленность»}, основным методом ее
адекватного постижения оказывается уже не "индивидуализирующий метод» в
37
риккертовском толковании, а "метод отнесения к ценности».»Метод отнесения к
ценности», - пишет И. Вайс, - является самым общим условием возможности
исторически-социального
исследования,
так
как
он
гарантирует
возможность
образования понятий и формирования теорий на уровне опыта исторической
действительности" (там же).
Как известно, сам Вебер понимал "отнесение к ценности" достаточно
определенно: как «философское объяснение тех специфически научных интересов,
которые
определяют
выбор
и
формовку
(Forraung)
объекта
эмпирического
исследования", Но И. Вайс утверждает, что так Вебер лишь "хотел" понимать
отнесение к ценности (28, с» 34), а в действительности» толковал его гораздо шире. На
самом деле Вебер, по убеждению его комментатора, под понятием "отнесения к
ценности" имеет в виду "принципиальный интерес к культуре вообще", поскольку
культура - это «ценностное понятие", ибо сама представляет собой "специфическую
действительность", конструируемую (действующими индивидами) «посредством
оценки», являющейся ядром всякой осмысленной (т.е. собственно человеческой)
деятельности (28, с, 35-36). Отношение к ценности, которое у самого Вебера, как
правило, употреблялось в узко-терминологическом смысле, в изложении его
комментатора предстает как «фундированное в общем, познавательном интересе к
культуре как таковой" (28, с. 36).
"Культурная действительность, - разъясняет свою мысль И. Вайс, - это только
коррелят определенных фактических оценок и толкований смысла соответствующих
акторов. Поэтому исследование культурной действительности возможно лишь в том
случае, если определяющее деятельность значение этих определенных оценок и т.д. по
крайней мере предполагается как возможное» (там же). Вытекающий отсюда интерес к
культуре как «ценностному понятию»-это, согласно дополнительному различению,
внесенному И. Вайсом в веберовское, так сказать, «отнесение к ценности» в широком
смысле. Что же касается "отнесения к ценности в более узком смысле», то «оно
предстает здесь как производное от первого: «Это - метод, каким отмеченная
предпосылка относительно ценностей, смысловых ориентации и т.д., определяющих
деятельность, направляет процесс образования понятий и формирования теории» (28, с.
36-37). В отличие от практического «отнесения к ценности» в широком смысле,
«отнесение к ценности в узком смысле» представляет собой «чисто теоретическое
отнесение к ценностям, поскольку единственно релевантным для методической
процедуры является ответ на вопрос: приписывает ли ученый этим ценностям
38
возможное воздействие на [человеческое. - Авт.] поведение» (28, с, 37), С помощью
этого хода мысли И. Вайс отводит критические замечания насчет «субъективизма» и
«производительности» веберовской концепции «отнесения к ценности» (28, с. 39).
Этот же ход мысли позволяет автору книги объединить веберовский принцип
«отнесения к ценности» со стремлением Вебера «каузальному анализу» социальных
процессов -тенденции, которые многие критики веберовской социологии считают
плохо совместимыми друг с другом (если не вовсе взаимоисключающими).
«Фактически, - пишет И. Вайс, -веберовское применение понятия культурной
значимости... относится к интересному для нас, так же, как и к тому, что определяет
предметную действительность, следовательно, «каузальному значению» (28, с. 40) - т.е.
значению, ориентация на которое является причиной определенных человеческих
действий, формирующих (либо изменяющих) «предметную действительность», А это
значит, согласно комментатору Вебера, что «метод отнесения к ценности не только
служит ограничению поля исследования, но и, кроме того, определяет уровень и
направление каузального анализа» (там же).
Однако при таком - предельно расширительном - толковании принципа
«отнесения к ценности» рискует утратить конкретный смысл и само понятие ценности.
. Чувствуя эту опасность своего (хотя и приписываемого Веберу) толкования
«отнесения к ценности» в широком смысле, понятого как отнесение к «культурной
действительности»
вообще,
И.
Вайс
задается
вопросом:
«Является
ли
в
действительности культура одним лишь «ценностным "понятием» (Wertbegriff) и
можно ли - соответственно этому- при адекват-» ном предмету исследовании Фактов
культуры ограничиться их отношением к ценностным идеям (Wert -Idee)?" (28, с. 47).
Утверждая, что Вебер отвечал на этот вопрос отрицательно, его комментатор ищет в
веберовских сочинениях более широкое понятие, родственное понятию «ценности», но
позволяющему рассматривать культуру не в одном лишь узко ценностном аспекте,
более соответствующем тому, как она фигурировала в (собственно веберовском)
толковании принципа «отнесения к ценности» в «более узком» (согласно терминологии
И. Вайса) толковании. Автор книги о Вебере считает, что последний, с одной стороны,
«объединяет термины: смысл, значение и ценность», причем первоначально в этой
триаде доминировало понятие ценности, но, с другой стороны, обнаруживает
тенденцию - утверждающуюся в его поздних теоретических статьях, - к перенесению
центра тяжести «на термин «смысл» (28, с. 41). Это обстоятельство и хочет
использовать И. Вайс, чтобы выпутаться из трудности, возникшей в связи с
39
«вживлением» в структуру веберовских понятий понятия «отнесения к ценности в
широком смысле».
Термин «смысл» импонирует И. Вайсу тем, что он несет в себе гораздо меньше
этических ассоциаций, чем термин ценность и может быть истолкован вообще
безотносительно к «оценочной» установке, вне которой немыслимо понятие ценности.
«Под смыслом (или значением), - читаем мы в его книге, - здесь следует понимать ...
сам уровень (die Еbene) человеческого понимания действительности, который - с
необходимостью - подвергается историческому объяснению - и присутствует и
передается в "символических формах" (Э. Кассирер), в особенности в языке. Ценность
же принадлежит смыслу в этом понимании как масштаб возможной оценки, и именно
для человека, ориентирующегося на смысл, - целиком выступает как коррелят
теоретической установки" (28, с. 42). Понятие "смысл " выступает здесь как наиболее
широкое, охватывающее «ту же самую область явлений" (там же), что охватываются
понятием культуры, т.е. всего, что возникает в результате смыслополагающей и
смыслопостигающей (практической — это И. Вайс подчеркивает специально)
деятельности человека. Ценность же - это то, что делает возможной оценку явлений
культуры, их ранжирование, выбор тех или других из них.
Подобное "сужение понятия ценности" И. Вайс приписывает самому Веберу,
полагая, что веберовская тенденция в этом направлении не была адекватно понята не
только его критиками, но и авторами, заимствовавшими соответствующие понятия
веберовской социологии (28, с. 42-42). Между тем, по мнению автора книги О Вебере,
эта тенденция свидетельствовала об окончательном отходе основоположника западной
социологии XX в. от неокантианства и переход на позицию, сделавшую неслучайным
истолкование веберовского социологического наследия Альфредом Шютцем (25) в
духе феноменологии позднего Гуссерля. В соответствии с этим поворотом культура
была понята не как ценность (результат этически ориентированной деятельности
людей, воплощение высших человеческих ценностей в хаотически-неупорядоченном
"материале" чувственности), а как то, что впоследствии - в поздних Гуссерлевых
сочинениях - было названо "жизненным миром" (смысловым образом организованная
реальность, "осмысляемая" в процессе взаимодействия творящих ее людей, овальность,
источником осмысленности которой является "интерсубъективный» характер ее
существования). Веберу, таким образом, приписывается понимание культуры как
наиболее адекватного воплощения "феномена" в позднегуссерлевском понимании: как
совершенно
специфической
реальности,
которая
существует
лишь
в
поле
40
"интерсубъективного" взаимодействия людей - "в акте" их (процессирующего)
взаимопонимания.
Тем самым, согласно И. Вайсу, Веберу удается преодолеть неокантианский
дуализм "фактов" и "ценностей" применительно к культуре. Каждый факт выступает в
культуре как результат осмысленной деятельности, - и в той мере, в какой эта
деятельность необходимо включает оценку, — выступает как нечто ценностно
определенное. В переводе на веберовский язык, это утверждение имеет следующий
вид: "...Смыслополагания лишь тогда могут фактически определять действие, когда
сами они полагаются соответствующими интересами, т.е. фигурируют как полегания
ценностей... Здесь нет абстрактного разделения смысла и фактичности... но в то же
время смыслополаганиям не приписывается, как например, у Парето, значение чисто
деривативных эпифеноменов" (28, с. 43-44).
Отправляясь от этой "большой посылки" Iкультура как "жизненный мир" в
гуссерловско-шютцевском смысле), приписываемый самому Веберу в качестве
исходного - социально-философского - постулата его социологической теории, И. Вайс
дает решение всех остальных методологических антиномий, которые обычно
фиксировались в веберовском теоретическом построении.
Одна из таких антиномий находит свое выражение даже в" самом словосочетании
«каузальное понимание", обозначающем существенно важное понятие, с помощью
которого Вебер, согласно Вайсу, преодолевал противоположность (каузального)
объяснения
и
(логически
не
опосредованного)
понимания,
раскалывавшую
методологическое сознание его современников, "Преодоление" это, судя по книге о
Вебере, осуществлялось опять-таки с помощью понятия "отнесения к ценности": "
Метод каузального понимания применим единственно на уровне исследования,
который определен посредством отнесения к ценности и на котором он обеспечивает
возможность постижения соответствующих конкретных предметов исследования в их
каузальной сплетенности» (28, с. 46).
Что же касается самого «отнесения к ценности», то оно, по Вайсу, изначально
«осуществляется как понимание смысле Sinn-Verstehen), т.е. предстает как изначальное
понимание лежащее в основе всех остальных актов понимания. Тем самым оно задает
некую общую рамку понимания, в пределах которой каждый более конкретный акт
понимания выступает уже в единстве с каузальным объяснением, образуя «каузальное
понимание». Это - практически-жизненное - понимание является, согласно И. Вайсу,
моделью, по которой Вебер выстраивал свою концепцию социологического понимания:
41
«Социально-научное понимание является для Макса Вебера модификацией понимания
смысла и понимания ситуации в жизненном мире» (там же).
Правда, И. Вайс тут же оговаривается, что «у самого Вебера имеются лишь
указания», позволяющие говорить «о фундировании методического [ т.е. научноотрефлектиро-ванного, ] понимания в само собой понятном, конститутивном для
повседневного социального действия» (28, с. 47), т.е., если воспользоваться здесь более
адкватной феноменологической терминологией, в непосредственных достоверностях
«жизненного мира». Потому он и не торопится феноменологический ход мысли,
«вычитанный» им у Вебера, переводить на соответствующий язык. «...Тем не менее, делает вывод автор книги, - это именно та связь [ связь между непосредственно .»само
собой» - понятными данностями «жизненного мира», с одной стороны, и трактовкой
«метода каузального понимания» - с другой,-которая, по Вебер у, обосновывает статус
социологии как науки о действительности» (там же). А «отнесение к ценности»,
образующее средоточие такой связи, «должно -для Вебера - целиком определять
уровень и направление каузального анализа» (там же).
Понимание, взятое в единство с (каузальным) объяснением, «укореняется», таким
образом, в имманентной структуре социального действия, трактуемого И. Вайсом как
«повседневное» человеческое действие или действие в "жизненном мире». «Структура
социального действия... -пишет автор книги, приписывая это (свое) пониманием Веберу, - требует понимания как инструмента «телескопического» объяснения, предмет
метода здесь не смысл, взятый в его идеальности, но смысл как определенный
реальный фактор действия человека» (+28, с. 47). Иначе говоря, смысл берется
комментатором Вебера как нечто, включенное «внутрь» жизненного мира, состоящего
из «повседневных действий», а не как нечто «дистанцированное» по отношению к
нему, а потому «дающее масштаб его оценки» (точка зрения неокантианских учителей
Вебера).
Поскольку же «жизненный мир» это и есть подлинная действительность, с точки
зрения И. Вайса (последовательно движущегося здесь в русле феноменологического
способа рассуждения), постольку в результате включения в него смысла оказывается,
наконец, преодоленной неокантианская антиномия «жизни» («действительности») и
«смысла». Тем самым, читаем мы в книге о веберовском обосновании социологии, Вебер не оказывается здесь в простой противоположности к риккертовскому
пониманию, но и в данном случае опять-таки стремится к преодолению ложной
поляризации (там же). Смысл поэтому утрачивает нормативно-оценочный характер;
42
осмысленным, имеющим смысл оказывается все, что так или иначе «имеется в виду»
конкретными индивидами - совершенно безотносительно к тому, чем является это
«имеющееся в виду». «Соответственно этому», - разъясняет свою мысль И. Вайс, «актуальное понимание» направлено на смысл не как идеально значимый, но как
указываемый и описываемый смысл (шли: символическое качество) именно
человеческого поведения, постигает же его исключительно как имеющийся в виду
фактически» (28, с. 48).
Иначе говоря, стремление Вебера исходить из эмпирически фиксируемого факта
осмысленности человеческого действия истолковывается его комментатором таким
образом, будто этот уровень рассмотрения смысла в конкретном исследовании отвечает
его сущности, постижению смысла «как такового». Но это как раз то, что И. Вайсу еше
следовало бы доказать; а это в свою очередь, можно было бы сделать лишь доказав, что
Вебер понимал смысл только так, как эта категория фигурировала в ограниченных
рамках эмпирически фиксируемого человеческого действия - и никак иначе. Вместо
этого комментатор Вебера спешит развить на базе своего (феноменологического)
толкования смысла понятие социальности как таковой, каковое опять-таки подается как
собственно веберовское.
Отправляясь от веберовского определения мотива как смысловой связи, «которая
для самих действующих или наблюдающих (индивидов) выступает как смысловое
основание поведения", И. Вайс истолковывает словосочетание "смысловая связь" для
того, чтобы перебросить мостик между феноменологическим пониманием смысла и опять же феноменологическим - представлением о том, что такое социальность. "Если
должно иметь место "связанным образом протекающее поведение", - развивает
комментатор Вебера свою мысль, - то необходима и ориентирующая его смысловая
связь. Это обстоятельство имеет значение уже для действия отдельного актора, взятого
в его непрерывности, а не только для поведения, актуально отнесенного к alter ego.
Таким образом социальным оказывается также и индивидуальное действие, так как в
поскольку
оно
именно
общественно
опосредствовано
непрерывностью
обеспечивающей его смысловой связи» (28, с. 49).
Если мы вспомним, что у самого Вебера вопрос о социальности (например, того
же индивидуального действия) возникает лишь в том случае, когда имеет место
ориентация на другого" - с его ожиданиями и действиями, когда, следовательно, имеет
место отношение по крайней мере двоих людей (хотя "другой" и выступает в качестве
ожидания его возможной реакции на мое действие) - нам станет ясным содержание
43
"переакцентировки», осуществленной И. Вайсом, Социальность у него не выводится из
анализа конкретного эмпирически фиксируемого факуа взаимоотношения», людей - по
меньшей мере двоих, а предпосылается этому факту на основе своеобразной (по
видимости апеллирующей к текстам Вебера) дедукции «а феноменологически
истолкованного - понятия смысла. Так что в конце концов социальность человеческого
поведения просто-напросто отождествляется с его осмысленностью, осознанностью,
"направленностью на", т.е. ин-теционадьностью.
Правда, И. Вайс вводит здесь свои собственные нюансы в привычную
феноменологическую терминологию, проистекающие, кстати, как раз из отмеченного
отождествлении осмысленности и социальности. Смысл выступает у него не просто как
артикулирующий аспект всякой осознанности, понятой как "направленность (сознания)
на (нечто отличное от него», т.е. как предметная артикупированность изначально
присущая сознанию, - точка зрения Гуссерля, Поскольку артикуляция, по Вайсу, всегда
осуществляется в целях сообщения некоторого "знания "о другому (другим), постольку
осмысленность становится у него тождественной коммуникабельности. И если взять
категорию ценности, -которая, как хочет доказать И. Вайс, оказывается в конце концов
для Вебера гораздо более узкой, чем категория смысла, - то "смысловой» характер» ей
обеспечивает именно способность" к артикуляции и коммуникации" (28, с. 52).
"Коммуникабельность» - т.е. социабельность - как важнейшая характеристика
смысла вообще, здесь обеспечивает изначальную социальность как самим ценностям,
так и ориентированному ими человеческому действию, причем, очевидно, даже в том
случае, когда это - действие индивида, вообще не знающего о существовании "других"
людей. Поскольку же "смысловая ориентация действия... это одновременно и есть
общественная ориентация, постольку, -умозаключает И, Вайс, вставая в критическую
позицию по отношению к Веберу, - становится проблематичным веберовское
различение действия и социального действия (28, с. 57), И в самом деле: если всякое
действие является социальным уже, так сказать, по определению просто-напросто в
силу осмысленности, то зачем специально отличать от него социальное действие, как
это делает Вебер?
Сказав "А», комментатор Вебера должен сказать и «Б» выделив «отнесение к
ценности» в "широком» понимании Этого словосочетания и - соответственно - заменив
в рамках этого «отнесения» ценность (как более узкую модификацию смысла) смыслом в опять-таки "широком» понимании, И. Вайс должен был проделать
соответствующую процедуру и с веберовским понятием рациональности. Наряду с
44
рациональностью в более или менее общепринятом толковании, которую, как правило,
имел в виду Вебер, его комментатор выделяет также «рациональность в более широком
смысле» (28, с. 56), имея в виду, что под нею понимается всякая осознанность,
осмысленность человеческих действий. Причем, естественно, после такой операции
получается^ "рациональным» в этом более широком смысле... является также и
названное Вебером "иррациональным" - "состояние чувств", поскольку оно отнесено к
смысловой связи" (28, с. 57), На этом уровне рациональными окажутся не только целеи ценностно-рациональные действия, но также действие аффективное и традиционное.
Любопытно только, что дало бы такое отождествление самому Веберу, если бы
сказанное о нем комментатором и впрямь соответствовало бы действительности?
К тому же теперь возникает вопрос: почему сам Вебер не проводит этого
различения? И каким образом среди всех - ставших теперь одинаково рациональными действий выделить то, каковое Вебер сам называл цеперацио-нальным действием,
считая его наиболее адекватным воплощением рациональности человеческого действия
вообще? С этими вопросами И. Вайс, как оказывается, может справиться только с
помощью апелляции к той же самой "ценности", которую он лишил значения высшей
категории, ин-тронизировав на освободивщееся место понятие "смысла", "Веберовскую
склонность
идентифицировать"
-
вопреки
толкованию
Вайса
-
"понятие
рациональности с целерациональ-ностью" (28, с. 57) комментатор пытается объяснить
склонностью самого Вебера утверждать рациональность в качестве ценности, А
отличать
целерациональную
деятельность
от
прочих
видов
деятельности,
рациональных "в более широком смысле", предлагается на том основании, что она,
если верить И. Вайсу, изначально "ориентирована этически—ответственным образом
(28, с. 57). Но уже не говоря о том, что при таком толковании возникает новая
трудность: как отличить такого рода "целерациональное» действие от ценностнорационального, в данном случае обнаруживается непреодолимая дистанция между
Вебером и его комментатором, требующая новых и новых «переформул . рований"
основных
понятий
веберовской
социологии.
Оказывается,
например,
что
"целерационалъность в веберовском толковании следует рассматривать не как чистый
тип смысловой, сознательной и коммуникабельной ориентации действия [ т.е. чистый
тип рациональности в новом, ."более широком», вайсовском толковании, -] но лишь как
частный случай таковой" (28, с. 57), Да и как же иначе: ведь речь идет о совершенно
иной, явно не по-веберовски понятой, - рациональности. Потому и не рекомендуется
смешивать ее как "основное допущение понимающей социологии» (по Вайсу) с
45
целерациональностью как "инструментом типизации", созданным, если верить
комментатору Вебера, исключительно в интересах "методической целесообразности»
(там же).
Однако именно это толкование рациональности «в более широком смысле" - как
тождественной осмысленности, в свою очередь понятой в качестве тождественной
"коммуникабельности", т.е. социальности как таковой, И. Вайс считает решающим для
веберовского
"обоснования
социально-научной
социологии».
Растворенное
в
социальности, отождествленное с нею "рацио» перестает быть критерием ее оценки
(это по И, Вайсу," узко-ценностное толкование разума, сопряженное с "чисто
методическим» понятием целерационального действия); "социальность" оказывается
неподвластной оценке в аспекте ее разумности или неразумности - ведь она и есть
разумность, следова~ тепьно, разумна, уже по определению. Это пи не преодоление
рационализма в духе релятивистской тенденции, которой отмечены работы позднего
Гуссерля и особенно - основоположника феноменологической социологии А. Шютца?
(ср. 25).
Растворив
в
понятии
осмысленности
равной
коммуникабельности
и
коммуникабельности, тождественной социальности, все определения ценностного и
логически-рационального порядка, комментатор Вебера (к сожалению, сам того не
заметив) утратил критерии оценки социальности, высшие по отношению к ней. Строго
говоря, он даже лишил себя права различать «истинную» ("изначальную») и "ложную"
("отчужденную") формы социальности - различение, к которому он постоянно
апеллирует; ибо что есть истина и что есть ложь, социальности там, где критерием того
и другого выступает сама социальность? Поскольку же социальность, согласно И.
Вайсу, - это осмысленность, понятая как деятельное аопагание самосознающим
индивидом того, что он "имеет в виду" под целью своего действия, постольку
критерием,
совпадающим
с
(подлинной)
социальностью,
становится
именно
"субъективно предполагаемый" смысл индивидуально определенного действия - то, на
осуществление чего это человеческое действие направлено. То же, как это действие
выглядит «извне», с точки зрения приписываемых ему "объективных" значений (28, с.
59), предстает как "овеществление» и "отчуждение» его - изначально субъективного смысла, т.е. как ложная, искаженная социальность. В этом смысле "подлинная»
("изначальная", следовательно, "истинная") социальность является как свидетельством
своей собственной истинности, так и критерием ее искажения и отчуждения, т.е.
уклонения от истины.
46
"Именно... утверждение Вебера, - читаем мы в книге И. Вайса, - согласно
которому, как правило, структурированы смысловым образом даже состояния чувств,
указывает на возможность осмысленно понять отчужденную деятельность, равно как и
раскрыть
ее
в
качестве
отчужденной:
понимание
извлекает
общественную
определенность соответствующей актуальной ориентации,[ действия, -включая и
механизмы, в результате функционирования которых от самого действующего
(индивида) остается скрытым это общественное опосредствование. Иначе говоря,
понимающая социология не берет социальность смысла как осознаваемую актуально,
но освещает его скрытое общественное опосредствование с помощью своего анализа.
Поскольку же она делает видимыми для общественных акторов отчужденные
основания, определяющие их действия, как смысловые связи, понимающая социология
заключает в себе особые просвещающие и идеолого-критические9 возможности» (28, с.
59).
Иначе говоря, сведенная к особого (феноменологического) рода пансошюлогизму,
отождествляющему "смысл» и "социум", веберовская понимающая социология
предлагается в роли альтернативы неомарксистской критике идеологии, И не случайно:
веберовская
понимающая
"социологического
социология,
радикализма»
искусственно
одинаково
ведущего
введенная
к
в
русло
распредмечиванию
социологии как в неомарксизме, так и в феноменологической социологии, предстала
теперь как некоторый общий знаменатель для двух этих модных еще в первой половине
70-х годов социологических устремлений, как общий язык, обеспечивающий взаимную
переводимость их теоретических понятий.
Общим как для неомарксизма, так и для феноменологической социологии (а если
поверить И. Вайсу, то и для Вебера) является отождествление понятий "объективации»
и «отчуждения» - ошибка, которую критический взгляд мопо-.дого К. Маркса подметил
уже у Гегеля (2, с. 152-174). В духе подобного смешения выдержана, согласно
собственному самокритическому признанию ее автора, книга молодого Д. Лукача
"История и пролетарское сознание» (17) до сих пор остающаяся библией неомарксизма.
В качестве представителя (по крайней мере в рассматриваемом отношении)
феноменологически ориентированной социологии И. Вайс также демонстрирует, как
мы убедились, пример отождествления объективации смысла и его отчуждения.
Причем, стремясь согласовать свои феноменологические склонности с влечением к
веберовской понимающей социолопогни (в чем ему очень помог основоположник
47
феноменологической социологии А.Шютц, однажды уже предпринявший подобную
операцию), ту же точку зрения-он приписывает теперь Веберу.
Единственная форма "объективности, которую признает автор книги о Вебере, это интерсубъективность: понимание того, что имеет в виду один участник
взаимодействия, вкладывающий определенный «смысл" в свое действие всеми
остальными
участниками
взаимодействия.
"Термин
"смысл»,
соответственно,
"смысловая связь", -читаем мы у И. Вайса, - уже как таковой обозначает форму
толкования ситуации действия, которая указывает за пределы "здесь и теперь»
неповторимо-однократных констелляций, - следовательно, является "объективной". В
случае
социального действия
эта
объективность
определяется
ближе
-
как
интерсубъективная значимость соответствующего образца ориентации. Во всяком
случае она значима, поскольку отношение к поведению другого (индивида) не является
лишь мимолетным, сохраняет значение в качестве отношения к соответствующим
нормам и правилам, имеющим общественную значимость... "Необходимость понять
смысл также и в качестве объективной связи значения" существует уже там, где
"имеющиеся в виду" точки зрения и правила действия приводятся в соответствие друг с
другом как значимые интерсубьективно" (28, с. 60).
Поэтому во всех случаях, когда комментатор Вебера сталкивается с фактом
действительной объективности социальной связи — с теми или иными формами
взаимозависимости людей, которые располагаются на более глубоком уровне,, чем
уровень их «интерсубъективногог пола-гания и обусловливают действия людей,
независимо от того, удостоверена пи она нормативно ориентированным сознанием, - И.
Вайс склонен расценивать эту связь как отчужденную как "вторую природу» и т.д.
"Специфически смысловое в социальном действии, — пишет он, — это и есть его
социальность, а социальность... характеризуемого здесь смысла - это базис всех
многоступенчатых и длительное время сохраняющихся объективации смысловых
образований, включая их отчуждение во "вторую природу" (28, с. 60). Причем
признаком "отчужденности" социального образования оказывается именно то, что оно
начинает воздействовать на поведение людей с "бессознательно-естественной"
необходимостью природы, вынуждающейся людей считаться с ней безотносительно к
тому, представляется ли она "имеющей смысл" и соответствует ли она воле и желаниям
действующих
индивидов.
А
ведь
таким
образом
воздействуют
не
только
непредусмотренные, людьми результаты их собственной социальной деятельности,
хотя и бни вовсе не обязательно должны выступать именно как ее отчуждение, но и все
48
вообще социальные отношения, сложившиеся до того, как в активную социальную
жизнь включилось данное поколение: с ними приходилось считаться не потому, что
они были удостоверены сознанием людей нового поколения как имеющие смысл, а
потому, что они были даны этому сознанию как нечто предшествующее ему -"факт"
социального бытия.
В том факте, что новое поколение застает существующей определенную систему
учреждений (социальных институтов), важно не только (и даже не столько), то, что ему
так или иначе открывается их "смысл" - система норм, правил и ценностей, на основе
принятия которых людьми они только и могут нормально функционировать. Гораздо
существеннее то, что моя обусловленная фактом моего рождения в обществе
"включенность" в систему таких учреждений (начиная с семьи, школы и т.д.)
вынуждает меня поступать вполне определенным образом - безотносительно к тому,
каким образом "осмысляю» я и люди моего поколения эти институты. И тот факт, что
на протяжении жизни одного поколения некоторые институты переживают более или
менее существенные трансформации (а отдельные хиреют или вовсе сходят со сцены),
нисколько не отменяет необходимость для вского, включенного в ту или иную систему
функционирующих институтов, отдавать им неизбежную "дань", обеспечивая их
существование своим поведением, к которому они» меня обязывают, обусловливая тем
самым мои "социальные действия». Да и вообще: тот факт, что мои поступки
опосредуются моими собственными "ожиданиями ожиданий» (предположениями
насчет того, что ждут от меня "другие" связанные со мною узами» причастности к
определенному "социальному институту» или системе таких "институтов»), вовсе не
исключает - более глубокой -социальной детерминированности моих действий,
предопределяющей круг этих ожиданий и соответственно действий.
Что же касается самого Вебера, то он, судя по его конкретным исследованиям тех
или иных определенных социальных явлений - например, феномена власти и
господства, — ставил проблему гораздо реалистичнее, пытаясь постичь .поведение
человека не только как причину, но и как следствие возникновения определенных
общественных образований. Причем главное, что его здесь интересовало, -это связь
двух данных определений человеческой деятельности. Между тем, именно от такого двустороннего - понимания и отказывается И. Вайс, сводя "двухпогиосность»
социального действия человека к одному из полюсов: человеческое действие как
причина возникновения определенных социальных образований. (А ведь свой подход
этот
комментатор
Вебера
настойчиво
демонстрирует
как
синтетический,
49
показывающий связь различных социологических понятий веберовской социологии
там, где ее оппоненты видели одну лишь их противоположность!) И, таким образом,
его мысль остается замкнутой в pyслe модной на Западе - вплоть до первой половины
прошлого десятилетия - тенденции распредмечивания социологии путем лишения
социальных отношений их объективной определенности и сведения к (субъективнопсихологической) межличностной "коммуникации", лишенной предметного основания.
Как свидетельствует более поздняя работа И. Вайса о Вебере, развивающая тот же
круг идей, но с еще большей определенностью, а именно: статья "Рациональность и
коммуникабельность: Размышления о роли предпосылки относительно рациональности
в социологии" (29), рассмотреннря позиция имеет свои более глубокие социальнофилософские источники. Дело в том, что следуя традиции, утвердившейся в
философской антропологии XX в. (Плесснер, Гелен и др.) (9), И. Вайс делает акцент на
"рефлексивности» как важнейшей антропологической особенности, отличающей
человека от животных, полагая, что "в этой рефлексивности заключаются особые
возможности коммуникабельности (и благодаря этому социальности) человеческого
действия" (29, с. 54). Однако, эта "рефлексивность" предполагает в качестве
фундаментального отличив человека именно его субъективность — хотя и в форме
интер-субъект явности, субъективности человеческого коллектива, коллективной
субъективности,
не
выходящей
за
рамки
взаимного
отражения
(разумеется,
корректирования) человеческих сознаний.
Но гораздо больше говорит за то, что человека отличает от животных не столько
субъективность, не столько его рефлексия по поводу себя самого, возникающая в
атмосфере межличностной коммуникации, сколько, напротив, объективность —
способность дистанцировавшись от своего влечения к тому или иному предмету
потребности (которую можно понять и как рефлексивность), взять этот "предмет»
безотносительно к этому влечению, в его "отношении к самому себе", т.е. объективно,
сообразно с его собственной "мерой» (К. Маркс) (2, с. 94).
С этой точки зрения, решительно противостоящей традиции, в которую И. Вайс
встраивает "своего" Вебера», акцентируется не "смыспопопагающая", а Смысловы
являющая
деятельность
общественного
(т.е.
включенного
в
совокупность
формирующих его и формируемых им социальных отношений) человека, "Смысловая
структура"
социального
мира
вырабатывается
не
в
рамках
("чистой")
интерсубъективности», а в процессе — социально опосредованного отношения
человека к природе как к его собственному "неорганическому делу» (К. Маркс) (2, с. 9):
50
к
предметному
миру,
обеспечивающему
предметную
структурированность
и
межчеловеческих отношений, скпедываю-со щихся по поводу него.
Взаимоотношения людей не могут быть "чисто интерсубъективными" хотя бы
уже потому, что это всегда отношения мыслящих тел (вспомним «мыслящий тростник»
Б. Паскаля), и в качестве таковых эти отношения неизбежно «обременены"
телесностью,
предметностью,
вещественностью.
Однако
это-то
и
придает
межчеловеческим отношениям характер необходимых и объективных - независимых от
того, к какого рода согласию (скажем, относительно своей собственной телесности)
придут люди в ходе "интерсубъективных" контактов. Это-то и вынуждает людей искать
"смысл" не в сфере межличностной коммуникации, а в сфере взаимоотношения людей
с предметным миром (включая свою « собственную телесность), т.е. усматривать его
источник не в собственной (хотя бы и "интерсубьектив-но" обобществленной)
"рефлексивности", а в своей открытости объекту, объективному миру, в той
универсальной "мере", к оторой одинаково причастны и специфически природные, и
общественно-человеческое начала.
Таковая
реальная
современная
альтернатива
неомаркси-стско-
феноменологическому распредмечиванию социологии (в духе социалистического
радикализма) И. Вайсом - тому самому распредмечиванию, которое было - и, как
видим, остается - одной из наиболее характерных черт кризиса западноевропейской
социологической теории.
Книга И. Вайса (как и примыкающая к ней статья, опубликованная шесть лет
спустя после выхода книги) с достаточной определенностью свидетельствует о
теоретических притязаниях, с самого начала выдвигавшихся провозвестниками
«веберовского ренессанса». Смысл этих притязаний, как мы могли убедиться,
заключается в том, чтобы предложить веберовскую "понимающую «социологию» как
перспективу решения проблем, нерешенность которых вызвали новые и новые
теоретические размежевания в рамках современной западноевропейской социологии. В
этом отношении книга И.Вайса оказалась в русле одной из новейших тенденций,
наметившихся в социологической мысли капиталистического Запада в первой
половине 70-х годов - тенденции своеобразной "конвергенции" неомарксистской
леворадикальной
социологии,
с
одной
стороны,
и
феноменологически
ориентированной социологии - с другой. Очевидно, самому автору книги о Вебере эта
тенденция представляется наиболее плодотворной, и он истолковывает основные
понятия веберовской социологии так, чтобы предложить "общий язык»", на котором
51
могли бы договориться социологи феноменологической ориентации и неомарксисты
(прежде всего, разумеется, Ю. Хабермас) (13).
"Юрген Хабермас, - демонстрирует комментатор Вебе-ра "переводимость»
современной проблематики на (порядком "феноменологизированный") веберовский
язык в своей статье "Рациональность как коммуникабельность", - уже несколько лет
работает над тем, чтобы раскрыть [ квазитрансцендентальный) интерес к консенсусу
(здесь: интерсубъективно выработанному согласию. - Авт.] как условию возможности
коммуникативного действия. "Реконструктивное» открытие такого интереса должно
одновременно и прежде всего обосновать возможность истинного консенсуса
относительно морально-политических норм. Веберовское допущение относительно
рациональности или коммуникабельности также содержит нескрытыми весомые
предпосылки и выводы подобного рода... Понятый в широком смысле, консенсус,
естественно,
является
предпосылкой
(или
способом
осуществления)
всякой
коммуникации. Однако если под консенсусом понимается полная интерсубьективная
согласованность «в деле» (в особенности в отношении обоснования норм и ценностей,
а также для чисто практического применения консенсуса), коммуникабельность
оказывается
хотя
и
необходимым,
но
недостаточным
условием.
Процессы
рационализации также могут улучшить шансы действительного и жизнеспособного
консенсуса» «в деле» посредством развития возможностей коммуникации. Но точно
также они могут вести к o6ocfpeHmo ситуации общественного конфликта" (29, с, 54).
И.
Вайс
подчеркивает,
что
расхождения
с
Ю.
Хабермасом
у
него
непринципиальные, касающиеся скорее неадекватного понимания последним Вебера,
чья социология было бы более подходящим способом решения, в частности, и
хабермасовых проблем. "Границы веберовской концепции рациональности, - читаем
мы в статье "Рациональность и коммуникабельность", - это границы опытно-научного
анализа. Не ограничение на "инструментальном" понятии рациональности, как полагает
Хабермас, но связанность с этой границей отличает в данном пункте веберовскую
позицию от хабермасовской. Разумеется, этим еще ничего не сказано ни о собственной
законности, но о возможной плодотворности усилий Ю. Хабермаса (которые нацелены
на связывание эмпирического понятия рациональности с традиционным понятием
практического разума" (29, с.54). Тем не менее в статье явно чувствуется (отмеченное
редакторами-составителями сборника, в котором она опубликована) стремление ее
автора показать, что в целом и здесь позиция Вебера оказывается, в конечном счете,
более сильной, чем позиция современных авторов.
52
В общем же как в книге, так и в статье И. Вайса проводится мысль, выражающая
суть
теоретических
притязаний
провозвестников
"веберовского
ренессанса":
"...Веберовское обоснование социологии в принципе не превзойдено новыми и/или
актуальными начинаниями... напротив, более интенсивный и более систематический
учет веберовских интенций должен решающим образом способствовать прояснению
теоретических и методологических проблем, вызывающих (нынешние) контроверзы"
(28, с. 19).
Весьма показательно, что эта мысль, которой заключил И. Вайс введение к своей
книге, написанной в 1975 г., была воспроизведена группой провозвестников
"веберовского ренессанса" в 1980 г. "Мы полагаем, можно констатировать, - пишут В.
Шпрсндепь и его соавторы в заключении своей статьи об И. Винкельмане, - что все
попытки теоретически или понятийно преодолеть социологию Вебера, фундировать ее
и т.д. остаются позади его собственных требований, что они просто подменяли
методическую односторонность Вебера - предметной односторонностью». Факт,
свидетельствующий о том, что основная теоретическая претензия провозвестников
"веберовского ренессанса" остается неизменной, несмотря на то что сами они (в чем
нам еще предстоит убедиться) могут истолковывать веберовское теоретическое
наследие весьма различным — если не взаимоисключающим - образом.
Хотя попытка истолкования Вебера в духе "средней арифметической" от
неомарксизма и феноменологической социологии и не вполне отвечала, в общем, более
умеренному умонастроению наступавшего "веберовского ренессанся»" в книге И.
Вайса
содержалось
многое,
импонировавшее
и
более
ортодоксальным
"неовебераинцам". Прежде всего это был один из первых (в рамках "веберовского
ренессанса") Опытов истолкования основных понятий социологии Вебера в свете
некоторой, открытой в его собственном теоретическом наследии, "метапоэиции", с
точки эренк« которой перед социологически искушенным читателем предстало в виде
достаточно впечатляющей целостности то, что раньше выглядело как плохо обозримый
"комплекс антиномически-неразрешимых противоречий. Комментатору Вебера удалось
истолковать идею отнесения к ценности таким образом, что на нее - как куски мяса на
шампур - довольно легко и не без изящества нанизались все остальные теоретикометодологические
понятия
веберовской
социологии,
представ
как
нечто
упорядоченное, по крайней мере, 6 свете общей «интенции»«. Но это не все:
"разрешая"
трудности
истолкования
веберовского
теоретико-методологического
построения, которые многим из прежних вебероведов казались свидетельством
53
неразрешимых противоречий, лежащих в его основе, И. Вайс одновременно предложил
эти свои "решения" как способ преодоления антиномий современной теоретической
социологии:
например,
антиномий
нынешнего
социологического
радикализма,
возникшего "на пересечении" феноменологической и неомарксистской ориентации,
однако сохранившего - в виде своих собственных "проклятых проблем" -все то, что и
раньше было камнем преткновения между этими социологическими ориентациями.
Наконец, о чем раньше не говорилось и о чем следует сказать особо: И. Вайс не
только использовал (определенным образом истолкованный) принцип отнесения к
ценности как ключ к пониманию системы веберовских теоретико-методологических
категорий и понятий - ключ к раскрытию тайны "образования понятий и формирования
теории» у зрелого Вебера. Одновременно он применил этот принцип в качестве метода
анализа мировоззренческой эволюции молодого Вебера - с тем чтобы выявить его
основные ценностные установки, определившие специфический угол зрения веберовской понимающей социологии и ее особый предмет, И, Вайс задался цепью
показать, что «веберовское понимание исторической социологии, то е, социологии,
укорененной в жизненно-мирском контексте (человеческого) опыта и деятельности,
оправдывается в применении к процессу собственного становления Вебера» (28, с.
102). При этом основным вопросом, на который пытался найти ответ И.Вайс, был
вопрос "о модификации и развитии специфического «ценностного пункта", который,
возникая из донаучного опыта, определял "формирование и ограничение» у Макса
Вебера предмета социологии религии» (28, с, 105), поскольку ей - по убеждению автора
книги — предстояло сыграть роль "парадигмы» всей веберовской социологической
концепции" (28, с. 103).
Таким образом в самый центр теоретических споров и дискуссий о предпосылках
веберовской социологии — на правах авторитетного участника обсуждения - был
введен "сам Вебер" как личность, а не просто автор тех или иных социологических
текстов, как свидетель своего собственного "жизненного мира», а не просто как
аналитик современной ему "общественно-политической жизни». Сам Вебер, каким он
предстал в переписке с ближайшими друзьями и родственниками, должен был сыграть
роль арбитра в споре о том» в какой мере его социология была в самом деле
"Социологией
действительности»,
феноменологически
(и
в
то
же
время
неомарксистски) истолкованной И. Вайсом как «жизненный мир».
"Парадигматическая роль", которую, согласно И. Вайсу, должны были сыграть
именно религиозно-социологические представления Вебера, выводится здесь из того
54
наблюдения, что "постановки проблем», возникавших
«в поле вне-научного
жизненного опыта" молодого Вебера, выступили "определяющим образом» прежде
всего - и именно - "в рамках [веберовской,~Авт.] социологии религии" (28, с, 152). По
крайней мере "в одном важном отношении» социология религии Макса Вебера
раскрывается (его комментатором) как прямое продолжение обсуждения тех проблем,
что волновали его с юности, - продолжение, осуществленное «уже другими
(методически более изощренными) средствами и на материале, простирающемся во
всемирно-историческое измерение" (28, с. 118), Но вместе с тем в самую сердцевину
обсуждения теоретических проблем понимающей социологии оказались введенными
вопросы религиозно—этические и в конце концов скорее этические, чем религиозные.
По этой причине книга И. Вайса оказалась в ближайшем отношении к тому, что
образует наиболее чувствительный нерв нынешнего "веберовского ренессанса", к ее
основные «интенции" приобрели программный характер.
«Веберовским религиозно-социологическим исследованиям, - так резюмирует И.
Вайс едва ли не важнейший в «программном» отношении тезис своей книги, —
предшествует ... опыт того, что арелигиозная общественно-экономическая и
политическая система не только мыслима (в принципе), но уже реализована и
реализована далеко идущим образом. Но этот опыт ... корреспондировался у Вебера с
сознанием того, что существование религии не целиком совпадает с ее общественной
функцией и она не ликвидируется вместе с утратой этой своей функции. Наоборот, он
был убежден, что перед религией при определенных обстоятельствах - как условие ее
самосохранения,
-
воэ-никает
требование:
освободиться
от
непосредственно
общественных притязаний. Такой представляется ему ситуация прспедовательно
продуманного христианства в настоящем.
... Вебер открыл, что истинно религиозные смыслопола-гания играли [в прошлом,
-Авт.] решающую роль в создании условий всеохватывающей рационализации
человеческого мира... Эта определенная религия [протестантизм. -Авт.]" целиком
исходит из собственных предпосылок и совершенно сознательно направлена на
обработку мира с целью его "разволшебствлеияя»«. Секуляризация, следовательно,
совершается в духе этой религии, а не противоречит ему. ... Благодаря этому процессу
религия не ликвидируется и тем менее отвергается вовсе, но по возможности
побуждается к пересмотру собственного самопонимания" (28, с. 153-154).
Вопрос, поставленный в книге И. Вайса буквально «ребром", - в каком отношении
(протестантская) религия находится к (ею же самой вызванной) "рационализации
55
человеческого мира», которая сгша, в свою очередь, есть не что иное, как далеко
идущая секуляризация, - вызвал к жизни целый ряд работ-откликов, представляющих
собой существенный вклад в нынешний "веберовский ренессанс» в ФРГ. В круг этих
работ
вполне
органично
вписывается,
в
частности,
и
работа
неоднократно
упоминавшегося нами К. Сейфарта "Общественная рационализация и развитие
интеллектуальных слоев. К дальнейшей разработке центральной темы Макса Вебера»
(26), автор которой пытается дать свое решение старой проблемы вебероведения,
заново
поставленной
И.
Вайсом,
отправляясь
от
предпосылок,
решительно
отличающихся от Вайсовых.
В общем контекста нашего изложения эта работа представляет особый интерес по
той причине, что ее можно рассматривать также к и как одну из попыток
последователей И. Винкельманна, выступивших с претензией программировать
«веберовский ренессанс", дать пример конкретного осуществления их программы, А
это открывает возможность сопоставить изложенные выше "программные установки" с
конкретным опытом их реализации, что позволит нам глубже понять действительный,
реальный (а несловесно-декларативный) смысл самих этих установок.
Однако самое важное и существенно» заключается здесь в том, что при таком
сопоставлении перед нами раскрывается второй путь, вторая перспектива современного
западногерманского вебероведения. Речь идет как раз о той перспективе, которая — в
отличие от предложенной в книге И. Вайса - ориентирована не "общетеоретически", а
конкретно-социологически и более близко связана с интересами социологов"эмпириков» (в веберовском смысле), отправляющихся от проблематики предметных
социологических областей.
2. "Рациональность" и "профессионализация": Опыт конкретно-социологической
расшифровки основных категорий социологии М, Вебера
Уже
в
ведении
к
работе
"Общественная
рационализация
и
развитие
интеллектуальных слоев" формулируется принцип авторского подхода к веберовской
проблеме
рациональности
(и,
соответственно,
-
рационализации),
который
противополагается - в качестве собственно социологического - тому подходу к ней, что
был господствующим, как мы помним из предисловия В. Шпронделя и К, Сейфарта к
сборнику "Макс Вебер и рационализация социальной деятельности" в 60-е годы, когда
интерес к Веберу носил не столько профессионально социологический, сколько по
преимуществу философский, экономический и исторический характер (а также тому
56
подходу, что явно оставался доминирующим в книге И. Вайса, который в своем
исследовании довольно редко покидал общефилософское либо социально-философское
измерения веберовской мысли). Суть этого подхода заключается в стремлении
подвергнуть социологически расшифровке стержневое для веберовского построения в
цепом понятие рациональности, которое если и анализировалось на протяжении
истекшей четверти века, то анализировалось скорее в философском ключе - в духе
приписываемой М. Веберу "философии истории", несмотря на то, что сам он, как
известно, со всей решительностькино предполагал свою социологию, совсем не
случайно в называемую им «эмпирической», всякой философии истории. Расшифровка
заключается у К. Зайфарта в соотнесении этого понятия, вернее: содержания, им
выражаемого, с соответствующими общественными «слоями», которые, согласно
автору статьи, и были носителями принципа рациональности в, реальной истории,
включая историю нашего столетия, доведенную до современности.
Этими слоями являются для К. Зайфарта «интеллектуальные слои», т.е. "группы
населения, деятельность которых, основывается на интеллектуальной выучке» (26, с.
189). Конкретный сравнительно-исторически-социопогический анализ возникновения,
развития и утверждения на Западе этих слоев, являющихся носителями принципа
рациональности и способствовавших рационализации все новых и новых сфер
человеческого существования; судьба этих слоев «на переломе» от XIX в. к XX —
такова, до утверждению автор статьи, «центральная темы историко-сравнительной,
универсально-исторической социологии Макса Вебера» (26, с. 189). Ее же К. Зайфарт
избирает и главной темой своего собственного исследования, посвященного
«дальнейшему развитию цэ игральной темы» основоположника немецкой буржуазной
социологии
XX
столетия,
«Западноевропейский
рационализм»
и
процесс
«рационализации» все новых и новых существенно важных сторон человеческой
жизни, взятый под углом зрения социально-исторической судьбы его конкретных
носителей (в такой же мере являющихся его причиной, в какой и следствием),
проанализированный в тесной связи с рассмотрением структуры соответствующего
вида деятельности: «интеллектуально определенной деятельности» (26, с. 189) - вот как
конкретизируется для К. Зайфарта «центральная веберовская тема и, соответственно,
основная тема его собственной работы.
Поскольку
социальным
содержанием
этого
процесса
является
«развопшебствление» (Entzauberung) человеческого мира, т.е. лишения смысла как
самих вещей, так и межчеловеческих отношений, возникающих по их поводу10,
57
поскольку, "внутренняя» и «внешняя « судь.ба «интеллектуальных слоев» зависит как
от динамики»процессов рационализации», так и, соответственно, от динамики
«процессов разволшеб-ствления». И вопросом является при этом, в какой мере связаны
и взаимообусловлены эта судьба и эти динамика: в какой степени сами
«интеллектуальные слои» являются фактическими "носителями рационализации»?
Какого рода рационализация ими утверждается? И далее (уже в развитие этого
вопроса): насколько эти спои способствуют, хотя и непроизвольно, тому процессу,
который
"лишает
образованием"?
почвы
Наконец,
их
еще
квазисосповную
более
конкретно:
привилегию,
"В
какой
обеспечиваемую
степени
они
[
"интеллектуальные спои", - Авт] стремятся и/или способны дать, по возможности, иное
направление этому процессу с помощью переработки напряжений формальной и
материальной рациональности, этики ответственности и этики принципа" (26, с. 189),
Уже в этом пункте с полной отчетливостью раскрывается противоположность
истолкования одного и того же феномена, с одной стороны - К. Марксом, а с другой М. Вебером (к тому же пропущенным сквозь призму сознания его нынешнего
последователя К, Зайфарта). Для первого носителя процесса "де-патриархапизации",
"де-сентементализации", "де-романтизации", «де-мистификации" человеческого мира,
доводящего до его полного обессмысливания (лишения чего бы то ни было в нем
значимости "правомерного" самого по себе, высшего в себе и самодостаточного)
выступает буржуазия, ставящая себе на службу "интеллектуальные слои", которые
именно в связи с развитием капиталистических отношений получают поприще для
своей специфически "рационализаторской» деятельности. Для второго же это
отношение перевернуто в самом буквальном смысле слова: здесь социальноисторический приоритет получают именно "интеллектуальные спои", а функционеры
буржуазно-капиталистического производства предстают лишь как продолжатели дела
"интеллектуальных слоев", воплощающие их проект рационализации и "раэволшебствления" человеческого мира главным образом в экономической сфере, И тем же
менее М. Вебер (во всяком случае взятый в изложении комментатора) возражает
против того, чтобы рассматривать "интеллектуальные слои" как особый класс - в том
смысле, в каком (уже применительно к XX в.) их склонен подчас рассматривать в своей
"теории постиндустриального общества"
Д. Белл или в "теории жреческого господства интеллектуалов" X. Шельский (23).
Ставя социальную функцию "интеллектуальных слоев" как носителей принципа
рациональности (и, соответственно, рационализации) в связь как с внутренней
58
структурой их деятельности, так и с их способом осознания этой своей деятельности,
автор
статьи
выдвигает
в
качестве
"основного
элемента
западной
формы"
интеллектуальных слоев именно "духовный труд", предстающий для них одновременно
как профессия и как призвание (das Beruf) - означает на немецком языке одновременно
и профессию и призвание: npo-t-фессию-призвание - двузначность, к которой, в
конечном счете, восходит предлагаемое К. Зайфартом различение «внутренней" и
"внешней" профессии, где внутренняя сторона более тесно связана именно с
призванием и его осознанием). Специфика духовного труда как "профессии-призвания"
— идет ли речь о профессионализированной деятельности" юриста, ученого или врача изначально была, согласно автору статьи, связана с тем, что в нем (этом труде)
практически, "на деле" осуществлялась связь "повседневно" и внеповседневно»«
ориентированных моментов (26, с. 190), По этой причине М, Вебер (в изображении К.
Зайфарта)
был
склонен
рассматривать
всякую
"профессионализированную
деятельность" как творческую, отвергая - как проявление романтической установки принципиальное разделение профессий на "творческие" и "прикладные", т.е. "не
творческие". Творческий характер "профессионализированной деятельности» в том и
заключался, что она представляла собой решение тех или иных специфически-"
повседневных»
проблем,
реализуя
в
материале
"обыденного"
существования
(предстающего в виде бесконечной массы индивидуальных явлений) то, что не
выводится из обыденно-повседневного - всеобщие, интеллектуально постижимые
принципы, нормы и ценности, которыми руководствуются носители этой деятельности
- профессионалы духовного труда, представляющие соответствующие профессии.
Не безотносительно к этому обстоятельству, касающемуся "внутреннего аспекта
"профессионализированной
деятельности",
выступает
ее
"внешняя»
-
чисто
"социологическая" - сторона. "В качестве важнейшей особенности образованных и
интеллектуальных слоев Запада выступает единство воспитания, господства и
профессии:
не
только,
как
это
часто
бывало,
в
силу
принадлежности
к
интеллектуальным слоям, и не только в качестве воспитателей будущих обладателей
руководящих функций - типичный случай, но также и потому, что в большинстве
случаев они сами были (индивидуальными или коллективными) претендентами на
господствующие позиции и/или - путем образования обоснованный — квазисосповный
престиж и привелегированность" (26, с. 192). Здесь проблематика воспитания
оказывается теснейшим образом сопряженной с проблематикой господства; "поэтому
воспитание, - подчеркивает К. Зайфарт, -обсуждается Вебером в аспекте теории
59
господства: в качестве господским образом структурированного культивирования
способа поведения, связанного с обладанием властью" (там же).
В силу этого образование "западных интеллектуальных слоев" отличалось
сочетанием рационального обучения специальности с общим гуманистическим
образованием, квалифицирующим человека уже не только профессионально, но и
"сословие" (там же). Но хотя образование таким образом и было проникнуто
различными элементами "интеппектуали-стического порядка", оно - если иметь в виду
типический случай - не имело целью формировать "носителей интеллектуализма как
таковых", если понимать под интеллектуализмом искание "единого смысла мира,
который мог бы получить устойчивое культурное воплощение". Наоборот: цепь
образования "западных
интеллектуальных слоев» заключалась
в том, чтобы
подготовить носителей и проводников "частичных рационализации и модернизаций"
(там же), творчески осуществляемых в каждом конкретном случае поведения
единичного под общий принцип разума - не только "калькулирующего", но и
оценивающего с позиции высших ценностных принципов. Впрочем, это не исключало во всяком случае в тенденции - также и возникновение типа интеллектуала в более
узком смысле: идеолога, деятельность которого определена "чисто интеллектуально".
Следуя
за
Вебером,
(профессионализированных)
его
комментатор
"интеллектуальных
выделяет
слоев"
Запада
в
составе
целый
ряд
профессиональных групп, сосредоточиваясь главным образом на трех: юристы, ученые
и журналисты, поскольку именно в этихт трех случаях можно было наиболее
выразительно
проиллюстрировать
связь
между
внутренним
содержанием
соответствующей профессии и внешними социальными (и политическими, и
мировоззренчески-идеологическими)
характеристиками
профессионала
как
определенной общественно- значимой фигуры. И хотя сам К. Зайфарт и дает понять
читателю, что в своей характеристике профессионалов различных предметных
областей "интеллектуального труда" в качестве "социальных типов" он стремится лишь
к аутентичному воспроизведению веберовской концепции, здесь то и дело
проскальзывают формулировки, явно характеризующие собственную позицию автора
статьи, отмеченную печатью нынешнего "стабилизационного" умонастроения на
Западе,
Согласно К. Зайфарту, для М. Вебера критерием (социологической) оценки
упомянутых социальных фигур был "проверенный на деле" - вклад ее в общий процесс
рационализации, которая - в каждом отдельном случае - предполагает творческое
60
разрешение
противоречия
между
«формалъной»11
и
"материальной"12
рациональностью, т.е. пользуясь выражением другого комментатора веберовского
творчества (М.К. Лепсиуса), «сознательное сохранение неустойчивого баланса» между
ними "в структурно дифференцированных институтах" (26, с. 193). Поскольку же при
этом специфический опыт "интеллектуальных слоев", их образование, методика их
профессиональной деятельности, наконец, "внешние условия их существования" — все
это
делает
их
«носителями
политической
культуры",
постольку
оценка
соответствующих "социальных типов" оказывается также в зависимости от того,
насколько профессионализированная деятельность каждого из них способствует (или .
напротив, препятствует) "ответственному вмешательству в политический процесс" (там
же).
Автор статьи показывает, что в наибольшей степени отвечает веберовским
критериям оценки социальной значимости (с точки зрения вклада в процессе
специфически-»западной" рационализации общественной жизни ) кинтел-лектуальный
слой" юристов, в котором, в свою очередь, М. Вебер выделяет судей, отдавая им
предпочтение перед адвокатами. "Юристы, - читаем мы у К. Зайфарта, - это прототип
западной
интеллигенции....
Их
деятельность
отличается
особой
"духовной
интенсивностью" и ответственностью" (26, с. 193). "Творческий характер" их
профессионально вышколенной деятельности обнаруживается "прежде всего в связи с
практической необходимостью, которая принуждает (юристов) снова и снова искать
синтез внутренней логики правового формализма и материальных аксиом, с одной
стороны, и требованиями, возникающими из экономического и политического
развития, из "жизненных потребностей" клиентов - с другой" (26, с. 198).
Юристы
интересуют
Вебера
прежде
всего
как
люди,
обеспечивающие
"специфически-юридические, т.е. формально-рациональное качество права" (там же),
следовательно, как носители принципа рациональности в области правовых -шире:
вообще правовым образом структурируемых - отношений людей. Благодаря их
конкретной деятельности, связанной с решением обыденных, "повседневных" проблем,
и осуществлялась - все дальше и дальше заходящая - "рационализация» сферы
юридически оформляемых отношений людей друг к другу. Причем этот процесс - не
устает Повторять за Вебера его комментатор - в каждом отдельном случае выступает
как творческий акт: акт внесения разумного смысла в "иррациональную" стихию - н»а
основе установления некоторой (всякий раз конкретно определяемой) «меры —
61
«формально»
рационального
-
и
"материально»
(т.е.
содержательно)
"иррационального».
В этом отношении М. Вебер, как показывает автор статьи о нем, решительно
противополагает профессионально работающих юристов определенной категории
теоретиков, характеризуемых им (опять-таки в отличие от правоведов-профессионалов)
как
"публицистические
теоретики".
У
"публицистически»
ориентированных
теоретиков, с характерной для них апелляцией к абстрактной идее права, по мнению М.
Вебера,
«в
конечном
счете
отсутствует
конститутивное
-
для
профессионализированной деятельности - отношение к формальной рациональности...
и мыслимым мате-риапьным ценностям, не учитываемыми соответствующим образом
перед лицом [формально-рациональной. - Авт.] логики того, что поддается расчету"
(26, с.200). Вне поля их зрения остается именно "двухполюсность" процессов
рационализации, включающих как «формальный», так и "материальный" аспекты и,
соответственно, предполагающих двуединую точку зрения, учитывающую "взаимное
перекрещивание"
существующего
теоретически
на
ориентированными
Западе
выделенных
положения
теоретиками,
дел,
оказывается
аспектов,
А
практикуемая
"лишь
потому
и
критика
"публицистически»
формальным
отрицанием,
технически-правовой или "интеллектуальной "критикой" (26, с. 201).
К. Зайфарт - вслед за М. Вебером - фиксирует далеко идущую общность между
профессиональной деятельностью юристов и ученых на Западе. И первый, и второй вид
"профессионализированной деятельности" возникли "в связи с западным процессом
рационализации" (26, с. 197). Причем и в первом и во втором случаях
/"профессионально
дисциплинированная
деятельность
предполагала
процессы
"разволшебствпения и интеллектуализации" человеческого мира и развивалась "под
непосредственным давлением рационализации» (там же). Если деятельность юристов
характеризуется прежде всего "специфическим профессионализмом, а не связью с
религией или господством" (26, с. 196), сколь ни важны для профессиональных
юристов эти связи, то в еще большей степени это же можно сказать и об ученых, в
особенности естествоиспытателях, тем более что научная деятельность отмечена
"многослойным и конфликтным отношением к политике" (26, с, 197). Оба вида
профессионализированной деятельности развиваются "как бы по своей собственной
логике, которая не может быть адекватно постигнута в системе предпосылок
формальной рационализации или целерациональной деятельности" (там же). Наконец,
как для юридической, так и для научной деятепьности» конститутивно практическое
62
преодоление «напряжений, амбивалентностей и противоречий, которые проявляются
вместе с разволшебствпением и общественной рациолизацией»(там же).
В этом последнем пункте обнаруживаются, согласно К. Зайфарту (опять таки
выступающему здесь от имени М. Вебера), далеко идущие параллели между
названными сферами "профессионально дисциплинированной деятельности", которым
не препятствует - сохраняющееся в неприкосновенности - различие между "опытнонаучной перспективой» и "нормативной перспективой правового мышления" (26, с.
201). Характерно, что при рассмотрении этих "параллелей" комментатор М. Вебера
специально оговоривается, что, во-первых, он будет опираться на веберовское
понимание социальной науки, не касаясь, следовательно, естествознания; а во-вторых,
речь пойдет о "специфически-социологической перспективе в творчестве Вебера,
которую последний, как известно, не всегда адекватно эксплицировал в своих
методологических размышлениях» (там же). Иными словами, здесь К. Зайфарт хочет
говорить уже не "от имени» комментируемого им "классика» социологии, а, так
сказать, "за него" и вместо него".
"Ядро профессионально вышколенной, творческой деятельности науки, - читаем
мы у комментатора веберовской концепции «интеллектуальных слоев", - это не тот
факт, что она есть организация инноваций, откуда и вытекает ее специфически «
харизматический» престиж, а также и не логика "революционной» смены парадигм, о
которой много говорят сегодня, - логика, вследствие которой нормально-научное
развитие может показаться менее "творческим"; ядро научной деятельности,
творческое в силу ее структуры (der qua Stcuktur) заключается в постоянном
принуждении к преодолению зияния иррационального (des Hiatus ir-irationalis),
напряжения
между
иррациональным
многообразием
действительности
и
рациональностью системы понятий, между единичным, как оно существует в себе и
для себя самого, и всеобщностью, в которой мы должны постигать его. Это объективно
вынуждает ученого - независимо от того, воспринимает он это или нет, в чем он совсем
похож на судью, - к "творческому" пониманию и экспликации повседневных и научных
дорассудочных смысловых связей. Для Вебера это следует уже из того факта, что
культурное изменение постоянно воздействует на отбор, осуществляемый науками о
культуре и социальными науками, который мотивируется путем отнесения к ценности"
(26, с. 2О1 — 202).
Стремясь защитить науку (в ее веберовском понимании) от упрека в чрезмерном
рационализме, рассудочном формализме и т.д., К. Зайфарт настаивает на том, что для
63
научной деятельности в отличие от повседневной вера в "рассекреченность" мира вовсе
не означает убеждения в его рациональной упорядоченности и калькулируемости. Это
для нее лишь вера в "возможность яснее осветить специфическую логику явления,
первоначально воспринимаемого и понимаемого как парадоксальное" (26, с, 2О2). В
качестве примера такого парадокса, высвечиваемого (социальной) наукой в его
специфической логике, у комментатора Вебера фигурирует "давно известная связь
протестантизма и капитализма" (там же), нашедшая свое теоретическое истолкование в
знаменитом веберовском труде «Протестанская этика и дух капитализма". Наука,
понятая таким образом, покоится на "специфической предпосылке", которая была, по
К, Зайфарту, сознательно положена Вебером в основу его социологии: речь идет о
постулате, согласно которому "социальная деятельность рациональна и иррациональна
в одно и то же время". Причем, если верить автору статьи, "в предположении этого
рода заключено "искусство" социологического, вообще научного исследования" (26, с.
202)13.
Но хотя деятельность ученого и сближается с деятельностью юриста (особенно
судьи) по своей внутренней структуре, — причем обо типа деятельности выделяются
как образцы профессионализированного "духовного труда", - в аспекте социально—
»политическом М. Вебер, как утверждает К. Зайфарт, явно отдавал все предпочтения
типу юриста, а не ученого. "В рамках своей профессии, - пишет он, - ученый как
таковой едва ли имеет случай для испытания на практике - с точки зрения
ответственного характера его деятельности, которая раскрыла бы свое внутреннее
родство с политикой". В лекционной аудитории в связи с отсутствием у слушателей
права высказывания (Rederecht) и зависимостью студентов носится совершенно
очевидный ущерб условиям политического обсуждения и политической проверки на
деле. Амбивалентным является отношение к политике особого этоса науки —
признание неудобных фактов" (26, с. 193).
Однако наиболее негативную оценку получает у К. Зай-фарта, явно заходящего
здесь дальше комментируемого им автора (что заставляет вспомнить о недавней "злобе
дня"), социальный тип журналиста, опять-таки обусловливаемый "структурным"
содержанием соответствующей деятельности. "Журналисты, чтобы назвать другую
профессию, - пишет комментатор Вебера, усугубляя его критический пифос, - в общем
не принадлежат к образованным слоям, они скорее принадлежат [дальше идет
веберовский текст - Авт.] "к разновидности касты париев, которые в "обществе" всегда
получают социальную оценку по ее (касты) ниже всего стоящим представителям".
64
Однако блародаря практикуемому ими обращению с печатным словом они
предопределены к политической деятельности, особенно к «демагогии» (26, с. 194).
Тем не менее и здесь истинный профессионализм может оказаться противоядием (в
случае, "действительно хорошего", т.е. творческого выполнения профессиональных
обязанностей) от гипертрофии негативных моментов, связанных с самой сущностью
этой профессии.
Впрочем, профессионализация духовного труда, обеспечивавшая возможность
творческого сочетания его «повседневных" и "внеповседневных" элементов, не могла при всем ее благотворном влиянии на процесс рационализации жизни на Западе, - быть
панацеей от всех бед, которые таил в себе этот социально-исторический процесс. Депо
в том, что-, испытывая на себе обратное воздействие (ею же вызванной)
рациональности,
"профессионально
дисциплинированная»деятельность,
вышколенная"
порождает
свои
и
«профессионально
собственные
"дериваты"
-
отклонения в сторону от основной линии ее развития. Как в области юридической, так
и в сфере научной деятельности (а они, напомним, выступают лишь в виде
"представителей"
деятельности",
всех
остальных
осуществляемой
разновидностей
"интеллектуальными
"профессионализированной
слоями"),
выделялись
и
обособились от основного ствола (творческого) профессионализма; с одной стороны,
"чистая"
ценностно-рациональная
деятельность,
предстающая
здесь
как
(содержательное) истолкование соответствующих результатов духовного труда с
другой-
"чистая"
формально-рациональная
деятельность,
заключающаяся
в
"утилизации» этих результатов в целях, далеких от собственно профессиональных,
В сфере правовой деятельности этот раскол выразился в осособлении от
творческой работы судьи, во—первых, "толковательной" деятельности ("чистых")
теоретиков-права, а во-вторых, "экспертной» деятельности адвокатов развивающейся в
направлении
"стратегического
использования
возможностей,
обеспечиваемых
правовыми нормами, в интересах клиента" (26, с. 216). (Кстати сказать, отрыв
"толковательской"
деятельности
от
профессионального
труда
юристов,
предполагающего творческое сопряжение толкования норм с применением их к вполне
конкретным случаям человеческого поведения, — он-то как раз и открывает двери для
безответственности "теоретиков—публицистов", о которой говорилось выше).
Что же касается научной деятельности, то и здесь от основного ствола и
профессионального труда ученого откалывается, прежде всего, деятельность экспертов,
озабоченных уже не столько самим содержанием научного знания, сколько его
65
использованием в других областях - технике, экономике, политике и т.д. "Экспертиза, согласно К. Зайфарту, - всегда уже выражает интерес к науке политики и хозяйства; но
она не определяет структуру самой научной деятельности. В своей экспертной форме
"техника господства над
жизнью, основанная на науке",
становится ядром
интеллектуальных социальных отношений, возможно, особой профессией; в качестве
эксперта ученый может стать носителем общественной функции. Экспертность
затемняет внутреннюю структуру профессионализированной научной деятельности и
выдвигает на ее место использование науки в Форме знания о целесообразном
применении средств (Mittel—Zweck—Wissens), которое является решающим для
ненаучных
интересов...
обеспечивают
Запасы
распространение
такого
веры
знания,
в
которыми
исчиспяемость
располагает
мира,
наука,
узаконивающей
существование науки" (26, с. 202). Таким образом, все, что связано в науке с"чистой»
целерациональностью, т.е. (и это неоднократно подчеркивает комментатор Вебера)
формальной рациональностью, оказывается отнесенным к области экспертной
деятельности, обособившейся от "науки как профессии».
Но, с другой стороны, не соответствует изначальному пониманию науки как
«профессионально
вышколенной»
и
«профессионально
дисциплинированной»
деятельности также и «чистая» ценностная рациональность, т.е. (К. Зайфарт
специально
оговаривает
и
этот
момент)
рациональность
«материальная»,
содержательная, причем имеется в виду прежде всего собственно человеческое,
этически-ценностное содержание. Речь идет "о "ценностно-рациональном толковании"
(рациональной оценке), которая начинает обособляться от "науки как профессии» (в
изначальном смысле) там, где речь идет о прогрессе, который непостижим в категориях
Фсюмальной рациональности, т.е. ь категориях, оперирование которыми является
компентенцией экспертной деятельности" (26, с. 203).
В связи с ограниченностью категориального аппарата, которым (так сказать, "по
определению") только и может оперировать эксперт, "всякое экспертное суждение,
характеризующееся
односторонностью,
должно
провоцировать
рациональную
критику". "... Те, кто выступают в качестве оппонентов технических («технически
правильных" экономически) рационализации "совсем не обязательно должны быть
глупцами" (26, с. 203), - пишет К. Зайфарт, используя веберовскую формулировку. И
коль скоро существуют специалисты в области чисто формальной рационализации,
абстрагирующейся от всяких содержательных проблем (скажем, от вопроса о ее
последствиях для человека), должны возникнуть также и специалисты по чисто
66
содержательному толкованию и оценке всего того, что этой рационализацией не
учитывается, выступая как ее "побочные результаты» и "издержки". Коль скоро
возникла социальная фигура «эксперта»—рационализатора не могла не возникнуть и
фигура
его
оппонента,
озабоченного
непредусмотренными
(в
том
числе
и
непредсказуемыми в принципе - и в этом смысле "иррациональными") последствиями
"сплошной рационализации».
Надо
сказать,
что
выделение
"дериватов"
профессионализированной
деятельности, представляющих собой нечто в роде ее "отчуждений» (если пользоваться
языком той традиции, с которой полемизирует К. Зайфарт), дается комментатору
Вебера не очень-то легко; здесь ему не раз и не два приходится вступать в
противоречие с комментируемым автором. В особенно трудном положении автор
статьи оказывается в связи с веберовским докладом "Наука как профессия", где в
качестве общих характеристик современной научной деятельности выступает, между
прочти, и все то, что К. Зайфарт склонен относить исключительно к деятельности
«экспертов».
Отчасти это обстоятельство автор статьи объясняет тем, что знаменитый
веберовский доклад был якобы адресован "студентам, которые в большинстве своем и
как правило не были... учеными» (26, с. 217). Кроме того, если верить комментатору,
особый акцент на формальной рациональности при характеристике науки (что и
позволяло истолкователям отождествить ее с экспертной деятельностью) был
мотивирован стремлением Вебера отстаивать самостоятельность "эмпирической
социальной науки." в условиях, "Когда наукам, о духе грозила опасность утратить связь
с
"рациональностью"
современной
науки
и
рационализацией
эмпирической
деятельности» (26, с. 217), А это и привело к тому, что содержание доклада "Наука как
профессия", в котором центральное место занимала именно характеристика той
ситуации, при которой от "профессионализированной» научной деятельности
отделился ее "дериват"-экспертная деятельность, как бы заслонившая собою первую,
было прочитано именно как описание "профессиональной сути» науки вообще.
Тем не менее и при таких разъяснениях все-таки оставались немалые трудности,
грозившие окончательно запугать (и без того не вполне ясное) толкование К. Зайфартом веберовской концепции рациональности, как она предстала в докладе Вебера: "Где
пролегает... граница между «свободными от оценки» (Weitfreiheit) социологическим
анализом, экспертным суждением и (рациональной) политической оценкой ? Как
соотносятся вообще позиция, понятая самим Вебером как политическая, как бы
67
рационально аргументированная, и социологический анализ?" (26, с. 203). Если
отношение науки и практики (главным образом экономической), науки и политики
(заинтересованной в «утилизации» научного знания в интересах власти и господства) и
так представало как "сфинксова проблема" веберовской методологии, то эта последняя
вряд ли упростилась оттого, что теперь на месте "профессионального ученого»
оказались еще две фигуры: "эксперта»— рационализатор, с одной стороны, и
специалист по содержательно ориентированной критике формальной рациональности с другой.
Однако преимущества, которые К. Зайфарт получал в результате введения новых
персонажей в "социологическую драму», представленную в веберовском докладе,
казалось, компенсировали неудобства сложившейся ситуации в другом отношении.
Дело в том, что настаивая на подобном "расщеплении» профессионализированной
деятельности в условиях современности, К. Зайфарт получал возможность связать
роковые последствия буржуазной рационализации мира, которые не были секретом для
М. Вебера, не с самим принципом "профессии-призвания", образующим, согласно
автору статьи, сердцевину "духа капитализма" (и "западной цивилизации" вообще), а с
позднейшими "дериватами" истинного профессионализма - обособленной "экспертной»
и "топковатепьски-критической деятельностью. Сам же этот принцип сохранялся во
всей своей "незамутненности» - как некий (ностальгически окрашенный) идеал, с
которым связывались, таким образом, одни лишь позитивные достиже- ! кия "западной
цивилизации". И тем более привлекательной выглядела социальная фигура "человека
профессии-призвания"
-
"профессионала",
чья
деятельность
наделялась
характеристиками истинного творчества, причем - что весьма существенно и актуально
(если учесть утрату престижа трудовой этики на Западе) - творчества именно в
"повседневной" жизни, создаваемой на основе "внеповседневных" ценностей.
Наконец, этим способом уводился из-под огня критики и веберовский тезис о
рациональности (и, соответственно, рационализации): "истинная" рациональность
представала в качестве - каждый раз заново творимого - "синтеза" формальной
(целевой) и материальной (ценностной) рациональности; что же касается распад
"западного рацио" на две внеположных друг другу - и в этой внеположности
неистинных - ипостаси, реализуемых в деятельности "эксперта", с одной стороны, и
"критика-истолкователя» - с другой, то оно представало как результат некоего
искажения, извращения ("отчуждения"?) подлинной рациональности. Иначе говоря,
прежняя антиномия рационализма и иррационализма, заострявшаяся в результате
68
критики веберовского тезиса о рациональности под впечатлением углубляющегося
кризиса
буржуазно-рациональной
цивилизации,
усилиями
К.
Зайфарта
и
преобразовалась в проблему противоречия "истинной» (цельной) и неистинной
(расщепленной) рациональности.
То, что многие толкователи Вебера, включая современных (например, В.
Шлюхтера. - 24), характеризуют как «парадокс рационализации", оборачивающейся в
конце-кон-цов против самой себя, у автора рассматриваемой статьи предстает как
естественное следствие "неистинной", "неподлинной" в т.д. рациональности, которая и
сама-то
возникла
не
на
основе
принципа
"профессии-призвания"
-
этого
социологического, воплощения истинной рациональности, а, наоборот на почве
углубляющейся тенденции "депрофессионализации", содержанием которой и было
"выделение в качестве самостоятельных экспертной деятельности и ценностнорационально отнесенной деятельности толкования» (26, с. 205). "Вебер,- по
утверждению К. Зайфарта, не работает с представлением о пробивающей себе дорогу
форме рациональности или двух типов рациональности, более или менее напряженным
образом противостоящих друг другу, но в связи с отнесением к структурной модели
профессионализированной
депрофессионализации
-
деятельности
как
эксплицирует
обособление
в
процессе
тенденции
прогрессирующей
рационализации экспертной деятельности и ценностно-рационально отнесенной
деятельности толкования» (там же).
С этой позиции, кстати, автор статьи критикует Т. Парсонса, который, по его
мнению,
проводит
"слишком
небольшое
различие
между
структурой
профессионализированной деятельности и институционапизацией в организациях и
системах ценностного образца и типа рациональности» (26, с. 206); и по этой причине
американский социолог упускает из виду ""важное для Вебера различие между
профессионализированной деятельностью (сколь бы несовершенным образом он ее не
понимал) и деятельностью экспертов» (там же). На месте веберовского различения
между профессионализированной деятельностью и ее ("депрофессионализированный»)
«дериватами»
у
Парсонса
рациональностью,
с
одной
оказывается
стороны,
и
различие
«между
инструментальной
и
когнитивной
конститутивной
рациональностью - с другой» (там же). Поскольку же речь для К. Зайфарта идет именно
о
«депрофессионализации",
т.е.
разложении
традиционной
формы
профессионализированной деятельности, поскольку ни один из этих «деривантов»
нельзя
понять
в
парсонсовском
духе
-
как
"институционально
отдиф69
ференцировавшийся тип рациональности. Скорее - это обособление экспертной
«критически-толковатепьской» «оценочной» деятельности от основного ствола
"профёсоии-при-звания» следует рассматривать как показатель «кризисного развития»
(там же).
Нетрудно заметить, что при всех своих «стабилизационных» умонастроениях К.
Зайфарт не хочет заходить в своей «антикризисной» тенденции так далеко, как заходил
в свое время Парсонс. И как ни стремится он снять вину за кризисные тенденции
современной буржуазной цивилизации с тех, кто стоял у ее истоков - профессионалов»,
одушевленных идеей («творческой») рационализации человеческого ми-г ра-, сам факт
кризиса, поразившего самый «нерв» этой цивилизации, он отрицать не склонен. Однако
это не означает, что он не хотел бы предложить - с помощью «обновленного» Вебера ("конструктивную») перспективу выхода из него.
Впрочем, как нам предстоит убедиться в этом в ходе аальнейшего рассмотрения,
веберовские предпосылки, которых придерживается здесь К. Зайфарт, явно мешают
ему
выполнить
это
свое
желание.
Именно
высокая
оценка
целостной
профессионализированной деятельности, выступающей для него не только в качестве
исторического источника западной цивилизации, но и в виде ее идеала, не только
мешает этому комментатору Вебера согласиться с Парсонсом (21), приняв раскол за
свидетельство "дальнейшего прогресса», но и препятствует определению позитивной
перспективы
выхода
из
кризиса,
порожденного
"саморасщеп-пением"
профессионализированной деятельности под давлением - ею же и вызванной! "рационализации».
И единственное, что может предложить К. Зайфарт,. -это несколько обновленную
оценку «ситуации» кризиса", снимающую ответственность за него с тех сил, которые,
согласно комментатору Вебера, вызвали к жизни специфический "западный» тип
««рациональности, а, соответственно, и возникшей из него "западной цивилизации». В
этом и находит свое выражение "стабилизационный» характер воззрений К. Зайфарта с его стремлением реабилитировать, предложив в качестве истинного идеала «западной
цивилизации» то, из чего - в конечном счете - выросли не только ее неоспоримые
достижения, но и ее непреодолимые антиномии.
Внутренняя противоречивость позиции К. Зайфарта, который хотел бы
«оградить» свой собственный принцип (идеал целостной профессионализированной
деятельности) от последствий его же собственной дифференциации, возникшей в ходе
его необходимого развития, особенно явственно ощущается, когда в работе заходит
70
речь о "кризисе современных интеллектуальных слоев», чему в ней специально
посвящен заключительный раздел.
Отправляясь
от
веберовских
рассуждений
о
«развитии
западных
интеллектуальных слоев», которые, согласно К. Зайфарту, отличаются от позднейшей
«функционалист- . ческой теории интеллигенции» позднего Маннгейма (18), Гайгера
(9) и Парсонса (21) уже по своему "духу", автор статьи рассматривает упомянутый
кризис в трех аспектах: (1) как»кризис воспитания и образования»,, с которым была
связана профессионализированная деятельность 2) как "расхождение» деятельности
специалистов, "занятых повседневностью», с одной стороны, и деятельности
интеллектуалов, "ориентированных внеповседневным образом".-с другой; 3) как
кризисное развитие "идеи западного культурного человека", к которой апеллировал М,
Вебер (26, с. 207).
"Кризис воспитания и образования» комментатор Вебера объясняет тем, что, в
связи с «бюрократизацией господства», происходившей на Западе по мере развития
капитализма, ориентированного на принцип рациональности:, наряду с традиционным
для Запада типом «литературно развитого культурного человека» возник, вступив с
ним в конфликт, новый человеческий тип- «человек специальности», узкий
«специалист», или «спец», если воспользоваться здесь нашим, когда-то очень
распространенным, жаргонным словечком. В отличие от «культурно развитого»
профессионала духовного труда прежних времен, обладавшего «квази- сословной»
привилегией
образования,
«чистый»
специалист,
отбирается
(с
помощью
узкоспециализированного обучения и специальных экзаменов) исключительно на
основе его осведомленности в избранной им области знания; причем ценность его как
«спеца» находится в обратном отношении к широте этой области. И конфликт между
этими двумя человеческими типами оказывается не чем иным, как конфликтом между
двумя типами образования и воспитания - традиционным и «новейшим».
К. Зайфарт считает, что вместе с утверждением второго типа воспитания и
образования в этой сфере утвердился чисто экономический принцип в отличие от
«статусного», господствовавшего до сих пор. И хотя образование, мотивируемое
экономическими стремлениями учащихся, могло обеспечить определенной их части
гораздо более высокий жизненный стандарт, чем образование традиционного типа,
однако отказ от «статусного» принципа имел и свои необратимые негативные
последствия.
Вместе
со
«статусом»
интеллектуальные
слои,
добивавшиеся
возрастающего значения в обществе в качестве "специально обученных экспертов»,
71
утрачивали свой прежний «квазисословный" базис», а тем самым и фундамент
«узаконения» своего социального положения - положение "привилегированного слоя,
принимающего участие в господстве (26, с. 208). В конечном счете, к этому "кризису
легитимации"
интеллектуальных
слоев,
утрачивающих
ощущение
устойчивой
социальной почвы под ногами, и сводится общий источник кризиса их образования и
воспитания», так как становится не вполне понятным, кого же следует образовывать и
воспитывать и какова, стало быть, главная цель образовательно—воспитательного
процесса.
Фактически в рамках «новейшего» типа образования разрывается его прежнее
единство с воспитанием, разрушается традиционная связь образования и культуры как
целого, образование втягивается в международный процесс «нивелировки», все более
формализующей его» Неразрушимой проблемой оказывается сохранение "конвенций",
обеспечивающих формирование в (расколотом теперь) образовательно-воспитательном
процессе более высокого человеческого типа, обеспечивающего социальный авторитет
персонифицированному им знанию. Это образование, еще меньше способное
"конституировать класс", чем традиционное, способствует тому, что интеллектуальные
и образованные слон растворяются в общей массе "не имеющих собственности" спецов
и интеллигентов, с одной стороны, и в "классе, обладающих собственностью и
привилегированных" - с другой (26, с. 208-209).
Если отправным пунктом веберовского сравнительно-исторического анализа
было, согласно, К. Зайфарту, понятие профессии (и, соответственно, профессионала,
профессионализированного человека), то центральным понятием веберовской "теории
кризиса", цель которого выразить важнейшую его тенденцию, оказалось понятие
"специализатор-ства»
«специализированного
(и,
человека,
соответственно,
спеца),
С
этим
человека
понятием
специализации,
связан
наиболее
пессимистический аспект социальной философии М, Вебера, считавшего, что со
"специапизаторством» связана "обозначившаяся как возможность» перспектива
рациональной формализации традиционализма, превращаемого таким образом в способ
"египтизашш» современного запада ного общества. Механизмом же обеспечения
такого «спе-циализаторства» и является новейшая система образования, в рамках
которой осуществляется "рациональное обучение специальности", существенно
важным элементом которого являются специальные экзамены для всех "духовных
профессий» речь идет о таком типе образования, который полностью соответствует
72
"фабричнообразности» всех остальных; областей социокультурной жизни, включая и
научную (там же).
Что же касается "способа воздействия» специализированного человека (спеца и
специапизатора)
на
общество,
то
это,
прежде
всего,
"бюрократическая
рационализация", "административно-управленческое изменение условий жизни», - в
которое вовлекаются люди, "обитатели» этих условий, не отдающие себе отчета ни о
смысле, ни о цели происходящего изменения, (Причем, как подчеркивает К. Зайфарт,
«заостренно поставив вопрос, можно сказать, что ни те ни другие : ни специалисты ни
профаны не могут себе этого представить"). Этот процесс представляет собой, согласно
комментатору
Вебера,
полную
противоположность
тому,
который
является
результатом "профессионализированной деятельности» - деятельности культурно
развитых, гуманитарно образованных профессионалов духовного труда, так как она
неизменно
предполагала,
что
человек
меняется,
"харизматическим»
образом,
"изнутри", следствием чего оказывалось и изменение "внешних» обстоятельств и
условий его жизни (26, с. 209).
«Общий признак" деятельности специализатора (спеца) -это не просто ориентация
на обыденно-повседневное, но также его полная замкнутость, этим измерением,
сопровождающая
непоколебимой
самоудовлетворенностью
(«самоуважение»
специалиста интеллектуального труда, полностью отождествившегося со своей
"специальностью» и уже неспособного увидеть иных, более глубоких и возвышенных,
источников уважения к человеку). «Специализаторство» - это деятельность»
ориентированная
повседневность,
(экономическими)
на,
повседневную
определяемая
правилами
рациональность,
нормативными
деятельность,
(правовыми)
или
рациональную
и
эмпирическими
характеризующаяся
безличностью,
стабильностью, формально определенной специализацией и т.д. Это - деятельность,
"исчислимая для других" и продвигающая все дальше и дальше «исчисляемость мира",
в связи с чем укореняется и распространяется все шире вера, которую спец "разделяет с
человеком повседневности» вера в рацион ализируемость мира и (основанную на этой
рационалнэуемссти) непротиворечивую систему ценностей. Мир представляется
"специализатору» столь же не проблематичным, сколь подвластной ему кажется о
дальнейшая рационализация (там же).
Ставя на место традиции статус-кво, а на место будущего "прогрессивное
изменение» (следствие усугубляющейся рационализации), спец олицетворяет тот тип
деятельности, который "конститутивно утверждает повседневность», которая сама уже
73
порядком
«рационализирована»,
так
что
ее
собственный
принцип
отвечает
рационализаторскому устремлению спеца. Это обстоятельство, если верить К.
Зайфарту, и побудило М. Вебера в докладе о «науке как профессии», имея в виду
бюрократическое, бюрократизированное знание, с которым у докладчика сопрягалась
идея
"специалиэатора",
вполне
сознательно
не
проводить
различия
между
"специальным и реальным знанием" (26, с. 209). Ведь я то и другое знание в качестве
"специалиэаторского» по структуре соответствующей деятельности, одинаково опре«
делается "повседневным образом,», т.е. ориентацией на (далеко идущим образом
рационализированную)
повседневность.
Со
своей
стороны,
профессиональная
деятельность, направленная на такого рода повседневность, взятую во всей ее
одномеоностью- (ведь она как бы "поглотила" некогда противостоящее ей измерение
рациональности - "разумности"), не может не обнаруживать тенденцию к тому, чтобы
стать специфической деятельностью спецов, каковую, впрочем, обнаруживает И вся
социальная деятельность вообще (26, с. 210).
Взятый в его "техническом» аспекте этот общий процесс предстает как
возрастание значения "технологического знания», сопровождающееся выдвижением на
передний план (причем не только в области материального, но и в сфере духовного
производства) инженеров и "технологов» -носителей «теоретического» знания в том
смысле, в каком Д. Белл употреблял его в своей теорий постиндустриального общества
(16). Характеризуя этот аспект развития, К.Зайфарт задает вопрос, каким образом и в
каком направлении изменяет сознание «экспансия технологического знания» вдет ли
речь о «творческом изменении сознания», когда оно преобразуется «изнутри»
(поскольку речь идет о свободном и активном самоиэменении его субъекта),дши имеет
место совершенно иной, "новейший» способ изменения сознания - его изменение «в
модусе бюрократической рационализации», о которой говорил и писал М. Вебер,
Вопрос этот звучит несколько риторически, так как всем своим предшествующим
изложением
К.
Зайфарт
засвидетельствовал
решающий
сдвиг
в
пользу
«бюрократической рационализации» сознания.
Другой аспект этого же процесса - все более далеко идущее «встраивание»
вышеупомянутых «дериватов» профессионализированной деятельности - экспертнорашто-нализаторской
и
интеллектуально-оценочной
(а
через
них
и
всей
профессионализированной деятельности в целом) -в бюрократические организации,
результатом чего оказывается образование специальных «технократических» функций
и, соответственно, возникновение фигуры "технократа» или «функционера», тогда как
74
функция оценки и критики расщепляется, с одной стороны, переходя в руки
государственных служащих (т.е. в конечном счете, опять-таки все тех же
«технократов»), а с другой, - оставаясь традиционным занятием, «свободно витающих»,
но «недееспособных интеллектуалов» (26, с. 210).
Это значит, что «специализаторство» проникает не только в (формальнорационализаторскую) «экспертную» деятельность, но и в деятельность содержательнооценочную, ценностно-рациональную, связанную с оценкой смысла процессов,
совершающихся
в
области
повседневно-обыденного.
В
результате
возникают
«смешанные формы экспертной деятельности», в рамках которых «повседневная»
формально-рациональная
«внеповседневной»
(и
установка
противоречивым
содержательной)
образом
сочетается
ценностно-содержательной
с
установкой.
Государственный эксперт по содержательной оценке обнаруживает склонность
действовать аналогично тому, как действует эксперт-рационалиэатор, озабоченный
чисто формальной, т.е. безотносительной к ценностному содержанию, стороной дела.
Становясь чиновникам «по делам оценки», он, с одной стороны, делает (вроде)
ненужным прежнего критически- мыслящего интеллектуала, а с другой - оказывается
неспособным к последовательному осуществлению его функции в силу своей
подконтрольности учреждению, в котором он служит. Его отношение к ценностям, на
основании которых он должен выносить свое критическое Осуждение, уже не
свободно,
а
обусловлено
его
связью
с
соответствующим
учреждением,
выплачивающим ему заработную плату (там же).
Что
же
касается
«свободно
парящих»
интеллектуалов,
являющихся
специалистами по «критической оценке», то в силу подобного раскола, лишающего их
социальной почвы и выталкивающего на социальную периферию, "их деятельность
выливается в «бессодержательный интеллектуализм» (и «антиинтелпетуапизм»), о
котором неоднократно говорил в свое время М. Вебер, характеризуя так называемых
«пите-ратов» - широкий слой людей, живущих литературным трудом. Их деятельность
определяется потребностью «внеповседневного толкования» действительности и
стремлением к «неповседневным» переживаниям, целеполаганиям и чувствованиям.
Поскольку же область "внеповседневного» решительным образом сокращается в
процессе
«разволшебств-цяюшвй»
рационализации
мира
и
повседневной
действительности, постольку «опыт не новее дневного (необыденного, не— рутинного
и т.д.) оказывается ограниченным сферой эротики, партикулярной религиозности,
75
«братского общения» ц пр. Сюда обращается теперь критически-оценивающая
интеллектуальная деятельность в поисках «смысла» (жизни) (26, с. 210-211. Ср. 6).
Описывая этот процесс, М. Вебер, по утверждению К. Зайфарта, «диагносцирует
глубоко зашедший кризис западных (прежде всего немецких) интеллектуальных слоев»
имея в виду спои, ориентированные "внеповседневным» образом, все равно интеллектуалистски-рационалистически
(иррационалистически).
(внеповседневные;
Кризис
или
подготовлялся
«харизматические»
по
антиинтеллектуалистеки
как
своему
раз
по
мере
источнику)
того,
идеалы
как
Разума
воплощались в "повседневной действительности» в ходе ее "рационализации». И
теперь
люди,
принадлежащие
к
интеллектуальным
слоям,
лишь
в
редких,
исключительных сиу-чаях могут» удовлетвориться рационалистической верой "в
рациойалиэируемость
мира»,
приняв
"амбивалентность
интеллектуализации,
устраняющей саму себя» (ведь чем больше "интеллектуалиэируется» повседневность,
тем меньше остается в ней места для подлинных интеллектуалов — людей широкой
гуманистической культуры) (26, с. 211).
Кризис образованных слоев, -, в особенности если речь идет о социально
привилегированных слоях, "непосредственно экономически и не заинтересованных и
политически бессильных " каковыми были во времена М. Вебера немецкие
образованные спои, - нашел свое выражение, с одной стороны, в отчетливо
проявившейся
склонности
мистицизму/эстетизму
и
к
иным
скептицизму,
формам
а
с
другой
«принесения
в
-
в
тяготении
к
жертву интеппек-та»
("саморасстриганне» интеллектуалов). При всей своей привилегированности "
делающей их склонными «к соглашению с политическими властями», эти спои
обнаруживают - согласно комментатору Вебера - также и свое "внутреннее родство
идеям деклассированных интеллектуалов" («интеллектуалам-расстригам» уже не
только по содержанию своих идей, но и по специфическому - богемно-люм-пенскому образу жизни). В то же время их исполненное предрассудков (сциентистское^
выражаясь более современным языком) ^божествление науки, «ведущее к новым и
новым
разочарованиям,
подооным
тем,
к
которым
их
уже
привело
"интеппектуаписткческое разочарование в религии», с неизбежностью вызывало (и
продолжает
вызывать)
тенденцию,
охарактеризованную
М.
Вебером
как
«интеллектуальное бегство от мира» (26, с. 211).
В целом для этих интеллектуальных слоев характерно, -как пишет К. Зайфарт,
ссыпаясь на выводы М. Вебера, -колебание между "интеллектуальным социализмом»,
76
"синдикализмом этики принципа" (принципиального убеждения) и "чистым культом
переживания» (29, 211). Отправляясь от этого заключения, автор статьи о Вебере
стремится дать свое толкование феномену «враждебной культуры», который
зафиксировал применительно к США философски ориентированный критик Л.
Триллинг и который был предметом социологического осмысленнч у таких
неоконсервативных авторов, как М. Новак (20), И. Кристол (15) и Д. Белл (6).
Рассматривая (со ссылкой непосредственно на статью С. Липсета и Р. Добсона - 16)
современные социологические характеристики "враждебной культуры" К. Зайфарт дает
понять, что их можно рассматривать как своеобразное обобщение веберовских (в
частности, приведенных выше) характеристик интеллектуальных слоев, причем
характеристики М. Вебера выглядят при этом как значительно более артикулированные
(и дифференцированные) именно в социологическом отношении.
В частности, К. Зайфарт напоминает о том, что в "субкультуре" интеллектуалов и
питератов, которую можно было бы назвать "субкультурой" этики принципа,
принципиального убеждения, М, Вебер выделял аспект, связанный с деятельностью
"привилегированных",
как
правило
богатых,
интеллектуалов,
занимающих
высокооцениваемые, иначе престижные позиции, с одной стороны, и аспект, связанный
с деятельностью "негативно привилегированных" интеллигентов, "наемных писателей",
живущих "поденным» литературным трудом, - с другой. Если для первых характерно,
по М. Веберу, скорее интеллектуалистическое устремление, то вторые настроены
скорее ант и интеллект у ал ист и-ческицлсли ъ пеовом случае мы имеем депо с
"субкультурой», как бы дистанцирующейся от официальной культуры, то во втором
случае мы имеем дело с "противо- или «антикультурой» в более точном смысле (26, с.
211).
Отправляясь
от
веберовской
концепции
интеллектуальных
слоев
и
расшифровывая их кризис как распадение эффективного утверждения "структур
повседневности», с одной стороны, и «нерезультативной внеповседневности" (сферы
идеалов и ценностей, утверждаемых критически мыслящими интеллектуалами) - с
другой, К. Зайфарт подвергает критике "теорию интеллектуалов" X. Шельского (23),
социологический «диагноз» С. Айзенштадта, также, кстати, апеллирующего к М.
Веберу (8) и др. В отличие от них (особенно С. Айзенштадта) автор статьи утверждает,
что «ближе подходят квеберовскому воззрению» лишьвтехслучаях, когда толкуют этот
кризис как "фундаментальный", связанный с «радикальным» расхождением двух
77
жизненных перспектив, которые прежде творческим образом сопрягались друг с
другом, - повседневной и внеповседневной (26, с. 211-212).
Последний, третий, аспект кризиса интеллектуальных слоев, как мы помним,
раскрывается у К. Зайфарта "по отнр-шению к. модели профессионализированной
деятельности», в которой выражается "идея культурного человека» (человека культуры,
идея человеческой культурности, взятой в ее полном объеме), имевшая особое значение
для веберовской социологии.
Значимость этого аспекта связывается для К. Зайфарта с тем обстоятельством,
что, по его убеждению, "идея культурного человека», стержневая как для веберовской
социальной философии, так и для "понимающей" и сравнительно-исторической
социологии М., Вебера, „находит свое адекватное воплощение именно в фигуре
профессионала духовного труда - например, судьи или учёного, а не в фигуре
пуританина, свободного предпринимателя или харизматического вождя. Именно в
деятельности таких представителей вы-кого профессионализма,, как судья или ученый,
осуществлялось, по мнению К. Зайфарта (приписываемому им и М. Веберу)
"практическое снятие напряжения повседневности и внеповседневного, интеграция
моментов, утверждающих обыденно-рутинное, и моментов, взыскающих чего-то,
пользуясь выражением К. Маркса, "более высокого», «правомерного самого по себе"
(1, ч. 1, с. 383).
Структура профессионализированной деятельности (К. Зайфарт считает, что
именно с нею М, Вебер связывал свое представление о "внутренней "профессии")
такова, что предполагает своеобразное тождество "сознания успеха» (в "повседневном»
смысле) и "рознание исполненного обязательства" (более высокого порядка). В
последнем раскрывается особая значимость этой деятельности, "питаемой» волей к
"синтезу" повседневности и внеповседневного.
И уже - социологический - раскол этой деятельности приведший к выделению в
качестве особых функций (и, соответственно, особых фигур) деятельности экспертарационализатора на одном полюсе духовного труда и деятельности интеллектуапа»топковатепя (и критика) - на другом полюсе, явно был решающим шагом по пути к
разрушению - основополагающего для "западной цивилизации" - типа культурноразвитого "профессионала", воплощающего в себе "синтез" ее разнонаправленных
устремлений, ее исходную "модель" и утверждаемый ею идеал (26, с. 212).
Однако это была лишь,возможность грядущего кризиса; решающим же шагом,
ввергнувшим в состояние кризиса интеллектуальные слои капиталистического Запада,
78
было, согласно Комментатору Веберу, совсем не это "осамостоя-тепьнивание» ранее
взаимосвязанных (и воплощенных в единой социальной фигуре) "моментов»
профессионализированной деятельности. Таким шагом стало именно появле-.ние
фигуры
спеца-спешшлизатора
(специализированного
человека,
человека
узкой
специальности - в отличие от профессионализма, исполненного высокой духовности), с
его тенденцией низведения на один и тот же уровень "повседневности"« не только того,
что внутреннее ей присуще, но и того, что считалось прежде отличным от нее и
находящимся в напряженном отношении к ее "одномерности". Как пишет К. Зайфарт,
"под давлением рационализации» шансь^профессионализированной деятельности
культурного человека "снижаются» не только "в пользу экспертной деятельности и
отнесенной ценностям деятельности по истолкованию", но так же и в пользу
"растворения" ее в (высокоэффективном») специапизаторстве, с одной стороны, и
(мало "эффективной", если не "неэффективной вообще) "субкультурной» интеллект
уапьности", с другой. Эта интеллектуальность, замкнута в тесных рамках своей
"субкультуры" точно так же, как некогда были замкнуты в рамках гетто евреи
средневековья. Причем решающими в этих процессах дезинтеграции некогда единой
профессионализированной деятельности становятся тенденции де-профессионапизации
и превращения этой деятельности в чисто бюрократическую "службу» (26, с. 212-213),
К. Зайфарт констатирует, что после смерти М. Вебера под давлением
«рационализации и интеллектуализации, ставшим еще более мощным, чем в
веберовские времена", возник целый ряд новых социологических концепций
интеллигенции, авторы которых ищут некую формулу компромисса, позволяющую им
представить
происходящее
в
менее
трагических
тонах,
чем
оно
виделось
проницательному автору доклада "Наука как профессия"» В число авторов этого рода
комментатор Вебера называет К. Мангейма (18) и Т. Парсонса (21) первый из которых
выдвинул
идею
"субстанциональной
рациональности",
якобы
объединяющей
современные интеллектуальные слои и позволяющей представить их как единое целое
(26, с. 214), а второй выразил ту же интенцию в понятии "когнитивной
рациональности", также "интегрирующей" якобы нынешних интеллектуалов в единое
функционально эффективное целое. Учитывая новый "специализаторский", если
пользоваться характеристиками К. Зайфарта - тип рационализма и интеллектуализма,
под определяющим воздействием которого сложились представления К. Мангейма и Т.
Парсонса, их можно отнести к «рационализму", так сказать, второго порядка,
неспособному
постичь
всей
глубины
противоречий
"повседневности"
и
79
"внеповседневного" (а, соответственно, формально—рационального и ценностнорационального), раскрываемых и преодолеваемых в процессе рационализации. По
сравнению с веберовским рационализмом, исполненным трагического переживания
"зияния»
между
формальным
и
"материальным»
(ценностно-содержательным)
аспектами рационализации, его можно было бы назвать "усталым" рационализмом,
склонным закрывать глаза на трудности проведения своего собственного принципа.
Тем не менее именно идеи, подобные мангеймовским и парсонсовским,
определяют, согласно К. Зайфарту, "также и... более новые интерпретации Вебера,
которые усматривают в его мышлении, к тому же как предпосылку и квинтэссенцию
его социологии рационализма Нового времени, - образ культурного человека, стоящего
на позициях этики ответственности, или адекватно осознанной критической
рациональности, который (образ) действен одновременно в качестве эмпирического и
нормативного отношения и в качестве идеала личности" (26, с. 214). Приводя пример
подобного воззрения, автор статьи цитирует И. Вайса: "Личность как ответственная за
себя
индивидуальность
и
как
«самоцель»
противостоит
схватыванию
ее
рационализированной системой не как непредвидимое природное событие, но
вследствие сознательного отстаивания самой себя, опо-средственного индивидуальным
напряжением"(28, с.15). Нечто аналогичное комментатор Вебера усматривает также в
работах Дреэена (7) и Шлюхтера (24).
Комментатор Вебера обращает внимание на то, что в основе подобных воззрений
лежит один и тот же "стандарт» -веберовский идеал этически ответственного
культурного человека (человека культуры, который, по убеждению К.Зайфарта, Также
ввергнут в кризисное развитие. И если вопреки "кризисной тенденции»« этот
"стандарт" все-таки служит кому-то из социологов как центральное понятие
эмпирически содержательной социологии современных интеллектуальных слоев, то
естественно
возникает
один
и
тот
же
вопрос».
Каким
образом
вера
в
"рационапизируемость" мира", нашедшая выражение в веберовской идее "западного
человека культуры", воплощается сегодня на Западе "эмпирически"? И можно ли
зафиксировать конкретно "действенность" этой веры? К. Зайфарт убежден, что
ответить на этот вопрос социологически можно лишь одним-единственным способом:
разработав
(экспертная
дальше
типологию
деятельность
и
"интеллектуально
определенной
ценностно-рациональная
деятельности»
деятельность
толкования,
специализатор-ство и деятельность "свободно парящих" интеллектуалов), которую он
сам навлек Из веберовских произведений (26, с. 214).
80
Однако попытки сделать это автор статьи не видит ни у "Мангейма или
Парсонса", ни у названных им интерпретаторов Вебера14. Вместо этого они, по его
мнению,
«пытаются
указать
новую
структуру
деятельности,
мыслимую
как
объединяющую для современных интеллектуальных слоев". Структуру деятельности,
которая является (в их глаза) «более обшей и «рациональной», чем «искусство»
профессионализированной деятельности», выступающее для крмментатора Вебера как
"модель" истинно рациональной деятельности. Причем эта - искомая названными
авторами — «новая структура деятельности» должна быть утверждена в качестве
«практически действенной» не без помощи предлагаемой ими «теории» социальных
наук» (там же).
К. Зайфарт «оставляет открытым» вопрос о том, можно ли было бы избежать,
выстраивая эту новую «модель» деятельности более «рационально», чем веберовская,
тех же самых противоречий «фоЬмальноА и материальной рациональности», ведущих
к «распадению повседневности и вне-повседневного", которые уже зафиксировал М.
Вебер (и которые явно продолжали обостряться на протяжении XX в.), причем не
только в теории, но и на практике). Во всяком случае он убежден, что для
фундирования «новой модели» явно недостаточно таких формул как «этика
ответственности» или «адекватное сознание», Которые так часто повторяются у Вайса,
Шпюхтера и Дрезен. Пытаясь «освободиться от противоречий, внутренне присущих
веберовской «модели» профессионализированной интеллектуальной деятельности едва
ли стоит по-прежнему ссыпаться на самого М. Вебера (26, с. 214).
Если же все-таки современные социологи хотят сохранять в своем анализе
интеллектуальных слоев преемственность с веберовской постановкой вопроса,
отправляясь от веберовского понимания структуры «интеллектуально определенной
деятельности», то, по мнению К. Зайфарта, необходимо предпринять попытку
полностью эксплицировать, «какие синтезы могут и должны образоваться из сочетания
«целерашюнальности» и «харизмы» - этих несущих категорий мышления Вебера».
Нужно
ответить
на
вопрос,
как
эти
сочетания
"интегрирующих
величин",
определяющих интеллектуальную деятельность, могли бы занять место того "синтеза",
который
у
Вебера
обеспечивала
профессионализированная
интеллектуальная
деятельность (там же).
В
рамках
веберовского
построения
"целерациональность»
указывала
на
господство идеи исчисляемости (мира) и (рационального) метода, а "харизма" - на
"харизму разума" (т.е. "внеповседневные" источники разумности и ее принципов) "как
81
исторический горизонт воздействия" этого разума (26, с. 214). В свою очередь сами эти
"определяющие величины", если верить К. Зайфарту, "определяются верой в
рационалиэируемость мира», - она-то, повидимому, и замыкает «исторический
горизонт воздействия» принципа рациональности, определяющего "ход и исход»
цивилизации капиталистического Запада. Так вот, если пытаться, двигаясь в русле
веберовской традиции, представить себе «интегрирующее ядро» современных
интеллектуальных слоев - возможный «синтез", сопрягающий "целерациональность"
("формальную
рациональность"), и
"харизму"
(как
источник содержательной,
оценивающе-критической "ценностно-рациональной» интепретирующей деятельности,
то, как пишет комментатор Вебера, заключая свою работу, возникают два вопроса:
может ли сегодня сознательная интеллектуальная деятельность, принимающая на себя
ответственность за свои результаты, - избежать поляризации спе-циалйзаторства,
низводящего все и вся на один и тот же уровень "повседневности", с одной стороны, и
(«свободно
витающей")
интеллектуальности,
устремленной
в
сферу
"внеповседневного" и необычного - с другой, если может, то как; да и могла бы вообще
в таком случае эта деятельность быть чем-то большим, чем "колебанием» между двумя
обозначившимися полюсами не означает ли искомый синтез "рациональности" и
"внеповседневного»
т.е.
"повседневной
и
внеповседневной
форм
веры
в
рационалиэируемость мира» - двойного рационализма; и не с этой ли перспективой
связан для Вебера риск "окончательного раэвол-шебствпения мира" (когда все
окончательно замкнется в рамках одного измерения - насквозь рационализированной!повседневности, обыденности и рутины) (26, с. 214).
Судя по общему содержанию работы К. Зайфарта, воплощающему ее основной
пафос, сам автор склонен ответить отрицательно на первый и утвердительно на второй
вопрос.
Но
это
значит,
что,
отправляясь
от
веберовского
идеала
«профессионализированной деятельности", выступавшего в рамках сравнительноисторической социологии интеллектуальных слоев в виде теоретической «модели»^
сегодня можно прийти лишь к констатации факта «самоисчерпания»« этого идеала и к
позиции своеобразного "героического пессимизма», от которой не был далек в свое
время и сам Вебер. И наоборот: при желании найти конструктивную перспективу
выхода из ситуации «кризиса интеллектуальных слоев" с необходимостью приходится,
пройдя часть пути «вместе с Вебером», затем выходить за пределы его предпосылок и.
следовательно, идеалов. Определенно способствуя трезвому осознанию всей глубины
происходящего кризиса, веберовская социология - во всяком случае в данном пункте 82
явно
не
содействует
выработке
искомой
«стабилизационной»
теоретической
перспективы.
Ведь сам же К. Зайфарт- один из самых последовательных сторонников
«аутентичного Вебера». - достаточно уое-дительно проиллюстрировал неутешительный
вывод: защищать веберовский идеал сегодня - все равно что пытаться склеить
разбитую вдребезги хрустальную вазу. Этот идеал может лишь подчеркнуть, насколько
далеки его сегодняшние «осколки» от вчерашней целостности его манящего образа. Но
самое неутешительное (во всяком случае для приверженца «аутентичного Вебера») это витающее над исследованием К. Зайфарта, хотя и не признающееся в этом себе
самому, неартикулированное сознание того, что упомянутая «ваза» превратилась в
нынешнюю груду обломков вовсе не случайно, а вследствие последовательного
углубления (поначалу как бы и вовсе незаметной) «трещинки», раскалывавшей ее
основание.
В данной связи не лишним будет напомнить, что сам Макс Вебер, к традиции
которого взывают сегодня носители "стабилизационного»" устремления в западной
социологии, вошел в историю буржуазной культуры XX столетия как фигура глубоко,
можно даже сказать трагически кризисная олицетворяющая собой смятенность
сознания
буржуазной
интеллигенции,
потрясенной
событиями
двух
первых
десятилетий нашего столетия (включая революцию 1905 года, первую мировую войну
и, наконец, Великую Октябрьскую социалистическую революцию). При этом
характеризовали Вебера таким образом, как фигуру «кризисную» не лишенную даже
«нигилистических» черт и особенностей, вовсе не одни только его противники. Об
этом достаточно определенно говорил, например, и ученик Вебера - известный
немецкий «экзистенц-философ» Карл Ясперс (14).
Сколь же глубокими должны быть противоречия современной буржуазной
социологии (отражающей кризис буржуаз ного сознания вообще), чтобы на их фоне
даже "криэис-ность» сознания Вебера, не лишенная «нигилистических» обертонов,
предстала как воплощение идеалов нынешнего «стабилизационного» сознания
западных социологов! И, кстати, уже одного этого обстоятельства достаточно, чтобы
представить, несколько самопротиворечивой, насколько кризисной по сути дела
является
новейшая
стабилизационная» тенденция
в
современной
буржуазной
социологии.
83
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов: (Первоначальный вариант
«Капитала»). - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. 1, с, 1-5O8; ч. 2, с. 1-521.
2. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. - Там же, т. 42, с. 41-174.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. - Там же, т. 4, с. 119-459.
4. Риккерт Г, Границы естественно-научного образования понятий; Логическое
введение в исторические науки. -СПб, 190З. - 615 с.
5. Риккерт Г. Философия истории. -СПб., 1908. - XIV, 148с.
6. Bell D. The cultural contradictions of capitalism. — N.Y., 1976. - XVI, 301 p.
7. Drehsen V. Religion und die Rationalisierung der modernen Welt: Max Weber (18641920). - In : Dahm K.W., Drehsen V.. Kehrer G. Dae Jenseits der GeseHschaft. Munchen.
1975, S. 89-154.
8. Eisenstadt S.N. Tradition, modernity, and change. — N.Y., 1976. - XI, 367 p.
9. Gehlen A. Studien zur Anthropologie und Soziologie. — Neuwid a. Rhein; Berlin, 1963. 355 S.
10 . Geiger Th. J. Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der GeseHschaft. - Stuttgart, 1949.
- VIII, 167 S.
11. Gouldner A. The dialectic of ideology and technology. — N.Y., 1976. - 294 p.
12. Gouldner A. The new class project. Part I—II. — Theory a. soc., Amsterdam etc., 1978,
vol. 6, N 1, p. 153-203; N 2, p. 384-389.
13. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. — Frankfurt a.M.f 1981. - Bd 1. 534
S.; Bd 2. 594 S.
14. Jaspers K. Max Weber: Politiker. Forscher.Philosoph. - Munchen, 1958. -89 S.
15. Kristol I . The adversary culture of intellectuals. - Encounter, L., 1979, vol. 53, N 4, p. 514.
16. Lipset S.M., Dobson R.B. The intellectual as critic and rebel. -Daedalus, Boston, 1972,
vol. 101, N 3, p. 137-198.
17. Lukas G. Geschichte und Klassenbewusstsein: Studien uber-Marxlstische Dialektik. - В.,
1923. - 342 S.
18. Mannheim K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. - Leiden, 1935. - XVIII,
207 S.
19. Merleau-Ponty M. Die Abenteuer der Dialektik. - Frankfurt a. M., 1968. ~ 281 S.
20 . Novak M. The American vision : An essay on the future of democratic capitalism. Wash., 1979. - [IV], 60 p.
84
21. Parsons T. The social system. - N.Y., 1966. - [XVIII], 557 p.
22. Parsons T.The structure of socail actioa~I4.Y., L.,» 1937. - XII, 817 p.
23. Schelsky H. Die Arbeit tun die anderen. — Opladen, 1975. - 447 S.
24. Schluchter W. Max Webers Gesellschaftsgeschichte. - Kolnei
Ztschr. fur Soziologie u. Sozialpsychologie, 1978, Jg. 30, H. 3, S. 438-467.
25. Schutz A. Der Sinnhafte Aufbau der Sozialen Welt. — Wien, 1932. - VII, 285 S.
26. Seyfarth C. Gesellschaftliche Rationalisierung und die Ent— wicklung der
Intellektualenschichten : Zur Weiterfuhrung eines zentralen Themes Max Webers. — In :
Max Weber und die Rationalisierung sozialen Handelns. Stuttgart, 1981, S. 189-223.
27. Sprondel W.M. "Experte" und "Laie" : Zur Entwicklung von Typenbegriffen in der
Wissensoziologie.) In : Alfred Sutz und die Idee dee Alltags in der Sozialwissenschaften.
Stuttgart, 1979, S. 140-154.
28. Weiss J. Max Webers Crundlegung der Soziologie. — Munchen, 1975. - 240 S.
29. Weiss J. Rationalitat als Kommunikabilitat : Grundsteine fur die Analyse von
Rationalitatsunterstellungen in der Soziolo-gi»e. — In : Max Weber und die Rationalisierung
sozialen Handelns. Stuttgart, 1981. S. 189-223.
Ю.Н. Давыдов
85
НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ Т. ПАРСОНСА
В БУРЖУАЗНОЙ СОЦИОЛОГИИ 70-х-НАЧАЛА 80-х ГОДОВ
Толкота Парсонса (1902-1979) еше при жизни называли классиком американской
социологии15. Более сорока лет он был в центре теоретических дискуссий в 60-70-е
годы, правда, в роли "мальчика для битья»: почти все новые моды и направления в
буржуазной социологии начинали обычно с опровержения "функционализма»
Парсонса. Но даже это подтверждало по-своему универсализм и конструктивность его
построений: продуктивный спор возможен с какими-то позитивными решениями и при
постановке проблем, интересных для каждого оппонента. Однако и в то время когда
репутация Парсонса как функционалиста, теоретика равновесия и консервативного
идеолога стала чуть ли не общепринятой, все-таки удивляла разноголосица в
философских, методологических и идеопого-попитических оценках его теорий.
Каждый критик по-своему объединял разные их фрагменты в гипотетическое связное
целое.
Напомним некоторые хорошо известные примеры противоположных оценок. Так,
А.
Гоулднер
в
роли
критика
консервативно-либеральную
Парсонса
идеологию
приписывал
эпохи
ему
свободного
добропорядочную
предпринимательства
(старомодный либерализм в силу давности часто воспринимается современным
буржуазным сознанием как консерватизм) и связывал ее с принятием концепции
функциональной системы, социального равновесия и гармонии, с антиэмпирическими
методологическими установками и пр. (22, с. 88-163). Напротив, Р. Миллс возводил
абстрактный априоризм парсонсовских классификаций к идеологии бюрократических
сверхорганиэаций государства всеобщего благосостояния, апологетом которого будто
бы был Парсонс (26, с. 78-115). Для Р. Дарендорфа (17), Дж. Локвуда (23) и др. Персонс
-
идеалист
и
волюнтарист,
пренебрегающий
"фактуаяьными»
объективными
социальными ограничениями на свободу индивидуального действия. С более же
распространенной точки зрения Парсонс смотрится как типичный антииндивидуалист
и позитивистский детерминист, продолжатель органицистской традиции (24; 21 и др.).
Даже
в
пределах
одной
книги
Персонс
выглядит
то
как
представитель
антиэмпирической философии науки в социологии, то как образцовый позитивист (21,
с, 135 и далее).
Общим местом в 60-70-е годы стала критика Парсонса за статичность,
выдвижение на первый план «проблемы порядка», неисторизм, неспособность
справиться с проблемой общественного развития и т.п. Эту критику дразнили
86
буквально воспринятые слова самого Парсонса: "Общая теория процессов изменения
социальных систем невозможна при настоящем состоянии знаний...» (32, с.534).
Многие же из тех, кто не прошел мимо постепенного превращения функционализма в
целом в "эволюционный функционализм», мимо его все более глубокого интереса к
истории и процессуальным проблемам, хотя и одобрили переход позднего Парсонса в
«эволюционную веру», но сочли его неоэвопю-ционизм "элементарным», ни на шаг не
продвинувшим сравнительные и исторические штудии более ранних теоретиков (20, с,
63).
По-видимому, первопричина этих расхождений в том, что в сознании разных
своих критиков Парсонс пребывал в двух несоединимых мирах: с одной стороны,
позитивистской
системности
и
эволюционизма
и,
с
другой
-
традиции
теоретизирования с точки зрения социального действия, виднейшим представителем
которой бып неокантианец Маке Вебер. Большинство толкователей Парсонса долго не
видели связи между его главными работами (33) и (32): ранней -"Структура
социального действия" (1937), этой, "возможно, наиболее влиятельной книгой,
появившейся в американской социологии в 20-30-е годы» (35, с. 399), и трупом
среднего периода - "Социальная система» (1951), воспри-н ятым как библия
функционализма"16.
В
советской
литературе
о
Парсонсе
также
нет
ясного
представления о преемственности идей от ранней книги к трудам по теории
социальных систем. Чаще всего Парсонса рассматривали в контексте обшей критики
функционализма. При специальном же обращении к теории социального действия
советский автор считает нужным оговариваться, что "Парсонс «не всегда был
функционалистом» (8, с. 198), что у позднего Парсонса "требование сохранения
действующего лица как точки отсчета выглядит... анахронизмом, рецидивом
веберовских представлений в общем русле структурно-функционального подхода" (9,
с. 191), т.е. отказывает со-в окупности трудов Парсонса в логической непрерывности.
Но отношение к Парсонсу в зарубежной социологии не застыло. Исподволь
подготовлялась новая теоретическая и идеологическая переоценка наследия Парсонсв,
которая в конце 70-х - начале 80-х годрв, видимо, кульминировала в работах
американского исследователя Джеффри Александера (11; 12; 13) и немецкого - Рихарда
Мюнха (28; 29). В основу этой переоценки с самого начала лег целостный подход к
трудам
Персонса.
функционалистских
Исследователи
аспектов,
отошли
от
сосредоточились
привычного
на
обсуждения
исходных
их
философско-
гносеологических предпосылках Парсонса и проследили их роль до конца егс
87
деятельности (т.е. всерьез допустили, что он никогда от них не отказывался). Анализ
ранних предельно общих решений Парсонса по центральным для ведущих традиций
европейской
философии
и
теоретической
социологии
проблемам
действия,
рациональности, свободы, порядка и др. по-новому осветил и всю парсоновскую
теорию функциональных систем.
Результаты этого более широкого, на уровне "социологической эпистемологии»
(11, с. 178), взгляда на Парсонса чуть ли не противоположны многолетнему его
восприятию
основной
массой
критиков.
Во-первых,
получило
поддержку
парсонсовское направление поисков обширного теоретического синтеза в социологии.
Во-вторых, гносеологию и практическую философию Парсонса стали связывать не
только с неокантианством (через М. Вебера), ной прямо с самим Кантом. В частности,
как Ф. Шиллер в свое время именовал философию Канта "философией свободы", так и
социологию Парсонса изображают теперь социологической теорией реальной,
практической свободы. В-третьих, бывший "статик" и "консерватор" Парсонс
превращен во влиятельного теоретика общественно-исторического развития для
исторической социологии, социологии развития и модернизации - теоретика,
способного обеспечить новое обобщенное истолкование иначе не обозримого
множества теоретических и эмпирических исследований по социальным изменениям.
Пояснить тот философский контекст дискуссий вокруг Пирсонов и глубинных
проблем социологичоской теории, который сделал возможной такую резкую
переоценку, -скромная задача этой статьи. При этом вслед за новыми толкователями
Парсонса нас интересуют адесь не столько детали и адекватность изложения его теорий
(некоторое знакомство с его яоиятийным аппаратом предполагается у читателя хотя бы
по упомянутым советским работам (8 и 9), сколько именно интерпретации и
открываемые ими перспективы теоретического синтеза.
Общей предпосылкой расширения горизонта в понимании мыспи Парсонса стап
очередной теоретико-познавательный поворот в настроениях западных социологов. В
предыдущем периоде (50-х, 60-х и отчасти 70-х годов) среди них так или иначе
преобладало
убеждение,
что
неизбежен
выбор
между
принятием
единой
позитивистской философии науки (в то время почти наверняка какой-нибудь версии
логического эмпиризма, отождествляемого с «научностью» вообще) и дуалистической
концепцией научного знания по образцу немецкого идеализма с утверждением
непригодности естественнонаучных моделей познания для "наук о духе», для
обществоведения, Масса «практических» западных социологов сознательно или
88
бессознательно связывала понятие научной объективности лишь с позитивистскими
моделями науки. Но в последнее десятилетие под влиянием самих естественников
набирает сипу мнение, что позитивизм далеко не описывает реальной познавательной
практики даже естественных наук и что нужно в социологии избрать более
синтетическую, среднюю дорогу между гуманитарно-идеалистической критикой и
позитивистской «объективностью». Если раньше предполагалось резкое и очевидное
различие между «фактами» и «теориями», и логика построения последних упрощенно
сводилась к одностороннему движению от «фактов», то теперь деление «факт - теория"
вместо дихотомической трактовки предлагается рассматривать в виде некоторого
континуума между эмпирическим и «метафизическим», неэмпирическим контекстами
науки, так что каждое научное суждение выступает как продукту обоих типов логик,
порождаемых указанными контекстами17.
По сути речь здесь идет о признании значения философии в научном
теоретизировании, о возрождении простых мыслей, издавна принятых большинством
философских школ крайних эмпириков: что «данные» любых наук никогда не являются
результатом чисто эмпирических наблюдений, а пропущены через мировоззренческие,
неэмпирические очки; что крупные научные перевороты вовсе не были простым
результатом новых эмпирико-экспериментальных находок, но этим переворотам всегда
предшествовали фундаментальные сдвиги в культуре, философии и т.п.
В итоге складывается то, что называют "постпозитивистской" (но все же не
«антипозитивистской») моделью науки. Применительно к социологии ее отличают
гораздо большая по сравнению с логическим эмпиризмом предыдущей эпохи широта и
терпимость, гораздо большее соответствие реально существующему в социологии
разнообразию теоретических ориентации. Эта модель не требует отбрасывать в ходе
упрощающих редукций как "донаучные" предельно общие неэмпирцческие и
«метафизические" (в старом аристотелевском смысле) элементы социологического
мышления. Но конечно, ее терпимость не бесконечна. Новая модель также избегает
крайностей веры романтического идеализма в безграничную мощь неэмпирической
спекуляции и во что бы то ни стало старается сохранить понятие объективности как
нормы научного мышления, хотя бы толкуя эту объективность в виде некоего
инварианта из множества научных субъективностей. В целом наблюдается тенденция
восстановить социологию в качестве дисциплины, мыслящей историко—философски.
Собственно это имеют в виду, когда пишут о "неоклассической" и "философски
89
рефлексивной" социологии, о привитии ей точки зрения "трансцендентального
историзма" и т.п. (25, с, 285-287).
Более широкое понимание общей логики формирования социологических теорий
заставило внимательнее отнестись к первоначальному замыслу "волюнтаристской
теории действия" Парсонса: синтезировать в описании свойств действия наиболее
удачныо решения индивидуалистский и утилитаристских теорий Просвещения;
материалистических и позитивистских подходов, отразивших в своих понятиях
ограничения свободы действия материальной необходимостью, надындивидуальным
принудительным социальным порядком и т.п.; и, наконец, нормативистского идеализма
в трактовке действия как символические регулируемого и внутренненапраляемого
усвоенными индивидом общепринятыми ценностями и нормами, чем достигается
относительное примирение противоречий между индивидом и обществом. Поэтому
современный этап обсуждения за рубежом результатов парсоновс-кого синтеза не
обходится без раэбора тех или иных аспектов его "диалогов» с великими
философскими
традициями
общественной
мысли,
опосредующими
концепции
действия.
Каково самое явное из противоречий социального познания, с которым должен
был встретиться Парсонс на избранном пути?
На протяжении всей истории общественной мысли в теоретических построениях
боролись два основных подхода: социальный реализм (социальную реальность
образуют трансцендентные индивиду свойства общества и других коллективных
соединений людей) и социальный номинализм (исходный пункт которого - индивид как
единственный материальный, а не абстрактный носитель общественного бытия).
Объективная основа такого противостояния - двойственная природа социальных
явлений. С одной стороны, их характеристики зависят от социального целого, в которое
они входят. Так, характеристики общественного индивида (как гражданина, семьянина
и т.д.) существуют только во взаимодействии с другими людьми и не существуют
отдельно, независимо от его участия в соответствующем социальном цепом. С другой
стороны, само это целое по большей части может быть описано только отношениями
(структурой отношений) между частями, из которых оно состоит. Отсюда две разные
отправные точки теоретизирования: от так или иначе понятого целого (определенной
структуры отношений, коллективных представлений, коллективного действия и т.п.)
либо от индивидуального социального действия. Уже в античности эти разные
исходные
пункты
выражают
платонизм,
обожествлявший
надындивидуальный
90
мировой порядок (космос) и мир идеальных норм как основу общественной жизни, и
софистика с ее индивидуализирующим тезисом "человек есть мера всех вещей".
Позднее указанные два фундаментальных подхода к социальной действительности,
которые, несколько осовременив терминологию, условно можно обозначить как
"холизм" и "методологический индивидуализм", принимали разнообразные формы: с
одной стороны, органицизм, системность и т.п., с другой - просвети-тельскоутилитаристский социальный атомизм, теории "разумного эгоизма", разные модели
экономического действия ("экономического человека"), психологизм и т.д.
Из классиков социологии XIX—XX вв. два этих подходе западные комментаторы
привычно связывают с именами Э. Дюркгейма и М. Вебера, несмотря на неизбежные
непоследовательности и уступки каждого в пользу противоположной точки зрения.
Системно-холистский или органи-мический подход казался настолько несовместимым
с точкой зрения действия, что проявления их обоих у одного и того мыслителя, как
например, у Г. Спенсера, с характерным для него сочетанием либерального
индивидуализма с органицизмом и вниманием к объективной эволюции безличных
структур, воспринимались только как недостаток философской культуры или
логической последовательности в теории. В этом, как правило, не доискивались более
глубоких причин видимой непоследовательности, которая, возможно, была знаком
назревшей потребности в теоретическом синтезе.
Поиски такого синтеза составляют доминанту деятельности Т. Парсонса. Он,
разумеется, не первый на этом пути, но выделяется размахом, с каким пытался
переосмыслить результаты; накопленных общественными науками структурных
расчленений общества и фушшионалистских классификаций социальных институтов (в
том числе дюркгеймовской и спенсеровской социологии) в свете схемы "Целисредства", опирающейся, в основном, на концепцию М. Вебера. Теория Парсонса,
взятая в целом, в своих конечных устремлениях пыталась решить древние антиномии
общественной мысли, сделав центральными две проблемы: поиск социальных
оснований, так сказать реального, объективного «базиса" индивидуальной автономии и
свободы (на языке Парсонса проблема волюнтаризма действия) и многомерный анализ
оснований социального порядка (теория сложной социальной системы) (11, с. 177).
Александер, чья аргументация часто повторяется в новой комментаторской
литературе по Парсонсу, распространяет его проблематику действия и порядка как
основную чуть ли не на всю историю социологии (13, т. 1, гл. 3,4). Вслед за Парсонсом
и даже последовательнее его он ревизует инвентарь классических социально91
философских и социологических концепций, источников Парсонса, с точки зрения
решения ими этих двух предельно общих организующих проблем социологической
теории.
Первая - "проблема действия" (называемая также проблемой мотивации) - требует
решения, исходить ли при построении теории из того, что социальное действие
рационально в инструментальном, утилитаристско-прагмати-ческом смысле (т.е.
руководствуется
исключительно
«техническими"
соображениями
чистой
эффективности, подчиняя им внутренние, моральные компоненты действия), или
следует учитывать также "нерациональные", идеально-нормативные моменты действия.
В плане соотношения целей и средств речь идет о том, какого рода отношения средств
к цепям считать рациональными и нерациональными, в частности насколько
рациональной полагать парсонсовскую нормативную регуляцию выбора средств.
Вторая - проблема порядка - решает как теоретически связать эти действия в
социальные структуры. В частности, "порядок» можно рассматривать как результат
переговоров (символического взаимодействия) между индивидами либо •коллективной
детерминации
как
таковой,
взятой
в
«качестве
самостоятельной
реальности
("коллективное сознаний» Дюркгейма и т.п.). В свою очередь коллективный порядок
можно толковать как внешне или как внутренне обусловленный в зависимости от
понимания рациональности действия (т.е. от решения первой проблемы - проблемы
действия).
Против подобной "парсонизации" проблематики теоретической социологии
возражали еще самому Парсонсу. Так, вопреки его толкованию, будто Дюркгейм
развивался от позитивизма к идеализму и волюнтаристской теории действия, Поуп
хорошо показал, что общее направление теоретического развития Дюркгейма вело
скорее от теории действия, чем к ней (35, с. 408). Дюркгейм скептически оценивал
возможности схемы "цепи-средства": поскольку одинаковую систему прведения можно
оправдать очень многими разными целями, то и бесполезно определять действие
посредством
цели.
"рациональности
Однако
действия"
Александер
к
относит
глубинным
решения
о
"метафизическим
«порядке»
и
предпосылкам"
социологического мышления, т.е. к такому высокому уровню обобщения, на котором
становится
несущественным
отказ
от
схемы
"цели-средства"
как
явного
методологического инструмента. В итоге он смог изобразить эволюцию Дюркгейма в
духе Парсонса (хоть и отлично от него) как переход от противоречивых попыток в
эпоху "Разделения труда" совместить инструментальный порядок со свободой, мораль
92
как нравственную свободу в ответственность с моралью как внешним принуждением к
последовательной трактовке в поздних работах морали как духовной силы и к
идеалистической теории общества (13, т. 2, гл. 4,5,7,8). В ней институты секу-лярного
общества рассматриваются по образцу религиозной жизни и моральные нормы
наделяются священным авторитетом просто в силу их происхождения. Теория
Парсонса в числе прочих задач призвана навести мосты между "объективистской» и
"идеалистической" эпохами работы Дюркгейма.
Чтобы справиться с нелёгкой задачей компактного представления и теории
действия, и системной теории Парсонса в относительном логическом единстве, новые
его
толкователи
соединяют
принцип
сквозной
проблематики
с
кантианской
интерпретацией парсонсовского "аналитического реализма"(19; 28; 29). Подобно тому
как у Канта лишь то содержание наблюдения становится элементом опыта и фактом
познания, которое (содержание) может быть подведено под априорные формы
чувственности (пространство-время) и рассудка (категории), так и у Парсонса
категории формалы» ной структуры действия толкуются как условия возможности
познания эмпирического социального действия.
Широкий отклик в зарубежной социологии получила попытка Александера
обозреть важнейшую часть наследия Парсонса, анализируя отношения между
концепциями формального и реального волюнтаризма в его Теории (11). Александер
различает
в
теме
волюнтаризма
действия
у
Парсонса
абстрактный!
чисто
теоретический и гносеологический уровень размышлений - круг построений
«формального волюнтаризма»! и содержательный уровень с различными эмпирикоидеопогическими и практико-историческими "отягощениями» формальной схемы называя его субстантивным или, как предпочитаем переводить мы, «реальным
волюнтаризмом»,
Теория
формального
волюнтаризма
занята
универсальными
определениями всякого действия, абстрагированного от времени и пространства и от
конкретных идеологических предпосылок (от конкретного ценностного выбора).
Напротив, реальный волюнтаризм интересуется действительной мерой, в какой
конкретные
исторические
индивидуальную
свободу,
и
социальные
определяемую
условия
в
позволяют
категориях
одной
реализовать
из
многих
идеологических перспектив, накопленных человечеством и ориентирующих действие в.
эмпирическом историческом мире. В свете этого различения общий замысел Парсонса
огруб-ленно сводится к тому, чтобы от формально-теоретического, философскогносеологического выявления структуры социального действия, прилагая ее к
93
конкретным эмпирическим и историческим ситуациям и постепенно обогащая
деталями, прийти к такой понятийной схеме, которая позволяла бы улавливать
системные преобразования культуры, общества и личности. Но свою теорию
"формального волюнтаризма» он не изобретал заново, а скорее собирал, синтезировал
из проверенных временем решений в полемике с очень разными источниками, которые
частично уже назывались.
Вечные споры по проблеме свободы действия (волюнтаризма) можно грубо
свести к двум линиям фронта: поясненной выше - номинализм против реализма
(проблема «индивид - общество») и субъективизм против объективизме (проблема
выбора между идеально свободной внутренней или внешней - безразлично
идеалистической или материалистической - мотивацией). Разбирая позицию Парсонса
обязательно по обеим этим линиям споров, Александер попутно указал причину
некоторых разноречивах ее оценок, о которых бегло сказано в начале статьи. Для
критиков, односторонне ориентированных на спор номинализма (методологического
индивидуализма) с реализмом (коллективности им подходом), Парсонс - решительный
антиволюнтарист, занятый исключительно системой, органическим целым и стоящий
на антииндивидуалистических, детерминистских позициях. Здесь внимание Парсонса к
надындивидуальным
противоречащим
силам,
самой
идее
влияющим
на
«волюнтаризма».
действие,
Большей
видится
же
части
внутренне
критиков,
интересующихся вторым клубком проблем, Парсонс кажется волюнтаристским
идеалистом просто потому, что он подчеркивает роль внутренних норм в действии,
какова бы ни была их природа (11, с. 178-179). Чтобы глубже разобраться в этих
противоречиях, надо подробнее выяснить характер парсонсовского нормативизма, «чем
он отличается, к примеру, от более известного дюркгеймовского. Ведь на практике
масса социологов не видит существенной разницы между «коллективным сознанием»
Дюркгейма и «ценностным согласием» Парсонса, толкуя и то и другое кале множество
общепринятых идей, навязывающих себя индивидам с силой явлений природы и
обеспечивающих интеграцию общества в систему. Применительно к точке зрения
социального действия позиция обоих сводится к тому, что если вообще возможно
общезначимое (эффективное и пр.) индивидуальное действие, то одни и те же нормы
или центральные ценности должны вынуждать или мотивировать поведение всех
индивидов, принимающих участие в действии. При выяснении формальной структуры
социального действия и специфики собственного подхода к проблеме «волюнтаризма»
исходной для Парсонса была полемике с индивидуалистской традицией Просвещения,
94
физиократов, английских экономистов, в очень большой степени определившей и
либеральную идеологию XIX в. от «манчестерского» либерализма и утилитаризма до
Спенсера в одной из его ипостасей. В современной социологии индивидуалистскую
традицию представляют социологические теории обмена (прямо продолжающие
традиции
утилитаризма),
символического
интеракционизма,
феноменология
и
экзистенциалистская социология, которые в известном смысле все делают свободу
индивида исходным пунктом теоретического анализа. Перечисленные направления - и
старые, и новые - все бились над общей проблемой: как теоретически изобразить
индивида, личность, «Я» активным, инструментальным и прочим фактором в
становлении общества как вечной или постоянно возобновляемой индивидуальными
усилиями реальности. Все они предпочли бы постигать смысл социальных фактов,
исходя из интенций деятелей, а не из отношений этих фактов к социетальному целому,
рассматривать общество как основанное на дискретных индивидах, свободно
преследующих свои цели сообразно личному определению, и социальное действие,
соответственно, как определяемое личной инициативой, Александер верно отмечает,
что философски эти либерально-индивидуалистские традиции (в том числе и близкая
Парсонсу неокантианская социология) ориентированы на принцип «свободы волн» как
этический критерий свободы (11, с. 179).
Своей теорией Парсонс изначально пытался внести реалистические поправки в
номиналистскую трактовку неограниченной свободы и переосмыслить проблему
индивидуализма как часть проблемы порядка, но при этом желал и сох»-ранить
традиционные идеологические ценности либерального буржуазного индивидуализма.
Задача безусловно трудно-выполнимая. Мы постараемся пояснить сложную позицию
Парсон-са в сопоставлении с крайними полярными точками зрения, им самим прямо не
затронутыми, но лучше знакомыми советскому читателю.
С одной стороны, это «просветительский анархизм», находивший аргументы в
«естественном состоянии» (Ж.-Ж. Руссо, У. Годвин). Человек в этом состоянии
рассматривался как воплощение разума и свободы, так что принуждать его действовать
по разуму оказывалось излишне,
против разума - нелепо. Здесь даже не может
возникнуть вопроса о степени рациональности действия: оно разумно по определению.
С другой стороны, это гегельянский этатизм, где свобода и разум отчуждены от
человека как конкретного существа и сделаны атрибутами трансцендентальной
субъективности, единственно возможными конкретными проявлениями которой
оказываются общественные институты или современное государство, пусть даже
95
созданное «объединившимся на правовой основе народом» (3, с. 152). Здесь
предыдущая позиция как бы вывернута наизнанку: «естественно» во всех своих
«разумных и свободных» проявлениях уже государство.
В наши дни первую теоретическую крайность (полное освобождение индивида
из-под власти социального) проповедовала леворадикальная критика социологии как по
сути своей «науки о несвободе», персональным воплощением которой и служил в ее
глазах Т. Парсонс. Видимо наиболее адекватную философскую базу обеспечивал этой
критике экзистенциалистский нигилизм с его отвращением к любой социальной
реальности как к неподлинному бытию, неистинному существованию, «иному».
Вторую, гегелевскую линию пантеистического обожествления некоей социальной
тотальности продолжала социология дюркгеймовского типа, которая только в обществе
находит основание и меру чело-в еческого бытия, свободы, морали, познания добра и
зла и пр. Как неустанно повторял Дюркгейм: «Индивид подчинен обществу, и это
подчинение есть условие его освобождения ... Любить общество.- значит любить и
нечто вне нас, и нечто в нас самих.18" Мы не можем хотеть освободиться от общества,
не желая перестать быть людьми» (19, с. 72, 55). Освобожденный от социальных
ограничений, выпавший из общества индивид (аномия) подчинен « слепым и
аморальным силам природы", естественному хаосу собственных потребностей,
страстей и желаний. Ослабление связей человека с обществом разрушает и его связи с
жизнью, становится причиной самоубийства (6, с. 276).
При данном подходе различение между социальной и несоциальной (иначе животной) жизнью тождественно различению между разумными и неразумными
действиями. Радикальная критика видит смертный грех такой социологии (с типом
которой очень часто отождествляли Парсонса) в ее принципиальной неспособности
стать подлинно «критической», т.е. вырваться из круга суждений, определенных
условиями данного общества в данное время.
Действительно, Парсонс призвал бы большую теоретическую правоту за
гегелевско-дюркгеймовской традицией поскольку она как-никак ориентирует на
изучение общественных отношений и институтов, а точка зрения романтического
анархизма, сводящая чуть ли не все социальные и природные условия человеческого
существования к "несвободе", делает невозможной никакую социологию. Обратим
внимание, что ведь и марксистская социология считает пустым понятие свободы без
реального анализа общественных отношений, без, так сказать, материального ее
обеспечения.
Но
признавая,
подобно
Дюркгейму,
необходимость
теории
96
"коллективистского порядка", Парсонс думал развивать ее в системе понятий
"волюнтаристской
теории
действия",
которая
учитывала
бы
значимость
индивидуальных усилий и недетерминированные социальной тотальностью элементы
свободного выбора в человеческом поведении.
Методологически Парсонс пытался обезопасить ход своих рассуждений от
теоретической редукции человеческого существования как к субъективистским
описаниям с позиций абсолютной "свободы волн", так и к ре афишированной или
обожествленной социальной необходимости, сделав упор на "взаимозависимость" и
"взаимопроникновение" как принцип отношения между подсистемами действия. "Так
«задумано, - писал Парсонс, - что социальная система есть только один из трех
аспектов построения полной и конкретной системы социального действия. Другие два
суть личностные системы отдельных деятелей и культурная система, встроенная; в их
действие. «Каждый из этих трех аспектов должно рассматривать как независимый
центр (подчеркнуто нами.-А.К.) организации элементов данной системы действия в том
смысле, что ни один из них теоретически несводим к категориям двух других. Каждый
необходим двум другим и незаменим ими, ибо без личностей и культуры не было бы
социальной системы и т.д., согласно прочим комбинациям логических возможностей.
Но эти взаимозависимость и взаимопроникновение совсем не то, что сводимость
(редуцируемость), которая означала бы, что важные свойства и процессы одного класса
систем могут быть теоретически выведены из нашего теоретического же знания об
одном или обоих из двух других классов" (32, с. 6).
Вслед за Александером (11, с. 180-182), но еще более сжато, выделим некоторые
формальные моменты решения Парсонсом проблем "волюнтаризма действия" и
"порядка", хорошо известные, но тем не менее расходящиеся со штампами
традиционной критики. Парсонс думал преодолеть номиналистские предубеждения,
будто свобода не должна содержать никаких ограничений, встроив в "волюнтаризм»
влияние субъективных идеальных элементов, которые интернализованы индивидом и
тем обеспечивают ему и связь с обществом, и относительную внутреннюю автономию
от материальных ситуативных ограничений. По мнению Парсонса, "волюнтаризм»
упомянутых выше индивидуалистских направлений старой и современной социологии
основан на непонимании теоретической роли понятия "индивид". Они "эмпирицистски"
смешивают "конкретную" и "аналитическую" системы отсчета
19
(11, с. 180; 33, с. 87-
125). "Конкретного индивида", т.е. живое, осязаемое лицо, разумеется, можно» подобно
номиналистам, трактовать как свободного и автономного в некотором условном
97
смысле. Но такой первый взгляд почти неизбежно будет поверхностно эмпирическим.
Если же на этого индивида посмотреть "аналитически", то станет ясно, что он есть попе
пересечения различных социальных сил, из которых наиболее важны, по Парсонсу,
символические силы, включая нормативные элементы. Поскольку эти элементы
усвоены (интернапизованы) индивидом, постольку они «неосязаемы» в эмпирическом,
конкретном смысле. "Дискретный» и «автономный», по видимости индивид на деле
«взаимопроницаем» с другими индивидами благодаря общим символическим нормам.
То, что кажется абсолютно свободной деятельностью, в действительности зависит от
применения
деятелем
внутренних
нормативных
стандартов
культурного
происхождения. Последующее восхождение от формально "аналитического» к
"конкретному индивиду», с которым имеет дело теория «реального волюнтаризма», в
конечном счете обеспечит и бопее глубокое понимание действий последнего.
Трактуя роль нормативной интернализации подобным образом, Парсонс (кстати,
он здесь не оригинален) выступает, с одной стороны, против «чистого волюнтаризма»
абсолютно свободной воли, а с другой — стремится преодолеть концепцию
принуждения, внешних материальных сип как единственных детерминант социального
поведения («гоббсовскую традицию»), т.е. отстоять автономию индивидов «по
отношению к материальным элементам их ситуации. «Волюнтаристская система, - по
Парсонсу, — ни в малейшей степени не отрицает важной роли ситуативных ... ненормативных элементов». Она только «рассматривает их во взаимозависимости с
нормативными» (33, с. 82; 11, с. 18О). Таким образом, в парсонсовском
«волюнтаризме»
индивидуальное
выражение
свободной
воли
опосредовано
нормативным символизмом - силой социальной, но совсем другой природы чем
материальное принуждение.
Собственно, уже само словосочетание «символическое взаимопроникновение»
равносильно утверждению о, существовании какого-то порядка в отношениях между
людьми (индивидами). Как изолированный, дискретный индивид есть невозможный
социальный факт, так невозможно и неупорядоченное социальное действие.
Простейшую модель нормативного взаимопроникновения образуют два индивида,
разделяющие или интернализоБевшие общий символ, который всегда принадлежит
некоему множеству культурных символов, организованных в неслучайном порядке, в
определенные структуры, образцы или формы. Александер специально подчеркивает,
что «социальный порядок» у Парсонса утверждает только эту неслучайность
взаимодействия, а вовсе не равновесие, хотя смешение порядка и равновесия равно как
98
и отождествление теоретической проблематики порядка с идеологией консерватизма и
конформизма распространено среди его критиков (11, с. 181; 33, с. 94-96). Утверждение
о «социальном равновесии» гораздо более сильное эмпирическое обобщение о
некоторых классах систем.
Такова в общих чертах самая известная, «идеалистическая», часть парсонсовского
решения проблемы - часть, нередко принимаемая за все решение. В этой части по
своим практическим следствиям теорию порядка Парсонса пока еще трудно отличить
от дюркгеймовского «социологизт ма». Для обоих снятие остроты противоречий между
индивидом и обществом достигается принятием первым определенных социальных
элементов – норм. Как теоретику действия, Парсонсу важна дюркгеймовская по духу
посылка, что существование любого общества мыслимо лишь при некотором
минимуме общих норм и что любое социальное действие (будь то новаторское или
рутинное) всегда содержит интернализованный компонент. Но различия между двумя
мыслителями здесь все-таки есть, и существенные.
Как бы тонко ни дифференцировать этапы развития мысли Дюркгейма, основное,
с чем он вошел в историю социологии, - это учение о «коллективном (или групповом)
сознании (представлениях, чувствах)», в разных формах проведенное через всю его
деятельность. Это сознание по сравнению с индивидуальным - более примитивное,
раннее и глубокое - существует независимо от индивидуальных сознаний в виде
«социальных фактов» (условностей, навыков, законов и др.). Мораль - тоже одно из
обличий коллективного сознания. То, что добро и правильно, следует не иа
трансцендентной совести, или из категорического императива, или из эгоистического
либо альтруистического расчета, но есть простое следствие контроля коллективного
над индивидуальным сознанием. Интернализованные элементы в системе понятий
Дюркгейма - это моральные или социальные факторы из того же коллективного
сознания. Как «спра-ведливо отмечает Поуп, "собственно социологическая теория
Дюркгейма не связывает моральность со свободой выбора» (35, с. 408), хотя в своей
социальной философии он старался примирить взгляд на мораль как заповедь,
авторитет, принуждение с моралью как пониманием, автономией и свободой. В теории
Дюркгейма индивидуальное и социальной - противоположные силы: чем глубже
интернапи-зация индивидом социального, тем больше над ним моральный контроль
группы и тем меньше его свобода выбора.
Парсонс же связывает интернализацию именно со свободой выбора. Верность
моральным нормам у него включает и волевые и обязывающие моменты. Можно
99
согласиться с Поупом, что Парсонс ошибался, распространяя эту свою позицию на
Дюркгейма (35, с, 407), но она была принципиальной и важной для всей парсоновской
теории, чего автор вдумчивого раэбора отношений между двумя классиками
буржуазной социологии, кажется, недооценил. При некотором выпрямлении развития
того и другого допустимо утверждать, что Парсонс в своих построениях был склонен
опираться на этику свободы и ответственности, а Дюркгейм - на этику веры.
Для последнего совершенно естественно быть последовательным социальным
"реалистом" (в смысле противоположности номинализму). Поскольку даже при
выпадении индивида общество остается, то объяснения социальных явлений надо
искать в природе самого общества — вот основной тезис методологии Дюркгейма.
Субъективные состояния отдельных деятелей в его объяснениях - лишь продолжения
социальных причин внутри индивида. Дюркгейм отвергал психологические и прочие
объяснения человеческого поведения, которые используют субъективные переменные в
качестве независимых, утверждая в "Правилах социологического метода", что все
связанное с человеческими намерениями слишком субъективно, чтобы позволить
научную трактовку. Парсонс, напротив, настаивал на необходимости учета в теории
действия
субъективных
состояний
отдельных
деятепой
как
самостоятельных
переменных (35, с. 409).
В известном смысле Дюркгейм более последовательный "функционалист» чем
Парсонс. Несмотря на тенденции к спиритуалиэации общественной жизни, с подходом
Дюрек-гейма легко ладят приверженцы позитивистских концепций причинности в
социологии именно потому, что он требовал изучать идеи как вещи, как социальные
факты и искать определяющую причину любого социального факта среди других таких
же фактов, предшествующих ему. Какой смысл имеет данное социальное явление,
решает безличная каузальность некоего общественного или культурного целого,
эволюционирующего,
повышающего
порядок
своей
организации
по
своим
имманентным законам. Абсурдное для индивидуального разума может быть понятно и
функционально с точки зрения того целого, применительно к которому определяется
функция явления. В определении смыла социального факта из его отношения к
"самостоятельной реальности" общества, к "социетальному целому» нередко видят
специфику социологического подхода вообще. Именно в таком аспекте разоблачал
когда-то
"миф
о
функциональном
анализе"
как
об
особом
методе
одной
социологической школы, а не изначальном способе мышления всей социологии К.
Дэвис (18). Настаивая в теории действия на учете воления, индивидуальных (в
100
философском смысле) причин, Парсонс вступал в противоречие с так понятым
функционализмом. Традиционная критика Парсонса сразу и обрушивалась на эти
противоречия между установками его теории действия и входившими со временем в
его систему приемами и категориями функционального анализа. По-видимому,
единственный надежный путь обоснования своей теоретико-действенной программы
открывался для Парсонса в обращении к традиции немецкой классической философии,
выдвигавшей на первый план в мире моральных и вообще социальных отношений
взаимность вместо обычной природной причинности. У Канта и Фихте свобода
индивида основана на взаимности. В отличие от природных тел, которые только
принуждают к действию, люди еще могут и должны вести себя по отношению друг к
другу так, как если бы каждый был свободен и автономен. Общественное поведение
всегда направлено на взаимодействие, взаимное побуждение, влияние, давание и
получение, на разумную координацию, а не только на голую субординацию,
подчинение, причинность и голую деятельность. К этой великой традиции Парсонс
приобщался
косвенно,
через
переосмысление
дюркгеймовской
нормативной
интернапиэации в светевеберовской типологии социального действия и его же
концепции рациональности.
Если, по Дюркгейму, власть коллективной морали такова, что ее правила
исключают всякую идею расчета и, следовательно, как бы автоматически вызывают
или задерживают действие без оценки и расчета его последствий, то для Парсонса, как
и для Вебера, мышление в категориях «цель-средство" характерно не только для
экономической деятельности, в которой оно после английских экономистов было более
или менее признано, но и для многих других сфер человеческого действия. Степень
осознания цепей и средств их реализации определяет степень рациональности
действия. Пользуясь веберовским разделением видов действия применительно к
Дюркгейму, выходит, что тот видел основу общественной жизни прежде всего в
«традиционном действии", которое для Вебера даже не было в точном значении
социальным, поскольку в нем отсутствует субъективный, осознанный смысл как
необходимый признак социального действия (2, с. 274, 277).
Первичным для Дюркгейма (во многом наследника социальной философии
французских "традиционалистов» начала XIX в.) был сам факт существования или
интеграции общества, сводящийся в конце концов к более или менее сильному
исторически сложившемуся «коллективному сознанию» целого. А уж от этого факта
производны, им определяются ценности,- убеждения, сама научная истина и т.д., для
101
обоснований
которых
вовсе
незачем
ссылаться
на
индивидуалистические,
метафизические или теологические «смыслы». С позиций «пансоциологизма" даже
логические категории -всего лишь «коллективные представления», под которые
подводят свои положения (из стремления к общезначимости) мораль, религия и наука.
Парсонс же проблему интеграции ставил в зависимость от свободного выбора и
осознанного усвоения (интернализации) ценностей, о чем мы уже говорили. Это
сближает его с Вебером, который свободу человека связывал с рациональностью. По
Веберу, действие свободно, если не искажено аффектами и внешним принуждением,
если оно есть результат самостоятельной рефлексии, сознательного и ясного выбора
целей и ценностей и соответствующего им выбора средств (2, с. 293). Для Парсонса
исторический процесс высвобождения индивида из закрепленности в традиционных
связях неотделим от вебе-ровского процесса рационализации форм общественной
жизни, В общем, Парсонс разделял взгляд Вебера на рационализацию как на "судьбу»
европейской цивилизации, хотя и не так остро чувствовал противоречия и опасности
этого процесса. Вполне благодушно Парсонс (если посмотреть на него уже в системе
понятий Дюркгейма) причислял дух свободного исследования к общим чувствам, к
элементам и инструментам укрепления коллективного сознания. Сам Дюркгейм
гораздо последовательнее изображал этот дух следствием и орудием разрушения
традиционных убеждений, т.е. ослабления коллективного сознания (35, с. 403).
Важно отметить, что в теории "формального волюнтаризма» Парсонса
предпосылка о сознательном установлении деятелем ценностей, цепей и средств их
реализации,
т.е.
о
рациональном
характере
человеческих
действий,
играет
приблизительно ту же методологическую роль, что и у Вебера (2, с. 269-272), Эту
предпосылку заставляет принять сама природа науки как наиболее совершенной сферы
рациональных действий (с точки зрения адекватности соотношения между предметами
исследований и выбором их методов). Рациональные структуры науки лучше всего
приспособлены
к
объяснению
действий
именно
рационального
типа
(целерациональных и ценностнорациональных, по Веберу). Различая формальный
принцип от его осуществления в жизни, оценивая правильность осознания цепи
деятелем и определяя эффективные средства ее реализации, социолог может выстроить
идеальное течение рационального действия, не реального, но, как говорил Вебер,
"объективно возможного". Расстояние между этим "объективно рациональным»
действием
и
действием
реальным,
«субъективно-рациональным",
дает
меру
рациональности последнего. Таким образом, принцип рациональности у Парсонса, как
102
и у Вебера, - методологический: он не говорит о действительной природе человеческих
действий, но позволяет построить идеальный ход рационального действия при данных
условиях (33, с. 751 и далее). О реальном характере социальных действий можно
судить
только
на
основании
конкретного
исторического
исследования.
Приблизительный диапазон вариаций в характеристиках реального действия задают у
Парсонса так называемые "типовые переменные способов ориентации систем
действия», разработанные совместно с Э. Шилзом (36, с. 48, 76-98, 183-189, 203-204).
Эти переменные вобрали в себя и типологию социального действия М. Вебера.
Двойственность исходной базы теорий Парсонса не позволила ему реализовать
принципы методологического индивидуализма так радикально, как Веберу. Напомним,
что Парсонс с самого начала стремился к теории, в рамках которой стало бы
возможным взаимопонимание двух разных языков социологии, ярко воплощенных в
деятельности Дюрк-гейма и Вебера. Но если раньше толкователи Парсонса не видели
особой разницы между ним и принципами социологии Дюркгейма, то теперь новые
интерпретации подчеркивают у первого моменты, ведущие к Веберу: кантианский
формализм, мотивы рационализма Канта и неокантианцев, принцип взаимности и
орентации на другого вместо безликой позитивистской причинности, кантианскую
этику свободы и ответственности как сферу "отнесения к ценностям» для
социологических исследований и др. Вокруг этих моментов и стараются ныне привести
к относительной цельности весь массив писаний Парсонса новые истолкователи,
отсекая, если понадобится, "лишние» фрагменты его труда.
Мы
подробно
остановились
на
переосмыслении
Парсонсом
традиций
идеалистического нормативизма в веберовском духе потому, что в этой известнейшей
части
его
теории
особенно
наглядны
попытки
совместить
два
разных
методологических подхода, вследствие чего накопилось много упрощенных и
разноречивых
толкований.
Но
Парсонсова
теория
действия
и
порядка
не
ограничивается критическим диалогом только с этой традицией. Вопреки некоторым
мнениям,. Парсонса не устраивала картина бесплотного идеального социума, в котором
действуют и сталкиваются лишь культурные предписания, «нормативные диспозиции"
индивидов и т.п. Он хотел понять и действие тех социальных факторов, которые
кажутся более или менее постоянными, независимыми от воли и желаний отдельных
людей,
неподдающимися
"свободным
преобразованиямими:
гигантских
бюрократических организаций, сложной иерархии власти, политико-юридических
кодексов, неписанных, но жестких обычаев и т.д., решительно влияющих на действия
103
людей, даже если сами они не постигают этого. Поэтому теория Парсонса
перерабатывает и элементы подходов, говоря условно, позитивистского реализма
(коллективизма),
для
которых
индивидуальная
свобода
зависит
от
внешних
материальных условий (сам Парсонс называет эту традицию "гоббсовской").
Диалог Парсонса с этой традицией разобран в обновленном толковании у
Александера (11, с. 181-183). За недостатком места выделим лишь два момента. Вопервых, вопреки мнению своих позитивистских критиков, будто категории ценностей,
норм, целей и. т.п. вообще не пригодны для "гоббсовских", объективных и
материальных аспектов социологического анализа, Парсонс настаивал на "ревизии»
коллективистских теорий порядка с помощью аппарата теории действия. Во-вторых, в
этой системе понятий он ясно показал, как склонность представителей "гоббсовской"
традиции
полагаться
исключительно
на
техническую
(инструментальную,
по
Парсонсу) рациональность низводит цели на роль средств. В результате, исчезает
внутренний, субъективный и "волюнтарный» момент действия, и в конце концов
остается одна вездесущая принудительная детерминация внешними условиями. Логика
здесь такая. Установка только на инструментально рациональное действие диктует,
чтобы при данных принудительных внешних условиях цепи, ориентированные на
более широкие и неясные ценностные смыслы ипи нормы, были рассчитаны наиболее
эффективным и экономичным образом. Поскольку любым недостаточно эффективным
отношением цепей к нормам пренебрегают, то идеально ориентированные цели
фактически начинают выступать в функции материально ориентированных средств, а
более широкие культурные нормы просто отбрасываются как «нерелевантные», не
относящиеся к делу. Все это толкает социологическую теорию к изображению
социального действия как простого приспособления к внешним материальным
условиям (33, с. 60-69; 13, т. 1, с, 72-74). Как разъясняет комментатор Парсонса,
"инструментализация действия ... угрожает устранить иа теоретического понимания
интеллектуальные основания, на которых зиждется любое понятие индивидуального
самоутверждения» (13, с. 1, с. 73).
Александер фактически приписывает Парсонсу и понимание диалектики
самоотрицания "сверхволюнтаристской» позиции, признающей свободу не иначе как
при условии полного уничтожения всех внешних материальных ограничений, - иными
словами, диалектики превращения указанной позиции в противоположную точку
зрения технической рациональности. Это случается с теми, кто не находит места
свободе в реальной истории и текущей действительности как царстве нужды и
104
необходимости, ссылаясь на процессы отчуждения, овеществления, структурь
объективных факторов, ход вещей и т.п., которые вынуждают временно отказаться от
подлинно человеческой практики или свободного действия. С точки зрения
сциентистских,
прагматических,
инструментально-рационалистических
критериев
действия в этой "предыстории" свобода невозможна вплоть до принципиального
прорыва из необходимости в «царство свободы", где, наконец, полностью раскроется
потенциал человеческого действия. Но поскольку история знает только мнимые
абсолютные завершения, то и действие, которое хочет быть реальным и эффективным,
вынуждено вечно! полагаться на техническую рациональность и считаться с
условиями, возносимыми выше "волюнтаристского контроля!» этических норм (11, с.
182).
Первое
и
последнее
слово
Парсонса
-
синтез.
Из
реалистского
материалистического инструментализма он тоже старался усвоить элементы, которые
совместимы с волюнтаристской установкой. Поскольку действие внутренне направлено
и руководствуется символами, постольку оно не сводимо к реакции на внешние
материальные условия. Но поскольку это символично обусловленное действие всегда
протекает
в
окружении
материальных
факторов,
вынуждающих
выбирать
"эффективные средства", постольку "волюнтаристская теория действия» не может быть
чисто идеалистической и должна быть многомерной. В конечном счете действие
должно быть описано и как нормативное, и как инструментальное (снимая
непримиримость
альтернатив
"субъективизм-объективизм
и
"волюнтаризм-
детерминизм"), и как индивидуальное, и как социальное (снимая непримиримость
"номинализма" и "реализма"). Окончательно структуру индивидуального социального
действия у Парсонса определяют: строй ценностных и нормативных символов, которые
в общих чертах соотносят цель с ситуацией, ограничивают выбор средств, задают
диапазон, набор воэможного и невозможного для социального действия принятие
индивидуальных решений о путях постижения цепей с учетом вышеназванных
ограничений; в свою очередь разложимая на средства и объективные условия.
Примером послед, них служат наследственность и свойства физической среды (если
Парсонс вводил "четвертое измерение" анализа -"организмическую» подсистему
действия, учитывающую физические свойства организма и другие биологические
факторы).
Но главные усилия Парсонс направлял на то, чтобы эти программные положения
о формальной структуре многомерной причинности и ценностной интернапиэации в
105
социальном действии вылились в целостную теорию общества, социального порядка.
Переработкой отдельных элементов индивидуалистической, идеалистической и
материалистической традиций в более широкое целое Парсонс хотел получить
формальную универсальную структуру действия и общества, отличную от любого из
его конкретных проявлений, но необходимую для построения настоящей теории
любого реального общества. Под этим углом зрения от действовал батареи готовых
функционалистских и своих новоизобретенных классификаций. Чтобы перейти от
простейшего элемента общественной жизни - «единицы действия» (33, с, 77) к
системным
чертам
культуры,
общества
и
личности, Парсонс
ввел
понятие
функционального обеспечения каждой из этих основных подсистем, относящееся не
только к их внутренним проблемам, но и к их "взаимопроникновению» друг в друга, и
понятие институциализации взаимодействий со временем разработал широкоизвестную
инвариантную схему функциональных императивов, которая позволяла рассматривать
общество на базе взаимодействия четырех подсистем: экономики, политики,
интеграции
и
дифференциацию
сохранения
общества
ценностей,
и
каждой
а
из
также
описывать
подсистем
многократную
относительно
главных
инвариантных функций; вместе с Н. Смелзером детализировал схему взаимообмена
между подсистемами и уточнил "спецификацию» конкретных материальных и
идеальных средств обмене; много раз возвращался к анализу самопротиворечивого
процесса - социализации личной автономии развил и объединил в своей системе
множество других понятий, заимствованных из фуккционалистской антропологии и
традиционной структурной социологии, что и дало повод считать Парсонса
теоретическим главою «структурно-функциональной школы» (32; 31; 34; 36 и др.).
На протяжении всего этого чрезвычайно продуктивного второго (после
"структуры социального действия") периоду деятельности Парсонса время от времени
высказывались мнения о нем как о "нетипичном функционалисте", но, кажется, только
незадолго
до
его
смерти
стали
определенно
утверждать,
что,
"вопреки
широкораспространенному убеждению в противном, этот новый словарь отражает не
столько усилия ясно сформулировать логику функциональных "систем» самих по себе,
сколько попытку систематически описать градации материального и идеального в
любой социальной системе» (11, с. 183). Новые интерпретаторы Парсонса видят
перспективу его системной концепции в развитии теории "волюнтарного порядка», в
способности структурно описать «волюнтарные» качества систем, индуцирующих
поведение,
в
противовес
"инструментальному
рационализму»
теоретиков,
106
изображающих социальную систему лишь как внешний принудительный порядок.
Теория "волюнтарного порядка» систематически описывает условия связи, интеграции
нормативного социального порядка и индивидуальной автономии, пути охранения
субъективности при развитом объяснении коллективных ограничений.
Подчеркнем, что эта работа старается дать связное понятие о направлении и
обосновании новых истолкований Парсонса и не утверждает объективности и
адекватности содержащихся в них оценок. Это особый, сложный вопрос. О том, что
"волюнтарный порядок» - не простая игра слов, можно будет судить только после
тщательного и конкретного анализа увязки всего комплекса понятий Парсонса в
предлагаемых "реконструкциях" его теории как непрерывного ряда последовательных
расширений и обогащений исходной формальной схемы с целью повышения ее
согласования
с
миром
эмпирических
обобщений,
объединяемых
ею.
Такую
реконструкцию "непрерывности теоретического развития» Парсонса вплоть до
последних работ предлагает, например, Р. Мюнх (28). Но подобный анализ - дело
будущего.
Что же касается оценки места "функционализма» во взглядах Парсонса, то теперь
наблюдается тенденция ограничивать влияние на него этой социологической
ориентации сравнительно узкой областью организации понятий, "системных моделей»
и
утверждать
независимость
Парсонса
от
функционализма
в
коренных
мировоззренческих вопросах. Как раз на опыте усвоения отдельных фрагментов теории
Парсонса разными социологическими направлениями Александер вообще «доказывает
относительную независимость друг от друга различных уровней и источников
социологичесокй теории: "метафизического" уровня (философско-гносеопогических
допущений), идеологических и политических предпосылок, методологического выбора,
способа органи-еации понятий (разных системных или антисистемных "моделей»),
классификаций, определений и т.д. - доказывает их способность вступать между собой
в различные комбинации (13, т. 1, гл. 2). По Александеру, подчинение одному из этих
элементов науки всех прочих означает редукцию «общей теоретической логики» к
какой-нибудь
одной
составляющей
социологического
мышления.
К
примеру,
функционалистские модели социальной системы достаточно абстрактны, чтобы быть
независимыми от идеологической дилеммы "консерватизм-радикализм». Традиционная
критика 50-60-х годов полагала, что функционалистекая теория систем неизбежно
будет
антиволюнтаристской,
антиконфликтной,
равновесной
и
идеологически
консервативной. Однако реальная исследовательская практика западных социологов
107
показала, что системные модели вполне совместимы с леворадикальной идеологией
(как, например, у французских структуралистов—альтюссерианцев) и с эмпирическим
изучением конфликтов. Последнее проявляется уже в таких парадоксальных, на
традиционный взгляд, словосочетаниях, как "функции социального конфликта»
(название одной из книг ведущего автора «конфликтного" направления Л. Козера),
"ритуалы мятежа» и т.п. Традиционная, продолжающаяся уже 30 лет критика
концепции функциональной системы в этом смысле бьет мимо цели. Даже
безотносительно к Парсонсу эта концепция имеет еще потенции дальнейшего развития.
Само понятие "системы» функционирует в разных социологических контекстах
как открытое, свободное понятие, которое наполняется конкретным содержанием
только
при
определенном
гносеологическом,
ценностно-идеологическом
и
эмпирическом выборе. Кстати, у Парсонса термин "социальная система» не
обязательно
относится
ко
всему
обществу,
но
к
любой
устойчивой,
"институциализованной» модели взаимодействия, будь то микро или макроформа. С
точки зрения новых аналитиков Парсонса, определяющими для него являются
"метафизические" решения проблем порядка и рациональности (о которых уже
говорилось), а не те или иные методологические системные средства, которые он часто
брал готовами из арсенала функционализма, кибернетики и других ветвей системного
движения в науке.
Но
охарактеризованная
выше
парсонсовская
теория
«формального
волюнтаризма», или формальная теория "волюнтарного порядка", равно как и
разработка формальной общесистемной методологии, по новым взглядам, лишь
необходимое предварительное условие, вспомогательное средство для главного теории «реального волюнтаризма». Эта последняя есть в сущности парсоновская
теория общественно-исторического развития. И как таковую ее нельзя развивать в
прежней почти дедуктивной манере, к ней нельзя перейти чисто логическим путем, без
конкретного ценностного и эмпирического выбора. Поскольку экскурсы самого
Парсонса в историю сравнительно немногочисленны, то указанная теория лучше
выясняется на развертывании его идей в исторических исследованиях, в трудах по
социологии развития и модернизации социологов его "школы» (Р. Беллы, С.
Эйзенштадта, Н. Смелзера и др.). Сколько-нибудь полный анализ содержания теории
«реального волюнтаризма» в таком охвате - дело не одной статьи. Поэтому
ограничимся отдельными пояснениями.
108
В свете традиционных взглядов может показаться парадоксальным само наличие
у Парсонса какой-то теории общественного развития. Ведь «всем известно», что
функционализм не справляется с этой проблемой, по определению, ахронен, не
историчен. На самом деле, конечно, даже в период острой потребности в размежевании
с эволюционизмом XIX в. первые функционалисты не смогли избавиться ни от его
наследия, ни от проблем истории и так или иначе их решали. Но методологические
трудности с ними у функционализма действительно есть. Эти трудности особенно
выпуклы при попытках решать проблему функциональности «социальных фактов",
форм человеческого поведения и т.д. в универсальном смысле, т.е. применительно ко
всей целостности культуры или общества. Тогда изменения этих "фактов» - форм
поведения, навыков, учреждений и пр. - определяются изменениями целого или, по
Дюркгейму, изменениями "коллективного сознания». Но само это целое по отношению
к индивидуальным явлениям при функциональном анализе каждый раз пыступает как
"ставшее", «актуальное состояние», в отвлечении от того, как оно сделалось и кто его
сделал и делает, т.е. из анализа как бы выпадает история.
Разумеется, реальная исследовательская
практика функционализма много
сложнее. Он умеет, отказавшись от притязаний универсальности, учитывать и
структурное прошлое, допустим, социального института, и современное состояние его
"среды", и репятивиэировать оценки функциональности или дисфункционапьности
данных институциональных решений в зависимости от точки зрения (потребности
института, организации, отдельных участников и т.д.), чтобы в итоге определить
область возможных структурных изменений в будущем. Но трудности остаются.
Преодолевая их, современный функционализм приспособил к теории социальных
изменений даже дюркгеймовскую концепцию «аномии». Порождая отклонения от
социальных норм, аномия будто бы подготовляет и ускоряет перемены в обществе.
Еспи воспользоваться метафорой польского фантаста С. Лема, она как бы создает тот
необходимый «люфт» в культуре, в котором возможно индивидуальное творчество.
Таким образом, удается как-то связать социально-исторические сдвиги с действиями
индивидов» Но как мы показали ранее, Дюркгейм и сама идея «аномии» принадлежат
философской традиции, отрицающей правомерность оценки традиционных норм,
правомерность яичного, нетрансцендентного к ним отношения. Идеалом здесь
считается традиционный автоматизм, когда поведение и сознание личности полностью
отражают «моральные заповеди», т.е. нормативный состав культуры, « коллективные
представления», трансцендентные индивидуальному сознанию. При таком подходе
109
ставка на «аномию» как невольный двигатель развития культуры делает это развитие
результатом «технического несовершенства» общества, отклонения индивидов от
социальных
норм,
контрабандного
протаскивания
в
«люфтах»
и
«щелях»,
ускользнувших из-под социального контроля, личного новаторства. Это выглядит както несолидно для «культуры», да и противоречит исходному замыслу Дюркгейма.
Основное решение проблемы развития у него и большинства функционалистов эволюционное. Взаимодействие индивидов дает толчок росту целостных образований с
«эме-рджентными» свойствами. Взаимодействие или комбинация образований низшего
порядка вызывает рост эмерджентных явлений более высокого порядка сложности и
т.д., так что с ходом исторического времени процесс все ускоряется и усложняется.
Поскольку процесс необратим и достаточно сложные образования уже несводимы к
исходным взаимодействиям, то всю эволюцию можно рассматривать независимо от
индивидуальных действий. Самую совершенную по логической разработке версию
такой эволюции, как необратимого движения от однородности к разнородности, как
взаимодействия
двух
основных
принципов
-
дифференциации
(неизбежно
возникающей и прогрессивно-нарастающей неоднородности внутри любой системы) и
интеграции (роста целостности системы путем возникновения и упрочения новых
взаимно-дополнительных связей и координации частей дал, как известно, Г. Спенсер.
Сочетание обоих противоположных принципов объясняет прогрессивное усложнение
организации
(структурной
и
функциональной)
социальных
образований.
Эвристическую мощь этих принципов (которые "являются в сущности всеобщими") и в
современной науке подтверждает советский биолог, академик А. Л. Тахтаджян (10, с,
202,
259-273).
Дюркгеймов
анализ
разделения
труда
(функциональной
дифференциации) в связи с типами солидарности (5) вполне укладывается в
спенсеровскую концепцию эволюции, хотя сам Дюркгейм это отрицал. Парсонс в свою
очередь не раз сочувственно отзывался о «чрезвычайной ценности" дюркгеймовской
концепции структурно-функциональной дифференциации. Если же к этому добавить
высказывания Парсонса вроде следующего: "... Элементарные акты, объединяясь,
образуют все более сложные конкретные системы действия, которые органичны в том
смысле, что имеют структурно и аналитически важные эмерджентные качества...» (33,
с. 743), а также его неоднократные описания собственного подхода к эволюции
социальных структур как объективно-безличного и неидеологического анапиза
повышения их "адаптивной способности» в системе (30), то упомянутое характерное
мнение английского исследователя Р. Флетчера (20) банальности и вто-ричности
110
парсоновского эволюционизма покажется справедливым. Однако новые интерпретации
Парсонса ставят вопрос совсем по-другому.
Основной недостаток безличной трактовки эволюции в том, что она приучает
смотреть на ход исторического процесса вне и помимо индивидов, как бы снимает с
них ответственность и необходимость принимать рациональные решения. Этот
недостаток чувствовал даже Дюркгейм, и его неудавшаяся попытка совместить
субстанциолистский эволюционизм с принципом свободы и личной ответственности
(см. 5) как раз и отражена в глубоко противоречивой концепции «аномии». С одной
стороны, в "Разделении общественного труда» дифференциация и последующая
институциа-лизация новых форм труда несет каждому человеку свою автономную
сферу действия и сознания, Т.е. способствует становлению личностей и тем самым
развитию органической, договорно-сознательной солидарности. И этот объективный
ход вещей оценивается положительно. С другой стороны, ему сопутствует
иррациональный и противоположный процесс аномии, объясняемый именно тем, что
первый
«положительный,
процесс
нарушает
необходимую
традиционную
«запрограммированность» личности социальным целым, так что она не справляется со
свободой выбора, и навязывание ей свободы служит источником анемических явлений.
Парсонс выделял у Дюркгейм а преимущественно первую сторону анализа последствий
роста разделения труда, по-своему тоже толковавшую о тех же явлениях, что и
веберовский процесс рационализации. Новые истолкователи Парсонса, сохраняя
эволюционную схему дифференциации как организующий принцип его исторического
мышления, по сути производят над ним веберовско—риккертовскую операцию
«отнесения к ценности», последовательного и сознательного выделения важнейших
познавательных моментов, к которым привязываются все остальные, опираясь на его
идеологические симпатии к расширению "волюнтаризма» и индивидуальной свободы.
В результате парсонсовская теория реального волюнтаризма встраивается в его
концепцию общественно-исторического развития как дифференциации (11, с. 183-194).
Внешняя логика в описании этого процесса, заимствованная у позитивистского
эволюционизма, в общем сохраняется, но потенциально «дифференциация» начинает
выступать как своеобразная теория исторического развития и институционального
обеспечения свободы (разумеется, в ее "буржуазном» понимании). При этом
выясняется, что если Парсонс критически переработал формально-теоретическое
содержание и по-иному поставил проблемы разных ветвей индиви-дуалистсколиберальной мысли, то он полностью сохранил ее идеологические устремлений к
111
расширению волюнтаризма в понимании реальной свободы. Свобода конкретного
индивида зависит от дифференциации социальных (материальных и нормативных)
структур. Внутренние и внешние условия свободы" Парсонс рассматривал как
основанные
на
расширении
культурной,
социальной
и
психологической
дифференциации соответственно трем «взаимопроницаемым" системам действия:
культуре, социальной системе и системе личности. Согласно парсонсовской теории
исторического р азвития, следующей классической пинии рассуждений Спенсера,
Зиммепя, Дюркгейма, личная автономия прогрессирует по мере роста социальной
дифференциации, т.е. по мере того, как институты, входящие в функциональные
подсистемы общества (экономику, политику и т.д.), отделяются друг от друга,
развивают
собственные
ресурсы
и
независимые
критерии
действия.
Теория
субстантивного (реального) волюнтаризма вступает тем самым уже в область
исторической
социологии,
ибо,
занимаясь
проблемой
"институциали-зации
индивидуального свободного действия» в общественной жизни, Парсонс с логической
необходимостью должен был перейти к историческому анализу культурных и
социальных предпосылок и ограничений свободы в разных обществах.
В различении формального и реального волюнтаризма есть что-то от
философского различения формальной и реальной свободы, т.е. свободы как
спекулятивного принципа, чистой идеи, беспрепятственно развивающейся в идеальном
социальном пространстве, и свободы, прокладывающей себе дорогу в реальном мире,
вопреки сопротивлению неподатливой социальной материи, которой занимается
социология. Реальный волюнтаризм проявляется, по Парсонсу, в историческом росте
«институциализировэнного индивидуализма», в укреплении добровольных связей с
обществом при возрастающем социальном раскрепощении человека. Парсонсовская
теория реального волюнтаризма словно бы пытается осуществить идею Гегеля,
выстраивая сеть социологических понятий, помогающих систематически проследить,
говоря словами последнего, «внедрение и проникновение принципа свободы в мирские
отношения» - длительного процесса, который, по Гегелю, «составляет самую историю»
(4, с. 18). Но как Гегель сам решал, что такое «свобода», ориентируясь на «прусские»
реальности, так и Парсонс, разумеется, был верен буржуазной либеральной идее
свободы с некоторыми современными поправками. Однако связь его « реального
волюнтаризма» с концепцией развития как дифференциации в самом деле позволяет
охватить большие исторические процессы, сопровождающие индивидуализацию,
высвобождение индивида из большинства традиционных зависимостей и ограничений.
112
О характере связи с социологической традицией XIX в. и давности использования
категорий
Парсонса
в
исследованиях
социально-экономического
развития,
индустриализации и т.п. в буржуазной социологии еще до всяких новых трактовок
можно судить по цитате из работы 60-х годов: «Если попытаться одним словом
суммировать
институциональные
требования,
предъявляемые
экономическим
развитием, — это было бы слово «подвижность»... Пользуясь несколько более
широкими
категориями
[парсонсовскими
типовыми
переменными
способов
ориентации действия,- A.K.], часть отношений современного «промышленного»
общества, в особенности та часть, которая относится к производству и распределению
товаров,
должна
быть
близка
к
полюсу
универсалистских,
функционально
специфичных, безличных, эмоционально нейтральных отношений. Поскольку же ни
одно общество на базе таких нормативных стандартов не может долго оставаться
сплоченным, в институтах индустриализированных обществ проявляется тенденция к
острым динамическим напряжениям. Это один из тончайших источников их
постоянной изменчивости ...» (27, с. 71).
Парсоновская концепция исторического развития как дифференциации открывает
и возможности критики капитализма, которой немедленно воспользовались некоторые
левые парсонианцы. Возможна и трактовка дифференциации как теории конфликта
(12), более систематичной и широкой, чем у самих «конфликтников», ожесточенных
критиков Парсонса. Поясним это примером, раскрывающим отчасти и реальную
историческую проблематику его теории. Существует известное высказывание Маркса о
«бесстыдной свободе чистогана», которой в капиталистическом обществе подчинено
все и вся: вера, семейные отношения, честь и пр. На языке Парсонса это утверждение о
структурной
диффузности,
нерасчлененности
как
источнике
господства
и
несправедливости в раннекапиталистическом обществе. Чтобы восстановить свободу
индивида по отношению к такой среде, надо в чисто негативном плане лишить
экономические
структуры
и
господствующий
класс
этого
общества
недифференцированного отношения к другим институтам и не ограниченного четкими
правовыми рамками контроля над ними. В позитивном плане в качестве силы,
способной утвердить свой контроль над экономикой, парсонианцы выдвигают
государство, зависимое от волеизъявления свободных избирателей, а также свободное
соревнование идей и расширение возможностей для индивидуального действия. Т.е.
свобода достигается увеличением дифференциации всех измерений общественной
жизни - экономических и неэкономических, в особенности ростом политической
113
дифференциации. При этом главные измерения общества - функциональные
подсистемы
экономики,
политики,
поддержания
ценностей
и
интеграции,
дифференцируясь друг от друга, должны развить: (1) собственные независимые
критерии деятельности и институционально отдельные, закрепленные за каждой
подсистемой средства; и (2) способность мобилизовывать «ресурсы» других подсистем,
чтобы поддерживать частичный, но независимый контроль над ними (11, с. 186). С этих
позиций и сам Парсонс, и его последователи анализировали проявления веберовского
«традиционного действия» в разных исторических контекстах или еще чаще,
печальную роль цеперацио-нального действия и современных технических средств в
традиционном обществе или на службе традиционных понятий господства и структур
власти, сохранившихся в индустриальную эпоху. Вся концепция дифференциации как
развития свободы очень напоминает ход мысли в классической буржуазной теории
разделения властей.
Сказанное, конечно, обнаруживает весьма умеренный критический потенциал
парсонсовской теории, а в нем самом буржуазного либерального идеолога. Но не в
этом главное значение Парсонса, а в том, что его новые толковатепи усматривают в его
еще фрагментарных, во многих пунктах "элементарных» (они сами это признают)
построениях перспективу теоретического синтеза действительно большого размаха,
достойную точку приложения и объедине»-.ния усилий буржуазных социологов
многих стран. В каком-то смысле теория реального волюнтаризма связывает
эволюционистскую
исторического
концепцию
развития,
дифференциации
переводя
(пусть
не
с
всегда
вебероеским
пониманием
адекватно)
веберовские
исторические интуиции в более или менее общедоступную сеть формальных
классификаций, понятий и приемов. Правда, остается открытым вот-рос, нуждается ли
в этом Вебер. Но все это не так искусственно, как может показаться на первый взгляд.
У самого Вебера сильны элементы эволюционного взгляда на историю, -хотя бы в
трактовке перехода от социальных образований, основанных на родстве и кровных
связях, к более абстрактным, трансцендентным связям античного полиса, города и
национально-правового общества — перехода, сопровождавшегося постепенной
дифференциацией и ростом средств рационально-бюрократического политического
контроля. Да и само веберовское описание процесса рационализации во многом
пересекается со схемой дифференциации, например в анализе бурного нарастания
числа и разнообразия видов рационального действия во всех сферах общественной
жизни: религии, праве, научном познании, экономике, политике и т.д. Так что
114
парсоновская попытка « сверхсинтеза» двух подходов, получивших разными путями
важные результаты, выглядит грандиозной, хотя его осуществимость еще надо
доказать.
Особенно ценно, что у Парсонса имеется не просто принципиальное философское
решение по важнейшей для него проблеме соотношения личности и социальных
институтов, но и разработан богатый словарь по ней на языке теоретической
социологии, которым часто вынуждены пользоваться в буржуазной социологии даже
его противники за неимением ничего другого. Александер считает главной заслугой
Парсонса как теоретика социологии перевод этико-нормативных аргументов разных
западных философских традиций в историко-эмпирический план (11, с. 184). Еще
больше в этом направлении сделали его последователи в изучении «модернизации»,
особенно Р. Белла.
Белла же одним из первых среди парсрнианцев выразил кризис эпохи «апологии
либерального общества» (т.е. современного капитализма) и "европо-», точнее
"эападоцент-ризма», верящего в универсальную значимость своего опыта для всего
мира, в историческом мышлении буржуазных обществоведов. К этой эпохе еще
принадлежал Парсонс. Белла констатирует, что для теоретического сознания западных
социологов пока еще несомненна веберовско-парсоново» кая «вера в то, что «какой-то
эквивалент протестантского» индивидуализма и добровольной социальной организации
ес^ь необходимая фаза для любого человека или группы, желающих приобщиться к
потенциальной свободе современного мира" (14, с. XIХ-XX). Но он уже остро
почувствовал всю двусмысленность исторического роста буржуазной свободы,
который на каждой ступени развития означает также рост свободы выбирать
разрушение. И этот негативный аспект «роста волюнтаризма» вряд ли удастся обуздать
парсо-новским
«волюнтарным
порядком".
Белла
воспринимает
теперь
весь
исторический процесс капиталистической "модернизации " как кризисный и чреватый
потрясениями не только на самых первых Шагах, но и на вершинах развития . Самыми
серьезными проблемами современности для него стали проблемы американского
обшества, а не развивающихся стран.«Теоретики модернизации – пишет он, - пытались
исходить из того, что известный уровень индивидуализма, гражданской культуры и
литература о Парсонсе критически разбирала многие аспекты его теории. Но
преждевременное углубление в ее мелкие детали часто мешало понять общий смысл
деятельности этого крупнейшего теоретика современной буржуазной социологии.
115
Одной из главных задач данной работы было разъяснение этого "смысла» в широком
философском контексте.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритиэм. - Полн, собр. соч., т. 18, с, 1-525.
2. Гайденко П.П. Социология Макса Вебера. - В кн.: История буржуазной социологии
XIX. - начала XX века. М„ 1979, с. 253-З08.
3. Гегель Г. Политические произведения. - М., 1978. -438 с.
4. Гегель Г. Философия истории. - В кн.: Гегель Г, Сочинения. М.; Л., 1935, т. 8, с. XX,
470.
5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. -Одесса, 1900. -VIII, 332, IX с.
6. Дюркгейм Э. Самоубийство. - СПб., 1912. - XXXII,, 541 с.
7. Паскаль Б. Мысли. - М., 1974. - с. 109-186.
8. Пациорковский В.В. Критический анализ концепций социального действия. Социоп. исслед, М., 1975, № 2, с. 197-206.
9. Пациорковский В.В. Теории социального действия, - В кн.: История буржуазной
социологии первой половины XX века. М., 1979, с. 157-197.
10. Тахтаджян А.Л. Тектология: История и проблемы. -В кн.: Системные исследования.
1971. М., 1972, с. 200-277.
11. Alexander J.C. Formal and substantive voluntarism in the work of Talcott Parsons: A
theoretical a . ideological reinterpretation. — Amer, sociol. rev., Wash.; N.Y., 1978, vol. 43,
N 2, p. 177-198.
12. Alexander J.C. Revolution, reaction and reform: The change theory of Parsons»s middle
period. — Sociol. inquiry, Austin, 1981, vol. 51, N 3/4, p. 267-280.
13. Alexander J.C. Theoretical logic in sociology. — L. etc., 1982, — Vol. 1. Positivism,
presuppositions, a. current controversies. XVI, 234 p.; Vol. 2. The antinomies of classical
thought: Marx a. Durkheim. XXI, 564 p.
14. Bellah R. Beyond belief. -- N.Y. etc., 1970. - XXII, 298p.
15. Bershady H.J. Ideology and social knowledge. - N.Y., 1973. - 178 p.
16. Cohen P.L. Modern social theory. — L., 1968. — XI, 247 p.
17. Dahrendorf R. Class and class conflict in industrial society. -- Stanford, 1959, - XVI, 336
p.
18. Davis K. The myth of functional analysis as a special method of sociology and
anthropology. — Amer. sociol. rev., Wash.: N.Y., 1959, vol;» 24, N 6, p. 757-773.
116
19. Durkheim E. Sociology and philosophy. — L., 1965. — ХLI, 97 p.
20. Fletcher R. Evolutionary and developmental sociology. — In: Approach to sociology. L.
etc., 1974, p. 39—68.
21. Friedrichs R.W, A sociology of sociology. — N.Y., 1970. -XXIII, 429 p.
22. Gouldner A.W. The coming crisis of Western sociology. — N.Y., 1970. - XV, 528 p.
23. Lockwood D. Some remarks on "The social system". Brit. j. of sociology, L.; 1956, vol.
7, N 2, p. 134-145.
24. MartindaleD. The nature and types of sociological theory, Boston, 1960. - XIV, 560 p.
25. Martins H. Time and theory in sociology. — In: Approaches to sociology. L. etc., 1974, p.
246—294.
26. Mills C.W. The sociological imagination. — N.Y., 1959. 234 p.
27. Moore W.E., The social framework of economic development. — In: Tradition, values,
and socio-economic development. Durham; London, 1961, p. 57—82.
28. Munch R. Talcott Parsons und die Theorie des Handelns II: Die Kontinuitat der
Entwicklung. — Soziale Welt, Gottingen, 1980, Jg. 31, H. 1, S. 3-47.
29. Munch R. Theorie des Handelns. - Frankfurt a.M., 1982, - 639 S.
30. Parsons T. Evolutionary universals in society. - In: Parsons T. Sociological theory and
modern society. N.Y., 1967, p. 490-520.
31. Parsons T. Social structure and personality. -• N.Y., 1964. [7] 376 p.
32. Parsons T. The social system. - N.Y., 1951. - XVIII, 575 p.
33. Parsons T. The structure of social action. — N.Y., 1937. 817 p/
34. Parsons Т., Smelser N. Economy and society. - N.Y., 1965. - XXI, 322 p.
35. Pope W. Classic on classic: Parsons’ interpretation of Durkheim. - Amer. sociol. rev.,
Wash.; N.Y., 1973, vol. 38, N 4f p. 399-415.
36. Toward a general theory of action. - Cambridge (Mass.), 1951. - XI, 506 p.
А.Д. Ковалев
117
ПОВОРОТ К КАНТУ
В СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ СОЦИОЛОГИИ
Тенденция, о которой пойдет речь в данном обзоре, по самой сути своей может
быть свойственна, в основном, лишь изменениям в социологической методологии.
Причем лишь такой методологии, которая нацелена на разрешение некоторых самых
глубинных вопросов социологии, в первую очередь, и лишь во вторую - на
ассимиляцию
идей
философской
классики
для,
так
сказать,
повседневного
социологического обихода. Уже только поэтому число работ, в которых бы в той или
иной мере привлекались к обсуждению идеи Канта, не может быть очень велико.
Следовательно, одно количество их (хотя оно и возрастает неуклонно с начала 70-х
годов) не может служить достоверным гарантом значимости данной тенденции. Сюда
также следует добавить, что речь, как правило, не вдет о создании совершенно новых,
базирующихся на философии Канта концепциях. К Канту обращаются чаще и охотнее в
русле уже существующих направлений.
Но именно это дает возможность гарантировать правильность избранного угла
зрения на современные методологические дискуссии. Новый интерес к Канту является
общей чертой многих попыток переосмысления классики современной буржуазной
социологии: М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса20. В ходе этого переосмысления
весьма заметна и тенденция к «реабилитации» Парсонса21. Именно отсюда мы и будем
исходить, ибо, пожалуй, один из самых заметных нынешних интерпретаторов Парсонса
западногерманский социолог Рихард Мюнх является одновременно самой крупной
фигурой «кантианского поворота».
Вскоре после смерти Парсонса в 1979 г., Мюнх опубликовал несколько статей, в
которых обосновывал необходимость истолковывать Парсонса с преимущественной
опорой на философию Канта. В 1982 г. вышла книга Мюнха «Теория действия. К
реконструкции вклада Толхота Парсонса, Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера» (17), в
которую в переработанном виде вошли и эти статьи. Методологическим стержнем
книги является кантианская, по словам Мюнха, интерпретация социологической
классики. Несмотря на то, что такой подход сразу вызвал полемику, на которой нам
еще предстоит остановиться, самое примечательное состоит в том, что Парсонс, к
которому прикован главный интерес Мюнха, начиная с 1970 г., сам двигался в том же
направлении. Об этом свидетельствуют две его последние книги, непосредственно
относящиеся к рассматриваемому периоду: «Социальные системы и эволюция теории
118
действия" (1977) (20) и «Теория действия и условия человеческого существования»
(1978) (19).
В автобиографическом эссе о ходе разработки теории социальных систем Парсонс
сообщает, что изучал «Критику чистого разума» Канта еще в 1923 г., учась в колледже
(20, с. 22). Позже, во время учебы в Гейдельберге, он вновь интенсивно занимался
Кантом. По этому поводу Парсонс пишет: "В ретроспективе мне кажется, что этот
опыт, не говоря уже о большой важности Канта для решения стоявших передо мной
проблем, был в особенности важным воспитанием для дальнейшей работы. Его
особенно укрепили семинар и устный экзамен по той же книге22 у Карла Ясперса в
Гейдельсберге в 1926 г. Важное значение состояло в том, что я предпринял детальное и
повторное изучение великой книги, произведения великого духа, пока не достиг
определенного уровня оценки природы ее роли, не будучи удовлетворенным
множеством современных довольно поверхностных комментариев к ней» (20, с. 26,
прим, 10). Далее Парсонс утверждает, что именно этот опыт работы над Кантом помог
ему верно оценить и собственно социологические концепции, невзирая на то, что они
часто искажались в имевшей широкое хождения вторичной литературе.
Как ни любопытно это признание само по себе, много более примечательно, что
сделал его Парсонс лишь в 1970 г23. Через 8 лет в "Общем введении» к книге «Теория
действия и условия человеческого существования» он напишет еще четче: "Какие бы
иные философские позиции ни были возможны, моя позиция совершенно определенно
принадлежит к кантианской традиции. Начиная с объектов науки в самом строгом
смысле, эта позиция утверждает, что чувственные данные, которые составляют
эмпирические компоненты знания (например, о физическом или органическом мире)
должны соединяться с категориями рассудка, которые независимы от сырых данных»
(19, с. 5). Первая часть этого высказывания носит декларативный характер. В той же
книге мы можем встретить и достаточно скептическую оценку «близкого к
кантианскому идеализма», причем приоритет в более традиционном для Парсонса и
более привычном для его читателей духе отдается философии А.Н. Уайтхеда (19, с.
247). Вторая часть более важна. Она дает сжатую формулировку истолкования Парсонс
ом Канта. "На основе этого истолкования написана заключительная часть книги «Условия человеческого существования». В особенности богата отсылками к Канту
статья "Смерть в Западном мире», написанная за год до смерти самого Парсонса для
вышедшей в том же, что и его послед няя книга, 1978 г. «Энциклопедия биоэтики».
119
Однако, прежде чем рассмотреть изложенные в этих работах кантианские идеи,
постараемся ответить на неизбежно возникающий вопрос, почему лишь в это время
Парсонс счел возможным «нужным уже не только упоминать о роли Канта для своего
становления
как
ученого,
но
и
специально
акцентировать
"кантианскую
составляющую» в социологической концепции, причем, как мы увидим, не только в
своей, но и Дюркгейма и М. Вебера. Помимо чисто биографических обстоятельств
(ниже мы укажем на примечательную параллель в развитии Парсонса и крупного
западногерманского социолога X. Шельски), можно еще ч проследить очень
интересное влияние на Парсонса, а именно, воздействие на него вышедшей в 1973 г.
книги Гарольда Бершеди «Идеология и социальное познание" (3). Именно в ней
впервые, сколько нам известно, идеи Канта были привлечены для истолкования идей
Парсонса. Книга Бершеди получила очень большой резонанс. «Кантианский" подход
Мюнха, например, формировался в полемике против Бершеди. Не в последнюю
очередь успеху этой небольшой книги способствовал сам Парсонс, ознакомившись с
ней еще в рукописи, а затем, уступая настоятельным просьбам, написав на нее
рецензию. Эта рецензия и ответ Бершеди вошли затем в книгу Парсонса «Социальные
системы и эволюция теории действия». В предисловии к книге он писал: «Моя
рецензия была написана во время первого года знакомства с профессором Бершеди в
Пенсильванском университете. С тех пор это сотрудничество весьма расширилось и
укрепилось, и я думаю, что, справедливости ради, следует отметить: по большинству
проблем, которые фигурировали в нашей дискуссии, мы находимся теперь в состоянии
достаточно большого согласия" (20, с. 20-21). В книге Бершеди внимание обращается в
основном на первую книгу Парсонса "Теория социального действия". По поводу его
интерпретации Парсонс писал: "Эта книга представляет собой важный вклад в
исследование и, несомненно, является как одним из наиболее компетентных, так и
наиболее доброжелательных анализов моего труда» (20, с. 122). С 1974 г, Бершеди
входил в так называемую "пенсильванскую группу» ученых, с которыми Парсонс вел
интенсивную совместную работу в последние годы жизни и в сотрудничестве с
которыми написал статью «Парадигма условий человеческого существования",
заключающую его последнюю книгу. Это и заставляет нас обратить внимание на роль
Бершеди в «кантианском повороте» Парсонса.
Бершеди рассматривает идеи Парсонса на фоне весьма мощной ко времени
написания
«Теории
социального
действия
(1937),
традиции
релятивистского
историиизма, развившейся не в последнюю очередь на почве неокантианства. Какие бы
120
крайние формы ни принимало при этом историческое мышление: позитивизма ли,
полагающего, что возможно лишь описание отдельных фактов, или романтизма,
стремящегося усмотреть уникальность исторической эпохи, в любом случае
существование общих принципов социального как такового отвергалось, "Труд
Парсонса нельзя хорошо понять, пока не признаешь, что он постоянно борется с
проблемой относительности социального и исторического знания» (3, с. 63). Поэтому
он всегда решает одновременно две проблемы: эпистемологическую и собственно
содержательного исследования. «Но почему, могут спросить, Парсонс вообще
занимается эпистемологическими проблемами? ... Следует напомнить, что разрешение
эпистемологической проблемы и есть то, что придает теоретическому предприятию
Парсонса, по крайней мере, так, как он его понимает, законность научной цели» (3, с,
48). Именно в этой связи Парсонс стремится показать, что возможно общее решение
проблемы социального порядка.
Здесь
и
оказывается
необходимым
привлечение
философии
Канта
для
дальнейшего анализа идей Парсонса. «Ибо Парсонс кажется, делает утверждения,
которые имеют близкое сходство с утверждениями, сделанными Кантом об априорных
категориях, а именно, что они являются «необходимыми принципами", лежащими в
основе всего познания. Язык, который использует Парсонс, конечно, напоминает о
кантовском языке.
Но в еще большей мере, чем это, Парсонс рассматривает свою схему действия как
аналогичную пространственно-временной структуре в физике, которая "необходима"
для постижения любого физического феномена — в точности так, как утверждал Кант»
(3, с. 68).
Итак, в том, что Парсонс определил категории, безусловно необходимые, по его
мнению, для постижения человеческого действия с какой бы то ни было позиции.
Бершеди усматривает параллель к Канту. И он убежден, что дело не только в
«формальном тождестве» между утверждениями Канта и Парсонса. Тождественным, по
Бершеди, оказывается и исходный пункт: юмовский скептицизм для Канта,
исторический релятивизм - для Парсонса. Какие аргументы, говорит Бершеди, находит
Кант против скептицизма, апеллирующего к опыту? Он утверждает, что «есть
категории познания, или рассудка, которые фундаментальны для любого чувственного
опыта. Вне этих категорий мы не могли бы иметь никакого опыта. Опыт всегда
оформлен, и именно категории рассудка (пространство, время и т.д.) делают
возможным оформленный опыт. И опыт, оформленный посредством этих категорий,
121
дает нам «природу", ибо природа, как понимает ее Кант, состоит из Феноменов,
находящихся под действием законов, заданных рассудком»24 (3, с. 69).
Несмотря на то, что Бершеди, исследуя полемику Парсонса с релятивизмом,
преимущественно акцентировал идею общей теоретической схемы, как раз в этом он
сходство Канта с Парсонсом не усматривает. Он не склонен находить его и во многих
других отношениях. Таким образом, возможное поле сравнения значительно сужается,
и Бершеди уточняет: «Одним из различий между Каптом и Парсонсом является то, что
Кант известен как "критический идеалист», тогда как Парсонс претендует на то, чтобы
его собственная метафизическая позиция была «аналитическим реализмом». Есть
определенное
совпадение
в
значении
между
"анализом» и
«критикой",
но
метафизические различия между идеализмом и реализмом совершенно не жасаются
сути этого исследования. Что важно и на что претендует это исследование, так это на
то,
что
Парсонс
существенно
принимает
пргическую
стратегию
Канта
(не
метафизическую, не содержательную), чтобы преодолеть скептицизм... Каждый занят
установлением
категорий,
необходимых
для
познания.
Более
того,
каждый
претендует... на то, что вне определенного набора категорий - схема действия для
Парсонса в его первой работе, пространственно-временная схема для Канта -познание
либо социального действия, либо физических процессов не будет возможным». (3, с.
71).
Однако, сузив таким образом свою задачу, Бершеди и облегчил, и затруднил ее
разрешение: облегчил потому, что более локальное сходство двух концепций поддается
демонстрации, затруднил потому, «что его последующие рассуждения ничего нового
не вносят по сравнению с тем, что уж уже было высказано; Для того чтобы придать
проводимой им параллели больше убедительности, он указывает, что хотя Парсонс
собственно, нигде не ссылается в первой книге на Канта, зато он говорит, что та
процедура, которой он следует, «формально тождественна» зиммепевской попытке
создать базис социологии как науки (имеется в виду прежде всего знаменитый
зиммелевский «Экскурс по проблеме: как возможно общество?»25, на которой
чрезвычайно часто ссылаются теоретики «кантианского поворота", да и не только они).
Но и из Зиммеля, в конечном счете, ему не удается выудить больше, чем тот же
априоризм
Но чем больше Бершеди подчеркивает логическое сходство, тем больше - как мы
видели - делает акцент на «метафизическое, «различие». Бершеди - это представляет
интерес для нашего дальнейшего изложения - специально полемизирует с Р.Дж.
122
Хинклом, чья диссертация, написанная еще в 1952 г., так и не была опубликована.
Хинкл по словам Бершеди как раз стремился к установлению "метафизического
сходства» между Кантом и Парсонсом. Для этого он сделал акцент на том, что для
Канта тот способ, каким познается природа, не казался достаточным для постижения
человека. Человек, по Канту, живет в двух мирах: феноменальном мире природы и
моральном мире свободы. При этом, говорит он далее, в «Критике способности
суждения» специально вводится Кантом понятие целесообразности как эвристического
принципа
постижения
человеческой
деятельности.
Но
воля,
направляющая
деятельность человека по отношению к моральному порядку, непостижима для любой
теории.
Эту
же
двойственность
принципов
Хинкл
усматривает
и
в
«волюнтаристической теории действия" Парсонса, согласно которой человек действует
в определенных условиях, в соответствии с собственны» «желанием» и с ориентацией
на общезначимые нормы.
Бершеди считает нужным возразить против такой интерпретации. Экономист,
пишет он, может утверждать, что на рынке действуют законы спроса и предложения, а
не физические законы, но это не делает его дуалистом. Кант считал понятие
целесообразности просто эвристическим, фиктивным, а не конститутивным для
человеческой
деятельности. А. Парсонс явно против фикционализма. Он
-
«аналитический реалист», т.е. предполагает совпадение теории с некоторыми
аспектами реальности. Парсонс не может быть дуалистом, ибо не принимает идеи
такой
независимости
двух
переменных,
которая
бы
вообще
исключала
их
взаимозависимость. По своей метафизике он ближе всего к А.Н. Уайтхеду.
Все затронутые здесь моменты мы снова встречаем и в поздних, «кантианских»
статьях Парсонса, и в позднейшей интерпретации Мюнха.
Обратимся к статье Парсонса «Смерть в Западном мире», рассуждения которой
как будто начинаются на том самом месте, где они прерываются в книге Бершеди. В
этой статье Парсонс пишет о Канте как о мыслителе, преодолевшем как «физический
абсолютизм», так и "метафизический», Он не только определил, что для физического
мира действенны категории рассудка, а для метафизического, практического (читай:
морального) — категорический императив. Главное, по Парсонсу, что он сумел в
«Критике способности суждения» совершить необходимый синтез, опосредствовав
физическую необходимость и практическую свободу. Параллель к идеям Канта
Парсонс усматривал в развитии биологических и гуманитарных наук: первые ввели
различие межпоколенного биологического единства и
отдельного
«индивида,
123
представителя этого единства; вторые отличали индивида как личность от той
социокультурной «матрицы», на которую он ориентировался. «Два компонента
индивидуальности встречаются в особом синтезе и составляют «лицо». Можно сказать,
что
эта
полностью
дифференцированная
структура
условий
человеческого
существования развилась в нашей культурной системе уже после того, как писал Кант;
тем не менее она соответствует схеме Канта, а частично подверглась ее влиянию и
была предвосхищена ею" (20, с. 340).
Мы видим, что Парсонса, кажется, меньше всего интересует у Канта тот самый
априоризм, на котором построил свои рассуждения Бершеди. Скорее, высказывания
Парсонса напоминают об изложенных Бершеди интерпретациях Хинкла. Однако в
одном Бершеди прав: Парсонс действительно не дуалист в том смысле, что
разделенные «миры» у него всегда опосредуются и опосредуются не познавательными
фикциями, а в действительности. Но именно здесь Парсонс снова прибегает к помощи
Канта. По мнению Парсонса, Кант, отказавшийся принять идею простого отражения
внешней реальности в человеческом сознании, тем самым отказался воздвигать
границу между человеческим и не человеческим мирами, «Если Кант был прав в том,
что занимал эту позицию, то мне кажется, что можно провести параллели на двух
уровнях к его различению между чувственными и категориальными компонентами
человеческого эмпирического знания. Первый из этих уровней - различение
фенотипического и генотипического аспекта высших организмов, что, первоначально
заметно только на уровне совокупностей, исключительно видов. Второй - различение
человеческой личности, в смысле действия, и более крупных систем действия, в
которые она включена, а именно, социальных и культурных систем, С учетом
двойственности составляющих и отношений этих составляющих друг к другу в каждой
паре, мне кажется, что имеется удивительный изоморфизм. Во всех трех случаях одна
составляющая
-
чувственная,
фенотипическая,
индивидуальная
-
является
ограниченной во времени в своем существовании, в то время как другая составляющая,
которая необходима для того, чтобы придать смысл первой, является, в понятиях
самого Канта, «трансцендентальной» по сравнению с ней» (19, с. 341). Чуть ниже
Парсонс пишет, что в существенных чертах принимает фундаментальную позицию
Канта (19, с. 342). Отсюда следует, что приведенное выше высказывание есть много
большее, чем просто интерпретация. Скорее, это именно тот способ ассимиляции
Канта, который Парсонс избрал в конце жизни. Это еще не значит, что исследования
Бершеди об априоризме парсоновских построений были совершенно неверны. Но
124
Парсонс в последние примерно пять лет своей жизни занимался уже не столько
вопросами теоретической социологии и теории действия, как тем, чтобы найти для этой
теории солидное метафизическое основание. Общая система действия, на которую так
долго опирались все его более или менее частные построения, наконец, сама стала
нуждаться в опоре. Поэтому может показаться, что это всего лишь «метафизика»,
имеющая отношение к социологии лишь постольку, поскольку в системе мироздания
отводится место и для системы действия.
Однако это не совсем так. Интенсивно вовлекая в рассуждения идеи Канта,
Парсонс
стремится
корректно
разрешить
много
методологических
проблем
социологии, тех самых «последних вопросов», о которых шла речь вначале. Среди них:
1) отношение социологической теории к социальной реальности; 2) определение
статуса самой этой реальности, 3) разрешение противоречия между признанием
существования социальной реальности sui generis и необходимостью признавать
нравственную автономию личности, которая в противном случае становится лишь
марионеткой общественных сил. Собственный взгляд Парсонса на эти проблемы
выходит за рамки данного обзора. Мы исследуем лишь то, зачем ему понадобился для
решения этих вопросов Кант.
В отличие от Хинкла, видевшего в Канте дуалиста, в отличие от Бершеди,
главный интерес которого был сосредоточен на априоризме, для самого Парсонса - по
крайней мере, в его последних статьях-Кант выступает как теоретик, не побоимся
1даже сказать, как идеолог синтеза. Предполагается, что Канту удалось синтезировать
естественнонаучный взгляд на мир для социологии это правомерность позитивистских
конструкций/ и идею моральной свободы /принадлежность гуманитарных наук/;
априорность рационально дедуцируемого знания и отрицание за ним непосредственно
онтологического характера; равным образом признание за миром моральным,
ценностным безусловной общезначимости и отрицание его онтологического характера
/что находит выражение в постоянном акцентировании его не-эмпиричности, нефеноменальности/. Как теоретик синтеза Парсонсу не подходил Гегель. И даже не
столько потому, что для таких целей ему пришлось бы ассимилировать мистическую
онтологию "абсолютного духа», сколько потому, что у Гегеля в диалектическом
единстве снимается то, что так жестко, метафизично /в смысле не-диалектично/
противопоставлено у Канта. Ассимиляция "аутентичного Канта" не легче, чем
"аутентичного Гегеля». Но если в первом случае в качестве посредствующего звена
выступает традиция неокантианства с его концепциями самопорождающегося знания и
125
вневременных ценностей и смыслов, то во втором - эта традиция неогегельянства, с
самого своего зарождения отягощенного релятивистскими концепциями исто-рицизма
и философии жизни. Не удивительно, что Парсонс выбирает первую альтернативу.
Но здесь совершается некий подлог, столь же характерный для Парсонса, как и
для других теоретиков "кантианского поворота». Кантовский синтез, успех которого в
истории философии представлялся, во всяком случае, непосредственно следующим за
Кантом
философам
куда
более
сомнительным,
чем
кантовский
"анализ",
т.е.разграничение того, что впоследствии было якобы синтезировано, здесь уже
декларируется как историко-философская "данность».
Поэтому нельзя не отдать должное Бершеди, указавшему что «синтетическое»
понятие целесообразности у Канта «фиктивно", относится к сфере "как если бы", чего
никоим образом не может быть у Парсонса. Впрочем, это не помешало Парсонсу вслед
за признанием решающего влияния, которое на него оказала "пенсильванская группа» в
"возвращении к Канту» (19, с. 355) высказать по поводу того, что Кант "явно мыслит на
двух уровнях» /чувственных данных и категорий рассудка, «практической этики» и
категорического императива/, следующее: «Ясно, что эта позиция Канта имеет
центральное значение для общей теории действия. Мы считаем, что она является
местом
наиболее
фундаментальных
основополагающих
предпосылок
или
предположений о социальном упорядочивании на человеческом уровне. Оно должно
эксплицитно
определяться
не
как
факты
транриендентальное нормативное условие
моральных
проблем,
но
как
упорядочивания таких фактов. Эта
кантовская философская позиция явно лежит в основе как дюркгеймовской, так и веберовской трактовки моральной составляющей в обществах, в особенности в
современных обществах» (19, с. 370-371). Таким образом, все окончательно становится
на свои места, и к прочим компонентам кантианской точки зрения добавляется один из
самых существенных - трансцендентализм, «Телическая система", как называл ее
Парсонс, т.е. мир ценностей и смыслов, если воспользоваться более традинионной
формулировкой, противопоставляется миру эмпирическому социальному в том числе,
но в то же время выступает как условие его возможности.
Несмотря на то что это позднее возвращение к Канту не получило у Парсонса
сколько-нибудь полного развития, позиция Мюнха, предлагающего сквозную
кантианскую интерпретацию социологической классики и Парсонса в первую очередь,
кажется уже не столь неожиданной и тем более не столь оригинальной. Посмотрим,
126
каким образом он ставит исследовательскую задачу и какие способы ее решения
предлагает.
Начиная свои рассуждения о Парсонсе, Мюнх пишет: "Интеграция обоих
основных противоположных течений западного мышления, интеграция идеализма и
позитивизма в волюнтаристической теории человеческого действия образует основную
тему в трудах Толкота Парсонса. На метатеоре-тическом уровне эту тему можно
облачить в вопрос: "Как возможна теория действия, которая объединяет теоретическую
абстракцию и историко-эмпирическую спецификацию, каузальное объяснение и
герменевтическое понимание?» На объектно-теоретическом уровне возникает вопрос:
"Как возможно человеческое действие, которое соединяет упорядоченность и
автономию?» «Ответ на метатеоретический вопрос: волюнтаристическая теория
действия как преодоление и интеграция идеалистических и позитивистских теорий
действия. Ответ на объектно-теоретический вопрос: волюнтаристский порядок как
интеграция и преодоление чисто идеальных и чисто фактически-натуралистических
порядков» (17, с. 12).Уже в самой постановке вопроса звучат кантовские мотивы: 1)
стремление преодолеть, синтезировать противоположные точки зрения, до сих пор
господствующие в объяснении действия; 2) постановка вопроса о фактически
существующем: о его собственной возможности и возможности науки о нем; 3)
включение в синтетическую социологическую теорию о социальном действии
постулата об автономии действующего лица. И тут же Мюнх действительно подходит к
сопоставлению Парсонса и Канта. Он не удовлетворяется признаниями самого
Парсонса о влиянии на него Канта и утверждает, что можно «поставить парсонсовскую
общую теорию действия и его теорию социальной системы в точную параллель к
Критикам разума у Канта" (17, с. 24). Но именно тут Мюнх заявляет, что до сих пор
/т.е. до того, как на нее указал он/ эта перспектива оставалась незамеченной. Конечно,
для подтверждения этой претензии ему необходимо не просто размежеваться с
Бершеди в способе кантианской интерпретации Парсонса, но и доказать, что
истолкование Бершеди кантианским просто не является. По словам Мюнха, Бершеди
"проходит мимо действительного ядра соответствий между Парсонсом и Кантом". В
чем . же его интерпретация ущербна? "Чтобы получить доступ к содержательной
основной перспективе Парсонса,-пишетМюнх, -Бершеди должен был бы приравнивать
не "схему отнесения действия» к категориям рассудка, а "схему отнесения действия» к кантовским критикам разума, и он должен был бы внутри схемы отнесения действия»
привести в параллель взаимозависимость или взаимопроникновение нормативных и
127
кондициональных элементов действия к отношению между категориями рассудка и
чувственными восприятиями, категорическим императивом и гипотетическими
императивами, а также телеологическими принципом и конкретными суждениями» (17,
с. 24-25, прим. 12).
Нетрудно заметить, что Мюнх здесь по существу повторяет ту же аргументацию,
которую мы уже встретили в статье Парсонса «Смерть в Западном мире" /на которую
он сам тут же и ссылается/. Однако здесь есть и важное различие. Оно состоит в том,
что у Парсонса, даже при изложении Канта как теоретика «двух уровней", все-таки
остается неясность, как же надо понимать в связи с этим априорные социологические
схемы: следует ли считать, что сама схема относится к одному уровню категориальному, рассудочному, а действие - к эмпирической, феноменалышй
реальности, которая вне этой схемы мыслиться не может, либо же внутри самой этой
схемы содержится разведение двух уровней, нормативного и эмпирического, а
реальное, живое действие выступает при этом как опосредствующий синтез.
Интерпретация Бершеди, как мы видели, реализует первый вариант. Интерпретация
позднего Парсонса ближе ко второму, так что Мюнх имеет полное право на нее
опираться, но с несомненностью это право относится лишь к поздним же работам
Парсонса. Значит, новизна конценпшш Мюнха в том и состоит, что схема,
выработанная поздним Парсонсом, переносится и на его ранние работы, да, впрочем, и
сплошь на все творчество.
Однако даже если допустить, что первый вариант кантианской интерпретации
неполон и неверен, то второй еще должен ответить на вопрос, столь просто
разрешаемый первой. Это вопрос об отношении социологической теории и социальной
реальности.
Ведь
если
даже
внутри
теоретической
схемы
реконструируется
действительность и выясняются условия возможности того, что уже существует, то сам
вопрос о соответствии этой реконструкции и реконструируемой действительности все
равно остается открытым.
Если присмотреться к этой проблеме внимательнее, то можно обнаружить, что,
собственно, она является лишь второй стороной вопроса, казалось бы, уже решенного:
о взаимоотношении нормативного и эмпирического в человеческом поведении. То, что
Парсонс обнаруживает здесь параллелизму мы уже показали, а Мюнх тут следует за
ним. Однако, даже если оставить в стороне (на время) принятую здесь интерпретацию
действия, вопрос о теоретическом знании должен представлять значительную
трудность. Вдумчивые исследователи Канта еще в прошлом веке заметили, что само
128
исследование, предпринятое в «Критике чистого разума», является аподиктичным и
априорным, иными словами, здесь независимый от опыта чистый .разум рационально
проверяет свою способность. Таким образом, хотя содержательная задача критики
состояла в преодолении крайностей рационализма и скептицизма, метод ее оказывался
чисто рационалистическим. Однако если для Канта этот рационалистический метод
был равнозначен критической самопроверке разума, исследующего свое собственное
систематическое единство, то для социологов, клянущихся Кантом, этр равнозначно
«догматичному употреблению рассудка», против которого Кант воевал.
И дело здесь не в тонкостях истолкования. Какую бы концепцию социальной
реальности ни развивали Парсонс или Мюнх, сами их утверждения о взаимосвязи
«трансцендентальных», как называет их Парсонс, и эмпирических составляющих носят
априорный, догматический характер. Конечно, степень зависимости от Канта кажется
тогда весьма невысокой. Недаром Парсонс занимался совсем не кантианскими
онтологическими
построениями,
скрывая
их
метафизический
характер
под
наименованием «аналитический реализм». Не зря дальновидный Бершеди отказался
проводить здесь параллели, хотя и находил соответствия между анализом и критикой.
И это не случайно. Стремясь всерьез обосновать социологию, Парсонс (да и не только
он) вынужден был делать утверждения совсем не социологические. Но и вполне
философскими они тоже не являются. И дело тут не в характере утверждений как
таковых, а в том, что философскими они становятся в ходе философской же
разработки. В «аналитическом реализме» Парсонса высказан определенный взгляд и на
общие онтологические проблемы, и на методологию науки. Но философской
разработки не получает ни то ни другое. Даже если Бершеди прав, полагая, что
разрешение эпистемологической « проблемы совершенно необходимо Парсонсу, это
еще не устраняет того обстоятельства, что решал эту проблему именно социолог. Из
этого следовало, что на любом этапе, при любой разработке проблемы он должен был
иметь в виду в первую очередь именно предметную, социологическую сферу
исследования. Поэтому те или иные философские постулаты привлекавшие его,
неизбежно брались уже в «готовом виде" и в качестве таковых вовлекались в
дальнейшее рассуждение. С философской точки зрения это вообще неудачный путь. Но
применительно к кантовской философии, это путь просто невозможный. При этом мы
имеем в виду опять-таки-и это следует подчеркнуть особо - не то, насколько правильно
или искаженно воспринято какое-то положение Канта, но то, насколько вообще
возможно сравнивать кантовское и парсонсовское теоретические предприятия.
129
А в этом свете особенно проблематичными выглядят не исследования Парсонса, а
исследования Мюнха. В особенности это происходит потому, что Мюнх предложил
чрезвычайно облегченную схему «кантианской интерпретации" социологии. Она
состоит в концепции «взаимопроникновения». Термин «взаимопроникновение»
является ключевым в работах Мюнха, начиная с 1980 г. Краткая история его вхождения
в социологический оборот такова.
Впервые ввел его в социологические рассуждения Парсонс, предположивший, что
при
взаимоотношении
двух
систем
действия
существует
некая
"зона
взаимопроникновения", структурные компоненты которой являются общими для обеих
систем. В западногерманской социологии это понятие начало жить в 1977 г., когда
крупнейший
социолог-теоретик
Н.
Луман,
опубликовавший
стать
«Взаимопроникновение -об отношении личностных и социальных систем», заявил, в
частности, что это понятие
у Парсонса возникает относительно поздно и
рассматривается бегло (13, с. 62). И хотя он признавал за этим понятием центральное
значение для концепции Парсонса, его интерпретация в конечном счете вела к
использованию понятия в собственной концепции» Относительно интенсивно Луман
использует его до сих пор. Интерпретация Лумана вызвала возражения С. Йенсена,
одного из главных издателей трудов Парсонса в ФРГ (8). Йенсен нашел это понятие
уже в работах Парсонса начала 50-х годов и не согласился с тем, что рассматривается
оно бегло. Ответ Лумана (14) не внес в полемику ничего принципиально нового.
Однако через два года после этого Мюнх в статье «Через Парсонса к Веберу: От теории
рационализации к теории взаимопроникновения» (15) (эта статья вошла затем в его
книгу по теории действия) заявил, что ни Луман, ни Йенсен не поняли Парсонса, для
которого, по словам, Мюнха, концепция взаимопроникновения была свойственна с
самого началатеоретической деятельности.
Крупный западногерманский социолог и историк социологии Д. Кэслер в
рецензии на книгу Мюнха заметил: «Взаимопроникновение становится магической
формулой для синтезирования индивидуальной автономии действия с социальным
порядком» (11, с. 441). Это совершенно верно, только действие «магической формулы»
много шире. Вся концепция Мюнха держится на ней. Поэтому, исследовав понятие
"взаимопроникновения», мы тем самым получим исчерпывающее описание его
теоретических принципов.
Посмотрим, как Мюнх вводит это понятие, применительно именно к Канту,
соединяя свое изложение «Критики чистого разума» со вполне социологическим
130
описанием социальной ситуации. "Лишь благодаря категориальной схеме и общим
теоретическим принципам, - пишет о Канте Мюнх, - аналитически упорядочивающим
реальность, вообще возможен тот вид образования опыта, который способен стать
пробным камнем общих закономерностей, и лишь через связь опыта с этой схемой
категорий и теоретическими принципами они, со своей стороны, имеют то отношение к
реальности, благодаря которому мы может сказать, что общие принципы выражают
эмпирические,
а
не
только
логические
закономерности.
...Это
совпадение
противоположного - абстрактного и эмпирического - не осуществилось нигде, кроме
как в современной науке Запада. Прототипом этого обоюдного проникновения теории
и опыта является рациональный экрперимент, который развивался в исторической
ситуации, создавшей благоприятные условия для взаимопроникновения обычно
разделенных сфер. Именно в научных сообществах итальянского Ренессанса XV и VI
веков и английского XVII века собирались интеллектуалы и практики совершенно
различного происхождения: ученые, художники, техники, ремесленники, купцы,
политики. Их совместная работа создала то, что мы ныне рассматриваем как само
собой разумеющееся: взаимопроникновение теории и эмпирии, логики и практики в
современной науке. До тех же пор этими проблемами, (а вне Запада и много позже
«занимались совершенно различные типы интеллигенции» (17, с. 28-29).
Такова схема взаимопроникновения, по Мюнху, в самом абстрактном виде.
Очевидно, что
у Канта его привлекает одна из самых сложных идей
-
трансцендентальная Дедукция чистых рассудочных понятий, выяснение возможности
опыта через синтез деятельности созерцания и деятельности рассудка. Но Мюнх не
углубляется в тонкости. Он удовлетворяется тем, что называет этот синтез
взаимопроникновением и сразу же указывает на социальную ситуацию возникновение
западной теоретико-экспериментальной науки
— как на случай
совершенно
аналогичного взаимопроникновения.
Более обширное рассуждение посвящает Мюнх проблемам практического разума.
И это не удивительно. Ведь, по его убеждению, все социологические объяснения
социального действия до Парсонса (Вебер и Дюркгейм здесь рассматриваются как
непосредственные предшественники Парсонса и не противопоставляются ему)
вынуждены были избрать либо вульгарно-материалистический путь: человек действует
в расчете на собственную выгоду, применяясь к материальным условиям; либо идеалистический путь: существуют общезначимые нормы, человек ориентируется
лишь на них, зачастую вопреки собственной выгоде. Парсонс же, по Мюнху, мудро
131
опирается на Канта. «Признаком моральных норм является как раз то, что они
притязают на значимость независимо от расчетов на выгоду отдельного человека; их
соблюдение происходит не из колеблющейся склонности, но из неизменного
обязательства. В качестве философа Кант, конечно, не ищет специального
социологического объяснения, как эмпирически осуществляется это сознание
обязательства, он, напротив, пытается ответить на вопрос, при каких условиях вообще
возможно, чтобы моральным принципам подобала универсальная обязательность. И
здесь Кант показывает, что это может получиться лишь через связь абстрактных
категорий с эмпирически — практическими этическими проблемами. ... Возникновение
общезначимого морального порядка является в данном отношении следствием
взаимопроникновения
двух
противоположных
способов
ориентации:
законов
абстракции и логической свободы от противоречий, с одной стороны, и законов
практического регулирования и практического удовлетворения потребности, с другой
стороны» (17, с. З0—31). Это может показаться само собой разумеющимся, пишет
далее Мюнх, но со времен Макса Вебера мы знаем, что это не так. "Лишь на Западе
возникло систематическое естественное право, как в Китае, так и в Индии отсутствуют
условия, которые сделали ли бы возможным взаимопроникновение абстрактной
моральной теории и практического регулирования» (17, с. 31). Таким образом, здесь
Мюнх находит параллель между моральной теорией Канта, социологией Парсонса и
своеобразием развития западной цивилизации.
Однако заявив, что в каждом таком случае речь идет о «взаимопроникновении»,
Мюнх еще не много сказал нового. Главное состоит в том, чтобы объяснить, что же
такое это взаимопроникновение.
Как мы уже указали, теоретике -познавательный вопрос оказывается здесь
наиболее щекотливым. Поэтому Мюнх старается не сосредоточивать на нем главное
внимание. Центральным же оказывается - в частности, и согласно названию его книги понятие социального действия. Именно здесь теория взаимопроникновения и должна
показать если не свою философскую обоснованность, то хотя бы эвристическую силу.
Итак, вернемся снова к понятию действия. То, что Парсонс являлся противником
утилитаризма, широко известно. Поэтому ему как правило не инкриминируют
выведение
в
центр
теории
своекорыстного
индивида.
Но
зато
ему
часто
инкриминируют противоположное, а именно, чисто нормативистский подход. Действие
- это стремление следовать нормам. Высказывания Парсонса, содержащие это
утверждение, можно встретить очень часто. При этом, согласно критикам,
132
парадоксальным образом оказывалось, что у Парсонса вместе со своекорыстным
индивидом в теории терялась зачастую вообще личность, ибо стремление действовать
лишь согласно нормам исключает всякий выбор.
Именно
стремлением
показать,
что
концепция
Парсонса
учитывает
и
материальные условия, и общезначимые нормы, и личный выбор индивида, проникнута
известная реконструкция Д. Александера "Формальный и материальный волюнтаризм в
трудах Токота Парсонса»26(1). Идеи Александера оказали огромное влияние на Мюнха
(достаточно сказать, что когда в одном из американских журналов была опубликована
критическая статья о работах Александера, Мюнх вступил в полемику и ответил
чрезвычайно резкой отповедью). Но именно поэтому он не мог не заметить, что
слабость этой реконструкции несомненно лежит там же, где, предположительно,
должна быть ее сила: в самом разделении формального и содержательного
волюнтаризма. Александер, как и Мюнх (точнее, может быть, Мюнх, как и
Александер),
подчеркивает
синтетическую
природу
теоретических
намерений
Парсонса (1, с. 179). Но тогда он должен был бы указать и на то, как же синтезируются
формальный и содержательный моменты, которые им выделены. И хотя Александер
тоже употребляет понятие взаимопроникновения, он не делает попытки опосредовать с
его помощью формальный и материальный способы анализа социального действия.
Мюнх идет иным путем, согласно тому, что он называет "кантианской
перспективой». Он признает общезначимые нормы, фактические обстоятельства, в
которых протекает действие. Если описывать его лишь исходя из фактических
обстоятельствах, получится позитивистское перенесение на социальность методов
естественных наук. Предположение о безусловной фактической действенности
общезначимых норм - чистейший идеализм. Остается, по Мюнху лишь парсонсовский
"волюнтаризм» - не "формальный» не «материальный», но именно волюнтаризм как
синтез того и другог-го, ибо "волюнтаристическая теория действия отличается тем, что
она понимает действие как результат взаимопроникновения своекорыстного выбора
цели и средства и нормой тивного ограничения открытости выбора цели и средства, ...
Что же означает взаимопроникновение "кондиционального» и "нормативного"? Тем
самым не предполагается, что действие фактически в каждом случае управляется
обоими компонентами, имеется в виду скорее, что социальный порядок как фактум
возможен, лишь если имеется такое взаимопроникновение своекорыстного действия,
зависимого от фактических условий и целерациональной калькуляции выгод, с
системой отнесения которая фиксирует границы калькуляции выгод тем, что исключает
133
определенные цели и средства действия как не подлежащие выбору, совершенно
независимо от фактических условий и совершенно независимо от изменчивых
вследствие насыщения или вследствие вновь обнаруженных позитивных или
негативных последствий действия соображений о цели и средстве, и сообщает иным
целям "постоянный приоритет среди всех целей действия» (17, с. З9-40).
Мюнх имеет здесь в виду, что, предположив отсутствие заранее значимых
нормативных ограничений, невозможно сконструировать социальный порядок, хотя
можно сконструировать действия отдельного человека (вслед за Парсонсом Мюнх
называет это "гоббсовой проблемой"). Если принять, что к любому действию человека
приложимы категории цели и средства (действие как средство для достижения
некоторой цели) и если ясно, что выбор средств не произволен, то надо выяснить, что и
как эту произвольность ограничивает. Ее ограничивает, рассуждает Мюнх, некоторое
правило отбора: такая-то цель может быть избрана, а такая-то заведомо нет. "Но
имеется, - как показал Кант, - лишь два различных правила отбора: гипотетические и
категорические, и лишь категорические правила дают постоянство выбора действий,
независимо от ситуаций. Мы можем использовать это различение, сделанное Кантом,
чтобы понять утверждение Парсонса, что социальный порядок возможен, лишь если
действие
создается
нормативными
не
только
правилами
кондициональными
отбора,
которые
правилами
размечают
отбора,
область
но
и
значимости
кондициональных правил отбора. Функция этих нормативных правил отбора в рамках
теории действия - та же, что и, например, функция категории пространства в
классической механике в смысле осантовской критики разума» (17, с. 41).
Конечно, Мюнх здесь опять крайне нестрог. Очевидно, что уподобление
нормативных правил отбора категории пространства, в особенности, если речь пойдет
только о функции того и другого понятия для соответствующей теории, будь оно
продумано всерьез, завело бы слишком далеко. Это сравнение скорее обладает
достоинством наглядности, чем настоящей убедительностью. На первом этапе
сравнения можно, конечно, удовлетвориться тем, что тело может произвольно
двигаться в трех измерениях и все же оставаться в одном и том же пространстве, и так
же человеческие действия могут быть весьма разнообразными и все-таки оставаться в
пределах, поставленных нормами. Но уже на втором этапе размышления видно, что
различия между движением в пространстве и действием применительно к нормам куда
больше, чем сходства.
134
Чтобы избежать упрека в том, что он просто свел любое взаимодействие
социальных систем ко взаимопроникновению, Мюнх делает важную оговорку.
"Следует принципиально различать, - пишет он, - между субсистемами с управляющей
функцией
и
субсистемами
с
динамизирующей
функцией
для
действия.
Парадигматически это различение выражается в критической философии Канта в
различных функциях категорий рассудка и чувственных восприятий, категорического
императива и практических суждений, эстетических категорий и эстетического
восприятия для когнитивного, морального и эстетического познания. Лишь через их
взаимопроникновение конституируется когнитивное, моральное или эстетическое
познание. Но взаимопроникновение все же является лишь одной из многих форм
отношения между аналитически различимыми системами действия, Между этими
субсистемами принципиально существуют напряжения, для разрешения которых
можно ооразовать различные типы: приспособление потенциально управляющих
субсистем к более динамичным субсистемам, их примирение, их взаимоизолирование,
их взаимопроникновение и одностороннее господство над потенциально более
динамичными
субсистемами
со
стороны
управляющих
субсистем.
Взаимопроникновение есть тот вид отношения, благодаря которому противоположные
сферы могут одновременно расширяться, без того чтобы при этом сразу же возникали
обоюдные помехи. Взаимопроникновение есть механизм развития всякой системы к
более высоким уровням саморазвертывания и тем самым основополагающе» механизм
всякой эволюции» (17, с. 60).
Вопрос о том, какие именно напряжения могут существовать между системами,
которые выделяются лишь аналитически, Мюнх благоразумно обходит, равно как и
многие другие скользкие моменты. Однако, книга Мюнха недаром вызвала столь
большой интерес. По отношению к большинству вопросов, на разрешение которых он
претендует /за исключением, может быть, действительно очень продуманной
интерпретации Парсонса/, можно смело сказать, что претензия его необоснована. Но
зато нельзя отрицать, что в одном аспекте Мюнх поступил очень аккуратно: он
действительно затронул почти все вопросы, которые нужно было затронуть в этой
связи, постарался предусмотреть и заранее отвести возможные возражения. Так, уже на
основании изложенного материала напрашивается возражение Мюнху, что он не сумел
воспользоваться всем богатством идей Канта и свел его к сухой формальной схеме
взаимопроникновения.
Такое
возражение
действительно
было
сделано
западногерманским социологом X. Йоасом в специальной статье, посвященной разбору
135
книги Мюнха в «Кельнском журнале по социологии и социальной психологии» (9)
/такого разбора удостаиваются лишь очень немногие книги, резонанс которых и так
очень велик/. Мюнх вступил в полемику с Йоасом (16), в комментарии к которой (10)
тот снова повторил ряд своих возражений. Но уже в книге, очевидно, чувствуя
недостаточность такого формализма, Мюнх делает попытку более содержательно
определить, что же это значит: кантианский подход к нормам морали в социологии.
Выше мы цитировали высказывание Мюнха, что, безусловно, значимым может
быть только категорический императив. Но такой императив, по Канту, один. И когда
Кант содержательно расшифровывает, что это значит, поступать так, чтобы максима
твоей воли могла быть принципом всеобщего законодательства, оказывается, что это
значит относиться к человеку, а в его лице,— к человеку - как цели, а не как к средству.
Для социологов, исследующих человеческое поведение именно по схеме цель
/средство, это очень важно. Ибо это означает, что относительность целей и средств /что
в одном отношении цель, в другом -средство/ не безгранична. Иерархия целей
замыкается на отношении человека к человеку, в котором нет корыстной примеси. Но
что в нем есть? Трактовать это можно было двояко. Либо в духе "этического
социализма», фундамент которого заложил Г. Коген, указавший на "царство целей", о
котором Кант писал в «Основах метафизики нравов», как на этический идеал. Но для
социологии, стремящейся описать не то, что должно быть, а то что есть, оказалось
возможным описать это бескорыстное отношение человека к человеку как чистую
общительность, т.е. социальность, так сказать, саму по себе, не "замутненную»
своекорыстными расчетами. А когда был сделан этот шаг, то следующий напрашивался
сам собой: именно потому категорический императив и обладает общезначимостью,
что выражает необходимость для каждого человека ориентироваться в первую очередь
не на себя, а на коллективные нужды, на коллективность как таковую. В свою очередь,
отсюда можно было вывести, что и остальные нормы потому и общезначимы, что
ориентируясь на них, реально человек просто отдает должное тому обществу, в
котором он живет. А в этой последней схеме уже нетрудно узнать учение Дюркгейма.
Именно поэтому Мюнх, переходя к анализу взглядов Дюркгейма, специально
оговаривает, что, парадигматическое выражение неутилитаристическая моральная
теория нашла в категорическом императиве Канта, что основу ее составляет "занятие
универсальной позиции» индивидом, позиции, в которой представлено "универсальное
сообщество", и что вытекающий отсюда моральный, порядок является основой любого
нормативного порядка27 (см.; 17, с. 293, прим. 18). То, что этот момент важен для
136
Мюнха, доказывает, в частности, и его положительная оценка начинаний в этой сфере
Ю. Хабермаса, которого вообще в этой книге /да и в предыдущих своих публикациях/
он критикует очень жестко. Помимо этого, он заявляет: "В социологической
теоретической традиции концепция занятия индивидами позиции универсальной
коллективной солидарности как предпосылка социального порядка, является, помимо
Дюркгейма, основной предпосылкой, например, у Зиммеля, Мида, Пиаже и Парсонса"
(17, с. 294).
Однако, оперевшись на Дюркгейма в этом немаловажном пункте, Мюнх
совершил очень рискованный шаг. Дело в том, что Дюркгейм, в целом, более
решительный "социологист», чем Парсонс. Поэтому он, решительно подчеркивая
значимость моральных норм, все-таки растворяет ее в функциональности. Однако это
дает ему возможность мыслить более монистично, чем Парсонс, И Мюнх,
интерпретируя Дюркгейма, избавляется от неприятной необходимости не только
говорить о взаимопроникновении двух уровней, но и объяснять, как реально это
взаимопроникновение происходит. Мюнх, конечно, не отказывается при этом от своей
основной категории. Просто часть очень сложных вопросов, связанных с ее
употреблением в случае Парсонса, о чем мы писали выше, снимается в случае
Дюркгейма. "Дюркгейм выходит за пределы Канта, -пишет Мюнх. А именно, Кант не
мог объяснить, на чем покоится упорядочивающая сила и универсальная значимость
категорий в отличие от восприятии, ощущений и интересов. ... Категории для Канта
значимы a priori, ибо без них невозможны упорядоченное познание и упорядоченное
автономное действие, из существования которых мы, по Канту, все же можем исходить.
Но
тем
самым
не
объясняется,
как
вообще
получают
категории
свою
упорядочивающую силу и свою априорную значимость «На разуме они сами не могут
больше основываться, так как тот, кто попытается сделать это, попадает в бесконечный
регресс. Дюркгейм решает эту проблему, объясняя, что категории обладают
упорядочивающей силой и универсальной значимостью, поскольку их носителем как
чего-то "священного" и неприкосновенного является универсальная в тенденции
общность на аффективном базисе с соответствующими ритуалами и символами.
Упорядочивающая сила и универсальная значимость стандарта рациональности
опирается не на рациональность, но на культ рациональности современного западного
культурного общества» (17, с. 367-368).
Теперь все становится на свои места, в том числе и приведенный нами выше
пример Мюнха с научными сообществами эпохи Возрождения, соединяющими теорию
137
с эмпирией. Понятие взаимопроникновения так и осталось неразработанным в должной
мере, попытка изобразить его в качестве диалектического единства противоположного
(см.: 17, с. 56-57) тоже не была реализована. И вот искомое единство найдено, но
найдено способом, весьма смахивающим на вульгарный социологизм.
Стоит ли добавлять, что формализм так и остался неопределенным. Может быть,
именно поэтому Мюнх специально указывает, что эта его книга только первая в серии
публикаций, причем последуют за ней содержательные исследования. Но пока что
критики ориентируются на та, что есть, a не на то, что обещано. Посмотрим, что
отвечает Мюнх Йоасу на обвинение в формализме и в сомнительной интерпретации
Канта. «Интересно не то, что имел в виду сам Кант, но что он должен был иметь в виду,
если его теория должна была суметь нести нагрузку. Понятие взаимопроникновения
нормативных и кондициональных факторов является в действительности формальным
принципом, как и категорический императив Канта, и его отношение к эмпирическому
регулированию действия - чисто формальной природы. Здесь я еще не усматриваю
никакой критики. Но с этим соединяется субстанциальный характер, если понимать
такое отношение и его более сложное оформление в ходе теоретического развития в
книге как перевод нормативной идеи связи социального порядка и индивидуальной
автономии. Теория волюнтаристского порядка указывает тогда условия, как
социальный порядок и индивидуальная автономия могут быть интегрированы» (6, с.
415). В этом утверждении трудно не заметить восстановления идеи "формального" и
"материального" волюнтаризма Д. Александера. Таким образом, исходный дуализм в
духе которого Кант был воспринят Парсонсом, повторяется и у его интерпретаторов.
Мы видим, что центральной фигурой «кантианского поворота» Мюнха сделало
отнюдь не глубокое постижение Канта и даже не оригинальное приложение его идей к
решению социологических вопросов. Причина в другом - в том, что плохо ли, хорошо
ли понятый Кант вовлекается в сквозное рассмотрение основной социологической
проблематики, как она представлена в трудах классиков буржуазной социологии. Это
делает концепцию Мюнха удобной исходной позицией для дальнейшего рассмотрения
существенных черт «кантианского поворота». Ибо если Мюнх затронул все - и ничего
по-настоящему глубоко, - т.е. исследования прямо противоположного плана, в которых
глубоко проанализирована лишь одна или несколько проблем.
Обзор этих исследований мы начинаем с работы, которая казалось бы, не
вписывается в рамки указанной тенденции. Это книга английской исследовательницы
Дж. Роуз «Гегель против социологии» (22). Ее автор сразу же заявляет, что стремится
138
«восстановить для социальной теории спекулятивный опыт Гегеля, не посредством
какого-то простодушного и внеисторичного "возвращения к Гегелю», но, прежде всего,
признавая и обсуждая те интеллектуальные и исторические преграды, которые стоят на
пути любого такого нового прочтения" (22, с. 1). Конечно нельзя исключить, что и
социологии, как в свое время философии, суждено пройти новый круг «от Канта к
Гегелю" и что книга Роуз, вышедшая в разгар «кантианского поворота" окажется тут
первой ласточкой. Недаром ведущий английский социолог Э. Гидденс в традиционной
аннотации на обложке пишет, что книга Роуз к конкурирует с «классическим
исследованием Маркуэе «Разум и революция».
Однако, если Роуз заявляет, что «самая идея научной социологии ... возможна
лишь как форма неокантианства» (22, с. 1-2), то, значит, она солидарна в признании
роли Канта для социологии с теоретиками "кантианского поворота". Поэтому первая
глава книги - "Антиномии социологического разума», - в которой как раз и исследуется
этот вопрос, много добавляет к нашему пониманию этой взаимосвязи,
Роуз сосредоточила внимание на той проблеме, /которая у Мюнха, как мы
показали, не только не разрешалась удовлетворительно, но и не ставилась должным
образом. Это вопрос об отношении теоретической социологии и социальной рельности.
Роуз ведет историко-философское исследование от Канта через Г. Лотке к
неокантианцам,
показывая
при
этом,
как
теоретико-познавательный
вопрос
превращается в собственно социологический. Для этого необходим анализ категорий
значимости и ценности.
Обе эти категории - неокантианские. Именно на методо-т логию неокантианства
опирались в основаниях своей социологии как М. Вебер, так и Э, Дюркгейм (избирая
именно их концепции как точку отсчета для критики социологии, Роуз тем самым
показывает, что разделяет распространенное ныне в буржуазной социологии признание
именно этих двух концепций классическими). Роуз не совсем права, полагая, что о
кантианских идеях Дюркгейма известно не так хорошо, как это известно о Вебере. Об
этом пишут и Парсонс, и Мюнх. Но действительно до сих пор широко распространены
были указания на связь идей Вебера с идеями Баден-ской школы неокантианства. Роуз
впервые устанавливает то же для Дюркгейма, но применительно к идеям Марбургской
школы.
Однако предварительно она рассматривает трансформацию трансцедентальной
логики Канта и изменения в понятии значимости. Под объективной значимостью,
пишет Роуз, Кант понимал правильное соединение эмпирического восприятия •с
139
категориями
рассудка.
Это
соединение
совершается
не
в
индивидуальном
эмпирическом создании, а в сознании вообще, в «трансцендентальном единстве
апперцепцин». Этот вопрос о правильности он отделял от вопроса о факте, т.е. о
субъективной значимости эмпирического восприятия. Это разделение было связано с
признанием Кантом реальности вещей-в-себе, воздействующих на чувственность.
Поэтому, по Канту, речь не могла идти о том, чтобы синтетическую деятельность
сознания представлять как синтез самой реальности. Тем не менее именно такие
интерпретации были предложены многими философами впоследствии. Среди них
особо важное место Роуз отводит Лотце, впервые введшему в философию своеобразное
понятие Geltung (значимость)28. У Канта значимость принадлежала понятиям,
например, понятию причины или субстанции. Отрицать можно было правильность их
применения к опыту, но не сами понятия. У Лотце априорные элементы значимы
независимо от опыта, Это не no-снятия, а высказывания, над которыми можно
совершать операции утверждения или отрицания, независимо от того, могут ли быть в
опыте восприняты те объекты, о которых говорят эти высказывания. Следовательно г
они обладают собственной реальностью, отличной от фактической, реальностью
значимости. Но есть еще и третья реальность т реальность ценностей.
У Лотце соотношение между значимостью и ценностью было определено не
очень ясно. Две крупнейшие школы неокантианства, воспринявшие это различение,
расходились в том, какой из категорий отдать приоритет. Марбургская школа отдала
его вопросу о значимости, Гейдельбергская (Баденская) - вопросу о ценностях. «Но в
обоих случаях трансформация кантовского критического метода в логику значимости
(Gehungs-Logik)
исключала
любое
исследование
эмпирической
реальности.
Объективация стала коррелятом чистой логики» (22, с. 9). Что это предполагает?
Значимость всегда есть значимость чего-то относительного чего-то. Но если реальность
вещей—в—себе отвергается, то нужен какой-то иной коррелят, например, для
значимых истин. Только Коген (глава марбуржцев) утверждал, что ценность суждений
покоится на их истинности, т.е. значимости. А. Риккерт, наряду с В. Виндельбандом бывшим главой Веденской школы, - утверждал, что именно благодаря своей ценности
суждение приобретает значимость истины.
На первый взгляд, этот историко-философский экскурс кажется очень далеким от
социологии, хотя Роуз и заявляет, что без указанной трансформации логики развитие
идеи научной социологии было бы невозможно. Однако социология сразу же оказалась
в крайне двусмысленной ситуации. С одной стороны, и Вебер, и Дюркгейм очень
140
активно используют идеи, соответственно Баденской и Марбургской школ, но в их
построениях, пишет Роузе против неокантианства оборачивается кантовский аргумент.
Дело в том, что, как социологи, они неизбежно исходили из существования социальной
реальности. Именно она, будь то общество или культура, сообщает объективную
значимость социальным фактам или ценностям. С категорией значимости связаны
неокантианские ходы мышления. Но то, что априорно в социологическом отношении,
т.е. то, на основе чего только и становится возможным, например, социальный факт
(как у Дюркгейма) - это общество. Будучи априорным условием возможности
социального-факта, оно не эмпирично. Но будучи внешним по отношению к сознанию,
оно может казаться естественным объектом или причиной. Там, где у Канта было
трансцендентальное единство апперцепции, там у социологов появляется некое
квазитрансцендентальное условие возможности социального факта, и его, т.е. условия,
связь с тем, что оно обусловливает, оказывается очень двусмысленной.
Анализ концепции Дюркгейма у Роуз возвращает нас к тому моменту, который
был уже затронут в изложении взглядов Дюркгейма Мюнхом. Речь идет об объяснении
априорной значимости категорий. Дюркгейм находит его в санкционирующей,
принуждаеющей моральной власти общества. «Однако, как только "допускается"
социальное происхождение категорий, становится невозможно объяснять отношение
между источником происхождения и категориями, не используя тех же категорий
(например, категории причины), невозможность которых только должна быть
доказана" (22, с. 16). Точно так же, если, казалось бы, удается избавиться от
необъяснимости категорий, то необъяснимым становится общество. Роуз справедливо
замечает, что все попытки Дюркгейма обойти эти и сходные трудности были неудачны.
И точно так же, как в санкционированной значимости растворялась объективность и
разумность категорий, растворялись в ней и все ценности. В этом, а также в том, что,
подобно Когену, Дюркгейм признавал единую общенаучную логику, значимую и для
гуманитарных дисциплин, в том, что общество действует, как когеновское
"первоначально", и по ( ряду других позиций Роуз усматривает зависимость концепции
Дюркгейма от идей Марбургской школы. В отличие от него, Вебер, как известно,
следовал Риккерту, и потому во главу угла поставил вопрос о ценностях. Научная
значимость зависит от того, какие именно ценности избраны какой-то культурой или
личностью. Но как тогда может состояться научное изучение ценностей, т.е.
такое^которое претендует на значимость, если значимость зависит от ценностей и
ценности не могут быть оправданы? ... Как только значимость определяется
141
посредством ценности, любой последовательный подход к установлению научной
значимости ведет к бесконечному регрессу. Ибо такой подход предполагает тот самый
род суждения, которое может быть понято только как ценность" (12, с. 18,20). Мы
сознательно опускаем важное рассуждение Роуз о проблеме "идеальных типов" у
Вебера и ее связи с кантовским различением конститутивных и регулятивных
принципов познания, чтобы сосредоточить внимание на том, что является, на наш
взгляд, главным": Роуз показывает, лто тот круг, в ко» « торый попал Вебер с его
приоритетом
Дюркгейма.»В
ценностей,
чем
же
очень
О
схоже
сказывается
их
теоретико-познавательной
различие
применительно
неудачей
к
сугубо
социологической тематике?
Широко известен веберовский анализ "типов легитимного господства». Роуз
привлекает внимание к тому, что это, ведь, типология значимых социальных порядков.
За исходный момент берется вера в ценность социального порядка, в то время как,
согласно Дюркгейму, следовало бы взять за основу саму санкционированную
значимость. "По Веберу, субъективная вера (ценность) конституирует значимость; по
Дюркгейму, именно значимость «социального бытия" дает нормам принудительную
силу, или санкцию. Парадоксальным результатом того, что Дюркгейм дал приоритет
значимости над ценностями, а Вебер - ценностям над значимостью, есть то, что
Дюркгейм создал "эмпирическую" социологию ценностей /моральных фактов/, а Вебер
- "эмпирическую» социологию значимостей /легитимных порядков/. В каждом случае стоило лишь установить предварительное условие /значимость для Дюркгейма,
ценности для Вебера/ — и можно было классифицировать и объяснять объект
/ценности для Дюркгейма, значимость для Вебера/ или "понимать" его как
естественный, или данный, объект, согласно, правилам общего метода» (22, с. 21).
Иными
словами,
"эмпирический"
/кавычки
означают
законное
сомнение
в
правомерности употребления этого понятия/ статус придавался тому, что - как и в
неокантианской логике - оказывалось коррелятом некоего квазитрансцендентного
единства.
Опираясь
на
эти
результаты
анализа
социологической
классики
Роуз
предпринимает сквозное исследование дальнейшего развития социальной мысли.
Однако, по-новому освещая некоторые известные социологические концепции, она
ничего существенного не прибавляет к описанной схеме. Наибольший интерес
представляет та часть этого исследования, в которой Роуз, доведшая свой анализ до
описания неомарксистских концепций, вскрывает в них, как она утверждает,
142
"неофихтеанство", ту промежуточную станцию на пути от Канта к Гегелю" (см.: 22, с.
211), где встречаются, по ее мнению: не-марксистские и неомарксистские теоретики. А
в заключительной главе книги она задним числом приписывает фихтеанскую схему и
обеим школам неокантианства.
В связи с предметом нашего рассмотрения это интересно потому, что новейшие
теооетикн "кантианского поворота" выстраивают свои концепции под углом зрения
возможных упреков в неокантианстве, причем именно его фихтеанской тенденции.
Ведь эти упреки не безобидны. За ними следуют такие формулы, как "подчинение
теоретического
разума
практическому»
/непозволительное
для
теоретика/,
"волюнтаризм» /отнюдь не в том умеренном смысле, в каком о нем говорил Парсонс/,
немедленно ассоциирующийся с левацким "активизмом", и т.п. Поэтому Мюнху, как и
Парсонсу, в целях большой теоретической стратегии выгоднее оставить в своих
построениях какие-то лакуны, что-то неудачно связав, что-то не связав вообще,
выгоднее постоянно говорить о «двух уровнях", чем допустить слишком удачное их
опосредование, которое грозит из второго шага стать первым; т.е. вместо того, чтобы
объединять различенное, выступить истоком различения, как фихтевское Я. И как раз
поэтому, когда Ю. Хабермас упрекнул Парсонса и Мюнха за не слишком удачные
попытки ассимилировать Канта (6, с. 379 и сл.; 437 и ел.), Мюнх не случайно возразил,
что Хабермас понимает Канта в духе "идеалистического неокантианства", в связи с чем
ему остался недоступен "аналитический реализм /1/ Канта (17, с. 209-210).
Впрочем, упрек этот уже несколько запоздалый. Хабермас был одним из
немногих, кто пытался привить в социологии трансцендентальное мышление еще в бОе годы. Самым значительным здесь было его знаменитое исследование "Познание и
интерес" (5). Но в 70-е годы Хабермас отказался от трансцендентализма в его
радикальной форме. В новейшей фундаментальной работе Хабермаса "Теория
коммуникативного действия" (6) можно, скорее, найти параллели к "двухуровневому»
мышлению .Парсонса и Мюнха. Если первоначально Хабермас /еще в середине 60-х
годов/ под влиянием идущего от Канта противопоставления мира приро-ды и мира
свободы различал "труд» и "интеракцию», то затем то же различение было
воспроизведено в разведении "инструментального» и "коммуникативного» действий / в
сочинениях 70-х годов/. Ныне та же логика ведет его к разделению "системы» и
«жизненного мира». Очень важно заметить, что это различие ие совпадает с
отделением социального от несоциального, но выступает как дифференцирующий
момент самих социальных действий. Всюду речь идет о попытке отделить эту сферу,
143
где действия совершаются по схеме цель /средство, от той, где другой человек в
общении значим именно как другой.
Выше
мы
уже
писали,
что
такая
коммуникация
совпадает
с
чистой
общительностью, что является своеобразной онтоло-гизацией - противоречивой уже в
силу самого замысла кантовского "категорического императива».
Примечательно, что в последние годы растет число работ /книга Роуз - одна из
них/, в которых доказывается что ссылки на Канта в ранних исследованиях Хабермаса
малообоснованы и что его взгляды скорее базируются на идеях Фихте. Одновременно
сам Хабермас, который по сути своих построений мог бы тоже считаться сторонником
"кантианского поворота", избегает в новейших работах интенсивно ссылаться на Канта,
вероятно - не в последнюю очередь под влиянием этой критики. А она тем более
характерна для нынешнего положения дел, что Хабермаса критикуют, "поверяя»
Кантом.
Вернемся, однако, к исходной точке нашего обзора к книге Мюнха. В связи с
работой Роуз нас не может не удивить одно обстоятелъство; Мюнх не занимается
проблемой соотношения идей Вебера и Канта, при том, что о Вебере он пишет очень
подробно. Даже схема «взаимопроникновения" прилагается к концепции Вебера почти
без каких-либо кантианских реминисценций. Рискуем предположить, что с этой
задачей Мюнх просто не сумел справиться. И это не так странно, как кажется на
первый взгляд. При явно высокой зависимости Вебера от Канта и неокантианцев
анализ этой связи должен оказаться очень сложным и многосторонним. Может быть,
именно поэтому такого полноценного анализа еще нет, а есть отдельные исследования
с более или менее широким охватом материала. Как правило в них в связи с кантовской
традицией анализируется веберовская методология исследования "идеальных типов",
проблема ценностей и свободы от оценок в научных суждениях и т.п. Но для
нынешнего состояния дел характерно не то, что вообще изучаются связи «Вебер-Кант",
и не то, что таких исследований много, ибо всерьез писать о Вебере, не поминая Канта
вообще трудно, а "веберовский ренессанс" привел к увеличению числа серьезных
работ. Суть "кантианского поворота» заметнее в работах иного плана, авторы которых
эту давно уже зафиксированную ситуацию стремятся осветить под новым,
неожиданным углом зрения. Таковы страницы о Вебере в книге Роуз, таковы еще две
статьи, на которые мы хотим сослаться для примера. Это статья англичанина М.
Баркера "Кант как проблема для Вебера» (2) и американца Р. Хау "Избирательные
средства Макса Вебера: социология в границах чистого разума" (7).
144
Из них работа Баркера отличается,- на наш взгляд, особо серьезным характером.
У Хау же используется огромный материал по истории философии, науки (в частности,
химии), немецкой литературы /"Избирательное сродство" - известный роман Гёте/ и
биографии Вебера. Хау привел все важные цитаты из Вебера, где употребляется
понятие избирательного сродства. И хотя Вебер употреблял его не часто и не
формально, Хау удалось показать, что некоторые исследователи, еще раньше
указавшие на ключевое значение этого термина для понимания концепции Вебера,
были действительно, правы. И хотя Хау заявляет, что это "проблема истории, а не
экзегезы» (7, с. 367),. совсем без интерпретации он обойтись, конечно, не может.
Общий результат его исследования таков: "Для Вебера, стоявшего в великой традиции
немецкой филологической учености строение языка было фактическим строением
общества. Элементами этого строения были значения слов в их обычном употреблении
действующими в истории людьми. Если их рассматривать изнутри кантовских границ
его способа рассуждений, то эти действующие люди свободны в своем выборе
действительных поступков. Таким образом, история была бы логическим хаосом, не
существуй она вследствие порядка в универсуме значений, на которые эти
действующие люди ориентируют свои поступки. Этот порядок можно обнаружить в
избирательных средствах слов, большей или меньшей степени, до какой они обладают
внутренним сродством благодаря пересечениям их значений. Выбор возможных
поступков действующими людьми задан избирательными средствами универсума
значений. Строение действительного, ход истории и структура общества может быть
вычитано из этого строения возможного. Задачей веберовской науки является
изображение его меняющихся констелляций» (7, с. 382-383). Проще всего заключить,
что Вебер здесь оказался жертвой семантического подхода. Однако это не совсем так, и
Кант здесь вовлекается в рассуждения не случайно. Не используя понятия
«избирательное
сродство»,
Кант
говорил
просто
о
сродстве
всех
понятий,
обеспечивающем ступенчатый переход от самых частных понятий к самым общим.
Когда отсюда через Риккерта /его работы «Учение об определении» и Траницы
естественно-научного образования понятий»/ выводят к Веберу, к тому, что социальное
действие есть изначально действие осмысленно ориентированное, а сродство значений,
выраженных в языке обеспечивает социальность, т.е. взаимодействие с ориентацией на
другого, то тем самым вполне в духе неокантианства отсекается всякая природная,
объективная данность помимо той, что положена в смысле слов. Но если ограничиться
только этим, то тогда действующий человек становится вообще ненужным.
145
Марионетка общественных сил мало чем отличается от марионетки значений. Именно
поэтому и говорится об избирательном сродстве в границах чистого разума. Ибо за
этими границами начинается интеллигибельный мир свободы. Правда, тут эта свобода
оказывается лишь свободой выбора среди заданных возможностей, а от кантовского
понятия свободы мало что остается. Но здесь, как и в большинстве такого рода
интерпретаций, в расчет принимается лишь удобная для ассимиляции часть
философских построений Канта, как будто она и после такого разделения продолжает
пребывать сама собой.
Впрочем, не стоит винить в этом только Хау. Вероятно, не меньшую
ответственность несет и сам Вебер. Статья М. Баркера именно тем и интересна, что в
ней автор показывает, как Вебер дает «пессимистические ответы на вопросы, которые
поставил перед немецкой традицией Кант» (2, с. 225). При этом благостная и несколько
отстраненная картина чисто логического анализа сменяется острым обсуждением
социально-этических проблем.
На первый взгляд, Баркер берется за решение совершенно частной задачи. Он
указывает, что Вебер различал четыре типа ориентации действия: традиционное,
аффективное, целерациональное и ценностнорациональное действия. Соответственно,
поскольку эти ориентации могут лечь в основу веры в законность социального порядка,
можно различать четыре типа легитимности: традиционную, аффективную установку
ни этот порядок, рациональную веру в его ценность и веру в него, поскольку он
учрежден
легальным
путем,
т.е.
при
соблюдении
правил
формального
законодательства. Но вот когда Вебер переходит к «чистым типам легитимного
авторитета», то их обнаруживается всего три: рациональная вера в его легальность,
традиционная вера в его историческую незыблемость и святость и харизматическая
привязанность к исключительной, выдающейся личности. Какой же тип ориентации не
нашел себе соответствия среди типов легитимного авторитета? Судя по всему, говорит
Баркер, это тип ценностной рациональности. В отличие от целевой рациональности, где
действующие люди рассчитывают на достижение не строго фиксированной цели не
строго фиксированными средствами, ценностная рациональность предполагает, что
действие, направленное на выполнение какой-либо обязательной цели, ценно само по
себе, невзирая на возможные побочные следствия. Почему же, если можно верить .в
абсолютную ценность "естественного закона» как тип легитимного порядка, то нельзя
предположить, что и какому-то типу авторитета легитимность приписывалась бы
верящими в него людьми тем же способом?
146
Однако не забудем, что речь здесь идет не просто о вере в ценность, но о типе
рациональности. Но выбор ценностей, по Веберу, не рационален. Ценностная
рациональность определяется уже после Иррационального выбора ценности. Однако
тогда мы должны сделать вывод, что до тех пор пока анализ остается на уровне
индивидуального дейст~ вия и восприятия социальной ситуации, он показывает, что
действующие люди могут допускать, «что система авторитета выводит легитимность из
предельной рациональной цели или ценности. Эта возможность кончается именно в
том пункте, где мы переходим от индивидуального восприятия легитимности к самому
процессу легитимиташш. Решение, следовательно, должно состоять в том, что здесь
добавляется, а это - власть" (2, с. 236-237). Но власть, по, Веберу, это способность
любым путем навязать другим свое решение. Баркер обращает внимание на
специфический язык веберовского определения понятия "господство". В это
определение входит способность так влиять на поведение управляемых, как будто
управляемый сделал содержание приказа максимой своего поведения ради себя
самого29. Именно с этим определением господства и связана, по Баркеру,
невозможность сконструировать тип, соответствующий ценностной рациональности.
Как тут аргументирует Баркер? По Веберу, случайность рождения всегда ставит в
обществе одних людей в более выгодное положение, чем других. И те, кто находится в
этом привилегированном положении, склонны стремиться к упрочению своего
господства. Что было бы, если бы люди взаимно взвесили и уравновесили свои
ориентации? Это было бы демократическое - действительно демократическое
общество, свободное от господства. Но Вебер не допускает, что возможно такое
соединение взаимных ориентации помимо господства, при котором чужие приказы
воспринимаются так, как будто они суть максимы собственной воли подчиненного.
Однако при этом, справедливо говорит Баркер, совершенно извращается кантовское
понятие воли. Для него свобода воли есть условивч морали. Приказом может быть
лишь приказ разума, и лишь в силу этого воля, действуя свободно, воспринимает
содержание приказа как свою максиму. Рациональность н свобода у Канта суть понятия
симбиотические.
Итак,
сердцевина
веберовского
понятия
господства
не
в
том,
что
господствующему удается просто заставить что-либо делать подчиненных ему людей,
но в его способности навязать им свой взгляд на мир, свои ценности и цели так, как
будто это их собственные. Но тогда по-новому освещается вообще понятие
социального действия, по Веберу. Ибо вся суть "ориентации на другого" заключается в
147
том, что эта ориентация происходит уже под углом зрения избранных иелей. Речь идет
лишь о том, как их осуществить. Для этого избираются средства, причем среди средств
оказываются и окружающие - такова "ориентация". И тут те, у кого больше
преимуществ, ощущают свою позицию как законную и стремятся навязать это
представление другим.
Но раз так, заключает Баркер, общество, «основанное
НА
ценностной
рациональности, невозможно по двум причинам. Во-первых, если управляемые
действительно считают, что те ценности и цели, которые им "спущены" суть их
собственные, что социолог не может согласиться с тем, что приняли они их
рационально. Они, во-вторых, могут считать, что действуют ради самих этих ценностей
как высших целей. Но социолог знает, что это не их ценности. Следовательно, они
трудятся не ради них, а ради осуществления целей того, кто господствует. t выступая
сами при этом в качестве средств.
Но это значит, что веберовский пессимизм обрушивается на его собственную
концепцию. Ибо для
осуществимость
Канта возможность
рационального
"трансцендентальной
общественного
устройства
надежды" на
по
принципу
категорического императива была необходимым условием осмысленности морали. Но
у Вебера рушится и идея морали и сама идея рациональности, ибо мир непознаваем и
нет рационального знания о нем, а есть только фикции, более или менее годные для
нашего выживания. Поскольку господство, по Веберу, неустранимо, то неустранимы и
все пессимистические следствия лз этого понятия.
В этой резкой критике Вебера с кантианских позиций очень интересно то, что она
прозвучала как раз тогда, когда «веберовский ренессанс» уже развивался полным
ходом. Со статьей Баркера перекликается книга австрийского теоретика Л. Нагля
«Общество и автономия» (18). Как и Баркер, Нагль берет за основу философию Канта
(подчеркнем: «аутентичного Канта»). Ключевым понятием этики Канта, имеющей
наибольшее касательство к социологической теории, является понятие автономии
личности. Мы уже могли заметить, что точно так же, как при обсуждении статуса
социологической теории современные теоретики обращаются к «Критике чистого
разума» и говорят об априоризме, реальности вещи-в-себе, возможности опыта и пр.,
так при обсуждении содержательных проблем социологии немедленно возникаеь
проблема: «автономная личность и ее отношение к социальной реальности». Эту
вторую линию Нагль проводит очень последовательно. Настолько последовательно,
что его однообразный рефрен по поводу каждой новой теории, которую он разбирает:
148
«Итак, здесь тоже теряется автономия личности», - примерно на половине книги
заставляет потерять к ней всякий интерес. Это не совсем справедливо, потому, "что она
представляет собой очень квалифицированное историко-философское исследование
социальных теорий «от Гегеля до Хабермаса». Однако Нагль страдает своеобразным
философским снобизмом. Утеря поколениями и поколениями социологов-теоретиков
«автономно-ного субъекта» означает для него, в общем, просто философскую
ошибочность их построений. Правда, это входит в замысел книги кок опыта
"философской рефлексии» над социологией. Что же предлагает Нагль? Свою
монографию он рассматривает как пролегомены к длительному теоретическому
предприятию: возвращению "к опыту трансцендентальной философии до поворота к
фанатизму «интеллектуального созерцания» и "абсолютного знания" (18, с. 341), т.е. к
философии Фихте, Шеллинга и Гегеля.
Между тем, помимо этого благого призыва, уже есть целая программа
восстановления
трансцендентализма
в
социологии,
предпринятая
с
большим
уважением к уже существующим теоретическим подходам. Речь пойдет о последних
работах недавно скончавшегося крупного западногерманского социолога X. Шельски и
его последователей.
Случай с Шельски очень похож на случай с Парсонсом. Достаточно давно, в 1959
г., он выпустил книгу «Локализация немецкой социологии», в которой высказал идею о
так называемой «трансцендентальной теории общества». В то время эту идею не
поддержали, да и сам Шельски оставил ее на длительное время /но, конечно, Хабермас
во время своего «трансцендентального периода», наверняка, имел в виду и программу
Шельски хотя и не ссылался на нее/. Однако в конце 7О-х годов появились работы, в
которых идея Шельски не просто реанимировалась, но всерьез бралась аа основу
достаточно развернутых концепций. И так же, как и Парсонс, Шельски вновь
почувствовал к этому интерес, мало того, попытался указать перспективы более
масштабнее, чем проекты его последователей. Наконец, между Парсонсом и Шельски
есть еще одно важное биографическое сходство: их новое обращение к Канту
состоялось всега за несколько лет до кончины каждого из них. Философия Канта стала
играть большую роль в их научных построениях тогда, когда некоторые вопросы,
разрешаемые в ней, получили существенную личную значимость для обоих теоретиков.
О смысле жизни, смерти и бессмертии, нравственном долге писал, как известно, не
только Кант. Но у Канта исследование этих проблем построено так, что не
противоречит /во всяком случае, по замыслу, не должно противоречить/ научным
149
исследованиям, ориентированным на идеал чистого естествознания. Именно поэтому
Парсонс в статье о смерти особо акцентирует то обстоятельство, что хотя, corv ласно
всем
данным
естественных
наук,
человеческая
личность
прекращает
свое
существование вместе со смертью человека, философия Канта учит нас, - отнюдь не
оспаривая выводов естественных наук, — что окончательное разрешение этого вопроса
научными методами, все равно в утверднтельном или отрицательном смысле
невозможно.
У Шельски мы не обнаружим этого выраженным столь же четко и столь же
непосредственно, как у Парсонса. Это связано с вдвумя обстоятельствами. Во-первых,
он был воспитан на немецкой классической философии /в 1935 г. он защитил
диссертацию о Фихте/ и потому не способен к такому простодушному употреблению
философии, когда из нее берут, по потребности, то одно, то другое положение. Вовторых, Шельски в своей социологической карьере сознательно отказался от
построения теорий такого уровня общности, как у Парсонса. Ему были ближе Мертон и
"теории среднего уровня». Высшая социологическая проблематика занимает в его
работах более скромное место, но обращался он к ней на протяжении всей
социологической деятельности, а под конец жизни - более интенсивно.
Влияние Канта особенно „заметно в поздних статья» Шельски, собранных в
книгах « Социологи и право» и «Ретроспективы "антисоциолога» (23; 24), причем одна
из наиболее принципиальных работ «Социология - как я понимал и понимаю ее» вошла в обе книги (можно и здесь провести аналогию с известной автобиографической
статьей Парсонса о построении теории социальной системы). В статьях по социологии
права Шельски опирается на Канта не столько при помощи цитат и отсылок, сколько в
самой постановке проблемы и способах ее разрешения. Дело в том, что социология.
Шельски развивалась под решающим влиянием антропологии, в особенности
антропологической философии А. Гелена. Эта концепция говорит о социальных
институтах, необходимых для поддержания безопасности существования людей и
удовлетворения их базовых, "витальных» потребностей, а также тех потребностей,
которые возникли уже впоследствии, «искусственным» путем. Но в таком случае все
остальные социальные явления полностью релятивированы относительно институтов.
Институтам приписывается высшая общественная значимость, высшая ценность. Это
очень сходно с тем, как трактовал общество Дюркгейм /не забудем, что
основоположники культур-антро-пологии опирались именно на Дюркгейма/, только не
в пример Дюркгейму, куда более биологизированно. Проблема, которая занимала
150
Шельски несколько десятков лет, и состояла в том, как совместить с этой безудержной
апологией институтов идею о нравственной, ответственной, свободной личности. В
качестве «конечной цели», рассматриваемой по-кантиански как «руководящая идея",
как "идеал» Шельски называл «основную мысль о свободе лица, т.е. всемерного
свободного самоопределения индивидуума... Анализ социальной действительности, —
писал он, — само собой разумеется, может выпытывать у всех ее учреждений, действий
и т.д., насколько она соответствует руководящим идеям, связанным с лицом, и служит
выполнению; той конечной цели, которая в них предполагается" (24, с. 104).
Совершенно по-кантовски он говорит здесь о лице, а не о личности, так как речь идет о
правовых проблемах, именно к Канту он отсылает в связи с различением морали и
права, Канта называет «решительным теоретиком действия» (23, с.94) и ставит его в
пример современным социологам, ибо у него функциональное определение права
(конституирование личной свободы через отграничение произвола одного человека от
произвола другого) сразу переходит в соответствующее предписание для действия категорический императив. Иными словами, Шельски, подобно остальным теоретикам,
о которых было сказано выше, стремится найти пути совмещения индивидуальной
автономии и самодовлеющей социальности - в данном случае, социальности
институтов. И, как и в иных концепциях, неизбежным советчиком здесь оказывается
Кант. Однако тут возникает неизбежный вопрос. «А зачем теоретику нужно принимать
автономию личности?» Почему ему не согласиться с тем, что личность, поскольку она
включена в социальные связи, есть всего лишь результат их отчасти необходимого,
отчасти случайного пересечения? Возможный ответ философа на этот вопрос
очевиден- иначе, скажет он, невозможно сохранить основание моральности. Но для
социолога, как показывает история буржуазной социологии, нет ничего невозможного
в том, чтобы» рассматривать мораль просто как общественный институт и не ставить в
ее основание автономию личности. Для философии это тоже возможно. Но философ не
связан так, как социолог, с рассмотрением социального бытия, крупных социальных
явлений, процессов, вообще феноменов, которые нельзя свести только к действия
одной личности. Социологи, о которых шла речь выше, занимались, в основном,
вопросом, насколько удается совместить эти два момента рассмотрения: личность и
социальность. Но почему личность вообще должна быть вовлечена в это исследование,
они не спрашивали. Шельски же отчасти затронул именно этот вопрос.
О его высокой философской культуре свидетельствует то, что уже в 1959 г., когда
он впервые заговорил о «трансцендентальной теории общества», Шельски отличал ее
151
от общей социологической теории, в которой в аналитической системе категорий
обобщаются данные эмпирических исследований. Трансцендентальная же теория
должна была, по его замыслу, быть «критической теорией социального» и в этом
качестве воспринять немецкую традицию философии истории и социальной
философии. Эта теория должна была осмысливать условия социологического
мышления в связи с условиями социальной действительности как таковой.
/Примечательно, что прообраз такой теории Шельски, тогда еще не бывший весьма
правым теоретиком "неоконсерватизма», увидел в «Диалектике просвещения» М.
Хоркхаймера в Т. Адорно/. Именно в этом направлении попытались развить его идеи
Ф. Герхардт и Б. Шеферс. Ориентируясь на их работы, Шельски писал в статье
«Социология - как я понимал и понимаю ее, " что кантовская постановка вопроса,
заменяющая непосредственные метафизические и онтологические оценки природы,
этики, искусства исследованием способа их познания, является общим достоянием всех
научных дисциплин, отказаться от которого невозможно. «Ныне же, - продолжает
Шельски, - мне кажется необходимой более радикальная постановка вопроса о
предпосылках всего научного познания вообще. На него больше нельзя ответить
«Критикам теоретического и практического разума», но он указывает на ответ по ту
сторону всякой науки. Я вижу эти вопросы, но я не знаю никакого ответа на них. Он
заключался бы более не в самой науке, но, вероятно состоял бы в интеллектуальном
ограничении и дисциплинировании политически, хозяйственно социально или
публицистически действующих кругов лиц" (23, с. 89), Вот то направление, в каком
Шельски предлагает "трансцендировать" социологическое познание. Несмотря на то,
что он утверждает, будто не знает ответа на поставленные вопросы, некоторые
разъяснения он все же дает. «С одной стороны» это "трансцендирование» социологии
было нацелено без сомнения только на достижение научно-познавательной позиции
вне социологии, исходя из которой ее результаты следует подвергать не только
собственно социологической, но и состоящей из совокупной связи всех научных
достижений критике и перепроверке» (там же). Здесь речь идет о возвращении
философии ее приоритета. Именно в этом направлении и работают Ф. Герхардт и Б.
Шеферс. «С другой стороны, мои вопросы относительно исходной позиции этого
«трансцендирования» не нацелены ... никоим образом на способы научного познания,
но нацелены на поведение и существование самого человека», куда включается и
критическая рефлексия субъекта, и его совесть, и политическая деятельность ао
созданию и поддержанию институтов, и добросовестное исполнение своей работы (23,
152
с. 90). И уже отсюда делается шаг к своеобразному обоснованию социологии. Шельски
соглашается со своим учителем и другом А. Геленом в том, что самое главное у Канта понимание: необходимость действия шире, чем возможность познания. «Но это
означает, что тому, кто познает социальную действительность — как на то претендует
социолог — следует принять опыт перешагивающей «возможности познания"
"необходимости поступков» как настоящее априори всех социальных наук» (там же).
Итак, Шельски тоже не смог сколько-нибудь последовательно использовать идеи
Канта. "Антропологическое априори" Шельски выглядит не мене сомнительным, чем
другие попытки того же рода, предпринимавшиеся ранее Ю. Хабермасом и К.-О.
Апелем. Шельски излагает свою позицию так, как будто нет проблем /а если они есть,
то на некотором исходном этапе ими можно пренебречь/ совмещения "категорического
императива», "поддержки институтов» и "хорошо выполненной работы". Изначальная
нравственная оправданность в принципе любых социальных институтов - идея,
лежащая в основе "плюралистической этики» Гелена, — на самом деле не может не
прийти в противоречие с универсальной этикой категорического императива. То, чего
здесь не договаривал Шепьски, было решающим аргументом против него. Отметим
только социально-политический аспект этого обращения к Канту у Шелъски. Будучи
теоретиком "неоконсерватизма", Шельски, как и многие другие сторонники этого
течения, стремился представить его в качестве наследника классического либерализма.
Обращение к Канту было своеобразным гарантом подлинности этого либерализма.
Выше мы сказали, что Шельски не был способен к наивному выхватыванию из
философии лишь тех положений, которые понадобились в данный момент. Но
некоторые из его рассуждений наводят на мысль, что он был зато способен к
прагматичному, если не сказать ачному, передергиванию Канта в целях теоретической
политики и политической теории.
Этого нельзя сказать о Ф. Герхардте, одном из тех, чьи работы побудили Шельски
вновь обратиться к проблематике "трансцендентальной теории общества». Статья Герхардта
"Трансцендентальная
теория
общества":
Философское
примечание
к
социологической программе» (4) была напечатана в "Журнале по социологии». Это
обстоятельство, да еще то, что ее автор, ссылаясь на Шельски, отчасти и стимулировал
изменения в его поздней концепции, заставляют нас присмотреться к ней. Никакого
серьезного резонанса эта работа профессионального философа не вызвала. Это само по
себе любопытно в атмосфере «кантианского поворота». Герхардт, по существу, сделал
то, что» только обещал сделать Нагль, писавшмй уже через несколько лет. Отсутствие
153
солидного резонанса в случае с книгой Нагля понятно, В случае со статьей Герхардта на первый взгляд нет. Правда, ее автор стремится исходить из "аутентичного Канта».
Но в отличие от Нагля, ои не стремится на этом основании дискредитировать всех
остальных теоретиков.
Основные положения Канта Герхардт принимает догматически. Однако он, как и
Шельски, озабочен нахождением какой-то единицы отсчета, благодаря которой можно
было бы обосновать принятие кантовских принципиальных положений.
У Шельски это было "социально-антропологическое», как его можно назвать,
априори: индивид во всей своей антропологической определенности, сочетающейся с
социальной
ответственностью
и
неизвестно
откуда
взявшейся
субъективной
автономией. Герхардт следует за своим философским учителем Ф. Каульбахом,
автором книги «Принцип действия в философии Канта». Ее название перекликается со
знаменитым "Принципом надежды» Э. Блоха. Но любопытнее всего то, что Шельски
ведший в последние годы жизни полемику с Блохом, выдвинул по контрасту с ним
свой "принцип опыта», в общих чертах воспроизводящий указанную идею
«антропологического априори». Что такое принцип действия? «Трансцендентальная
теория опыта спрашивает о тех условиях, которые должны быть исполнены, чтоб);!
сделать познание объективным. Такое познание наличествует в суждении, в действии
рассудка, как еще говорит Кант, которое так описывает предмет, что это описание в
принципе могло бы даваться и любым другим субъектом суждения или действия. ...
Трансцендентальные правила имеют статус условий действия или производства,
которые при конституировании мира объектов оказываются уже всегда значимыми" 4,
с. 132 J. Этот способ истолкования оказывается решающим для всех дальнейших
рассуждений.
Именно
так
вводится
понятие
трансцендентального:
«транcцендентальный анализ действия. Понятие "трансцендентального» обозначает те
фундаментальные условия действия, которые должны быть исполнены, если субъект
хочет так объясниться относительно объектов, чтобы это смогли понять другие
субъекты» (4, с. 133). Легко заметить, что благодаря этому уже создается основа для
сочетания этого подхода с социологическими проблемами: во—первых речь идет о
действии, без сомнения, одном из главных понятий современной буржуазной
социологии; во-вторых, берется не просто одиночное действие, но действие,
обеспечивающее взаимопонимание индивидов, т.е. включащее ориентацию на других отличительное
свойство
социального
действия,
по
Веберу.
Наконец,
здесь
прочерчивается возможность единства и различия трансцендентально-теоретической и
154
трансцендентально-практической установки. «Трансцендентальный вопрос, - пишет
Герхардт, - постоянно сводится к обосновывающим мир, т.е. конституирующим сферу
познания действиям людей. В познании - субъективная достоверность результата
суждения, а в протекании практики - гарантия личной самотождественности
понимаются по образцу человеческого действия» (4, с. 142). Если единство - в
человеческом действии, то в чем же различие?
Герхардт показывает, что если человек понимается по образцу природных
феноменов, как это имеет место в позитивистской эмпирической социологии, то
социологии в этом случае не нужна своя трансцендентальная теория. Другая
возможность описанная в отличие от первой, не по образцу трансцендентального
подхода «Критики чистого разума», поскольку в той исследуются науки о неживой
природе, но по образцу «Критики способности суждения», исследующей возможность
познания природы, живой, состоит в отождествлении общества как целого с большим
организмом. Таков, по Герхардту, и современный системный подход в социологии. Но
если в первом случае не нужна особая трансцендентальная теорий общества, вопервых, потому, что и потребность в ней не Может возникнуть у социологовэмпириков, а во-вторых, потому, что отсутствует специфическое «различие между
обществом и миром механических закономерностей, то во втором случае, хотя такое
различие и указывается и общество как целостная система не отождествляется с
природными феноменами, но это различение, пишет Герхардт не касается самого
главного - проблемы человеческой свободы.
Собственно говоря, с позиций даже трансцендентализма, исследующего только
возможность наук о природе, свобода не есть предмет опыта. Но поскольку он изучает
именно возможность опыта, то трансцендентальной теории свободы быть не может.
Кант, однако, - продолжает Герхардт, имел в виду, строго разделяя-мир природы и мир
свободы, причинность особого рода: причинность свободы. Именно с этого рода
зависимостями и должна иметь, дело трансцендентальная теория общества. «Личная
свобода действия лежит в основе свободы в обществе. Человек как лицо конституирует
сам себя, поскольку он желает себя как личности -невзирая конечно, на необходимые
для этого естественные и социальные условия» (4, с. 139). Это очень важное
положение. Ибо оказывается, что сеть социальных связей, принуждающих человека не
менее жестко, чем связи природные, не есть последнее слово социальной науки. Дело
не просто в том, что в обществе возможна свобода. «Общество явлется настоящим
миром человека. В нем человек сознательно становится среди себе подобных. Он
155
должен уметь желать, быть частью этого мира». [4, с. 139-140] Таким образом человек
есть собственно человек лишц в обществе, каковое тоже есть лишь тогда собственно
общество, когда оно конституируется свободно действующими и признающими себя в
качестве свободных людьми. И именно в исследовании того, что делает человек с
собой и себе подобными как свободно действующее существо, заключается истинная
задача социологии. Но она не может быть исполнена, пока социолог—теоретик как
человек, способный на свободное действие, свободно не признает этой особенности
общества. "Трансцендентальная констелляция познания, природы - делающий
суждения субъект как условие предметности - находит, следовательно, соответствие в
трансцендентальной
теории
общества:
практическое
измерение-общественной
деятельности познается лишь постольку, поскольку действующий субъект не отрицает
своей собственной практической позиции и практической позиции других» (4, с. 140).
Теперь мы видим, почему статья Герхардта не вызвала особого шума. Дело не
только в том, что даже более или менее последовательное проведение точки зрения,
согласно которой социальность может быть мыслима лишь в связи со свободными,
ответственно действующими субъектами, не могло найти отклика у тех социологов,
несовершенство /хотя в не абсолютную неправильность"/ которых вскрывал Герхардт.
Дело еще и в том, что трансцендентальная теория общества, как мы видели на примере
и Шельски, и Герхардта, требует, чтобы определенную личную позицию занял сам
социолог. Но призыв к ответственности, даже если он исходит не от «неоконсерватора»
Шельски, а от более абстрактно-теоретически ориентированного Герхардта, находится
в противоречии с теми позитивистскими идеалами, на которые ориентируются в
большинстве случаев западные социологи. Идея свободы, идущей дальше, чем принцип
буржуазного индивидуализма, свободы, приводящей к ответственности, им чужда.
Статья Герхардта интересна тем, что в ней "кантианский поворот» выражен с
наибольшей чистотой. Таким он мог бы быть: и по теоретическим основаниям,
наиболее близким к Канту, и по этической позиции, неразрывно связанной с этими
основаниями. Но таким он не стал. Выйдет ли эта тенденция за пределы отчасти
успешного, но в основном искусственного и эклектического соединения идей
"классиков» буржуазной социологии и Канта, покажет будущее.
Подведем некоторые итоги. Материалы обзора свидетельствуют, что "поворот к
Канту» является одной из самых ощутимых тенденций современной буржуазной
социологии. Обращение к философии Канта стало почти неизбежной составляющей
новейших методологических изысканий западных социологов, в особенности,
156
поскольку эти изыскания связаны с переосмыслением «классического» наследия. Если
взгляды ни М. Вебера, ни Дюркгейма, ни Пар-сонса не могут быть адекватно поняты
без привлечения философии Канта, и если именно эти три парадигмы определяют, чем
должна быть социология, то Кант становится решающим действующим лицом в
истории социологии.
Однако указанная тенденция не однозначна и весьма противоречива. Ибо Кант
нынче все чаще выступает не только в качестве "отца-основателя» социологии, но и в
качестве ее судьи. Сообразно с этим его идеи столь же часто используются в виде
критического масштаба для оценки современной социологии, как и для углубленного
обоснования ее.
Другое противоречие состоит в том, что совершенно несомненно и влияние Канта
на классиков буржуазной социологии, и невозможность совместить "аутентичного
Канта» с этими концепциями. Поэтому характерно, что имеются либо попытки
прагматично фальсифицировать Канта для введения его идей в ту или иную
концепцию, либо, не фальсифицируя его, с этой, более адекватной кантианской
позиции, критиковать социологию. Но важно иметь в виду, что эта фальсификация
состоит не столько в подмене или искажении главных положений Канта /хотя
встречается и это/, сколько в их облегченной, поверхностной интерпретации.
Теоретиков задающих тон в «кантианском повороте", привлекает следующее: 1)
возможность совместить в существенных аспектах позитивистские и «гуманитарные»
компоненты социологии, в частности 2) рассмотрение человека одновременно как
существа «природного» и "свободного», т.е. вплетенного в сеть социально-природных
взаимосвязей, но обладающего личностной автономией; 3) возможность сообщить не
непосредственно-онтологический, но тем не менее общезначимый, априорный характер
своим концепциям; 4) возможность избежать социологического редукционизма при
рассмотрении норм, ценностей и т.п. и в то же время избежать радикального дуализма
"фактов» и "норм» /что служит как бы «метафизическим» основанием для
вышеупомянутого совмещения позитивистской и гуманитарной социологической
методологии/. В результате Кант выступает для социологов как теоретик и идеолог
универсального не-онтологического синтеза разнородных
сфер, равно как и
методологий их изучения, непримиримая противоположность которых долгие годы
была источником неразрешимых диа-лемм буржуазной социологии.
Эта синтетическая функция в сфере теории органично дополняется ярко
выраженной
этической
установкой
и
не
менее
отчетливым
политическим
157
либерализмом. Именно поэтому обращение к Канту оказывается составлявшей одной
из наиболее широких тенденций перестройки современного буржуазного сознания:
перестройки с "кризисной" установки на "стабилизационную".
ЛИТЕРАТУРА
1. Alexander J.C. Formal and substantive voluntarism in the work of Talcott Parsons: A
theoretical a. ideological rein— terpretation. — Amer. sociol. rev, Albany; New York, 1978,
vol. 43. N 2..P, 177-198.
2. Barker M. Kant as a problem for Weber. - Brit. j. of sociology, L., 1980, voi; 31, N 2, p.
224-245.
3. Bershady H.J. Ideology and social knowledge. - Oxford, 1973. - 178 p.
4. Gerhardt V. Transzendentale Theorie der Gesellschaft: Philos. Anmerkung zu einem soziol.
Programm. — Ztschr. fur Soziologie, Stuttgart, 1979, Jg. 8, H.2, 8/429-144.
5. Habermas J. Erkenntnis und Interesse: Mit einem neuen Nachwort. - Frankfurt a.M., 1975.
- 420 S.
6. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. •— Frankfurt a.M., 1981. Bd 2, Kritik
der funktionalistischen Vernunft. 633 S.
7. Howe R.H. Max Weber»s elective affinities: Sociology within the bounds of pure person.
— Amer. j. of sociology, Chicago, 1978, vol. 84, N 2, p. 366-385.
8. Jensen S. Interprenetration: Zum VerhKltnis personaler u. sozialer Systeme? — Ztschr.
fUR: Soziologie, Stuttgart, 1978, Jg. 7, H.2, S. 116-129.
9. Joas H. Handlungstheorie und das Problem sozialer Ordnung. — Кolеr Ztschr. fur
Soziologie u. Sozialpsychologie, 1984, Jg. 36, H. 1, S. 165-172.
10. Joas H. Zu Richard Munchs Entgegnung auf meinen Beitrag "Handlungstheorie und das
Problem sozialer Ordnung.-» Ibid., H. 2, S. 418-419,
11. Kasler D. Review of "Theorie des Handelns..." .By Richafd Munch. Amer. j. of sociology,
Chicago, 1984, vol. 90, N2, p. 440-442.
12. Kelly R.F. The legalization of the Kantian tradition in moral philosophy and sociology:
An analysis of Rawls a, Parsons, - Sociol. focus, Kent, 1984, vol. 17,N1,p.45-58.
13. Luhmann N. Interpenetration: Zum Verh»dlnis personaler u. sozi aler Systeme. — Ztschr.
fur Soziologie, Stuttgart, 1977, Jg. 7, H. 1, S. 62-76.
14. Luhmann N. Interpenetration bei Parsons. —Ibid., 1978, Jg. 7, H.3, S. 299-302.
158
15. Munch R. Uber Parsons zu Weber: Von der Theorie der Rationalisierung zur Theorie der
Interpenetration. — Ibid., 1980, Jg. 8, R. 1, S. 18-53.
16. Munch R. Theorie des Handelns: Universelle Ideen u. partikulare Konkretisierung. —
Kolner Ztschr. fur Soziologie u. Sozialpsychologie, 1984, Jg. 36, H. 2, S. 415-418.
17. Munch R, Theorie des Handelns: Zur Rekonstruktion der Beitrage von Talcott Parsons,
Emile Durkheim u. Max We.-ber. - Frankfurt a.M., 1982. - 693 S.
18. Nagl L. Gesellschaft und Autonomie: Hist. — systematische Studien zur Entwicklung der
Sozialtheorie von Hegel bis Habermas. - Wien, 1983. - 351,S.
19. Parsons T. Action theory and the human condition. — N.Y., 1978. -- 464 p.
20. Parsons T. Social systems and the evolution of action theory. -- N.Y., 1977. -- X, 420 p.
21. Pirillo N. Formula del comando e organisatione del potere: La razzionalizadone kantiana.
— Sociologia, Roma, 1983, vol. 17, N 2, p. 97-121.
22. Rose G. Hegel contra sociology. - L. etc., 1981. -261 p.
23. Schelsky H. Ruckblicke eines "Anti-Soziologen". - Op-laden, 1981. - 178 S.
24. Schelsky H. Die Soziologen und das Recht: Abhandlungen u. Vortrage zur Soziologie von
Recht, Institution u. Plannung. - Opladen, 1980. - 308 S.
А.Ф. Филиппов
В «сциентистский» период развития буржуазной социологии (до середины 50-х годов) это происходило
по причине обожествления науки в "революционаристский» (60-е годы) - по причине веры во
всемогущество социально—политических методов решения всех проблем. что работа М. Вебера
«Протестантская этика и дух капитализма» издана в ФРГ 5-м изданием в 1979 г.
2
И прежде всего - его социологии религии, которая замышлялась автором именно как сравнительноисторический Социологический анализ "хозяйственной этики мировых религий" - христианства,
мусульманства, буддизма и конфуцианства.
3
См. отклики на нее Хабермаса и Лумана и др.
4
Справедливосги ради следует отметить, что в рамках нынешнего "веберовского ренессанса" задачу
целостного понимания Вебера задолго до авторов цитируемой статьи не только поставил, но и попытался
решить в своей книге И. Вайс. "...Убеждением, мотивирующим предлагаемую работу, — пишет он, в
введении к ней, — является мысль о том, что именно единая связь веберовского мышления обладает
большой плодотворностью для современной дискуссии об основании социальных наук" (З0. с. 16).
5
Специально об этом в кн.: "Неомарксизм и проблемы социологии культуры" (3).
6
Во всяком случае именно так представляют себе причины "исчерпания" этого "ренессанса»
представители "стабилизационной" тенденции в буржуазной социологии.
7
"Единственная работа такого, рода, — отговаривается И. Вайс, - которая первоначально вышла в
Германии и которая до сих пор все еще ближе» всего отвечает обозначенной цепи, — это "Наукоучение
Макса Вебера" Л.Ф. Шельтинга (30, с. 11-12). Рядом с работой Шельтинга он упоминает также книгу Т.
Парсонса "Структура социального действия", 1937 (15) и Р. Бендикса "Макс Вебер — интеллектуальный
портрет", I960, (4). Однако Парсонс не удовлетворяет И. Вайса в связи с тем, что ему не удалось
полностью выявить "самобытную природу" веберовских предпосылок, в отличие от дюркгеймовских и
паретовских, а Бендикс — по гой причине, чго его интерес HP был обращен на "систематическое
разъяснение веберовского понятия социологии" (30, с. 12).
8
Т. Кун, который ввел это понятие в современный науковедческий обиход, определяет его следующим
образом: "Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение
определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному «сообществу" (2, с.
1
159
11). «Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической практики
научных исследований — примеры, которые включают закон, теорию, их практическое применение и
необходимое оборудование, — все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные
традиции научного исследования" (2, с. 27-28).
9
Т.е. открывающих перспективу «критки идеологии». – Примеч. Авт. Обзора.
10
Речь идет о поданной в несколько ином терминологическом облачении и в ином
("ценностнонейтральном», т.е. исключающем оценочное отношение) ключе идеи, введенной в
теоретическое сознание уже «Манифестом Коммунистической партии»: "Буржуазия повсюду, где она
достигала господства, разрушала все патриархальные, идиллистические отношения, Безжалостно
разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и
не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана, В
ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского
энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую
стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну
бессовестную свободу торговли...
Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными
и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста,» священника, поэта, человека науки
она превратила в своих платных наемных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и свела их к чисто
денежным отношениям» (3, с. 426-427).
Развивая ту же мысль в подготовительных работах к "Капиталу» и придавая ей более обобщенную
формулировку, К. Маркс писал: «Производство, основанное на капитале... создает систему всеобщей
эксплуатации природных и человеческих свойств, систему всеобщей полезности»... и нет ничего такого,
что вне этого круга общественного производства и обмена выступало бы как нечто само по себе более
высокое, как правомерное само по себе (1, ч. 1, с. 386-387).
11
Под формальной рациональностью М. Вебер понимал такой тип человеческой деятельности, при
котором как цель, так и средства ее достижения рассматриваются чисто утилитарно — с точки зрения
"полезности" первой для преследующего ее человека и "полезности" вторых для ее достижения. В статье
К, Зайфарта понятие "формальной" рациональности отождествляется с понятием "целерацио-нальности",
с помощью которого М. Вебер характеризовал первый из четырех выделенных им типов человеческой
деятельности (целерациональная, ценностнорациональная, эффективная и традиционная).
12
Под "материальной" рациональностью - по противоположности с истолкованием рациональности
"формальной» -у Вебера понимается деятельность, в которой исходной является не просто
"оптимальная" с точки зрения формальнологической связи между целью деятельности и средствами ее
достижения, но содержательная оценка — с точки зрения высших ценностей человеческого
существовании — как самой цепи деятельности, так и применяемых для ее достижения средств, В статье
К. Зайфарта понятие "материальной" рациональности идентифицируется с понятием "ценностной»«
рациональности; причем, как специально подчеркивает он в одном из своих примечаний, "материальное"
означает (, у Вебера. - АвтГ) не только как в правовой традиции, неформальные элементы, мыслимые
или желаемые порядки и состояния, но также, без более точного отграничения, фактические,
эмпирически действенные интересы, которые стоят позади формальных порядков или эмпирической
данности, и условия, которые делают возможными формальные порядки» (26, с. 221).
13
Апеллируя к этой - "диалектической", так сказать, предпосылке, К. Зайфарт одним махом решает все
антиномии веберовской социологии, выявившиеся как уже при жизни Вебера, так и после его смерти; и
прежде всего противоречие между "пристрастностью" веберовских исследований и "полной
"реалистичностью"", требуемой принципом свободы от ценности. Что же касается явно
напрашивающегося здесь вопроса о том, не находится ли "одновременное предположение
рациональности и иррациональности» в противоречии с методической "фавориэацией"
целераштональности в понимающей социологии Вебера, где она явно выполняет роль эталона, то автор
статьи просто-напросто отводит его ссылкой на "поверхностный» характер этой коллизии. Столь же
"внешним" кажется ему и противоречие между упомянутым постулатом и решительным веберовским
отрицанием "всех попыток обосновать особую "внутреннюю" связь деятельности, свободы и
иррациональности" (26, с. 217).
14
В виде исключения в данной связи фигурирует лтшь Э. Гоулднер (10).
15
Ср. характерное название работы о взглядах Парсонса на Э. Дюркгейма: "Классик о классике» (35).
16
Конечно, всегда были исключения. Так, в 60—х годах одну из самых удачных интерпретаций (в
основное с неопозитивистских позиций) парсонсовского перехода от действий и отношений между
индивидами к разным системным уровням коллективной организации дал П. Коэн (16, с. 95-128).
Ключевым в той реконструкции было понятие взаимодействия.
160
Подробному анализу новейших гносеологических и теоретических споров в буржуазной социологии
посвящен весь первый том четырехтомной «Теоретической логики в социологии» Алексондера (см.
особенно (13, т. 1, с. 2-3,40 и далее). К сожалению, том 4 о Парсонсе был нам недоступен в момент
написания статьи.
18
Перефразировка изречения Паскаля о боге /ср.: 7, с. 184, афоризм 485/.
19
Согласно "аналитическому реализму» Парсонса; "понятия ... соответствуют не конкретным
феноменам, а заключенным в них элементам, которые аналитически отделимы от других элементов»
(33,,с, 370).
20
Подробно об этом см. в обзоре Ю.Н. Давыдова в настоящем сборнике.
21
О современной полемике вокруг Парсонса см, обзор АЛ. Ковалева в настоящем сборнике.
22
Т.е. по «Критике чистого разума» И. Канта.
23
В книгу эта работа вошла после двух публикаций в журнале "Дедалус".
24
Не только Бершеди, но и многим другим социологам можно предъявить упрек во не вполне
корректном изложении Канта. Но «аутентичный Кант» вообще редко фигурирует в этих построениях.
25
См.: Simmel G., Exkurs uber das Рroblem wie ist Gesellschaft moglich?—ln: Simmel G. Soziologie.
Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung. З.Аufl. Munchen; Leipzig, 1923, S. 21-30.
26
О концепции Александера см. статью А.Д. Ковалёва в данном сборнике.
27
В этой связи Мюнх упоминает известную книгу Дж. Ролза "Теория справедливости". Любопытно, что
имеется специальное исследование Р. Келли, сравнивающего моральную философию Ролза и
социологию Парсонса именно с точки зрения общей им обеим кантовской традиции (12).
28
На русский, как и на английский, невозможно перевести различие между немецкими терминами
Gultigkeit (его использовал Кант) и Geltung (его впервые ввел Лотц). Поэтому Роуз в тексте все время
дает немецкие эквиваленты, которые мы опускаем всюду, за исключением цитат, имея в виду, что
применительно к неокантианской традиции речь все время идет именно о Geltung.
29
Специально о кантовских формулах приказа и подчинения авторитету см, статью Н. Пирилло [21].
Любопытно в связи с дальнейшим, что об интериоризашш авторитета здесь говорится в связи с
кантовским гипотетическим императивом, тогда как формула Вебера напоминает об императиве
категорическом.
17
161