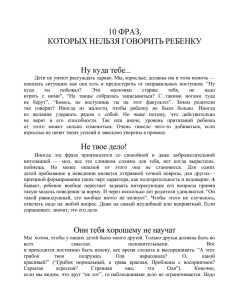Я приду снова (2 часть)
реклама
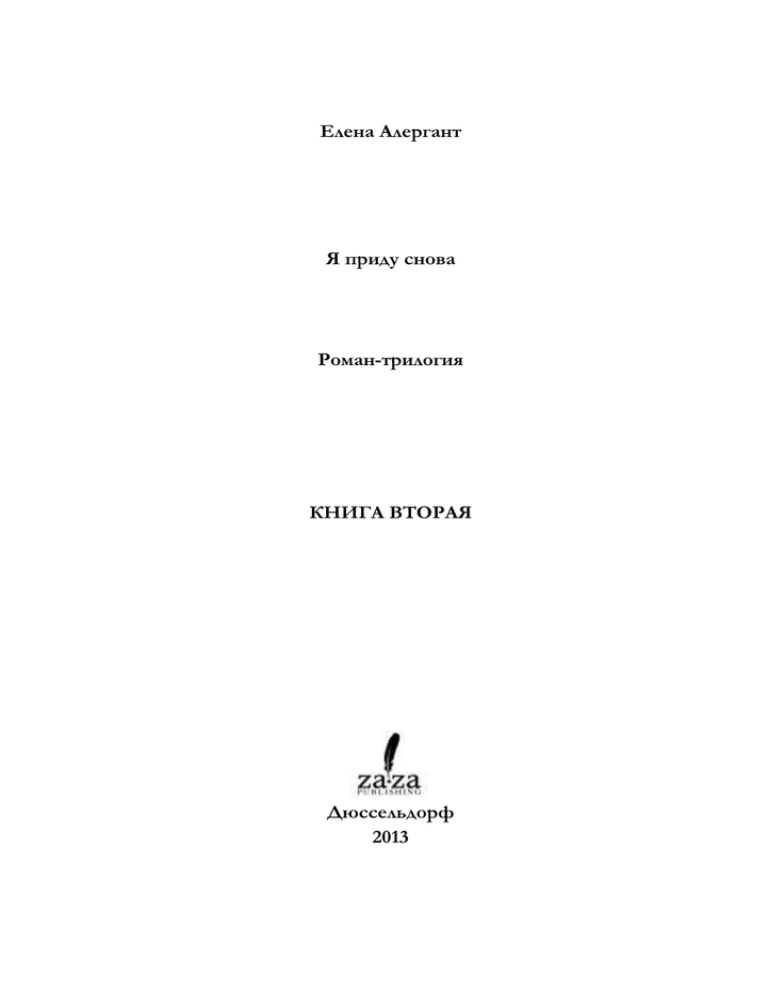
Елена Алергант Я приду снова Роман-трилогия КНИГА ВТОРАЯ Дюссельдорф 2013 Елена Алергант. Я приду снова. Роман-трилогия. Часть II Copyright © 2013 Елена Алергант Редактор: Евгения Жмурко Дизайн и оформление: The Val Bochkov Studio © (USA) ZA-ZA Verlag: http://za-za-verlag.net/ Düsseldorf, с. 385 Елена Алергант представляет вторую книгу трилогии «Я приду снова». …Три дневника, три одинаковых портрета, три женщины, которых разделяют четыре поколения. Правнучка наследует не только лицо, но и внутреннюю суть прабабушки… Что замыслила природа, повторяя этот облик снова и снова? Почему все они, рано или поздно, приходят в этот дом одинокими и потерпевшими крушение? Пролог Май 1917 года. В январе я отметила полувековой юбилей, но сегодня, проведя неделю в немыслимом для любого разумного человека путешествии, ощущаю себя вдвое старше. Семь дней пересадок, ожиданий случайных оказий и ночёвок в набитых клопами придорожных гостиницах. Всего неделю назад, не дождавшись окончания войны, я покинула Париж. В самое неподходящее для поездок время сбежала из города, в котором родилась и состарилас. Немецкая армия, собрав последние силы под Марной, грозила со дня на день захватить столицу. Люди, измученные страхом и голодом, спасались от иноземцев, а я бежала от самой себя, пообещав маме вернуться через пару недель, здоровой и живой. Много лет назад одна из испанских бабушек подарила мне маленький домик в рыбачьем посёлке на краю Андалузии. Она достала витиеватый ключ из украшенной серебристым перламутром шкатулки красного дерева, и сказала на своём родном языке: Это, внешне нелепое строение, принадлежит женщинам нашей семьи более ста лет. Они приходили туда, чтобы успокоить душу и понять, как жить дальше. Говорили, стены снимают боль, а море помогает принимать правильные решения. Теперь он твой. От бед никто из нас не застрахован. С тобой тоже всякое может случиться, но обещай: прежде чем впадать в отчаяние, ты поедешь туда и попытаешься обрести себя снова. Вернув ключ на прежнее место, она протянула три аккуратно сложенных листочка бумаги: подробный план местности, завещание, скреплённое подписью местного пастора и фотографию дома — нелепого строения, напоминавшего голубятню, разместившуюся на останках средневековой руины. Бабушка говорила о неизбежных маленьких бедах, но то, что привело меня в Андалузию трудно назвать просто бедой. Это полное и окончательное крушение так хорошо начавшейся жизни, и трудно поверить, что какому-то целебному дому хватит сил снова вернуть ей значение и смысл. И всё же... Я нашла местного пастора в свежепокрашенной, аккуратной церквушке в центре посёлка. Крепкий, среднего возраста мужчина с густыми бровями и сочным ртом, вопросительно уставился на незнакомую пожилую даму, скрывающую лицо под густой вуалью. — Сеньора, я могу быть Вам чем-то полезен? — Да, можете. Моя бабушка, сеньора Мария... — Боже милостивый. Всё же приехали. Я, честно говоря, начал побаиваться, что все мои усилия были напрасны. — Что Вы имеете в виду? — Сеньора Мария поручила мне хранить домик для её внучки. Сказала: он ей когда-нибудь обязательно понадобится. Завещала церкви большое пожертвование и взяла с меня слово беречь дом, как зеницу своего ока. — И вы сберегли? Пухлое лицо пастора приняло обиженное выражение. — Ещё как! Пойдёмте. Я отведу Вас туда. Неспеша продвигаясь по деревне и чинно раскланиваясь с редкими в это время прохожими, мы вышли к морю. Поразительное спокойствие! Гладкая, лазурная поверхность и несколько рыбачьих баркасов почти у линии горизонта. — Неужели у вас всегда так тихо? — Что Вы. Такое случается всего лишь пару дней в году. Ещё третьего дня так штормило... Посмотрите, докуда волны доходили, — пастор показал груды грязной тины, разбросанной почти у дороги, — рыбаки неделю без дела по домам отсиживались. Всю дорогу пастор монотонно рассказывал, как все эти годы следил за домом. На оставленные бабушкой деньги ежегодно ремонтировал фасад, штукатурил и белил каждую трещину, чистил камин, проветривал и сушил старые стены. Неделю назад, как чувствовал, послал невестку пыль вытереть и камин протопить. Его болтовня, скользя по поверхности моего сознания, не мешала думать о том, что сейчас было важнее всего. Обогнув большую скалу, похожую на ступенчатую башню, мы вошли в просторную бухту. Три почти одинаковых деревенских домика, построенных в соответствии с местным укладом, сгруппировались в центре. Четвёртый, как бы стыдясь своей нелепости, отступил в самый дальний угол. Он выглядел так же неприглядно, как на фотографии. Человек, построивший этот дом, был большим оригиналом. Я вложила подаренный бабушкой ключ в резное отверстие замка. Легкое скольжение металлических частей подтвердило правоту пастора: все эти годы он находился в честных, заботливых руках. Изнутри домик выглядел гораздо симпатичнее, чем снаружи: большая светлая гостиная с камином, две маленькие квадратные комнаты в первом этаже, уютная кухня и просторный чердак с большим окном, выходившим на море. Вдоволь нахваставшись царившим внутри порядком, пастор растопил камин и удалился, пообещав прислать на первое время кое-что из еды. А я, осмотревшись, принялась раскладывать свой скромный багаж в ящики массивного, обитого железными накладками, комода. Тщательно протёртые от пыли ящики, покорно открывали свои беззубые пасти, поглощая предметы моего туалета. Только один почему-то заупрямился. Видать что-то в нём перекосилось. Ну и пусть. Его покорные сотоварищи всё равно остались полупустыми. Выпив принесённого пастором чаю, я уютно пристроилась у горящего камина, привыкая к воздуху и стенам нового жилища. Похоже, оно и в самом деле гостеприимно. Даже старомодная, добротная мебель придаёт ему особый деревенский колорит. На глаза опять попался непокорный ящик: как могло такое случиться, неужели пастор за ним не доследил? Или он с секретом? Часто читала, что старые мастера изобретали всевозможные хитрости, защищая хозяев от домашних воров. Любопытство, свойственное любой женщине, победив лень, погнало к загадочному ящику. На поверхности не осталось ни одного выступа, ни одного сучка, на который не надавили бы мои пальцы. Какая глупость! Ни один профессиональный вор не станет тратить время на подобные хитрости. Взломает комод и возьмёт всё, на чём можно заработать. Такая защита нужна только матери, прячущей от детей колющие и режущие предметы. Значит секрет находится в зоне, недосягаемой для любопытной детской ручонки, то есть выше его роста. Крышку комода украшал резной орнамент; ритмично чередующиеся цветы и листочки. В одном месте ритм нарушался двумя листочками, следующими один за другим. Я нажимала на них по очереди, пыталась крутить в разные стороны, но деревяшки не двигались с места. И вдруг, случайно надавив на оба сразу, уловила лёгкий щелчок и потянула к себе упрямую ручку. Ящик открылся, предоставив в моё распоряжение нехитрое содержимое: разноцветные лоскутки, ржавые ножницы, спутавшиеся клубки шерстяных ниток и старую, побитую молью шляпу. Когда-то она была бордовой и широкополой, но сейчас... Жаль. В прежней жизни у меня была точно такая. Помнится, заказала её, желая повторить облик прабабушки на старом портрете. Теперь она мне уже никогда не понадобится. Вслед за шляпой выскользнули кожаные перчатки такого же цвета. Они сохранились несколько лучше. Мне даже удалось натянуть их на руки, не разорвав по швам. Похоже, ручки, носившие их, как и мои, не отличались особым изяществом. Первые подозрения заставили сердце забиться быстрее. Неужели... Да, именно так. Под перчатками лежал круглый медальон размером с ладонь — копия портрета, знакомого мне с детства. Портрета моей загадочной прабабушки, как две капли воды похожей на меня. Это было моим лицом двадцатилетней давности, до того, как... нет... об этом потом, потому что под медальоном лежала толстая тетрадь в коричневом кожаном переплёте, исписанная округлым, аккуратным почерком. Слава богу, по требованию испанской части семьи, я с детства усердно училась читать и писать на их языке. Спасибо, родные мои. Вы подарили мне шанс прочесть дневник женщины, многие годы тревожившей моё воображение. С первых же строчек, позабыв о времени, я погрузилась в её жизнь и вернулась в действительность, лишь перевернув последнюю страницу. Плавный, мелодичный слог возрождал живые картины прошлого, лица, движения и характеры моих предков, которых я за эту ночь успела узнать и полюбить. Проникла в тайну жизни женщины, уверенной, что когда-нибудь она вернётся в этот мир снова. Прабабушка, графиня Елена де Альварес, почти пятьдесят лет прожила двойной жизнью. Её муж, один из первых министров короля Фердинанда, тридцать лет верой и правдой прослужил своему королю и отечеству. Вопреки гражданским войнам, революциям и святой инквизиции проводил мирные реформы, мечтая превратить Испанию, застрявшую в католическом средневековье, в культурное европейское государство. А жена, доверенное лицо и верный соратник, вынуждена была всю жизнь скрывать своё истинное происхождение, продержав их обоих тридцать лет на острие ножа. Она каждую минуту чувствовала себя самозванкой, занявшей место, приготовленное не для неё. Свой дневник будущая графиня начала с тайны рождения: Я родилась в состоятельной еврейской семье. По семейному преданию наши предки, богатые и просвещённые жители Альхамбры, предпочтя изгнанию переход в католичество, сохранили в душе верность своей религии и, несмотря на постоянную смертельную опасность, передавали её уже триста лет из поколения в поколение. Мой отец, талантливый ювелир, унаследовал от них утонченный вкус и сильно выраженное чувство собственного достоинства. Семья, уже богатая двумя детьми, готовилась к появлению третьего, но этого ребёнка ждали не так, как первых двух. Тогда это была нетерпеливая радость перед встречей с маленьким чудом; сейчас — тоска и ожесточение. Третий ребёнок был результатом большой беды — еврейского погрома. Громил это поселение отряд юнцов, выходцев из богатых, аристократических семей. Им не нужны были еврейские деньги; они искали приключений, азарта и власти над теми, кого закон лишил права защищаться. От своей прабабушки графиня унаследовала внешность, внутреннюю человеческую суть и этот домик, в котором провела последние дни перед отъездом в Америку. Она уезжала к младшему сыну, посвятив в свою тайну среднюю дочь Марию, но даже не попрощавшись со старшей, с Франческой. Мадам, почему Вы так твёрдо верили в прихоть судьбы? Откуда знали, что облик и личность, повторившиеся в семье уже два раза, через четыре поколения вернутся в этот мир снова? Готовясь к предстоящей встрече, оставили в доме пару реликвий и свой дневник, надеясь предостеречь меня от ошибок, совершённых потерпевшими крушение предшественницами. Эти строки я пишу две недели спустя, но тогда... тогда Ваш дневник вызвал у меня горечь и злость. Злость, смешанную с отвращением. Движимая внутренним импульсом, я схватила перо и взялась за ответ, начав словами... Глава 1 Странное ощущение. Будто прослушала милый, сентиментальный романс. Трогательная мелодия, прочувствованные слова... Всё хорошо, всё на месте, но почему-то противно. Мадам, чему Вы хотели меня научить? Что изменил бы в моей жизни Ваш дневник, прочти я его не сейчас, когда мы почти ровесницы, а лет этак двадцать — тридцать назад? Да ничего. Ничего, потому что, по сути, мы совершенно разные люди, и жизни у нас тоже разные. Уж если мне и жалко кого-то из вас двоих, то скорее Вашего мужа. Сколько таких супружеских пар я повидала на своём веку! Он — страстно увлечённый своим делом, она — просто жена, искренне убеждённая в своём всезнании. Он — талантливый художник, а она знает, как правильно писать картины, он — гениальный артист, а она знает как, что и когда играть. Ох уж эти умненькие, хитренькие министерские жёны, управляющие государством, сидя в засаде за вышиванием! Впрочем, не сердитесь за резкий тон. Я злюсь не на Вас, а на себя. Злюсь, потому что, как и Вы, в конце жизни приплыла в этот нелепый дом, потерпев полное и окончательное крушение. Эти мелкие знаки внимания и нашего с Вами единства! Бордовая шляпа, перчатки, пришедшиеся мне в пору, потускневшие от времени брошки, дневник и Ваш портрет... медальон, размером с ладонь... Да, мне знакомо это лицо. Знакомо не только потому, что видела его сотни раз в зеркале, на глянцевых страницах иллюстрированных журналов и бульварных газет. Когда-то в юности я видела это лицо на двух старинных портретах. Вот мы и встретились! Мадам, я и вправду не знаю, как к Вам обращаться. Даже тридцать лет назад не смогла бы назвать Вас бабушкой. И причина тому самая простая — я бы в «бабушках» просто запуталась. И без того их было у меня целых три, вернее две с половиной. Первой и главной всегда оставалась испанская бабушка, мать моей матери — бабушка Франческа, второй по значимости шла мать отца — немецкая бабушка Лизелотта, а третьей и совершенно особенной на всю жизнь осталась полубабушка Мария, младшая сестра Франчески. Ваше полное имя графиня Елена де Альварес? Можно я буду называть Вас просто Графиня? Согласны? Вот и хорошо. Всё же приятнее, чем отстранённое, безликое «Мадам». Признаюсь честно, меня даже в юности, не занимали семейные распри прошлых поколений. Бабушка Франческа никогда не упоминала о Вашем существовании — в её рассказах о детстве фигурировал только отец. Вас там вообще не было. Однажды, мне было тогда лет пять, я задала естественный для любого ребёнка вопрос: — А какой была твоя мама? Ответ прозвучал очень странно: — Не помню. Совсем не помню. Считай, у меня её не было. Как-то, пару лет спустя, подслушала их разговор с Марией: — Получила от Мигеля письмо. Привезла с собой. Хочешь почитать? — Мария, перестань заниматься интригами. Тебе это не к лицу. Не по твоей части. Ты же прекрасно знаешь, он меня не интересует. Оставшись с Марией наедине, выпустила на волю своё любопытство: — А кто такой Мигель? Почему бабушка не хочет о нём ничего знать? На этот раз Мария, всегда охотно отвечавшая на мои вопросы, отвела глаза в сторону и пробурчала себе под нос: — Детка, давай не будем об этом. Не бери в голову. Старые семейные саги не для молодого поколения. Живи своей жизнью, и это — главное. Я не возражала. Действительно, не всё ли мне равно, что не поделили между собой мои прабабушки и прадедушки? Их давно нет в живых, и разбираться кто был прав, а кто виноват — не моя забота. Значительно позже, мне было лет восемнадцать, я очередной раз гостила у Марии. Её личная комната, «малая гостиная», всегда вызывала ощущение уютной меланхолии: большие широкие окна, завешанные серо-голубыми, тяжёлыми занавесками, два мягких кресла и удобный, полукруглый диванчик такой же обивки, заполняли нишу против окна. Дом был переполнен старинными картинами, собранными когда-то марииным дедом, но в «малой гостиной» висела только одна — портрет дамы в полупрофиль, в тёмно-бордовой широкополой шляпе и белой кружевной накидке на плечах. Он всегда висел на стене против её кресла, но сегодня их было два. Абсолютно одинаковых. — Откуда у тебя вторая картина? Ты их что... коллекционируешь? Мария смутилась и отвела глаза. — Нет. Не коллекционирую. Их всегда было две. Одна висела у меня в комнате, а другая у Элеонор. — У Элеонор? Я с трудом вспомнила сгорбленного высохшего кузнечика, дальнюю родственницу Марии, доживавшую свою бесконечно длинную, одинокую жизнь в одной из комнат необъятного дома. Тогда мне казалось, на лице этой древней старушки живыми остались только глаза. И они, эти глаза, удивлённо и назойливо преследовали меня каждый раз, когда я, по неосторожности, попадалась в поле их слабого зрения. — Да. Она умерла лет пять назад, но у меня всё не доходили руки разобрать её комнату. Мария уже собралась увести меня из своей гостиной, но, прихватив её за рукав, я продолжала настаивать на ответе. — А что, вы обе знали эту женщину? — Это не одна женщина, а две. Их разделяют четыре поколения. Более тёмный портрет — прабабушка, а более светлый — правнучка. Всё. Пошли ужинать. В следующие дни эти «Дамы в шляпах» не давали мне покоя, но Мария категорически отказалась о них говорить. Ответ на эти вопросы я получила лишь через двадцать лет. Вы хотели своим дневником предостеречь меня от множества возможных ошибок, но я нашла в Вашей жизни только две, и ни одну из них, при всём желании, не смогла бы повторить. Первая и главная — Ваш муж. Вы ничего в нём не поняли. Талантливых, фанатично увлечённых своим делом людей нельзя мерить обычными человеческими мерками. Уж в этом можете мне поверить — всю жизнь провела рядом с такими. Простоять тридцать лет на политической сцене, быть аналитиком, стратегом, драматургом и исполнителем в одном лице и не лишиться при этом головы под силу только истинному гению. И заметьте, будь он просто рядовым интриганом, покинул бы сцену вовремя и не с пустыми карманами. Успел бы припрятать немножко на «чёрный день», как Ваш управляющий сеньор Гомес. С талантливыми людьми не легко жить вместе. Это правда. И крушения подобных титанов погребают под своими развалинами не только их самих, но и всех, кто находится рядом. Вы досадовали на мужа, оставшегося равнодушным к Вашей коммерции, к винодельне и коврикам, но разве могло быть иначе? Разве можно представить себе Микеланджело, Бетховена или задыхающегося в нищете Клода Моне, зарабатывающих на хлеб торговлей скобяными товарами? Вы с иронией описывали «доклады» мужа в первые годы семейной жизни, предпочитая манеру отца. Для последнего всегда было «две стороны», и истина находилась где-то по середине, для мужа важна была стратегия сейчас и сегодня. Ваш отец был всего лишь аналитиком, философом, а муж — творцом. Один творил историю, а другой рассуждал, что станет с этим творением через двести лет. Извечное противостояние творцов и критиков. У нас в театральной школе учителя говорили: «Есть талант — выходи на сцену и играй, нет — учись писать и отправляйся в критиканы». Вы прожили жизнь умным, тонко чувствующим человеком, но Вам не дано было испробовать вкус одержимости. Хотя и здесь могут быть «две стороны», и самая страшная — одержимость без таланта. Ах, да. Я застряла на одной ошибке, а обещала назвать две. Вторая, с моей точки зрения, — признание о своём происхождении, сделанное совершенно не вовремя. Промолчав первые тридцать лет, вполне могли сохранить его в тайне и последующие десять-пятнадцать. Вы упустили три возможности, когда признание было уместным: перед свадьбой, до встречи с королём и после неё. Первая ничего не изменила бы: Филипп уже принял решение жениться на незаконнорожденной, предав заветы честолюбивых предков. И мать её, будь то легкомысленная кухарка, или безнравственная светская девица, не представляла для него ни малейшего интереса. Второй шанс... до аудиенции у короля... тоже не страшно. Будь аргументов против Филиппа три или четыре... какая разница? В политике всё, что больше одного, уже смертельно опасно. А вот после назначения в министры... Что имел ввиду Фердинанд, угрожающе раскачиваясь на каблуках перед лицом Вашего мужа? Я дословно цитирую дневник: — До нас дошли слухи, — он выдержал нестерпимо длинную паузу, — что Ваша жена не только молода и привлекательна, но и..., ещё одна изматывающая нервы пауза, — нда... говорят, она к тому же ещё и умна. А помните, что сказал король за несколько минут до этого? ...Генерал, я пристально наблюдал за Вами все эти годы... А что, если Фердинанду успели донести о Вашем происхождении? Представляете, на каком крючке провисел Ваш муж почти тридцать лет, даже не подозревая об опасности? Думаете, он расстался бы с Вами тогда? Нет и ещё раз нет. Не представлял он себе никакой другой жены кроме Вас. Это лишь разожгло бы его азарт. Знание, где расставлен капкан, обостряет в десятки раз инстинкт самосохранения, стимулирует восприятие и работу мыслей. Просто он стал бы ещё умнее и осторожней. Возможно, именно об этом предательстве размышлял Ваш муж в своём кабинете, выйдя через два часа протрезвевшим и постаревшим на десять лет. И простить не смог не еврейства, а предательства. Ну да ладно. Простите за неуместные нравоучения. Мы все крепки задним умом. Хотите узнать, что стало с Вашей семьёй дальше? Я не слишком много знаю о ней. Скорее в общих чертах. Ваш муж, оставшись один, постоянно курсировал между «замком» и Парижем. Не находя покоя ни там, ни тут, всё же дождался возвращения на трон достигшей совершеннолетия королевы Изабеллы. Вслед за ней прикатила из изгнания и её мать Мария Кристина, вспомнившая о графе де Альваресе, тридцать лет отслужившем верой и правдой её мужу. Отставной министр был снова обласкан при дворе, награждён орденами и пожизненной пенсией. В ответ на признание и почёт граф подарил богатейшую коллекцию картин, хранившихся в его доме, музею Прадо. Рассказывая об этом, бабушка всегда понижала голос и, выразительно глядя на собеседника, призывала его к соучастию в восторге. Но мы то с Вами знаем, что двигал графом вовсе не патриотизм. Видать очень уж надоели кислые физиономии и осуждающие взгляды назойливых предков. Взял и выставил их из дома. Но какая умница, какой дипломат! Как красиво всё обыграл! Предков изгнал, а замок сохранил. Моя мама до сих пор помнит это причудливое строение, ставшее с годами музейной редкостью. Правда нам он уже давно не принадлежит. Бабушке пришлось продать его в 1871 году, после войны с Германией. В тот год в Париже свирепствовали голод и эпидемии. Её муж, мой дед, умер скоропостижно, не оставив семье никаких средств к существованию. Этот дом, купленный испанским правительством по цене антиквариата, практически спас семью от вымирания. Вам не терпится узнать, кем была моя мама? Да, я действительно тяну время... очень не хочется Вас расстраивать... Она родилась двумя месяцами раньше Элеонор, дочери Марии, и звали её... Шанталь. Почему Ваша дочь выбрала это имя? Было ли это случайностью, или знала что-то о тогдашней влюблённости своего отца? Не имею ни малейшего представления, но мы с Вами знаем по собственному опыту, дети слышат, видят и запоминают гораздо больше, чем нам бы этого хотелось. Моя мама не была похожа на нас с Вами ни внешностью, ни сутью. Высокая, стройная, как Франческа и Мария, её можно было бы скорее назвать «меченной», если бы не светловолосые родственники её отца. А складом характера, способностями она походила скорее всего (только не смейтесь) на Вашу мачеху Элеонор — безупречный вкус, фантазия, чувство цвета и моды. Она вышла замуж довольно рано за очень популярного в те годы артиста Анри Лавуа. Его отец был французом, а мать — немкой. Моя чудесная, уютная, чуть сентиментальная бабушка Лизелотта! Папа был звездой номер один в театре оперетты «Буфф Паризьен» у Оффенбаха. На редкость музыкальный, пластичный, с великолепным голосом и чувством юмора, он на протяжении многих лет оставался истинным любимцем публики... и конечно же, женщин. С последними моя прелестная мама покончила одним ударом. Узнав о его очередном прыжке в сторону, она, ни слова не говоря, заперлась в своей комнате. Дня этак через три вышла с небольшой папочкой подмышкой, села в карету и покатила в «Буфф». В кабинет Оффенбаха она вошла обиженной женой, а вышла... главным художником по костюмам. В папочке хранилась созданная ею за три дня коллекция костюмов для новой, только готовящейся к постановке оперетте. Её костюмы совершенно не соответствовали тогдашней моде, они опережали её лет на десять. Начав жизнь на сцене, они моментально переселялись на страницы модных журналов, растекаясь по Парижу быстрее самых интимных сплетен из жизни королевской опочивальни. Не правда ли забавно? Вы ввели в Мадриде моду на особые шляпки с выступающей задней частью, украшенной бантами и фруктами, а через семьдесят лет Ваша внучка надела на парижанок такое...! Уф, описать их «задний фасад» в те годы... под силу лишь перу гениального поэта. Одной рукой мама одевала театральных див, превращая каждую из них в неописуемую красавицу, а в другой крепко держала цепь, к которой на многие годы был прикован её любвеобильный муж. Думаю, охоты и шансов прыгать по сторонам у папы больше не появлялось. Я была их единственным ребёнком. Вообще единственной девочкой в семье — имею ввиду своих кузенов, сыновей дяди Антуана и дяди Норберта, поэтому о комплексе недолюбленности не могло быть и речи. Скорее можно говорить о комплексе избалованности. Я родилась в 1866 году, через два года после первой постановки в «Буфф» «Прекрасной Елены». Оперетта имела сказочный успех. В тот день, когда мама произвела меня на свет, театр праздновал её сотое представление. В честь этой оперетты я и получила своё имя. Вы хотите спросить, как отреагировала на него Франческа? Не знаю, она никогда об этом не говорила, но называла меня всегда на французский манер «Элен», да и то, когда хотела казаться строгой. Для всех домашних я была Элли или Нене. Ваши дочери, я имею ввиду Франческу и Марию, оказались в итоге относительно дружными сёстрами. Они регулярно обменивались письмами, а два раза в год и визитами. Каждое лето мы с бабушкой отправлялись на целый месяц в Испанию, а зимой Мария приезжала в Париж. Не смотря на весьма пожилой возраст, сёстры целыми днями носились по театрам, выставкам и магазинам. В старости они стали действительно очень похожи внешне, оставаясь абсолютно разными по характеру. Я с любопытством читала Ваши воспоминании о них в детстве. Точно такими остались их отношения и в старости. Бабушка относилась к Марии довольно высокомерно, считая её ограниченной, простоватой и провинциальной. Любое расхождение во мнениях рассматривалось как предательство и каралось по всей строгости закона. Бабушка возмущённо отчитывала сестру за отсутствие глубокомыслия и упрямство, а Мария, переждав шквал упрёков, ловко переводила разговор на другую тему. Как-то, оставшись вдвоём, я спросила Марию: — Почему ты позволяешь так с собой разговаривать? Почему отмалчиваешься? Мария улыбнулась, поправила прядку волос, выбившуюся из моей причёски и ответила встречным вопросом: — А почему бы и нет? — Потому что она вовсе не умнее и не образованнее тебя. Мне кажется, бабушка просто самоутверждается за твой счёт. — Так оно и есть, но почему это должно мне мешать? Пойми, все эти налёты никак не сказываются ни на моей оценке себя, ни на самоуважении. Они во мне вообще ничего не меняют. — Мария, хоть убей, но я этого не понимаю! — Ну хорошо. Возьмём тебя. Ты собираешься стать актрисой и надеешься, что тебе всю жизнь будет сопутствовать триумф? Вряд ли. Знаешь сколько людей среди публики, критиков и журналистов будут не только зарабатывать себе на хлеб, но и повышать своё самоуважение за твой счёт? И ты собираешься каждый раз биться в истерике или подавать в суд за клевету? — Но ведь это другое. Это работа, это театр, а у вас личные отношения. — Бог мой, личные отношения... — это похлеще любого театра. Раньше меня удивляла особая привязанность Марии ко мне. Ведь у неё было штук десять собственных внуков. Как она в них только не запуталась? Зачем ей нужна была я? Теперь знаю. Элеонор, Ваша мачеха, не случайно так пристально наблюдала за мной во время ежегодных визитов. Она, знавшая Вас с детства, наверняка сообщила Марии о нашей похожести. А знаете, это и в самом деле потрясающе. Я имею в виду Ваш дневник. Все люди, отношения, природа выступают в нём, как живые. Такое ощущение, будто не Вы, а я жила тогда среди них... или может это не я, а Вы вернулись в свой дом через сто лет снова? Господи, какая глупость лезет сегодня в мою, обычно трезвую голову? И всё же... А что, если и мне оставить здесь по себе след? Пожалуй, да, но составить полное жизнеописание не смогу, да и не за чем. Просто расскажу о двух-трёх отрезках жизни, о середине и о конце, приведшем меня в Андалузию. Как я уже говорила, дочь Франчески вышла замуж за артиста. Боже мой, какое счастье, что неугомонные предки Вашего мужа, моего прадеда, покоились к этому времени на стенах музея Прадо! Представляете, потомки гордого рода де Альваресов развлекают публику на подмостках парижской сцены! Это было бы пострашнее ковриков и винодельни. У моих родителей, постоянно занятых в театре, была только одна возможность не утратить связи с единственным ребёнком — повсюду таскать его за собой, поэтому детство моё прошло за кулисами и в зале самого весёлого и популярного театра Парижа. Приходя домой, я разыгрывала перед бабушкой всё, что подсмотрела за день. Правильный диагноз моим однобоким способностям она поставила очень быстро: — Детка, ты изумительно танцуешь, хорошо и с выражением декламируешь, но петь... Может тебе лучше пойти в драматические актрисы? Папа долго не терял надежды. Вначале он сам усердно занимался со мной вокалом, затем нанял частного преподавателя, славившегося способностью творить чудеса, но даже он, этот знаменитый волшебник, не смог совладать с моей вокальной бездарностью. Вас удивляет, зачем мне понадобился театр? Почему не вышла замуж за хорошо обеспеченного мужчину и не прожила спокойную, степенную жизнь нормальной женщины? Что касается «нормальной женщины»... расстояние в семьдесят лет между нами и сотни вёрст между Андалузией и Парижем — это не шутка. В наше время женская самостоятельность не считалась пороком. Женщины писали книги и пьесы, рисовали картины, лепили скульптуры, пели и играли на сцене — и всё это не считалось ни аморальным, ни постыдным, ни ненормальным. А вот зачем мне нужен был театр? Ответ на этот вопрос я смогла найти только к середине жизни. Папа самолично готовил меня к поступлению в театральную школу, входившую тогда в состав консерватории. Благодаря его выдающейся фамилии, я поступила с первого раза, хотя... Излишняя скромность далеко не всегда является подобающим случаю украшением... безусловно, кое-какие таланты у меня всё же были. Первые полгода пролетели быстро и весело. Мы изучали риторику, фехтование, отрабатывали осанку и жесты, а главное — очень много читали. История драматургии, всемирная история, история искусства... и ещё множество других историй и философий. Всё это перемежалось небольшими этюдами, декламацией и маленькими сценками. Мы все чувствовали себя почти гениями, которых за ближайшим поворотом поджидают неизбежные слава и вечный триумф. Но за ближайшим поворотом поджидал нас вовсе не триумф, а мёсье Шарль Лекок. Выдающийся режиссёр, драматург и актёр в одном лице, он, повторяя слова критиков, совершил переворот в истории французского театра. Жаль, однако, что лицо это, прославившееся столькими талантами, сделалось к сорока годам бледным и «безликим». Маэстро был небольшого роста. Я назвала бы его даже не худощавым, а недокормленным. На фоне нас, молодых и цветущих, он выделялся светлыми, почти прозрачными глазами, резкими носогубными морщинами и бледными тонкими губами, уголки которых почти всегда были высокомерно оттянуты вниз. Хороши были только густые, прямые, слегка седоватые волосы и тонкие руки, постоянно находившиеся в свободном полёте. Из нашей большой и дружной группы он, по одному ему известному принципу, отобрал восемь жертв, которых собрался обучать по абсолютно новой, еще не виданной в Париже, программе. Бабушки, Франческа и Лизелотта, преданные поклонницы моего «ярко выраженного дарования», были в полном восторге от подобной чести, считая её абсолютно и безоговорочно заслуженной. Родители, будучи профессионалами, оценивали таланты своего чада более объективно. Они весьма сдержано поздравили меня с успехом и удалились на совещание. Вечером папа пригласил на беседу к себе в кабинет. — Дочка, в принципе я очень рад, что тебе предстоит учиться у такого великого мастера, но знай — это будет серьёзное испытание на прочность. Играть у Лекока — это тебе не в «Одеон» и не в «Комеди Франсез». Он не работает на публику, не взрывает её шквалом эмоций, не приводит в экстаз экзальтированной декламацией... Он требует глубины проникновения в человеческую суть. Я был на многих спектаклях в его театре, и каждый раз уходил потрясённый. То, что он делает — какое-то волшебство, абсолютно новый театр, к которому публике ещё предстоит привыкнуть. — Пап, а может мне отказаться? Честно говоря, боюсь, ничего из меня не получится. — А я думаю, наоборот. Именно это у тебя и получится. Второй Элизой Рашель, или Сарой Бернар тебе точно не стать. Нет у тебя ни волшебного голоса, звучащего через четыре октавы, ни бешеного темперамента, доводящего публику до безумия... Так, как они, ты бы никогда не смогла, а вот по новому, по лекоковски, как раз для тебя. Тут важны вдумчивость, внутренняя культура и глубокая эмоциональность, а этого добра в тебе, насколько я знаю, хоть отбавляй. По сравнению с общепризнанными звёздами ты слишком реалистична. Ты прочно стоишь на бренной земле, а они... они беснуются и парят над ней. — Внутри что-то оборвалось и покатилось вниз. И это «что-то» было страхом воришки, пойманного с поличным на месте преступления. Почему не сказать прямо, что я бездарна? Зачем эти красивые сказки о внутренней культуре и глубокой эмоциональности? Или ему, несмотря ни на что, непременно хочется видеть дочь на сцене? Отвернув к окну предательски покрасневшее лицо, я выдержала необходимую паузу и, поблагодарив за полезный совет, покинула ставшие свидетелями моего унижения, стены. Господи, дай мне сил разобраться с самой собой! Кто я, какая, и где то место, которое ты предназначил мне в этой жизни? Глава 2 Первое занятие с Лекоком разрушило все наши представлении о возвышенной роли артиста и его ответственностью перед публикой. Маэстро вывел нас из уютных стен учебного класса и отправил на сцену. Удобно расположившись в зрительном зале, он повелел растерявшимся ученикам заняться «чем-нибудь полезным». Группа, придя в неописуемое волнение, разбежалась по углам. Уже через пять минут в одном из них Отелло вдохновенно душил визжащую от обиды и страха Дездемону. В другом Гамлет мужественно фехтовал с очередным противником, а у них под ногами корчилась в предсмертных муках отравленная королева. В третьем... не помню, что происходило там... возможно там «что- то полезное» делала я. Минут через двадцать Лекок прервал это повальное безумие и начал урок. Я не буду обременять Вас подробностями его теорий. Все, что он рассказывал, было новым и неожиданным даже для моего отца. Дело в том, что Лекок последние годы регулярно посещал лекции известных в те годы психиатров: ЖанМартена Шарко, Френсиса Гальтона и Зигмунда Фрейда. Он бредил идеями о сознательном и подсознательном, ассоциативными связями, эмоциональной памятью и энергией, излучаемой сильными чувствами. На основе этих новшеств он создал свою теорию актёрского мастерства, которую и опробовал впервые на нашей группе. Хотя одно из его основных положений может показаться Вам интересным. Маэстро не уставал повторять, что артист на сцене должен общаться не с публикой, а с партнёром. Обязан проникнуть в душу своего героя, понять не только мотивы совершаемых действий, но и чувства, скрытые в подсознании эмоциональной памяти. Только тогда, когда чувства исполнителя достигнут высшего накала, они начнут излучать особую энергию. По его мнению, не только животные, но и люди особо восприимчивы к флюидам нежности, страха, лжи, и подавленной злобы. Вот подумайте, музыканты обладают абсолютным слухом, художники — абсолют-ным зрением, а политики и шулеры — абсолютным чутьём на опасность и блеф. Ваш муж безусловно обладал этим талантом, и Франческа, наверное, тоже. Может, когда Вы ей дважды соврали, она бессознательно уловила, запомнила флюиды лжи, потому и поверила версии отца о Вашем предательстве длинною в жизнь? Простите, за неприятное напоминание. Просто с тех пор, как прочла дневник, постоянно ищу объяснения и оправдания тогдашним событиям. Ладно, возвращаемся к Лекоку и моей группе. Называть имена соучеников бесполезно. Почти все поменяли их впоследствии на сценические псевдонимы. Единственный, кто прожил всю жизнь под своим собственным, был Жак Малон — мой лучший приятель с первого дня обучения. Жак был похож на птицу среднего размера. Острый, загнутый на конце клювик, большие круглые глаза и тесно прижатые к голове уши. И, как птица, он находился в постоянном движении. Мой друг говорил много и вдохновенно, но слушал ещё лучше. Если ему становилось интересно, присаживался поудобнее на стул, склонял голову на бок и утыкался круглыми глазами в собеседника. Жак обладал особым качеством, резко отличавшим его от прочих гениев — слушать не перебивая. Наверное поэтому мы и поладили с первого дня. После занятий мы с Жаком обычно возвращались домой пешком, заходя по дороге в «Старую мельницу». Ссадины и ушибы, нанесённые Маэстро нашему самолюбию, срочно заедали пирожными и запивали кофе, после чего пытались объяснить друг другу, чего же он в конце концов от нас добивается. Первый учебный год подходил к концу, а значит приближался первый серьёзный экзамен. Каждый курс должен был подготовить и показать на сцене настоящую пьесу. Лекок, человек разумный и осторожный, не желая вступать в конфликт с руководством консерватории, выбрал самую классическую, самую заезженную и до оскомины надоевшую всем трагедию Расина «Федра». И, что самое ужасное, — роль несчастной Федры поручил мне. Это было наверняка очередной акцией по тренировке актёрской выносливости. Пару раз на занятиях я имела неосторожность отпустить несколько критических замечаний в адрес этой малосимпатичной дамы. За то видать и поплатилась. Дома раз десять перечитала трагедию, проникалась всё большим отвращениям к проделкам своей героини. Вот и полюби её после этого, вот и породнись с её чувствами! На репетициях дела шли совсем худо. Маэстро морщился, презрительно поджимал и без того тонкие губы, без конца повторял, что это не игра, а механическое повторение слов. Я нервничала, злилась и под конец взбунтовалась: — Я не смогу это правильно сыграть. — Почему же? — На прошлом занятии Вы рассказывали о процессе оправдывания. Говорили, правда на сцене то, во что мы искренне верим внутри себя. То есть я должна внутри себя принять Федру, и испытать её чувства. Я должна стать ею. — Ну в общем и целом Вы, мадемуазель, относительно верно передали своими словами содержание прошлого урока. Так в чем же проблема? — Я не смогу стать Федрой даже на два часа, потому что она мне как человек более чем не симпатична. Её внутренняя суть и действия противоречат элементарным понятиям о порядочности. Единственно, что я смогла бы, это скопировать механически душераздирающие метания по сцене и вопли Сары Бернард, хотя копия получилась бы весьма жалкой. У меня нет ни её темперамента, ни её голоса. — В последнем я с Вами полностью согласен. Копия получилась бы действительно жалкой. Мэтр сидел в своей любимой позе — полностью вписываясь в кресло, повторив его линии до мельчайших подробностей. Спина слилась в единое целое с высокой спинкой, руки мягко стекли с подлокотников, обрисовав их округлость узкими подвижными ладонями. Взгляд, жёсткий и ироничный, не отпуская меня ни на секунду, мешал сосредоточиться на внутренних ощущениях. — И чем же Вам, мадемуазель, так несимпатична Федра? — Тем, что она совершает одну пакость за другой лишь бы спасти себя от позора. Губит людей, не причинивших ей никакого зла, и при этом требует жалости и снисхождения к себе. Утрируя и сгущая трагические ноты в голосе, я прочла первые жалобы героини: Безумная! О чём я говорю? Где я? Где разум мой? Куда умчалась мысль моя? Зачем, бессмертные, вы к Федре так жестоки? Смотри, Энона,— стыд мои румянит щёки: Тебе открылся мой мучительный позор, И слёзы пеленой мне застилают взор. Да, я понимаю её. Влюбиться в собственного пасынка, жить с ним под одной крышей, ежеминутно в каждом углу натыкаться на предмет обожания и скрывать свои чувства... это конечно серьёзное испытание, требующеё стальных нервов, но зачем же так, как она... за чужой счёт... Любимого врага преследовать я стала. Роль злобной мачехи искусно разыграла: Упрёки, жалобы — им не было конца, И вынужден был сын покинуть дом отца. Иными словами, бедный Ипполит был с позором вышвырнут из отцовского дома. Ещё отвратительнее эта дама обошлась со своей преданной служанкой. Перепугавшись до смерти сделанным Ипполиту признани-ем в любви и убоявшись мести «случайно вернувшегося с того света» супруга, Федра разыгрывает перед служанкой очередную сцену покаяния, практически подталкивая её к преступлению. Цитируя Энону, я ссутулила плечи, расслабила живот, превращаясь в грузную пожилую даму. Меня всё больше захватывала эта двойная игра. Перевоплощение то в молодую, экзальтированную госпожу, то в пожилую, рассудочно-расчётливую служанку сочеталось с мгновенным переселением из одной души в другую, и это было очень забавно. Я всё скажу сама, а ты молчи... К обману Прибегну, совести наперекор своей. О, встретить легче бы мне тысячу смертей! Но как тебя спасти? Нет способа другого! Энона для тебя на всё, на всё готова. И опять я испытываю злость и возмущение, захлёстывающие меня каждый раз при чтении этого эпизода — включается «эмоциональная память» на несправедливое обвинение. Тогда это была детская, невероятно острая обида на маму. Обычно весёлая и добрая, в тот день она была чем-то раздражена. Мы играли на полянке у дома. Мама с силой швырнула мне мяч, а я, замешкавшись, не успела его поймать. Мяч, весело подпрыгивая на кочках, скрылся в кустах. — Боже, какая ты сегодня неповоротливая! Теперь мне придётся лезть в шиповник и доставать его, — мрачно ворчала мама, с сомнением глядя то на кусты, то на своё нарядное, светлое платье. Мне стало жалко их обоих — маму и её платье. Похоже, сегодня на них обоих сплошным потоком сыплются неприятности. — Стой на месте. Я сейчас сама принесу — прокричала я, и, гордая своим само-пожертвованием, юркнула в колючий шипов-ник. Минут через пять, стряхивая расцарапанными руками шипы и грязь, прилипшие к ещё недавно белому платью, я торжественно протянула маме спасённое сокровище. Её глаза бессмысленно уставились на мои боевые ранения, а я, стоя с трофеем в руках, терпеливо ждала похвалы, благодарности и утешений. Чтобыло дальше? Да ничего. — Господи, почему ты сегодня такая несносная?, — бросила мама, и, нелепо ссутулив плечи, зашагала по направлению к дому. Не знаю почему эта, по сути ничего не значащая мелочь, застряла у меня в подсознании, но сейчас я не могла простить неблагодарности Федры по отношению к Эноне. Она, совершив преступление во спасение любимой хозяйки, ждала похвалы и благодарности. Даже пыталась утешить несчастную: Мы — люди, свойственны нам слабости людские. Зачем под тяжестью любовного ярма Так убиваешься? Ведь знаешь ты сама, Что боги, за грехи суля нам наказанье, Шли, как и мы порой на прелюбодеянье. А что получила вместо благодарности? Пусть небеса отмстят злодейке поделом! Да будет казнь твоя вовеки образцом: Да видят все, что ждёт низкопоклонных тварей, Потворствующих всем порокам государей. С трудом переводя дыхание, я вопросительно посмотрела на Мэтра. Понял ли он, что я хотела сказать? Мэтр явно оживился: отделившись от спинки кресла, распрямив и вытянув вперёд длинные худые ноги, он оторвал руки от подлокотников и скрестил их под подбородком: — Ну что я могу сказать, господа? Мадемуазель Лавуа показала нам великолепный пример добросовестной подготовки к уроку — текст выучен наизусть и продекламирован практически без малейшей ошибки. Наклонившись слегка вперёд и переместив пальцы на уровень живота, Лекок наигранно сочувственно спросил: — Миленькая Вы моя, но для чего столько стараний? Что Вы так трогательно пытались сообщить? Простите меня, старого, непонятливого дурака, но я и вправду ничего не понял. За целый год обучения мы давно свыклись с высокомерием и иронией Мэтра, лишь изредка снисходящего до нас, грешных и бездарных, с высоты своего Олимпа. Но ведь можно, хотя бы иногда, оставаться человеком? Я действительно растеряна. Как можно играть, не уважая и не любя своего героя? Учитель, как будто прочтя мои мысли, заговорил вдруг нормальным голосом: — Мадемуазель, не сердитесь на меня, но я действительно не понял, зачем вся эта демонстрация «в лицах». Текст трагедии Расина мы все знаем наизусть, а трудности, с которыми Вы столкнулись, свойственны всем начинающим, и звучит это так: «Чтобы искренне и честно сыграть роль, героя нужно понимать и одобрять». Но любой спектакль, впрочем как и сама жизнь, — это столкновение добра и зла. Если следовать Вашей тезе, хорошо сыграть можно только положительных героев? А что же тогда делать с остальными? Резкая отповедь Мэтра смутила меня окончательно. Откуда ему, самонадеянному вершителю человеческих судеб, знать, что чувствует прикованный к позорному столбу нищий, посмевший на рынке отведать яблоко из чужой корзины! Откуда ему, убеждённому в своей избранности человеку, знать, что моя дерзость и самонадеянность лишь защитная маска, неловко скрывающая пугливую, вечно сомневающуюся в себе натуру? Надев самоуверенную физиономию и пожав равнодушно плечами, я буркнула в ответ: — Просто хотела попросить для заключительного спектакля роль Эноны, а не Федры. — ...и продемонстрировали нам, как хорошо заучили обе,— продолжил свои издевательства олимпийский бог. — Сядьте, пожалуйста, на место, мадемуазель Лавуа, и сосредоточьтесь на следующем вопросе. И все остальные тоже, — отвернувшись от меня, профессор вцепился взглядом в притихшую группу. — Я понял проблему с отрицательными героями, но нужно ли так сразу выносить им обвинительный приговор? Во всех цивилизованных странах даже самый заядлый преступник имеет право на защиту. Не так ли? И ни один уважающий себя адвокат не откажется защищать подсудимого, даже если преступление считается полностью доказанным. Наоборот. Найдёт множество аргументов, смягчающих наказание, и в этом проявит свой талант. Так вот, мадемуазель Лавуа, — ястребиный взгляд светлых, полупрозрачных глаз опять вонзился в пристыженно вжавшуюся в стул незадачливую ученицу, — назначаю Вас адвокатом госпожи Федры. Подготовьтесь хорошенько, ведь в Ваших руках человеческая жизнь. Суд присяжных заседателей состоится завтра. Лекок опять вписался в своё любимое кресло, скрутил ноги немыслимым узлом и торжествующе уставился в наши растерянные лица. — Да, кстати, в тот же день будет заслушиваться дело господина Пер Гюнта. Редкостный симпатяга, не правда ли? Так вот, — Мэтр окидывал наши ряды хищным взглядом, примеряясь к следующей жертве, — мёсье Малон, надеюсь Вы не откажетесь вступиться за этого бедолагу перед присяжными заседателями? Вот и хорошо. На сегодня все свободны. Мы с Жаком совершали давно ставшую ритуальной прогулку через парк к маленькому уютному кафе «Старая мельница». На этот раз пирожные оказались слишком жирными, кофе — слишком горьким, а Жак — слишком болтливым. — Сегодня наш маэстро превзошёл сам себя. Это же надо до такого додуматься — защита Пера Гюнта. Я Ибсена вообще не люблю, а его Гюнт — просто монстр. То же мне, современный Одиссей! Последнего защищать и то было бы легче. Ну мотался он двадцать лет по разным островам, зависал с бесконечными нимфами и цирцеями, вопя при этом: «Хочу домой, хочу к Пенелоппе!», но ведь не по своей же воле. Срок отбывал. Сама знаешь, осудил его Посейдон на двадцать лет скитаний, вот он и скитался. А мой красавец! Добровольно носился по свету и пакости творил. Видите ли дома ему не сиделось. — А уж эти дуры, Пенелоппы да Сольвеги, — вторила я Жаку, — делать больше нечего, как сидеть дома и ждать. Так всю жизнь свою и «просидели»... Жак замер на середине фразы, вздёрнул подбородок... и повелительным жестом велел мне замолчать: — Молчи, мудрая женщина. Кажется, у меня родилась идея. Вечером я давала бабушке обязательный ежедневный отчёт об уроках в театральной школе. Жаль, конечно, что родители опять на гастролях. От них было бы больше проку — всё же профессионалы, пусть каждый по своему. Но их нет, зато бабушка сидит за столом и внимательно вслушивается в мои жалобы. — Я понимаю, детка, что ты хочешь сказать. Но знаешь... я видела Сару Бернар в этой роли раза три. Первый раз, когда та только начинала... Замещала заболевшую главную исполнительницу. Тогда она была действительно слишком экзальтированна и неубедительна, а вот позже, лет через десять... Мне и в голову не пришло осуждать Федру. Наоборот, было её очень жалко. — Но почему жалко? Какой ты её увидела? — Трудно сказать... Она напоминала попавшего в клетку, перепуганного зверя. Мечется, бьётся о решётку, ищет выход и не находит. В этом и состоит трагедия человеческой жизни — с одной стороны чувства, вспыхивающие помимо воли, а с другой... разум и общественная мораль, осуждающие эти чувства. Это в спокойном состоянии мы можем обдумывать свои поступки, соизмеряя их с нормами порядочности, а в таком... хватаемся за любую соломинку, кажущуюся в данный момент спасительной..., а потом сожалеем об этом до конца жизни. Сейчас, прочтя Ваш дневник, Графиня, я по-новому воспринимаю слова, сказанные в тот вечер Франческой. Жаль только, что её мудрости и всепрощения, самых ценных приобретений старости, не хватило на великодушие по отношению к собственной матери. Или чужих понимать и прощать легче, чем своих? Мнение бабушки, чувствительной, но не сентиментальной, принесло кое-какие плоды. Я поняла главное: чувства и разум живут независимо друг от друга, и в их извечном противостоянии далеко не всегда побеждает последний. Людям рациональным удаётся обуздать разбушевавшиеся эмоции, но Федра... слишком темпераментная, каждый раз в панике выбирала губительную стратегию. Мне удалось подобрать пару неплохих аргументов в пользу своей подзащитной, но для оправдательного приговора их было недостаточно. Не хватало чего-то, самого главного. Сожалея о бедности собственной фантазии, я с тяжёлым чувством отправилась на урок. Зал судебного заседания. Первым заслушивалось дело Пера Гюнта. Маэстро, взявший на себя роль обвинителя, кратко перечислил основные пункты: соблазнённые и брошенные на поругание женщины, работорговля, подстрекательство к гражданским войнам в целях спекуляции оружием, поддельные подписи и мелкие кражи. Поблагодарив присяжных заседателей за внимание, он предоставил слово защитнику. Жак вышел на сцену. Боже! Где он успел достать этот реквизит? Чёрная адвокатская мантия мягкими складками ниспадала до самого пола, густые локоны рыжего парика рассыпались по плечам, руки утонули в не по росту длинных и просторных рукавах. Весь вид его, величественный и печальный, внушал уверенность в предстоящем успехе. Жак вглядывался несколько минут в лица присяжных, давая им время проникнуться безусловной правотой предстоящей защиты. — Уважаемые дамы и господа. Сегодня мы все имели несчастье ознакомиться с преступлениями мёсье Пера Гюнта. Их много и каждое из них само по себе заслуживает самого тягчайшего наказания. Да, я не боюсь это повторить: каждое..., если их измерять по обычным человеческим меркам. А если по необычным? Да, сегодня нам всем вместе предстоит решить очень сложный, философско-этический вопрос: по каким меркам мы судим гениев; поэтов, художников, музыкантов, артистов? Кто по прошествии столетий хочет знать о том, что великий Микеланджело был жадным, ревнивым к чужой славе драчуном? Кто через сто лет будет вспоминать, как великий Бальзак, завернувшись в доминиканскую рясу, удирал от своих кредиторов через чёрный ход? Сейчас весь мир боготворит Виктора Гюго. И разве имеют какое-либо значение для потомков его любовные эскапады или политически нестабильные взгляды в сравнении с тем, что он создал и что останется на века? Нет, и ещё раз нет! Поэты, мечтатели, творцы — совершенно особые люди. Они не вмещаются в обычные человеческие рамки. Они живут не здесь, не в нашем суетном мире, а парят над ним. Влекомые фантазией, вдохновением и страстью, они витают в своём собственном, непонятном для нас, иллюзорном пространстве. И судить творцов можно лишь по законам этого пространства. Почему я сегодня говорю с Вами об этом, уважаемые дамы и господа? Да потому, что Пер Гюнт, которого мы судим по законам нашего, обыденного мира, на самом деле — поэт и романтик. Творец собственной жизни. Страстный, вдохновенный, наделённый неисчерпаемой энергией и фантазией в поисках новых, еще не изведанных вершин. Познать жизнь во всех её ипостасях, испробовать, пережить, победить или проиграть — это всё равно. Главное — двигаться и творить. Жак сделал многозначительную паузу, давая зрителю возможность осознать всю глубину поднятой им проблемы. Доведя напряжение до высшей точки кипения, он, устремив взгляд в заоблачное пространство, продолжил низким, охрипшим от волнения голосом: — Творить, жить и надеяться, что где-то на краю земли, в маленькой лесной избушке нас ждёт самая чистая, самая нежная, самая преданная в мире женщина... наша Сольвейг... Жить под чужими масками, терпеть обиды и унижения и, не смотря ни на что, сохраниться, остаться самим собой... пусть хотя бы в душе, любви и вере ждущей нас женщины — это ли не воплощение мечты каждого поэта? Жак сделал нестерпимо длинную паузу. Рукава чёрной мантии взметнулись вверх и упали, как подломленные крылья. Господа, я не прошу у вас помилования Перу, не прошу смягчения его наказания... я молю о жалости и снисхождении к женщинам, умеющим ждать... Так отдайте же поэтов им... и, если это возможно, пожизненно… Жак стоял с опущенной головой, а мы, господа присяжные заседатели, окончательно потеряв дар речи, были не в силах оторваться от созерцания фигуры, воплощавшей мировую скорбь по непризнанным поэтам и преданным им женщинам. Я украдкой взглянула на Маэстро. Оторвавшись от спинки трона и вытянув шею, он с изумлением взирал на защитника чести Пера Гюнта. — Да, я много наслушался на своём веку, но такого... Ладно,— окончательно покинув председательское кресло, он ударил воображаемым молотком по столу и объявил перерыв, напомнив, что после перерыва слушается дело госпожи Федры. В коридоре все, окружив Жака, продолжили обсуждение темы «Суд поэтов», а я, спрятавшись под лестницей, ещё раз проверяла аргументы в пользу своей подзащитной. После фейерверка, выпущенного предыдущим «коллегой», они казались ещё более бледными и жалкими. Вдруг на пороге моего убежища возник Жак. — Во, смотри, что я для тебя приволок, — весело прочири-кал «коллега», бросая мне на руки белоснежный халат с золотой окантовкой, — стащил из костюмерной под шифром «Одежда султана. Акт второй». Если надеть его задом на перёд и без пояса, получится очень впечатляюще. Примерив халат, замечательно оттенявший мою развалившу-юся причёску, я с сожалением вернула Жаку султаново покрывало. — Спасибо, друг, но копировать гениев — бездарно, да и аргументы у меня уж больно жидкие. Не поможет. Осудят сегодня присяжные бедную женщину по высшему разряду. — А ты не тушуйся. Главное — побольше куража и высокопарных слов. Ведь мы не адвокаты, а всего лишь артисты. Вот и играй, как хочется. — Да, — уныло протянула я, — от этой дурацкой Федры одни неприятности, а с куражом у меня сегодня из рук вон плохо. Я покинула своё убежище под лестницей и побрела в зал заседания. Маэстро опять ударил молотком по столу, требуя внимания присяжных и зрителей, и зачитал список прегрешений мадам Федры: клевета, интриги, подстрекательство к убийству и само-убийству, приведшее к гибели двух, ни в чём не повинных людей. Дочитав список, обвинитель передал слово защите. Горло у «защиты» пересохло, будто не было позади целого года обучения и сотни сыгранных этюдов. Я включила «процесс оправдывания», и память выплеснула на поверхность подготовленные дома «жидкие» аргументы о противостоянии двух миров: эмоционального и рационального. Любопытные глаза зрителей, приросший к трону Маэстро, нелепость самой ситуации... Всё уплыло куда-то за горизонт, уступив место азарту. Заразившись темпераментом Федры, я описывала проигран-ный её разумом поединок, во спасение собственной чести и репутации любвеобильного, погрязшего в распутстве мужа. Сделав выразительную паузу, я нанесла последний, сокрушительный удар обвинению: — И потом, милые дамы, у кого из нас хватит мужества подойти к любимому мужчине и первой открыто объясниться ему в любви? Мы прибегнем к сотне хитрых, проверенных ещё нашими бабушками уловок — взмахнём ресницами, печально вздохнём, случайно уроним платочек, а уж если совсем «В атаку!» — невзначай рухнем в обморок в надёжные руки своего героя, а вот так... прямо и честно... глядя в глаза, едва надеясь на взаимность... Вот так-то! А вы говорите «низкая, мелочная интриганка» Устало уронив руки вдоль тела, я представила как, объясняюсь в любви нашему Мэтру. Только от одной мысли по спине побежали мурашки, а лоб покрылся крупными каплями пота. — Уважаемые дамы и господа! Я не настаиваю на помиловании своей подсудимой, не прошу смягчить её наказание... я... я просто снимаю перед ней шляпу! Жак, поняв вверх большие пальцы обеих рук, поздравил меня с полной и окончательной победой. Женская часть группы, не выдержав напряжения, кинулась с ходу обсуждать горячую тему. Розали Депрео, полная, темпераментная брюнетка, предпочитала чистосердечному признанию обморок в любимых руках. — Ну да, а если он мне откажет! Это ведь такой позор! — Вот тогда и рухнешь в обморок... от стыда, — кричал Казимир Коклен, — только смотри не промахнись. Падать нужно в надёжные руки. Элиза Дебрю, отвергая личную инициативу, настаивала на гордом одиночестве. — А я и платочков ронять бы не стала. Если любит, пусть наберётся мужества и признается, а если нет... Уж лучше остаться одной, чем так унижаться. После продолжительных и горячих обсуждений присяжные всё же вынесли моей подзащитной оправдательный приговор: влюбилась она не по своей воле, а по замыслу мстительной Афродиты и вела себя при этом благородно и мужественно. Маэстро проявил на этот раз абсолютно не свойственное ему терпение. Дождался оглашения приговора и только после этого торжественно закрыл судебное заседание. — Сегодня вы, уважаемые дамы и господа, на собственном опыте прочувствовали как важно уметь отказываться от привычных схем, от привычных суждений и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Это и называется системой оправдывания героя. . После этого упражнения дела с Федрой пошли на лад, хотя именно сцена объяснения в любви по прежнему не давалась. Думаю, всё дело было в Анри, игравшем Ипполита. Я никак не могла в него «влюбиться». А что Вы хотите? Анри был красив, как греческий бог. По Вашей, Графиня, классификации он принадлежал к Аполлонам, и был бы действительно божественен, если бы, подобно мраморной статуе, умел молчать. Но Анри, к нашему всеобщему сожалению, именно этому и не научился. Он был восхитителен в любых ролях и этюдах, с лёгкостью перевоплощался в злодея и в святого, но возвращаясь в себя... начинал шутить настолько назойливо и нелепо, что выдержать это изобилие юмора мог бы только трижды мёртвый. Сегодня я уже в десятый раз объясняюсь в любви Анри — Ипполиту, смотрю на его изумительный профиль микеланджеловского Давида, мужественные плечи, едва прикрытые туникой, терпеливо ждущий чего-то взгляд и не могу влюбиться. Сегодня, сколько ни бьюсь, не могу найти ничего привлекательного в красивом, глуповатом Анри. Группа откровенно скучает, Маэстро сердится: — Послушайте, барышня, где витают сегодня Ваши мысли? Ещё вчера Вы были в него так страстно влюблены, а сегодня смотрите... глазами протухшей рыбы? В чём дело? Объясните пожалуйста. — Сколько раз можно объясняться человеку в любви, если это всё равно безнадёжно? Не любит он меня, я имею ввиду Федру, и никогда не полюбит. Сколько бы я ни старалась, ничего из этой затеи не выйдет. От этой безнадёжности не только у рыбы, у человека глаза протухнут. — А вот с этим я не согласен. Главное волшебство театра — это надежда. Зритель наизусть знает содержание пьесы, и всё же приходит на неё пятый и шестой раз. Почему? Почему он каждый раз взволнованно и напряжённо следит за действием? Потому что каждый раз надеется на чудо. А вдруг сегодня монах окажется расторопнее и спустится в усыпальницу за пять минут до прихода Ромео? А что, если сегодня Отелло будет спокойнее и доверчивее? Выслушает объяснения Дездемоны вместо того, чтобы сразу душить? Что, если сегодня Федра сумеет убедить Ипполита, покорить своей искренностью и мужеством и вызовет ответное чувство? Каждый новый спектакль — это надежда. Так ищите способ покорить Ипполита. Может как раз сегодня — Ваш единственный шанс. Я с сомнением посмотрела на Маэстро, а потом на Анри. — Да нет у Федры никаких шансов. Они же не впервые встретились. Пасынок знает её много лет и терпеть не может Лекок, вскинул вверх подбородок и приоткрыл рот, готовый начать очередное поучение, но вдруг передумал. — А знаете, сегодня я не буду вам ничего объяснять. Лучше покажу маленький этюд. Пару дней назад один приятель принёс мне свежий перевод из незаконченного романа одного русского писателя, Пушкина. Роман называется «Арап Петра Великого». Там было несколько фраз, которые произвели на меня неотразимое впечатление. Мне вообще хочется написать сценарий по мотивам этого романа и поставить его в своём театре. Ну да дело не в этом. Мадемуазель Лавуа, надеюсь Вы не откажете мне в любезности и подыграете в этюде? Сядьте, пожалуйста, за рабочий стол и займитесь чем-нибудь полезным. К примеру — вышиванием. Я присела в удобной позе к столу, взяла в руки воображаемое вышивание и стала подбирать нитки к воображаемому рисунку. Маэстро не слишком решительно направился в мою сторону. По дороге он несколько раз останавливался, борясь с желанием повернуть назад, наконец, махнув рукой, отбросил в сторону последние сомнения, и, уже легко преодолев последние метры, остановился у стола. — Мадмуазель, — поклонившись, он протянул мне руку, но не поцеловал протянутых в ответ пальцев, а лишь уверенно потянул к себе, вынуждая подняться. Маэстро бесконечно долго вглядывался в моё лицо, продолжая держать за руку, потом отступил на шаг и заговорил слегка охрипшим голосом: — Я знаю, что уже давно не молод, не слишком хорош собой, да и характера непростого. И тем не менее прошу Вашей руки и сердца, потому что люблю Вас. Я испугано взглянула на учителя и не узнала привычного лица. Глаза, всегда белесые до прозрачности, сгустились, мерцая из под ресниц тёмно-васильковым, а тонкие, бесцветные губы припухли и по-детски округлились. Вся поза с наклонёнными вперёд плечами, выражала покорность судьбе... и надежду. Постояв несколько секунд с опущенной головой, он поднял на меня нестерпимо просящие, потемневшие глаза и закончил фразу: — Я не стану требовать от Вас любви. Буду довольствоваться лишь верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. В этот момент я забыла о публике, о сценарии, о теории игры. Оторопело всматриваясь в незнакомое лицо, судорожно сжимала в руке воображаемый клубок ниток. — Простите, если напугал Вас, но не торопитесь с ответом. Обдумайте моё предложение. Я подожду... Я умею ждать. Стоящий передо мной незнакомец, нежно и приветливо улыбнулся, взял у меня клубок ниток и приложил к незаконченному вышиванию: — А цвет Вы подобрали действительно очень удачно. На прощанье он прикоснулся к кончикам моих, онемевших от напряжения, пальцев, решительно развернулся и пошёл к креслу. Минут через пять лицо Маэстро пришло в привычное нам состояние, и он продолжил урок. — Ну что, дамы и господа, вы прочувствовали, что такое «излучение» и как оно воздействует? Дамы и господа, молча сглотнув застрявший в горле комок, дружно кивнули головами. — Мадемуазель Лавуа, я должен сделать Вам комплимент. В этом этюде Вы были великолепны. Я наконец понял, в чём Ваша главная трудность, и, кстати, не только Ваша. Этим в большей или меньшей степени страдают все. Одна половина души принадлежит герою, а другая осуществляет роль критика. Вы всё время держите себя под контролем, боясь сфальшивить или переиграть. Отпустите себя, не контролируйте, будьте на сцене такой, как будто это ваша жизнь, а не чужая. Так, как вы делали пять минут назад. Пару часов спустя, сидя с Жаком в « Старой мельнице», я благословляла его болтливость. Он вдохновенно восхищался гениальным перевоплощением Маэстро, а я медленно приходила в себя от последствий этого перевоплощения. Перед глазами всё ещё стояли детские припухшие губы. Но что ещё важнее, его слова о самоконтроле. Вечером пошла за советом к папе. Мне было важно, как он, в начале своей карьеры, с ним справлялся . — Знаешь, дочка, это проблема всех начинающих. Мы все поём дифирамбы вдохновению, озарению свыше в моменты творчества, но страх сцены, открытого пространства, незащищённости четвёртой стеной — это то, к чему годами приходится привыкать. Лет через пять ежедневной работы перестаёшь замечать этот провал в темноту, но страх сфальшивить, поскользнуться и упасть остаётся всегда. — Значит я не единственная, кто боится сцены как таковой? — Нет. Я думаю, это инстинкт самосохранения. Знаешь, как зимой, выходя из светлого дома в тёмный, заснеженный парк, за каждым деревом видишь дикого зверя или злого разбойника. Такое же чувство охватывало меня по началу на сцене: тёмный зал, а там шевелится многоголовое чудище. Что ни голова, то враждебно настроенный критик. Как же здесь без самоконтроля. — Ну а как было потом? — Потом понял, что мне просто нравится петь остроумные куплеты, прочувственные арии, нравится танцевать, ощущать себя каждый вечер заново влюблённым и каждый раз в новую женщину, что в реальной жизни, к сожалению, не одобряется... И плевать хотел по большому счёту, что напишут об этом в завтрашних газетах. Важен стал сам процесс. Но это, Элли, приходит с годами. В папиных рассуждениях я узнавала себя — пережить на сцене то, что « не одобряется в реальной жизни». Жить по чувству, а не по разуму... и не нести за это личной ответственности. Да, этот «выигрыш» может дать только творчество: отпустить на волю причудливо-грешную фантазию, свалив все последствия на вымышленного героя. Скорее бы это пришло. Уж не знаю, как впоследствии переживу критиков, но сейчас хотелось бы пережить хотя бы мёсье Лекока. После этюда с Маэстро и папиных признаний дело пошло на лад. Как будто прорвало внутреннюю плотину, построенную самоконтролем. Похоже, изобилие теорий и учительского сарказма иногда здорово мешает. Первой большой победой над собой явилась влюблённость в Ипполита. Наконец удалось совместить его с балбесом Анри. Вернее, изумительный профиль и красиво изогнутые губы партнёра наполнить благородным совершенством его героя. Теперь я, как Федра, замирала от восхищения и робости, повествуя ему о любовных муках. Наша наивная, юношеская неопытность! Бедолага перепутал сказку с былью. Решил, так играть может лишь реально влюблённая женщина... и, решив за мной поухаживать, буквально утопил в бурном потоке безобразного юмора. Жак, поводя в сторону острым клювиком и подмигивая круглым птичьим глазом, советовал приглушить на репетициях поток страсти: — Если ты и дальше будешь ежедневно потрошить его слабое сердце, то до премьеры оба не доживёте. Он захлебнётся в твоей любви, а ты — в его шутках. Вопреки всем опасностям и подводным рифам, мы благополучно дотянули до премьеры и сдали свой первый экзамен. Профессора консерватории одобрили энтузиазм и слаженность игры актёров, хорошее знание текста и осмысленность интонаций. В то же время сама трактовка трагедии и сделанные в ней акценты вызвала строгие нарекания экзаменационной комиссии: «Комеди Франсез» наверняка отклонила бы подобную версию, да и у «Одеона» возникли бы определённые сомнения. Ну и пусть. Эта рассудочная критика меня в те дни совершенно не волновала. Я была пьяна первым успехом и первой страстью, за которую заплатила жизнью не я, а моя героиня. Учебный год остался позади. Родители уехали с театром Оффенбаха на гастроли в Мадрид, а мы с бабушкой — в Андалузию к Марии. Дом её, как всегда, переполненный бесконечными членами семьи, походил на лесной муравейник. Как Вы помните, у неё было трое своих детей и две дочери от первого брака мужа. Все они давно обзавелись семьями, нарожали детей, и отличить их друг от друга или, хотя бы просто запомнить имена, оказалось для меня непосильной задачей. Но этот визит запомнился на долгие годы. Мария предложила нам с бабушкой навестить одного из её сыновей, Эстебана. Лет пять назад он с семьёй переселился в дом, в котором прошла Ваша юность. После смерти Вашего отца он достался его жене Элеонор, а она завещала его Марии, разрешив подарить тому из детей, кто захочет там жить. Главное — он не должен пустовать. Эстебан, с детства влюблённый в этот дом и парк, отремонтировал его, практически нечего не меняя ни в архитектуре, ни в атмосфере доисторического строения. Бабушка долго сопротивлялась поездке, отговариваясь жарой, плохим самочувствием и отсутствием интереса к месту, в котором побывала всего один раз в жизни, но я насела на неё с таким упорством, что бедолаге пришлось, хоть и нехотя, смириться со своей печальной участью. Честно говоря, меня мало интересовали дядя Эстебан и его старый дом. Просто у Марии в то лето было настолько тесно и шумно, что об отдыхе после напряжённого года учёбы нечего было и мечтать. Ехать пришлось часов пять. В дороге я больше дремала, чем смотрела в окно, но почему-то перед самым подъездом, уже на главной алле, меня охватило странное возбуждение. До сих пор помню это смутное ощущение: то ли я всё это уже видела, то ли меня ждёт здесь что-то необыкновенное. Представляете, Графиня, я побывала тогда в Вашем доме, приблизилась к Вам почти вплотную! Читая дневник неделю назад, узнавала каждую деталь: каменную лестницу, по которой Вы, волоча намокшую юбку, бежали навстречу раненному мужу, главную аллею, окантованную липами... Столетние гиганты, сцепив высоко в небе свои вершины, превратили дорогу в торжественную анфиладу... А голубые тени до сих пор лежат на жёлтом песке, будто и не заметили Вашего отъезда. Окно, это проклятое Вами окно... Оно постоянно притяги-вало меня к себе, будто я тоже кого-то ждала, хотя ждать было некого. Просто стояла и смотрела на дорогу, не понимая откуда она, эта острая, щемящая грусть... Как и Вы, я часами носилась по парку, царапая руки о когти шиповника и ежевики, каждый день открывая для себя его терпкие, пропитанные запахом разомлевшей на солнце листвы, тайны. Жаль, что тогда ничего не знала о двухствольном дереве и беглой вишне! Хотя врядли им удалось дождаться моего приезда. А вот в беседке из роз побывала, и привела меня туда Франческа. В один из дней она с утра жаловалась на недомогание, на тяжесть в сердце и шум в ушах. После обеда, решив подлечиться свежим воздухом, собралась в парк. Вдруг, уже стоя на крыльце, обернулась ко мне и предложила пойти вместе. — Элли, погуляй со мной. Мне что-то сегодня одной страшновато. Ноги плохо держат. — Баб, может лучше отлежись дома? — Нет-нет. Надо пройтись. Потом станет лучше, — и бабушка зашагала вперёд с такой энергией, что догонять её пришлось вприпрыжку. Выглядела она и в самом деле странно: на щеках два пунцово-красных пятна, седые пряди выбились из всегда аккуратно уложенной причёски и странно блестящие глаза. Я испугалась за неё не на шутку: — Пожалуйста, прошу тебя, пойдём домой. У тебя наверняка температура. Ты ляжешь в постель, а я пошлю за доктором. — Я тоже прошу тебя, пожалуйста, не мешай гулять. Иди молча. Мы долго кружили по дорожкам, как будто она что-то искала и не могла найти. Наконец, слегка пригнув голову, юркнула в кусты. Мы оказались в Вашей беседке. Оказывается её то она и искала. — Уф, наконец то, теперь можно и передохнуть, прошептала еле слышно Франческа и опустилась на каменную скамью. Я пристроилась рядом, разглядывая это странное место, куда до сих пор ещё ни разу не забредала. Старые, истёртые камни почти утонули в густой траве. Засохшие от времени ветки роз сплелись в глухой, почти непроницаемый для света купол и только по краям, куда пробивались случайные лучи солнца, зеленели, усыпанные крупными красными цветами, свежие побеги. Сидя рядом с молчавшей бабушкой, я вдруг испытала такое же беспокойное напряжение, как и при подъезде к дому. Я далека от мистики, и от сентиментальности, но неужели на меня так действовала близость к Вам? Или слишком сильно было излучение, сидевшей вплотную ко мне бабушки? Опустив голову и тихо шепча что-то себе под нос, она, казалось, забыла о моём присутствии... потом вдруг удивлённо вскинула глаза, взяла за руку, и бесконечно долго поглаживала её своими тонкими нежными пальцами. Наконец, почти проснувшись от своих мыслей, она тяжело вздохнула, обняла меня за плечо и неуклюже уткнулась носом в шею. Так мы молча и просидели на каменной скамье почти до темноты. — Ну вот,— бабушка наконец встрепенулась и оторвалась от меня, — а ты боялась. Прошлась немного по воздуху, посидела в тенёчке и всё прошло. Пошли, а то скоро совсем стемнеет и мы, не дай бог, заблудимся. По дороге, окончательно оправившись от приступа слабости, она завела разговор о моей артистической карьере: — Знаешь Элли, что я подумала. Тебе не стоит выступать под именем Лавуа. Оно слишком известно, и тебя будут всё время сравнивать с отцом, а это не хорошо. Тебе нужно взять сценический псевдоним. — Я тоже об этом подумывала, только ничего путного в голову не пришло. — А как тебе нравится имя Альварес? Елена Альварес. — Очень красиво. А что это за имя? — Моё девичье. До замужества меня звали графиня Франческа де Альварес. Только тебе не нужно ни графини, ни де, просто Елена Альварес. Так бабушка подарила мне часть Вашего имени, Графиня. Глава 3 Подходил к концу второй год обучения. Мы уже не реагировали так болезненно на сарказм Лекока, а он, смирившись, по-видимому, с нашей негениальностью, излучал, скорее, меланхолическую задумчивость, чем агрессивный азарт. За три месяца до конца года Маэстро начал готовить нас к заключительному экзамену. На этот раз он решил поставить пьесу под названием «Нахлебник», написанную каким-то русским драматургом Тургеневым. Пару лет назад Лекок познакомился с эмигрантом Павловским, привившим ему вкус к русской, несколько непривычной для французов, литературе. Недавно он перевел «Нахлебника» на французский язык, и теперь Маэстро решил опробовать это детище на нас. Графиня, я не буду утомлять Вас подробным описанием пьесы, расскажу лишь в общих чертах её содержание и трудности, связанные с порученной мне ролью . Главный герой, родившись столбовым дворянином, прожил тридцать лет в доме богатого помещика, отрабатывая дармовой хлеб, когда добровольно, когда из под палки, в роли шута. Старый хозяин умер лет двадцать назад, а нахлебник так и остался в доме в качестве старой, привычной мебели. Пьеса начинается с того, что двадцатилетняя дочь помещика, недавно вышедшая замуж, возвращается в поместье отца после многих лет отсутствия. Радостно приветствует старую прислугу, сад, дом, где родилась и прожила первые восемь лет, и ставшего совсем старым нахлебника, с которым охотно играла в детстве. По ходу действия пьесы её гости, скуки ради, напоили старика, задразнили и заунижали настолько, что в бедолаге вдруг проснулось чувство собственного достоинства. Он возьми, да и сознайся при всех гостях, что молодая хозяйка... на самом деле его дочь, а не помещика. Собственно, на этом и строится дальнейшее действие. В итоге молодая дама и её муж показывают себя с наилучшей стороны: в обмен на публичное покаяние и полный отказ от «пьяной клеветы» они снабжают нахлебника огромной суммой денег и определяют ему новое место жительства подальше от своего поместья. Но главная суть в том, что старик успел рассказать дочери семейную тайну. Мнимый папенька был страшным тираном и самодуром, и погиб он вовсе не героически, а с перепою. Мать девушки, не выдержав постоянного унижения и побоев мужа, с отчаяния пригласила всего на одну-единственную ночь нахлебника в свою спальню, после чего и родилась эта молодая дама. Несмотря на все унизительные подробности, опухшее с перепоя лицо новоявленного отца и нестерпимый запах винного перегара, молодая женщина (Ольга) ни разу не впала в истерику и не хлопнулась в обморок. Мало того, говорила с ним почти нежно, а на прощание даже поцеловала в небритую щёку. Лекок поручил роль нахлебника Жаку, а мне выделил добродетельную Ольгу. Я давно выучила наизусть весь текст, но как играть эту даму, так и не поняла. Зацепиться было не за что. Не спешите обвинять меня в пороке, свойственном многим представительницам моей профессии — привередливости и капризности. Год назад не хотела играть порочную Федру, сегодня — беспорочную Ольгу. Просто уж больно она правиль-ная, гладенькая, как пасхальное яичко. Прямо сама по себе из рук выскальзывает. Роль нахлебника, в отличии от моей, была великолепна. Всё построено на тончайших нюансах. Переходы от готовности к крайней степени унижения за дармовую рюмку водки, до неожиданных взлётов сохранившегося где-то в глубине души чувства собственного достоинства. Говорить об этом с Маэстро не хотелось. Себе дороже выйдет. Единственная надежда была на Жака. И вот мы опять сидим за угловым столиком в «Старой мельнице». — Ну что у тебя с ролью? — Знаешь, подруга, она просто великолепна, но сложнааа... Мне бы её лет этак через десять сыграть. А тебе как? — А у меня опять не клеится. Уж больно она добродетельна. Ни конфликтов с собой, ни чувств особенных... А может их и не надо? Какая в сущности разница, кто твой отец? Мнимого она всё равно не знала. — Ошибаешься, милая! Если бы ты знала, как ошибаешься! — Объясни. Буду по гроб жизни твоей должницей. Жак покрутил клювиком, на минуту прикрыл глаза короткими веками, слегка опушёнными редкими, светлыми ресницами.... и, поставив чашку с недопитым кофе на стол, рассказал свою историю. — Как ты знаешь, мама воспитывала меня одна. Отца я знаю только по её рассказам. Он был очень талантливым артистом. У неё даже несколько театральных афиш с тех времён сохранилось. Мама считала, я на него похож. Черты и в самом деле похожи, только в нём они как-то лучше друг с другом сочетались. Короче, он погиб незадолго до моего рождения. Пошёл в гости к приятелю... а там пожар. Приятеля вытащить успели, а его парализованного отца не смогли. Вот мой и рванулся в горящий дом старика спасать. Старика то он на улицу выкатил, а самого, прямо на пороге, горящей балкой накрыло. Так меня и не увидел. Знаешь как я в детстве своим отцом гордился! А в прошлом году произошло следующее. Как то выпили мы с приятелями, в карты перекинулись, ну я и проигрался слегка. Дома попросил у матери денег в долг. Денег она мне дала, но такое рассказала... на всю жизнь к картам аппетит отбила. Погиб мой отец вовсе не при пожаре. Он был отчаянным пьяницей и картёжником. Проигрался как-то по крупному, а отдавать было нечем. Вот дружки и решили его слегка проучить... да так проучили... бутылкой по голове, что он через два дня, не приходя в сознание в больнице и умер. А с матерью они вообще женаты не были. Так что я — самый что ни на есть бастард. Ты спрашиваешь, зачем я всё это сейчас рассказываю? А чтобы с Ольгой помочь, с её чувствами. Знаешь, каково мне тогда было? Во-первых, мать лишила меня чувства собственного достоинства. Почему мы гордимся предками? Потому, что наследуем от них не только состояния, но таланты и добродетели. А что унаследовал я от этого пьяницы и картёжника? Его пороки?... А потом на мать разозлился — незачем было рассказывать, надежды лишать. Месяца два в себя приходил. — Жак, почему раньше ни слова об этом не сказал? — А я и сегодня ничего не сказал бы, если бы не твоя Ольга. Просто подумай на досуге, что она чувствовала на самом деле. Может тогда роль и получится. Домой возвращалась обычной дорогой, сравнивая истории Жака и Ольги. Как мне понять их чувства, если я всю жизнь прожила в дружной, любящей семье? На углу, рядом с нашим домом дремал на старой ветоши, брошенной прямо на землю, инвалид- попрошайка. Это было его постоянное рабочее место, отвоёванное когда-то у нищенской общины, или выделенное ему за особые заслуги. Во всяком случае, я знала старика с детства. Проходя мимо, мама всегда опускала ему в шляпу насколько мелких монет. Последние годы, выдавая мне деньги на карманные расходы, она всегда досыпала отдельную горстку мелочи для «нашего нищего», и я, соблюдая привычный ритуал, ежедневно отвала их, одну за другой, истерзанной, давно потерявшей шляпный вид, шляпе, а он благодарил наклоном головы и ласково улыбался, как старой знакомой. Сегодня, как обычно, я отдала старику несколько монет и заглянула в одутловатое, покрытое множеством выпуклых бородавок лицо. И вдруг фантазия, разогретая рассказом Жака, нарисовала жуткую картину: Прихожу домой. Мама, тревожно оглядываясь по сторонам, берёт меня за руку и уводит в свою комнату. — Дочка, я должна рассказать тебе нечто очень важное. Только пожалуйста не волнуйся. Дело в том, что твой папа тебе на самом деле не родной отец, а приёмный. Твой настоящий отец — нищий старик с бородавками, сидящий у нас за углом уже много лет. Ты жалей его, подавай деньги, только никому об этом не говори. Это будет позором для нас обоих. Ты уж прости, но так получилось. В этот момент я почувствовала реальный приступ тошноты. Как это может быть? Как мама могла совершить подобную гадость? Впрочем теперь понятно, почему в такой музыкальной семье я единственная, кто на умеет петь. А какие ещё «таланты» я унаследовала от этого чудовища? Неужели к середине жизни мне предстоит спиться и покрыться бородавками? А если у меня будут дети? Они тоже родятся бородавчатыми пьяницами? Я почувствовала приступ злости к ни в чём не повинной маме: зачем она мне рассказала! Чтобы я всю жизнь прожила под страхом этой жуткой наследственности? Мне с трудом удалось вернуть себя в реальность, но чувства, испытанные в эти минуты, были настолько сильны, что даже несколько часов спустя казалось, руки уже начинают покрываться мелкими пупырышками. Образ моей героини проступил ярко и объёмно, как на ладони. Но знаете, Графиня, если бы я к тому времени прочла Ваш дневник, он был бы ещё сильнее. Тогда я не поняла, как страшно жить с тайной, которая, ( цитирую Ваш дневник) как бы глубоко в душе ни была похоронена, постоянно шевелится и царапает её изнутри и в любой момент угрожает высунуть наружу свою мордочку. А значит, тайна постыдного рождения, будет преследовать мою героиню до конца жизни. Первый шок, смесь жалости и тошноты, растерянность и злость, сменяющие друг друга, как волны взбудораженного моря... всё это мне предстоит пережить вместе с ней в ближайшие месяцы... если, конечно, смогу. Но какой всё же Лекок умница! Он не зря выбрал эту пьесу. Тонко, филигранно обозначенные чувства, без экзальтации, без надрыва... но очень по человечески, почти злободневно. Жаль, что русская литература у нас так мало известна. Репетиции «Нахлебника» проходили значительно спокойнее, чем мы ожидали. Вся группа прониклась этой историей, каждый если не влюбился в своего героя, то нашёл ему «оправдание». Маэстро... удивительно, как он изменился в эти месяцы. Казалось, он с наслаждением собирал урожай, который посеял и взрастил за последние полтора года. Лекок был подобен влюблённому в исполняемую им музыку дирижёру. Откинувшись на спинку кресла и прищурив глаза, он вслушивался в каждый звук, впитывал каждое наше движение. Иногда морщился, как от зубной боли, и произносил короткое «Фальшь». А иногда..., уперев подбородок в сложенные домиком руки, выдыхал короткое: «как хорошо, как красиво», и это было высшей наградой за наш честный и самоотверженный труд. С тех прошло почти тридцать лет. Я не помню подробностей каждого дня, да и Вам они врядли были бы интересны. В памяти сохранился лишь сам экзамен — выступление перед привилегированной публикой и экзаменационной комиссией. В последние минуты перед выходом я впала в такую панику, что хотелось без оглядки бежать за тридевять земель от этого проклятого театра. Пыталась, как нас учили, забыть реальность и медленно погрузиться в роль. Какое там погружение! Ольга, сжавшись до микроскопических размеров, маячила где-то за горизонтом, не подпуская к себе ни на шаг. В этот момент Лекок незаметно подошёл сзади и положил руку на запястье: — Девочка, Вы уже почти взлетели. Осталось только сгруппироваться и слегка оттолкнуться от земли. Ну же... давайте... всего один вздох... ещё один... Вот и всё. Вы наверху. Эти короткие команды подействовали как гипноз. Я оторвалась от реальности и... вышла на сцену. Спектакль был принят публикой вполне доброжелательно. Нас вызывали на бис, дарили цветы и прочили большое будущее. Пресса отозвалась об экзаменационной постановке неоднозначно. Одни газеты были удивлены выбором никому не известной пьесы: Зачем молодым, неопытным выпускникам начинать с этого сырого материала? Им нужны классические, опробованные десятками признанных звёзд постановки. Только ориентируясь на опыт и традиции истинных талантов, молодёжь сможет со временем дорасти до них и сказать своё собственное слово в искусстве. Другие газеты, отмечая самобытность и филигранную утончённость пьесы Тургенева, хвалили нас за абсолютно новое, выразительное исполнение, построенное на понимании нюансов чувств героев пьесы. Невзирая на критику, мы чувствовали себя победителями, и ни что не могло убедить нас в обратном. К этому времени многие мои подруги уже успели определиться с будущим. Однажды Розали Депрео, доведённая до обморока шутками Анри, свалилась в его надёжные руки... да так и застряла в них на долгие годы. Некоторые повыходили замуж ещё до окончании школы, предпочтя театру уют и спокойствие семейной жизни. Прелестная, талантливая Элиза Дебрю, несмотря на твёрдое намерение блюсти женскую гордость, уже полгода постоянно теряет платочки под ногами у Жака. Он возвращает их с неизменным поклоном и поцелуем руки, но дальше этого дело не движется. Не в силах сдержать своё женское любопытство, я задала Жаку прямой вопрос: — Слушай, а почему ты так упорно игнорируешь внимание Элизы? Ответ поразил своей неожиданностью: — Элиза — изумительно тонкий и талантливый человек, и я не могу себе позволить поступать с ней непорядочно. — Что ты имеешь в виду? — Не могу сойтись с ней, а потом бросить. — А жениться? — Дорогая моя подруга, я никогда не женюсь на талантливой, самостоятельной женщине. Такие женщины хороши для любви и дружбы, а жена... Неет... Я ищу свою Пенелопу... нежную, преданную и терпеливую. — Жак, но ведь с такой Пенелопой ты через два месяца от тоски усохнешь? — А Нимфы да Цирцеи на что? — Ну у тебя и мораль! — Да уж какая есть. Или ты лишишь меня за безнравственность своей дружбы? — Да нет, просто Элизу жалко. Всё же моя лучшая подруга. — Тогда и объясни ей по дружбе, что я редкостный мерзавец, недостойный её любви. Правда. Сделай это. Она в самом деле заслуживает лучшего. Вас, Графиня, наверняка интересуют мои влюблённости? В этот период жизни настоящих ещё и не было. Естественно, как и все, увлекалась слегка то одним, то другим, а вот так, как Вы... нет, такой принц на пути ещё не попался, или все силы на вымышленных героев растратила. А вот маму мою это тревожило не на шутку. Насмотревшись на незамужних, разгульных служительниц Мельпомены, окружавших её последние пятнадцать лет, маме хотелось, чтобы я побыстрее нашла серьёзного, преданного театру и мне супруга, защищающего нашу общую честь от посягательств назойливых поклонников и богатых покровителей. К выпускному балу она подготовила мне такой туалет... Боже, сравниться с её искусством могла бы только Ваша Элеонор! Туфли на каблуке, чуть выше обычного, серебристая лёгкая ткань, спадающая мягкими свободными складками и глубокий, остроугольный вырез хитроумно скрыли некоторые недостатки фигуры, выставив на всеобщее обозрение её главные достоинства. К выпускному балу бабушка Лизелотта подарила прелестные серёжки и колье из александритов, говоря, что они удивительно подходят к цвету моих глаз. Прозрачные, лёгкие камушки, как капельки росы, повисли на кончиках ушей, стекая тонкой струйкой вдоль шеи к основанию груди. Окинув меня влюблённым взглядом и прижимая к объёмному, уютному животу маленькие пухленькие ручки, бабушка выдохнула еле слышно: — Ой, Элли, ты, как маленький, невесомый эльф. Подует ветерок, и улетишь. Так и отправилась я на выпускной бал в окружении восхищённого семейства, оберегающего меня от дуновений случайного ветерка. Стоя у зеркала перед входом в зал, я с тоской думала, что это последний вечер в окружении знакомых, привычных лиц. Конечно, наш школьный мир был слепком с большого, настоящего. Интриги, конкуренция, сплетни, попытки слегка притопить соперника, чтобы выплыть самому... всё это было, но как-то не по-настоящему, не до смерти. А что ждёт меня там, за пределами этой позолоченной клетки? Внезапно резануло воспоминание об экзамене, последних минутах перед выходом на сцену. Что, если бы Лекок не подоспел вовремя? Я так и осталась бы стоять за кулисами, соляным столбом впечатавшись в пол. Тоска тяжёлой волной поднялась откуда-то изнутри и мутным, вязким потоком растеклась по телу. Что за глупая, самона-деянная особа стоит по ту сторону зеркала? Нелепые, завитые в неестественно тугие спирали локоны, свисают на щёки. Камушки, проступившие мутными каплями пота на шее... Зачем всё это? Я ведь знала с самого начала, что панически боюсь сцены, боюсь толпы в зрительном зале, боюсь провала... боюсь позора, когда окружающие, бросая сочувственные взгляды, думают про тебя: «Бедняжка, зачем она взялась не за своё дело». Так зачем же, сомневаясь в своём таланте и призвании, так упорно карабкалась на место, предназначенное не для меня. Зачем? Жак, как факир, возник из пустоты: — Не надоело любоваться на свой отражение? Пошли. Торжественная часть уже началась, — и, игриво обняв мою талию, поволок в зал. .............................................................................................................................. ......................... Я стояла одна на балконе, устав от танцев, шампанского и торжественных речей. Маэстро вышел откуда-то из боковой двери и, слегка поколебавшись, остановился в двух шагах, у балюстрады. Закинув голову вверх, он задумчиво смотрел на усыпанные белыми цветами магнолии. Простояв молча пару минут, Лекок повернулся ко мне и заговорил. Голос был хрипловат, а лицо... боже, как год назад на этюде... потемневшие глаза и округлившиеся, детские губы. Что с ним? — Мадемуазель, год назад я объяснился Вам в любви и сделал предложение... Помните, я просил не спешить с ответом. Сказал, что умею ждать. Сегодня я готов повторить свои слова ещё раз и снова прошу Вашей руки и сердца. Графиня, можете себе представить моё состояние в этот момент? Смесь жалости и отвращения к самой себе, страх перед предстоящими унижениями и бессмысленной борьбой за чужое место, а тут ещё это... — Простите, мёсье Лекок, это опять этюд? — Нет, не этюд... и тогда... это тоже было серьёзно. Что же делать, если меня, старого дурака, угораздило влюбиться в собственную ученицу. Нет, не с первого взгляда, а с восьмого или с десятого... Как рассмотрел, так и влюбился. Лекок улыбнулся то ли смущённо, то ли виновато, и меня опять поразили его припухшие губы... и зубы — крупные, ровные, слегка потемневшие от постоянного курения трубки. — Я, право, не знаю что сказать... всё так неожиданно... и вообще... я мямлила что-то испугано бессмысленное, судорожно вцепившись в балконную решётку. В этот момент Лекок, как тогда, перед выходом на сцену, положил мне на запястье свою сухую, тёплую руку: — Успокойтесь. Подумайте и примите решение, какое сочтёте нужным. Ответ дадите через неделю. Вежливо поклонившись, он резко развернулся на каблуках и зашагал в сторону зала. Путаясь в подоле собственной юбки, я уже неделю ношусь по улицам Парижа. Первой и главной проблемой оставался театр. Бросить, сбежать, жить спокойно, не мучая себя страхом поражений и позоров. Но как тогда жить? Домашнесветские развлечения, сплетни о модах и чужих супружеских изменах. Дни, как близнецы, похожие друг на друга, слившись в неразличимый тяжёлый ком, докатят меня когда-нибудь до старости, а потом и до смерти? Что значит для меня театр? Это — за отпущенные пятьдесят-шестьдесят лет, прожить не одну жизнь, а тридцать. Понять совершенно чужого человека, как себя, поселиться в нём, стать им... Понимаете, это как тридцать-сорок раз заново родиться и прожить жизнь другим человеком. Но это значит, каждый день выходить на сцену, как на эшафот, отдавая себя на растерзание толпы. И, к сожалению, одно без другого не существует. Не бывает театров без зрителей. Кружа по улицам Парижа, я выбежала на берег Сены. Аромат жасмина и свежескошенной травы дурманил голову, напоминая, что кроме театра существует огромный мир музыки, запахов, красок и великолепной литературы. Так что же? Остаться навсегда только зрителем? Вдохновляться на короткий момент чужим творчеством, а потом опять возвращаться в унылый мир семейных неурядиц? Я путалась в зарослях ежевики, в мыслях и чувствах, не находя ни правильной тропинки, ни однозначного решения. А тут ещё этот Лекок со своим предложением. С ним тоже было не так просто. Я пыталась представить Маэстро в домашней обстановке, таким, каким иногда по утрам видела папу. Всклокоченные после сна волосы, небритые щёки, домашний халат накинут на нижнюю рубашку, расстёгнутую до самого живота, и домашние шлёпанцы на босую ногу. Увидеть Лекока без жилетки и галстука, прихлёбывающего утренний кофе и рассеянно жующего рогалик, рассыпающийся мелкими крошками по волосатой, как у папы, груди... Что он делает по вечерам, когда не занят в театре? Садится, как папа, у камина, положив для важности на колени газету, и безмятежно похрапывает, убаюканный уютным потрескиванием горящих дров? И дело здесь не в почтении к гению. Я могла бы представить себе в домашней обстановке таких титанов, как Гюго, Бальзака, обоих Дюма, но Маэстро в подобном интерьере... нет. Тут моя фантазия полностью сдавала позиции. Все эти два года он, сидящий на своём троне, в жилетке, белоснежной рубашке и галстуке, представлялся мне олимпийским богом. Простой смертный не успел бы и за сорок восемь часов в сутки совершить того, что он успевал за двадцать четыре. Вести занятия с нами, посещать лекции по психиатрии, писать сценарии и ставить собственные спектакли, посещать все новые театральные постановки, выставки и музыкальные концерты, выискивать интересные новинки литературы... Господи, как всё это умещалось в его, не такой уж большой по объёму голове? Понимаете, Графиня, Лекок с одной стороны подавлял меня своим высокомерием и сарказмом, но с другой — заряжал вдохно-вением. Он научил по новому чувствовать и воспринимать мир. До встречи с ним я была мраморной статуей. Он разбудил во мне жизнь. Он — мой Пигмалион. Благодаря ему я два года жила напряжённой, до предела насыщенной творческой жизнью, а теперь... Продираясь сквозь заросли ежевики, нащупала наконец тоненькую тропинку, ведущую к реке, и уже через пару минут она вывела меня к крошечной бухточке, окружённой со всех сторон плакучими ивами. Присев на сухую песчаную гальку, я с облегчением сняла туфли и вытянула ноги. В этом месте широкое, безмятежное русло реки, нарушенное свалившимся в него огромным валуном, резко изгибалось в сторону. Тяжёлый, густой поток, натыкаясь на камень, возмущённо вздыбливался, с силой ударялся в него, стремясь столкнуть со своего пути, но, вовремя осознав безнадёжность усилий, крутыми водоворотами уходил в сторону, швырнув в противника на прощанье клочья желтовато-ржавой пены. Моя безмятежная юность под защитой семьи, школы, Маэстро тоже закончилась. Нужно принимать решение и идти дальше, но куда? Тогда я видела только два пути: прочь от театра и от Лекока, либо... в театр и с ним. Можете ли Вы понять моё тогдашнее заблуждение? В своём дневнике Вы очень точно описали это чувство... так... подождите секундочку... сейчас найду. Ах да, вот... Вы писали тогда о своей семье: Они были подобны рубинам, лежащим в дальнем углу стола и терпеливо ждущим, когда лучик солнца проскользнёт по ним и зажжёт на пару мгновений хранящиеся внутри золотые искры. Всего несколько мгновений настоящей жизни в чужом свете — и рубины опять увяли, став глухими и тёмными. Вспомнились слова отца, так ранившие меня год назад: «По сравнению с общепризнанными звёздами ты слишком реалистична. Ты прочно стоишь на бренной земле, а они... они беснуются и парят над ней.» Папа был прав, но не точен. Моя душа напряжённой струной рвалась в необузданное, чувственное пространство, но разум, замороченный католическим воспитанием, требовал благополучной, размеренной стабильности. Разум и чувства в их извечном противостоянии... Чувства пели гимн моей самобытной неповторимости: «Сотни и тысячи «других», скучных и обыденных, промелькнут через жизнь и исчезнут навсегда, но ты... ты пришла в этот мир не случайно и обязана оставить по себе след. Скучный, трусливый разум, обрывая на полуслове это безумие, подставлял зеркало выпускного бала. Сухо и деловито возвращал на бренную, прозаичную землю, задавая безжалостно прямой вопрос: «Ну и где же ты, глупая, наивная девчонка, видишь свою самобытную неповторимость?» Тогда, сидя на влажном песке, я не смогла бы облечь всю эту мешанину в слова, но сегодня... с расстояния в тридцать лет, во всеоружии иронии взрослого, опытного человека, могла бы назвать своё тогдашнее представление о театре единственным компромиссом в этом противостоянии: не рискуя собой, прожить тридцать-сорок насыщенных страстями жизней, переложив ответственность на вымышленных героев. Тридцать раз, героически подставив голову под дуло пистолета, знать, что выстрелят не в тебя. Я была молода и труслива, и нуждалась в защищающем и зажигающем меня солнце. Или ещё хуже: ощущала себя полупарализованным инвалидом, цепляющимся за костыли и подпорки. Лишь спустя много лет поняла — невозможно прожить полноценную жизнь, ухватившись за крыло пролетающей мимо жар-птицы. Если природа одарила тебя этими искрами — рано или поздно они разгорятся сами, а если их нет... значит нет. На эту премудрость потребовались, к сожалению годы..., а тогда, в окружении плакучих ив, я решила принять предложение Лекока. Вечером состоялся разговор с мамой. Она была первой, кому я рискнула об этом рассказать. В принципе, замужество перед началом театральной карьеры совпадало с её представлениями о жизни, но предложение Маэстро застало маму врасплох. — Как так? Почему мёсье Лекок? Я думала, у тебя намечается что-то с Жаком? — Вот и неправильно думала. С Жаком ничего, кроме дружбы, не намечалось. Мама задумчиво теребила незаконченный рисунок очередной модели, лежавший у неё на рабочем столе. — Послушай, Элли, неужели ты успела в него влюбиться? Или — это брак по расчёту? Я попыталась объяснить ей свои размышления о Пигмалионе и Галатее. — Кажется я поняла тебя. Со мной было такое же. Если бы твой папа не начал засматриваться по сторонам, мне бы и в голову не пришло заняться театральной модой. Первую коллекцию я сделала от обиды и злости. Да, он, сам того не ведая, зажёг эту искру, но потом... Потом он был уже ни при чём. — Потому что ты сама по себе талантлива. — А ты? Ты сомневаешься в своём призвании? — Не знаю. — Зря. Я видела тебя два раза, в Федре и в Нахлебнике, и оба раза ты произвела на меня очень хорошее впечатление. — Но вы с папой дадите согласие на мой брак с Лекоком? — Об этом тебе нужно поговорить с ним самой. Не буду описывать, как отреагировало семейство на эту новость. Сами понимаете, каждый имел по этому поводу своё мнение, но все сходились в одном: «Шарль Лекок — очень яркая звезда на парижском небосклоне, но, как большинство гениев, известен своим вздорным и желчным характером, а значит «ребёнок» не будет с ним счастлив. С другой стороны, если этот «ребёнок» вбил себе в голову, что вдали от гения жизнь ему не мила, пусть поступает, как считает нужным. К концу недели Гений, прикрыв свой желчный характер огромным букетом цветов, торжественно просил у моего отца руки и сердца драгоценной дочери, что и получил, после ряда ужимок и вздохов обеих бабушек, безуспешно призываемых к порядку смущенной их манерами мамой. Свадьбу было решено справлять через месяц, по обоюдному согласию обеих сторон, по возможности тихо и незаметно. Но « тихо и незаметно» не получилось. Уже через два дня после нашего первого совместного посещения выставки в Салоне, в газетах разразилась буря. Заголовки на первых страницах сообщали о превращении великого Шарля Лекока в Пигмалиона. Сравнение, пришедшее мне в голову на берегу Сены, было подхвачено прессой иронично и зло. Журналисты пытались прогнозировать моё будущее: появится ли новоявленная Галатея на сцене одного из парижских театров, или предпочтёт служению Мельпомене тихие радости семейной жизни. А если всё же решит в пользу театра, под каким именем выйдет на сцену — под именем отца или мужа? Я читала эти злые строчки, переполняясь стыдом и ненавистью. Эти журналисты, эти тупые бездарности, ничего не создавшие в своей жизни, кроме злобных сплетен и бессмысленной клеветы! Пусть вначале произведут что-нибудь полезное сами: напишут картину, вырубят из мрамора статую, выйдут на сцену и сыграют роль, а потом судят других. Любители дармовой славы и денег. Поймал сплетню, написал за полчаса ядовитый пасквиль и бегом за гонораром. Они, как гиены, довольствуются падалью, потому что трусливы и бездарны. Я топала ногой, избивала кулаком ни в чём не повинный диван, мечтала подать в суд за клевету, или отравить всех скопом сильнодействующим ядом, но в глубине души боялась, что они правы. Папа попытался воздействовать на мой разум: — Травить всех скопом не надо. Существует огромное количество серьёзных критиков и искусствоведов, формирующих вкус публики. Именно они привлекают внимание к новым, прогрессивным течениям, продвигая их на авансцену. Но их читают лишь избранные. Те, на кого ты так рассердилась, пишут для широких масс. А широким массам личность и повседневная жизнь звёзд значительно интересней их творчества. И это, чисто по-человечески, можно понять. Неприятно чувствовать себя посредственностью, а так... посмотрел как «грызутся и сварничают» олимпийские боги, и на душе полегчало. Может они и гении, а живут не лучше нашего. — Да я понимаю. Ты, как всегда, прав, только всё равно обидно. — А знаешь, что писали газеты о Саре Бернар после её возвращения с гастролей по Америке? Она якобы привезла с собой двух леопардов и одного живого удава, и поселила всё это в своей парижской квартире. — А это правда? — Я случайно встретился с ней в те дни на каком-то концерте. Она весело смеялась, рассказывая эту истории: «А знаете, Лавуа, репортёры мне действительно очень помогли. На самом деле заработанных в Америке денег хватило лишь на клетку с говорящим попугаем. Но я благодарна прессе. Дирекция «Комеди Франсез», испугавшись конкуренции, предложила мне новый контракт, подняв гонорар в полтора раза». Так что видишь, дочка, даже от бульварной прессы бывает нам, артистам, кое-какая польза. Мама, присоединившись к утешительной беседе, добавила новые подробности из закулисной жизни звёзд: — Некоторые, предчувствуя неминуемый закат, умышленно совершают какие-нибудь экстравагантности. Попав на страницы газет, они напоминают публике, что ещё существуют. Так что расстраиваться пока рано. О твоей игре журналисты не сказали ни слова, а вот любопытство зрителей уже разбудили. Ещё интересней отреагировал на эту гадость Лекок. Безразлично скользнув глазами по газетным строчкам, он удивлённо вскинул брови: — Так ведь эта горстка песка брошена в мою сторону. По принципу «седина в бороду — бес в ребро». Было бы на что обращать внимание. Я покорно выслушивала поучения мудрых взрослых, завидуя их спокойствию. Это сейчас, привыкнув к славе и успеху, они стали такими защищёнными, а каково было раньше, когда начинали? Лекок, тут же забыв про газету, перешёл к делу. — Хочу сообщить тебе приятную новость (уже несколько дней, как в неофициальной обстановке он перешёл на ты ). Андре Антуан собирается в начале года официально открыть Свободный театр. Он присутствовал на нашем экзамене, хотя и не входил в комиссию. Ему очень понравился «Нахлебник» и ты в роли Ольги. Он хочет предложить тебе контракт на три года, а самой пьесой «ознаменовать начало новой эры в истории театра.» Ольга будет твоим дебютом. Согласна? — А кто будет играть нахлебника? — Этого я ещё не знаю. Но не мёсье Малон. Он подписал контракт с Одеоном, — и, после небольшой паузы, с любопыт- ством посмотрел мне в глаза, — а правда, под каким именем ты собираешься выступать? — Под псевдонимом. Елена Альварес. Он несколько раз, меняя интонации, опробовал незнакомое имя на вкус. — А что, очень красиво. Откуда оно? — Так звали моих испанских предков. Мой прадед был графом Филиппом де Альваресом XV, а может XVI, точно не помню, — гордо выпалила я, уже через секунду пожалев о глупом тщеславии. Уголки губ Лекока привычно поползли вниз: — Бог мой, а я и не знал, что женюсь на графине. — Простите, но Вам... извини... тебе... крупно не повезло. Последней, кто имел право на этот титул, была моя испанская бабушка. Самым мучительным в отношениях с будущим мужем была не только постоянная путаница между «ты» и « Вы», между Шарль и мёсье Лекок... В его присутствии я ежеминутно ощущала свою ущербную неопытность, граничащую с глупостью. И это чувство неполноценности, облачаясь в дерзость и независимость, оконча-тельно превращало меня в напыщенную, тщеславную гусыню. Лекок, при всём уме и знании человеческих слабостей, не мог не понимать, что происходит с будущей женой, но почему-то ни разу не удосужился «не заметить» этих неловкостей. Не знаю, был ли это очередной метод воспитания, или привычная реакция на фальшь, но именно они подтолкнули меня к поступку, от воспоминания о котором до сих пор краснеет лицо и горят уши. Глава 4 С Жаком мы встретились, как всегда, в «Старой мельнице». Последний раз я видела его на выпускном балу. На следующий день он уехал по каким-то делам и вернулся в Париж только вчера. — Ну что, подруга, тебя можно поздравить с блестящей партией? И когда только вы успели договориться? — Да чего тут успевать. Дурное дело не хитрое. — Ты считаешь это дурным делом?, — круглые глаза Жака серьёзно и сочувственно изучали моё лицо. — Да нет, всё в порядке. Я пошутила. Расскажи лучше о себе. По делам ездил? — Да. Нужно было уладить кое-какие финансовые проблемы. — Подписал контракт с Одеоном? — А что, доверенные лица уже донесли? — Донесли и очень об этом сожалеют. — Я сам сожалею, но гонорары в Свободном театре настолько низкие, что прожить на эти деньги и одному-то не просто, а вдвоём с мамой... Одеон платит почти вдвое больше. Мы мирно болтали о бывших соучениках, о планах на будущее, о ролях, которые хотели бы сыграть, пока не наступила неловкая пауза. — Элли, от тебя исходит такое напряжение... за версту излучает. Что случилось? — Жак, я даже не знаю, как тебе объяснить... Мне нужна твоя помощь. Мой преданный друг отставил чашку с недопитым кофе и, удобно разместившись на стуле, склонил на бок свою птичью голову. — Говори, сделаю всё, что в моих силах. — Жак, возьми меня на один день... в люб...бовницы, — просьба, которую я репетировала последние два дня, застряв на несколько секунд в горле, выскочила от туда с хрипом и заиканием. Круглые глаза моего перепуганного друга, несколько раз удивлённо моргнув, отпрыгнули в сторону, а на щеках выступило два красных пятна. Жак растерянно крутил головой из стороны в сторону, не зная как реагировать на столь необычную просьбу. У меня ещё был шанс обратить всё это в глупую шутку, но... — Понимаешь, мне через две недели выходить замуж, а опыта до сих пор никакого. Лекок, с его постоянным превосходством во всём... извечным всезнанием и сарказмом... С ним... с ним я умру со стыда... Жак, успевший оправиться от первого шока, улыбнулся, выставив на показ свои остренькие белые зубы с чуть выступающими вперёд клычками: — А со мной не умрёшь? — С тобой... выживу. Графиня, не ужасайтесь безнравственности Вашей правнуч-ки. В Ваше время за несколько дней до свадьбы мамы знакомили дочерей с сутью «супружеских обязанностей». Вы великолепно описали терзания Вашей замечательной бабушки, вынужденной принять на себя эту неблагодарную миссию. Молодые парижанки последней трети девятнадцатого века, выпускницы театральной школы, не пропускавшие ни одной выставки, ни одного спектакля и ни одной сплетни из жизни «сильных мира сего», не уступали своим образованием девочкам, выросшим на порогах домов еврейского поселения. Многие из моих подруг давно познали на практике как супружеские, так и внесупружеские обязанности и, как и Ваши соседки, не пытались делать вид, будто ничего не заметили. Первые, отведав запретный плод, щедро делились приобретёнными знаниями с остальными. В те годы мы все были твёрдо уверенны, что выжить в театральном зверинце, насквозь пропитанном интригами и злословьем, можно лишь во всеоружии полноценного женского опыта. Наивные, романтичные барышни моментально становились лёгкой добычей сладострастных режис-сёров и богатых светских бездельников. Мама считала самой надёжной защитой замужество. Подруги предпочитали обширный и всеобъемлющий опыт, приобретённый на основе свободного выбора. В этом смысле я резко отставала от них в развитии. Сейчас, спустя почти тридцать лет, не могу толком объяснить причины отставания. То ли католическое влияние испанских бабушек, Ваших дочерей, то ли мировая литература, но кто-то привил мне этот неистребимый идеализм, мешавший следовать примеру более решительных подруг. Бедный Жак, всегда с лёгкостью и апломбом рассуждавший о преимуществах женской эмансипации, походил в этот момент на перепуганного воробья. Графиня, я не стану смущать Вас подробностями того вечера. Расскажу лишь пару эпизодов, до сих пор сохранившихся в памяти. Мой милый, чудесный друг, усадив свалившуюся ему на голову посетительницу в гостиной своей мансарды, сбежал на кухню готовить чай. Он бесконечно долго гремел посудой, постоянно роняя что-то на пол и громко чертыхаясь, а я рассматривала забавные японские картинки, нарисованные прямо на белой штукатурке стен. Когда-то Жак рассказывал об одном из своих приятелей, увлекавшемся японской живописью. Он прожил в мансарде почти полгода, и за гостеприимство расплатился фресками. Тонкие, чёткие линии: три штриха — и японский зонтик, ещё три — и девушка в кимоно, а чуть поодаль — роща узловатых, сцепившихся корнями бонсаев. Не зная, чем занять себя, подошла к окну. Буквально под ногами раскинулся пёстрый ковёр парижских крыш, ритмично выбрасывающий в небо остроугольные, пылающие в лучах заходящего солнца, башенки... Наконец появился Жак с подносом в руках. Чашки подозрительно позванивали. Неужели у него трясутся руки? А потом... не знаю, чтобыло потом, но думаю, в тот день мы пережили наш общий дебют. Через две недели я вышла замуж за Шарля. Из всей процедуры венчания Ваша память сохранила только три картинки: «светящиеся на солнце сине-лиловые витражи церковных окон, растерянное лицо Филиппа и тяжёлые волны органной музыки, мягко уносившие вас под самый купол, а потом, так же бережно, опускавшие вниз.» Моя память сохранила тревожные лица трёх бабушек, сладковато-удушливый запах церкви и нацеленные на меня дула репортёрских камер, поджидавших нас на выходе. Шарль, сделав полшага вперёд, пытался прикрыть плечом моё перепуганное лицо, но фотографии, появившиеся на следующий день в газетах, были ужасающими: я, как перепуганный зверёк, трусливо прячусь за спиной звёздного мужа, а он растерянно и виновато улыбается в объектив. Графиня, Вы наверняка, как любая женщина, нетерпеливо ждёте моих рассказов о «супружеских» отношениях с Шарлем. Репетиция, поведённая на пороге свадьбы, оставила свой ненужный след, лишив всяческих иллюзий. Всё было так прозаично, так неловко... Лучше бы я этого не делала. А Шарль... он был трогательным и нежным... и лицо, как на школьном этюде, с припухшими губами... и руки, тёплые и сильные. Медовый месяц мы провели в Андалузии, в Вашем доме, на втором этаже, предоставленном нам дядей Эстебаном на целый месяц. Он с семьёй уехал на это время отдыхать к морю. На этот раз старый дом не вызывал чувства тревожного ожидания. Дикий виноград, как вуаль, приспущенная на лицо стареющей дамы, скрывал паутину мелких трещин, разбежавшихся по стенам фасада. Пряный запах роз и петуний, дорожки, присыпанные жёлтым, скрипучим песком мудро и преданно охраняли тайны былых поколений. Мне не удалось их разгадать. Они сами, без спросу и разрешения, потихоньку проникали в душу, усмиряя её и даря на память тишину и покой. В домашней обстановке Шарль оказался совсем не страшным. В отличие от моего отца, он не появлялся к завтраку с всклокоченными волосами и шлёпанцах на босу ногу. И по вечерам у камина не похрапывал, делая вид, что читает газету. Его светлые глаза постоянно смеялись, а губы победно изгибали свои капризные уголочки вверх. — Нене, мне кажется, ты забыла прихватить с собой самое главное. — Что именно? — Свои колючки. — Вот и хорошо. Пусть подрастут и нальются соком, а уж потом..., когда вернёмся... — А когда вернёмся, я их тут же побрею. Без них ты гораздо симпатичнее. — А чем тогда защищаться? — А зачем тебе от меня защищаться? У нас пакт о ненападении. Разве забыла? — Знаешь, политика — дело такое... пакт пактом, а вооружение — вооружением. Мы совершали бесконечно длинные прогулки верхом и в карете, облазили все окрестные церкви и монастыри, насмотрелись на кактусы, купола и настенную живопись, шутили, не боясь показаться друг другу глупыми или недостаточно взрослыми ... Это была самая волшебная осень моей жизни! Господи! Почему нельзя вернуться в неё снова. Пусть всего лишь на пару часов! Карета, уютно покачиваясь на мягких, упругих рессорах, неуклонно приближает нас к Парижу. Загрустившее солнце спряталось в тучках, проливающих на запотевшие окна мелкие слезинки дождя. — Шарль, я не хочу в Париж, не хочу в театр. — Почему? — Мне страшно. — Не трусь, Нене. Всё будет хорошо. Ведь ты не одна. Хотела я того или не хотела, но театральная жизнь началась. Из всей моей группы Свободный театр подписал контракты только с Элизой Дебрю и с Анри-Ипполитом. Мы пришли в сложившуюся труппу, успевшую поделить между собой все «звёздные» и «незвёздные» места. Капризные примадонны, вольнодумцы и оппозиционеры, имеющие всегда и обо всём своё особое мнение, «душеньки», преданно заглядывающие в глаза, разместившиеся ступенькой выше... Маленькие группки, успевшие спаяться в вечной и нерушимой дружбе, свято охраняющие свои границы и секреты. Всё было, как и положено любому человеческому сообществу, превышающему число два. Вы знаете по собственному мадридскому опыту — новички обязаны на первых порах скромно довольствоваться второ-степенными ролями. Общество сперва разберёт его по косточкам, выявит имеющиеся в наличии слабости и недостатки, неохотно уравновесит их кое-какими достоинствами, и только потом укажет подобающее место в иерархии. Наличие за спиной у новичка влиятельных покровителей, говорит само за себя — достоинств, имеющих отношение к театру, нет и быть не может! Осенью начались репетиции «Нахлебника». Андре Антуан, официальный директор и режиссёр, сменил уже нескольких исполнителей главной мужской роли, так и не найдя подходящего. Я едва успевала привыкнуть к лицу и манере игры одного «незаконного папаши», как на смену приходил следующий. Однажды Шарль, видя мою растерянность, спросил: — А что, если мне сыграть эту роль? Знаешь, когда я смотрел на Жака Малона, мне так хотелось вскочить и сделать всё по другому. — И почему же не вскочил? — В этом мой главный принцип. Для многих режиссёров артист всего лишь инструмент, скрипка, труба или барабан, отличающиеся друг от друга качеством изготовления. Один артист — скрипка Страдивари, другой — деревенская подделка. Но все они обязаны безоговорочно выполнять замысел композитора и исполнителя. Личности артиста, как таковой, для них не существует. Для меня исполнитель — прежде всего само-стоятельная, творческая личность, имеющая право на собственную интерпретацию. Когда вы с Жаком пришли на первую репетицию я сразу понял, вы чтото нашли. Даже если это и не во всём совпадало с моим пониманием, решил не сбивать с толку. Нельзя разрушать начинающего исполнителя, лишая его права думать самостоятельно. — А сейчас ты хочешь сыграть эту роль по-своему. — Очень хочу. — Но ты давно уже не играл на сцене? — Тем более приятно иногда на неё возвращаться. — И не боишься играть с начинающей? — С тобой не боюсь. Ты, как чуткая танцовщица, временами позволяешь партнёру вести себя за собой, но в какойто момент перехватываешь инициативу и ведёшь сама. В вашем дуэте с Жаком это было очень заметно... и очень интересно. Надеюсь, у нас тоже получится неплохо. Озадаченно крутя кольцо, слишком свободно сидевшее на пальце, я продолжала допрашивать Шарля: — И всё же не понимаю. Мне казалось, ты был доволен нашей игрой, а теперь говоришь, всё было неверно... Нетерпеливо остановив мои крутящиеся пальцы, Шарль, голосом уставшего от бесконечных повторений учителя, сделал новую попытку: — Собственная трактовка и качество игры — две разные вещи. Помнишь свою Федру. Сперва ты увидела в ней беспринципную, корыстную подстрекательницу. Я дал бы тебе сыграть такую Федру, само собой разумеется потребовав убедительности и достоверности. Ты взбунтовалась, не пожелав играть отрицательную героиню, и я посоветовал найти собственную версию. Во второй раз коварная дама превратилась в благородную жертву. Соответствовало ли это замыслу Расина? Не уверен, но тем не менее это помогло тебе сыграть убедительно и искренне. Я стараюсь сотрудничать с артистом, а не подавлять его. Теперь поняла? — Поняла. И это значит, Ольгу мне придётся переделывать заново. — Умница. Ей придётся реагировать на нового папашу. Новый «папаша» в исполнении Шарля оказался личностью малоприятной. У Жака он был заблудившимся, случайно увязшим в болоте дармоедства неудачником, постоянно стыдившимся самого себя. У Шарля — дармоедом по убеждению. Первые десять лет, при жизни старого хозяина, бесплатный хлеб, приправленный побоями и унижением, изрядно горчил, а вот после его смерти жевался легко и с удовольствием. Кульминационная сцена — признание в отцовстве, выгляде-ла у Шарля не случайной пьяной оплошностью, а актом мести за собственное ничтожество. Он не столько себя стыдился, сколько других обвинял в жестокости. Подстроиться под такую трактовку оказалось не просто. Честно говоря, будь я на месте Ольги, вышвырнула бы пьяницу из дома без всякого сожаления. Вдвойне трудно было играть с Лекоком в присутствии всей труппы. Мне казалось, новые коллеги только и ждут моего провала. Жена Маэстро, едва переступив порог театра, тут же получает главную роль, задвинув в сторону опытных, признанных и любимых публикой актрис. Дамы вообще ревнивы, а актрисы вдвойне, ведь в театре дело идет о славе, а значит, о смысле жизни. Вечерами, без конца перечитывая успевшую надоесть пьесу, я пыталась отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Последняя сцена, прощание Ольги с изгнанным из дома нахлебником, её попытка прижаться к разящему перегаром старику, присесть к нему на колени... брр... откуда это? Неужели таково представление Тургенева о христианском милосердии — мало подать прокажённому милостыню, нужно ещё и руку ему поцеловать ? А может это обычное чувство, возникающее у русских женщин при виде юродивых и неудачников? Шарль молча наблюдал за моими исканиями, не вмешиваясь и не пытаясь помочь. В течении трёх или четырёх недель он терпеливо ждал, пока я самостоятельно найду решение, но увы... я всё глубже утопала в непонимании и беспомощности. В довершение всего Шарль постоянно менял стиль своей игры, ежедневно подмешивая в неё новые краски и оттенки. Наконец я не выдержала и взмолилась о пощаде: — Может и правда было бы разумнее заменить меня более опытной актрисой? Коллеги успокоятся и перестанут язвить на каждом шагу, да и спектакль получится быстрее и лучше? — Что касается коллег… — Шарль, сделав небольшую паузу, поднял на меня прищуренные глаза. На этот раз его тонкие губы не изогнулись вниз, а как бы застряли в промежуточном положении. — Ты что, собираешься всю жизнь довольствоваться третьими и четвёртыми ролями, лишь бы не вызывать зависти у соперниц? До сих пор я не замечал в тебе такой уступчивости. — Боюсь, ты не понял меня. Я могу постоять за себя, но только до известного предела. Ежедневно приходить в этот змеюшник, ежесекундно чувствовать за спиной ядовитое шипение и ждать, когда наконец одна из гадюк вцепится мне в руку или обовьётся вокруг шеи, и при этом ещё что-то изображать на сцене... Да я, едва переступив порог театра, цепенею, как загнанный в угол кролик при виде удава! Лицо Шарля, за минуту до этого высокомерно-ворчливое, стремительно округлилось и помолодело. Эта непредсказуемость чувств, мгновенно менявшая его лицо, каждый раз вызывала во мне удивление. — Боже мой! Нене, какой ты ещё ребёнок! Честно говоря, слушая твои ироничные замечания об общих знакомых или рассуждения о книгах и человеческих отношениях, поражаюсь независимости и уверенности в себе молодой особы, едва начинающей жить. Но как только дело касается лично тебя... на поверхность выходит мнительная, болезненно ранимая фантазёрка. Поверь, ни кто не собирается ни жалить тебя, ни душить. Да, вся труппа с любопытством наблюдает за нашим дуэтом, но завидуют тебе при этом не многие. Они понимают, что играть со мной в паре не только трудно, но и невыгодно. — Трудно — это я понимаю, но почему невыгодно? — Потому что мощный, признанный публикой актёр, затеняет партнёров, не оставляя им ни малейшего шанса на успех. — Это как? — Да очень просто. Представь себе толпу, состоящую из людей, одетых в лёгкие, тонкие одежды пастельных тонов. И вдруг в неё врезается некто в огненно-красном плаще. Что происходит с посторонним наблюдателем? Его внимание подсознательно фиксируется на красном. Взгляд следует за ярким пятном, ищет его в толпе, как будто он и есть самое важное действующее лицо. Даже неделю спустя, вспоминая об этом происшествии, зритель видит только красного человека. Так и на сцене. Знаменитость фиксирует внимание публики, оставляя в тени остальных участников. Так что не обольщайся надеждой, что тебе завидуют. Скорее сочувствуют, предвидя бесславное начало. — Так зачем ты взялся за эту роль? Хочешь, чтобы я провалились? Унылая злость, перемешанная с обидой, поднимаясь из глубины измученной сомнениями души, грозила затопить самоуверенного Маэстро вместе с его бесконечным всезнанием. — Подожди кипятиться, — произнёс хладнокровно Шарль, расправляя мои напряжённо сжавшиеся пальцы, — я готовлю тебя не к провалу, а к успеху. Но прежде, чем позволить работать самостоятельно, хочу ещё кое чему научить. Пойми, главная роль на самом деле не всегда главная. В данном случае речь идёт не о качестве игры, а о сути пьесы. Федра, какой бы она ни была, — сильная, активная натура. Она определяла основное развитие событий. Она, как героиня, являлась солистом. В нашей пьесе, в моём понимании, реальный солист — Нахлебник. Он своим поведением провоцирует остальных на ответные действия. Ольга может только отзываться на основную мелодию, реагировать на нее. — Я согласна, в первом акте она действительно только растерянно наблюдает, по настоящему не понимая что происходит, но... — Вот именно, растерянно наблюдает, а ты уже пытаешься что-то предпринимать. — Да что я могу предпринять? Стою, где положено, послушно произношу фразы по сценарию, ни во что не вмешиваюсь... — Согласен, но при этом тебя корчит от злости. Ты излучаешь такую агрессию, что сбиваешь с толку всю группу. — Но почему с Жаком было по другому? — Потому что его трактовка Нахлебника была иная. Он был местами жалок, местами смешон, но чаще всего очень трогателен, и злости у тебя не вызывал. — А почему ты сделал старика таким отвратительным? — Он вовсе не отвратителен. Просто его образ жизни не соответствует твоим представлениям. — Но как же играть Ольгу, если такой тип людей меня злит? — Это твоя злость, а не её. У неё он вызывал совсем другие чувства, и твоя задача — прислушиваться к её чувствам, а не к своим. Ты значительно жёстче и агрессивней, чем она. Ты опять повторяешь темпераментную, активную Федру, потому что она ближе тебе по сути. Но нельзя же всю жизнь играть самоё себя. — Ты прав. Бывают моменты, когда мне и в самом деле хочется вцепиться в волосы соседям, спаивающим нахлебника, или его самого придушить на месте. Похоже, во мне и в самом деле не хватает христианского смирения. — Поэтому твоя главная задача на ближайшие недели научиться этому у своей героини. Кстати, я буду ей очень признателен, получив через месяц жену, умеющую сочувствовать не только себе, но и другим. Жену, готовую признать право другого человека жить по своим законам. — Кажется поняла. Спасибо. В последующие дни я снова перечитывала Нахлебника, но на этот раз другими глазами. Сравнивая себя с Ольгой, пыталась понять её восприятие людей и жизни. То, что меня злило, у неё вызывало жалость. Там, где я обвиняла, она... Воспоминания, медленно и неохотно всплывая из подсознания, рисовали картины недавнего прошлого. Это случилось вскоре после свадьбы... Сталкиваясь со мной почти ежедневно на репетициях, Элиза, отстранённо болтая о мелочах, избегала встреч наедине. Я несколько раз приглашала её к себе, предлагала посидеть в каком-нибудь кафе, но она, находя сотни уважительных причин, упорно отвечала отказом. Тогда, обиженная на весь мир, я нашла этому единственное объяснение — моя тонкая, преданная подруга сменила дружбу на зависть. Наконец, в один из дней, когда у меня всё валилось из рук, Элиза, отведя глаза в сторону и неловко переступая с ноги на ногу, сама назначила встречу в « Старой мельнице» Оглядев полутёмный зал, я не сразу разглядела подругу, примостившуюся за столиком в дальнем углу. Её левая рука печально подпирала склонённую голову, а правая, явно вышедшая из повиновения, размазывала по тарелке недоеденное пирожное, создавая немыслимый абстрактный узор. Что-то царапнуло меня острым когтём изнутри: «Зачем она выбрала именно этот столик? Ведь в зале полно пустых мест». Подавив невольное раздражение, я присела напротив. Решительно отбросив в сторону противно звякнувшую ложку, Элиза подняла на меня отчуждённо-сердитые глаза. — Ну и как тебе живётся? Надеюсь, всё хорошо? — Элиза, что случилось? — Что случилось? Ты когда последний раз видела Жака? Защемило где-то внизу живота. — Что с Жаком? — Ах, он тебе ещё не безразличен? — Перестань говорить загадками. Объясни толком, что случилось. — Я встретила его позавчера на улице... в компании этакой потрёпанной девицы... из этих... ну сама понимаешь. Он даже не смутился. Нагло приподнял шляпу, шутовски поклонился и представил свою спутницу: «Надин, моя боевая подруга». При этом от него так отвратительно несло перегаром, и вообще... он был в дрезину пьян. Я, совершенно растерявшись, спросила чтото о театре, и знаешь, что он мне ответил? — Нет, не знаю. — Он сказал: «А зачем он мне нужен? На этом небосклоне достаточно звёзд — ты, да всякие там Альварес... Вот пусть они и светят, а я займусь чем-нибудь более приятным» Поклонился, подхватил свою Надин под руку и, ернически вихляя бёдрами, пошагал дальше. — Господи, зачем он так? — А вот так. Из театра его выгнали за пьянку. Он больше не играет. У меня не на шутку заныло сердце. Именно здесь, за этим столиком, мы сидели с Жаком последний раз, перед тем, как поехать к нему в мансарду. — И что же делать? — Не знаю. Об этом надо было думать раньше. Это всё твоя вина! — Моя? Почему? — Нечего смотреть глазами невинного ангела. Как будто не знаешь? Я почувствовала, как густая волна, стремительно разливаясь по лицу, хлещет по щекам и окрашивает пурпурнокрасным едва прикрытую кружевами шею. Откуда Элиза узнала об этом? Не обращая внимания на моё смущение, разгневанная подруга продолжила свою обвинительную речь: — Два года, что мы провели в школе, ты буквально забаррикадировала собой Жака, а потом, предпочтя более выгодную партию, выбросила на помойку, как ненужную тряпку. Попользовалась и выкинула. Если бы ты видела как он рассматривал твои свадебные фотографии в газетах! Мы сидели за этим самым столом. Он купил свежую газету, а там твоя фотография... ты перепугано прячешься за спину Лекока. На него жалко было смотреть. Даже руки дрожали. — Господи! Но ведь он сам называл наши отношения только дружбой. — А ты слепая? Не видела, как он на тебя смотрит? Короче, в тот день за этим столиком я предложила Жаку переехать ко мне... а он отказался. Сказал, сперва хочет прийти в себя, а потом... Обещал дать о себе знать, когда будет готов. Я каждый день ждала от него весточки. А вместо этого... отвратительная шлюха и вино рекой. Не стыдясь ни меня, ни редкую публику, привлечённую её резким, переходившим на визг голосом, Элиза рывком схватила сумку и выскочила на улицу. Достав трясущимися руками кошелёк, я расплатилась за нетронутый кофе, и поплелась домой, потрясённая шквалом несправедливых упрёков, обрушенным подругой на мою несчастную голову. Энергично шагая по парковой дорожке, я яростно отшвыривала носком туфли случайно попадавшиеся на пути камушки и мысленно в пятый раз доказывала свою невиновность. Будь я все эти годы рядом с Жаком, или нет, он всё равно никогда не женился бы на Элизе, потому что ждал свою Пенелопу. Да и ко мне не испытывал ничего кроме дружеской симпатии. Влюбленные взгляды, дрожащие руки — всего лишь плод её ревнивой фантазии. А Жак... зачем начал пить, зная о печальной кончине отца? Моя свадьба с Лекоком не была тому виной. Просто наследственная склонность к алкоголизму взяла верх над разумом. Внутренний обвинитель, напомнил о мансарде: «но ведь ты его действительно использовала!» Защитник, решительно подняв голову, поспешно возразил: «Но он мог отказаться. Это была всего лишь просьба, не подразумевавшая ни обязательного согласия, ни продолжения». В тот день я действительно рассердилась на них обоих, занятых только собой. Почему они требуют сочувствия и понимания, не давая ничего взамен? Ну ладно Жак. Мы не встречались с ним после мансарды, но Элиза... неужели она не видит, как я, выбиваясь из сил, безнадёжно тону в профессиональной беспомощности, вызывая раздражение режиссёра и всей труппы? За все эти месяцы у неё не нашлось для меня ни единой свободной минуты! Кто из нас пользуется людьми, а потом вышвыривает их на помойку? Графиня, Вы часто писали о медалях, имеющих две стороны, и истине, лежащей посередине. До этого момента я видела только одну сторону — свои обиды и разочарования, а сегодня рассмотрела вторую: Элиза не избегала встреч со мной. Торопливо прихватив в лавке сыр и рогалики, она мчалась домой, боясь пропустить приход Жака, а он..., судорожно сжимая в руке бокал с вином, безнадёжно ждал, что я наконец постучусь в его дверь... Неужели Шарль прав — я действительна слепа и эгоистична? Может ли взрослый, сложившийся человек изменить себя, научиться видеть мир другими глазами? Или для этого ему нужно умереть и родиться заново? К концу месяца я не умерла и не родилась заново. Просто научилась видеть оборотную сторону человеческих отношений. С тех пор дело пошло на лад. Я больше не тормозила коллег своей упрямой агрессией, не раздражала режиссёра игрой невпопад, не мучила Шарля постоянными жалобами на патологическую бездарность. В тот день мы готовились репетировать заключительные сцены «Нахлебника». Дома я сотни раз мысленно проиграла каждый эпизод, каждое слово, каждый оттенок но чего-то, самого главного, всё ещё не хватало. Перед выходом на сцену Шарль прикоснулся к моему запястью и чуть слышно прошептал в ухо: — Не волнуйся. Внимательно смотри на меня и у тебя всё получится. Пошли. — ...Передо мной предстал совершенно новый «папаша». Боже, куда делся привычный дармоед в обличье шута? Сгорбившаяся фигура, поджатые губы и ясный, проницательный взгляд одинокого, старого человека... И вдруг... неподвластная мне тяжёлая, мутная волна жалости, не христианской, и даже не женской, а щемяще-бабьей медленно оторвала меня от пола и швырнула на грудь этому бездомному, заблудившемуся в собственной жизни старику... Премьера прошла под бурные аплодисменты зала, а вот пресса прозвучала очень неоднозначно. Некоторые критики удивлялись выбору Антуана и Лекока: зачем ставить неизвестного русского автора, когда у нас достаточно своих гениев. Другие называли спектакль открытием новой эры в драматургии. Исполнение Лекоком главной роли было признано безукоризненным. Пару похвальных слов выпало даже на долю молодой дебютантки Елены Альварес. И только мы с Шарлем знали, что ему опять пришлось вытаскивать её за руку на сцену. Ежедневно после завтрака я перечитывала свежую прессу, раскладывая статьи о нашем спектакле на три кучки. В первую попадали злые, критиковавшие всю постановку в целом. Во вторую — доброжелательные, хвалившие пьесу, режиссёра и исполнителя главной роли, а в третью, самую маленькую — статьи, уделявшие немного внимания мне. Наконец Шарль, иронически наблюдавший за моими манипуляциями, окончательно потерял терпение и набросился с очередными поучениями: — А ты на что надеялась? С первого дня утонуть в овациях и море цветов? — Да нет, пусть не овации, но хотя бы какой-то интерес. Столько труда, столько нервов... неужели всё это никому не интересно? — Как можно судить о начинающем актёре по первым десяти спектаклям? Знаешь как часто бывает... у начинающего хватает запала на десять — пятнадцать выходов, а потом... Критики ждут развития. Будешь ли ты от раза к разу лучше и интереснее, или увянешь, как многие твои предшественники. — А куда, по твоему мнению, я развиваюсь? — Вчера ты играла действительно вдохновенно, а вот третьего дня... можешь обидеться, если хочешь... выглядела не лучше дрессированного пуделя. Даже меня в сон вогнала. — Кажется я очень устала? Последнее время вообще заснуть не могу, а потом целую ночь кошмары снятся. Хорошо бы отвлечься на день-два от театра. — Согласен. И я даже знаю как. Завтра мы пойдём на выставку в галерею Жоржа Пети смотреть импрессионистов. Не спеша прохаживаясь по залам, я впитывала в себя мелодии красок. Ренуар, «Танцы в городе»! Мужчина и женщина... Её бальное платье струится и мерцает своей белизной. Никогда не думала, что белый цвет может быть таким богатым. А белая кожа «Обнажённой», окрашенная бликами её распущенных, цвета осенней листвы волос! Еще один шаг, и рука «Купальщицы», принявшая на себя голубые отблески ручья и зелень дерева, защищающего её от посторонних взглядов, приглашает присесть на траву и опустить уставшие ноги в тёплую, прозрачную воду. Почему бог, наделив людей полуслепыми глазами, дал взамен злые, болтливые языки? Ещё лет десять лет назад газеты, соревнуясь в злословии, называли тела «Обнажённой» Ренуара и «Олимпии» Эдуарда Мане грудой покрывшегося плесенью, протухшего мяса, а сегодня меценаты готовы отдать полцарства за каждый из этих шедевров. ...«Сорока» Клода Моне. Вспомнились слова какого-то критика: «Зимний пейзаж соткан из солнца и снега. Хрустальные нити заиндевевших деревьев, и сорока, одинокой нотой присевшая на нотный стан...» Господи, да ведь это Жак! Маленькая, одинокая птица на краю кровати, устремившая клювик к вырвавшейся из плена парижских крыш колокольне! — Ты придёшь ко мне ещё раз перед свадьбой? Ладно. Молчи. Я знаю, это была просто генеральная репетиция перед основным выходом. С выставки я уходила с ощущением, будто меня окатили смрадной, протухшей водой. Вечером, набравшись смелости, заговорила с Шарлем о Жаке. — Я слышала, Одеон разорвал контракт с Жаком Малоном. Он остался без работы и сильно пьёт. Беспомощные, прозрачно-голубые глаза на мгновение вынырнув из под редких, белесых ресниц, тут же спрятались в складках полуприкрытых век, как солнце в безнадёжно тяжёлых, осенних облаках. — Да. Я знаю об этой истории. Он повёл себя глупо и по хамски. — Но ведь Жак так талантлив. Может это было просто нелепой случайностью? — Ты хочешь, чтобы я взял его к себе? На этот раз Шарль не прятал глаза под ресницами. Просто смотрел, дожидаясь честного, прямого ответа. — Да, дай ему ещё один шанс. Через неделю Андре Антуан подписал с Малоном контракт на три года, а сияющая Элиза, радостно поцеловав меня в щёку, выдохнула в ухо трогательное «спасибо». Закончив разговор о Жаке, Шарль перешёл к обсуждению выставки и моему воспитанию: — Это сейчас импрессионистов наконец признали. Их картины охотно выставляются даже в Салоне и покупаются как частными коллекционерами, так и музеями. А знаешь, что раньше писали критики об этих художниках? Моне, Сислея и Дега называли бездарями, так и не научившимися рисовать. А Огюст Роден... общепризнанный мастер, заваленный государственными и частными заказами, а ещё лет десять назад... Чего только бедняга не наслушался! Утверждали, будто он выставляет гипсовые слепки с тел натурщиков. — А зачем это критикам нужно? — Критики тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. А для человечества очень важны привычные традиции прошлых поколений. Зачем менять то, что проверено столетиями? Научись писать как Рафаэль или Леонардо да Винчи, ваять как Микеланджело или Донателло, тогда мы и тебя поставим в один ряд с гениями. А если не можешь, займись лучше чемнибудь другим. Всему новому необходимо время. Оно должно преодолеть инерцию привычки. Эти общие, всем известные аргументы, вызвали чувство досады. Что мне за дело до истории знаменитостей? Им легко, водрузив на голову лавровый венок, смеяться над бездарными замечаниями критиков в далёком прошлом. А что стало с душами тех, кого так и не признали? Что будет со мною? Шарль, уловив промелькнувшее в воздухе напряжение, по-отцовски обнял меня за плечи и притянул к себе: — Не спеши, детка. Публике нужно привыкнуть не только к тебе, но и к нашему стилю. Мы ведь, как импрессионисты, тоже новаторы. — Но ведь тебя уже хвалят. Значит дело не в новаторстве, а во мне. — Сегодня меня ругать стало не модно. В своё время достаточно наглотался гадостей и оскорблений, но теперь прочно причислен к авторитетам, а тебе придётся ещё немного подождать. — Подожду. Может и меня когда-нибудь причислят к авторитетам... посмертно. Шарль не оценил шутки. Уже стоя на пороге, он насмешливо изогнул бровь и отчеканил, переходя на высокомерное Вы: — А Вы, барышня, оказывается не лишены тщеславия! С застрявшим в горле протестом, я осталась сидеть за столом, заваленном недочитанными газетами. При чём здесь тщеславие? Мне действительно важно, что думает публика не только о господине Тургеневе и Лекоке, но и обо мне лично. Я вложила в эту роль столько душевных сил, столько сомнений, столько тяжёлого и кропотливого труда... Неужели желание знать, что из этого получилось — преступление против скромности? С этого дня я запретила себе сортировать газетные статьи. Время шло, театральный зал был переполнен, и со временем не только критики, но и публика, стала уделять молодой дебютантке определённое внимание. Коллеги, так и не дождавшись провала, соблаговолили принять её в свою среду, а значит на жену Лекока, как и на жену графа де Альвареса, начали расставлять ловушки и капканы, желая заполучить её в приятельницы, а, если удастся, то и в лучшие подруги. При моём появлении восторженные «милочка» и «дорогая» пёстрыми бабочками слетали с трогательно округлившихся губ театральных дам, а мужская часть труппы разыгрывала поголовно влюблённых. Призывные взгляды, смущённые вздохи, загадочное молчание и «случайные» прикосновения к ручке... — полный арсенал боевого мужского оружия был до блеска начищен и без передышки стрелял по цели. Я, как и Вы, знала истинную цену этому призрачному вниманию. Разузнать личные секреты фаворитки, накопать червоточин, подрисовать к ним двусмысленные подробности и, как можно скорее, продать прессе. Великолепный товарообмен: мы вам сенсацию, вы нам хвалебную рецензию. Но, в отличие от Вас, я не имела права покинуть поле боя, притворившись наивной дурочкой. Приходилось, застегнув на все пуговицы защитную жилетку, округлять губы, выпуская при встрече ответных бабочек и, щадя самолюбие «влюблённых» мужчин, постоянно оставлять им лёгкий налёт надежды. Шарль, умный, терпеливый Шарль. Забавно, но даже ему, тонкому знатоку человеческих душ, не сразу удалось разглядеть истинную сердцевину, скрывающуюся под внешней самоуверенностью жены. И именно этим мы с Вами, Графиня, похожи, как похожи и наши судьбы; .Ваша семья превратила незаконнорожденную полуеврейскую девочку в испанскую аристократку. Моя — отправила дочь в актрисы. Что же в этом плохого? Снаряжая детей в дорогу, семьи снабдили их всем необходимым: обширными знаниями, прекрасными манерами, трудолюбием, заботой и поддержкой. Так почему же эти капризные девицы чувствовали себя на проложенном для них пути так неуютно? В чём родители допустили ошибку? Да ни в чём. Просто под внешней бравадой дочерей не заметили их зыбкую, неуверенную в себе, болезненно ранимую, склонную к самокопанию натуру. Потому и прожили барышни полжизни, трусливо оглядываясь по сторонам, в ожидании обличающего окрика: «Стой! Мы знаем, ты не та, за кого себя выдаёшь!» Жаль, что я поняла это только сейчас, прочтя по второму разу Ваш дневник. А тогда... тогда просто отращивала защитные шипы и колючки. Пока я занималась самозащитой, детище Шарля, Свободный театр, делал первые шаги. Он отличался от традиционных театров Европы не только манерой исполнения, но и самой атмосферой: ни пышных декораций, ни ярких, бросающихся в глаза костюмов. Ничего, что отвлекало бы внимание зрителя от содержания пьес. Как реагировала на это публика? Её, привыкшую приходить в театр, как на праздник, эта спартанская скромность на устраивала. Дирекцию театра обвиняли в скаредности и отсут-ствии вкуса. Лекок, пропагандируя новые идеи, регулярно помещал статьи в «Независимом журнале», где печатались самые видные представители литературы. Он рассчитывал за пару лет воспитать и просветить зрителей, но те упорно цеплялась за привычные нормы. Хуже всего, что ему приходилось вести войну на два фронта. Едва создав новое детище, Лекок и Антуан резко разошлись во взглядах. Антуан начал «засорять» репертуар одноактными пьесами драматургов-авангардистов, сводивших жизнь к примитивной физиологии. Эти авторы дружно воспевали правду жизни парижских помоек: проституток, воров, спившихся и вконец опустившихся людей с соответствующим этой среде жаргоном и повадками. Шарль безуспешно пытался убедить коллегу в бессмысленности и безвкусии подобных пьес, но, наткнувшись на непробиваемое сопротивление, махнул рукой и разделил репертуар на две части. Находясь под одной крышей, каждый ставил свои спектакли, со своими артистами. Такое «двуязычие» явно дезориентировало публику, нанося вред едва зарождавшейся популярности. Я осталась в труппе Лекока, а мои друзья, Элиза, Жак и Анри-Ипполит, предпочли Антуана. С тех пор мы встречались друг с другом только от случая к случаю, но случаи эти бывали невероятно забавны. Однажды, возвращаясь домой после репетиции, я заметила грязного подростка с нечесаными волосами и некрасивым, хмурым лицом, преследующего меня уже несколько кварталов. Вначале он осторожно крался по другой стороне улицы, потом, окончательно осмелев, перешёл дорогу и нагло пристроился за мной. Я машинально прижала к себе сумочку с деньгами. Вымазанное грязью существо, не отставая ни на шаг, упорно преследовало не на шутку перепуганную барышню. Дойдя до поворота, я резко остановилось. Наглец, обогнав меня на пару шагов, резко развернулся и, широко расставив ноги, перегородил дорогу. Прохожие с недоверием поглядывали на эту сцену, но, обойдя нас стороной, двигались дальше. В голове мелькнула забавная мысль: неужели он собирается грабить меня среди бела дня на людной улице? Глухой, резкий голос прервал мои размышления о способах обороны и защиты сумочки: — Ну что, так и будем стоять, или попробуем договориться? — А у тебя есть какие-нибудь разумные предложения? — Естественно. Вы добровольно отдаёте мне сумочку, и мы расходимся. — Добровольно не получится. Сейчас или закричу, или начну тебя избивать, — бойко пригрозила я, абсолютно не уверенная в успехе. Мальчишка задумчиво почесал всклокоченные волосы... они почему-то сползли на бок, освободив путь потоку белокурых элизиных волос. — Ты что, в самом деле меня не узнала? — Конечно нет. Вот это перевоплощение! Всё другое; походка, голос, взгляд... Вот это да! А что ты репетируешь? — Грязь на очаровательном личике Элизы засияла всеми цветами радуги: — Антуан предложил мне роль беспризорника в новой пьесе Ренара «Рыжик». Вот я и перевоплощаюсь. Уже целый месяц. Пришлось подружиться со всеми мальчишками из квартала Сен Флор, чтобы перенять их повадки и уморительный жаргон. Ну ладно, я побежала отмываться, а то ещё полиция прихватит. Следующий раз я увидела Элизу только на премьере. Её Рыжик получился великолепно. Порывистые движения, внешняя грубость, а за всем этим ребячья застенчивость, жажда ласки и горячая привязанность к опустившемуся на самое дно отцу, совершенно потрясающе исполненным Анри. Они азартно и весело за несколько недель добились той человеческой многоликости, многослойности, которую Шарль выжимал из меня месяцами тренировок и объяснений. Дуэт Элизы и Анри, стал настоящей сенсацией. Успех Элизы не вызывал у меня ни малейших сомнений, но Анри... По жизни неумный и простоватый, как мог он так тонко схватывать суть, изображаемых им людей? Похоже, ему не надо было их из себя выжимать. Просто чувствовать и делать. Это наивное заблуждение — бездарность продирается через тернии и колдобины напряжённой работы, тогда как истинный талант хватает всё на лету, чуть не довело меня до нервного срыва. Вслед за мягкой, чувствительной Ольгой, в мою жизнь вошла романтичная, до глупости доверчивая Евгения Гранде, давшаяся мне с не меньшим трудом, чем её предшественница. . Каждый раз, заталкивая себя в лишенных куража и темперамента барышень, мучительно пыталась разобраться: кто я и зачем в театре? Говорить об этом с родителями было бесполезно. Они, старые профессионалы, за двадцать лет беспорочной службы встретили и проводили (а может и выпроводили) со сцены десятки новичков. Привычный театральный уклад — новичок должен знать своё место — казался им непреложным и справедливым законом, а мою неуверенность в себе они называли нетерпе-ливыми претензиями дебютантки. Изливать душу бабушкам, Франческе и Лизелотте было ещё опаснее. Обе они, постоянно конкурировавшие в любви и заботе о внучке, так и не смирились с моим замужеством. Если «ребёнок» несчастлив, значит виноват в этом желчный Лекок. Единственным человеком, готовым часами слушать, не давая глупых советов, была Мария. Она по-прежнему приезжала в Париж каждую зиму, принимая нас в Андалузии летом. Эти короткие встречи, как короткие передышки, заряжали меня энергией до следующего визита. Будучи в Париже, Мария по нескольку раз посещала все наши спектакли, тонко подмечая не только нюансы пьесы, но и моё настроение: — Сегодня ты была живее и искреннее, чем прошлый раз. Тогда твоя Евгения с самого начала излучала безнадёжность. Странно, но даже в старости она оставалась удивительно восприимчивой ко всему новому. Раньше, приезжая на каникулы, я подробно рассказывала о школьных занятиях и лекоковских теориях, а сегодня она говорила моими словами. — Боюсь, не Евгения излучала безнадёжность, а я. — Что ты имеешь ввиду? Объясни доходчивее. — Ладно. Попробую. Как-то Шарль сравнил артистов со скрипками. Одни из них — настоящие Страдивари, другие — деревенские подделки. Настоящие великолепно звучат в любых руках, и даже сами по себе. Подделки тоже могут издавать красивые звуки, если им посчастливится попасть в руки Паганини. В руках обычного скрипача они заикаются и хрипят. — Ну и какое отношение это имеет к тебе? — У меня такое чувство, будто я и есть та деревенская подделка, попавшая в руки Паганини-Лекока. Это он заставляет меня звучать. Без него я бы только хрипела. — То-есть считаешь, в тебе нет таланта? — Приблизительно так. То, на что у меня уходят месяцы напряжённой работы, другие хватают на лету. И потом эти роли... Лицо Марии напряглось и слегка покраснело. — Но позволь спросить, зачем ты пошла в театр, не веря в свою талантливость? — А у меня был выбор? — Не поняла... — Мне кажется, семья с детства заморочила мне голову... Дед Лавуа — великий оперный певец, отец — звезда оперетты, мать — законодательница парижской моды... Про вековые традиции графов де Альварес и говорить нечего... Разве может ребёнок с такой родословной не быть гениальным? — И ты сомневалась в себе с самого начала? — Нет. В детстве не сомневалась, но после выпускного экзамена... Тогда во мне что-то сломалось. Мария шла рядом, напряжённо сведя брови и бормоча под нос. — Ты можешь размышлять вслух? Для меня это очень важно. — Просто такое я уже один раз слышала. Очень давно. Ребёнок с замороченной головой. — Это была ты? — Нет. Мой отец. — И как он прожил жизнь? Нашёл какой- нибудь выход? — Нет. Даже не искал. Думаю, он не представлял себе другой жизни. — И был при этом счастлив? Мария резко остановилась, взяла меня двумя руками за плечи и развернула к себе. Её темно-шоколадные, миндалевидные глаза, проникая сквозь меня, как сквозь стеклянную призму, напряжённо всматривались во что-то, скрывающееся в неизвестном мне прошлом. Я машинально обернулась назад. — Мария, что случилось? Что ты рассматриваешь у меня за спиной? — Элли, помолчи, секунду. Дай подумать... Минуту спустя, опомнившись от своих невесёлых мыслей, Мария опять энергично зашагала по дорожке. — Ну и что ты надумала? — Ничего особенного, хотя... может не надо сравнивать себя с родственниками. Ты другая. Ты не похожа ни на Лавуа, ни на Альваресов. — А на кого же тогда? — Да откуда я знаю. У каждого из нас множество предков, о которых мы ничего не знаем. Важно другое: ты не можешь быть слабым человеком, сбегающим от трудностей. Ты борец, хоть сейчас и не веришь в свои силы. Почему ты выбрала сцену, а не вышла замуж за надёжного, уравновешенного мужчину? — С таким мужем я задохнулась бы от скуки. Пойми наконец, я не представляю себе другой жизни, но безумно боюсь не оправдать надежды родственников. Они своими ожиданиями гонят меня, как дрессированную лошадь, по арене цирка! Мария, теребя снятые с рук перчатки, опять надолго замолчала. Окончательно потеряв терпение, я схватила её за локоть, принуждая остановится. — Почему ты сегодня такая медлительная? Каждое слово приходится вытягивать из тебя клещами. — Мне кажется, если кто и гонит тебя, как дрессированную лошадь, так это ты сама. Какая разница, что ожидают от тебя родственники? У них своя жизнь, у тебя своя. И потом... кто обещал тебе только интересные роли? Кто сказал, что легко ежедневно проживать чужую жизнь? Откуда ты знаешь, что другим это дается легче? Элли, кто перевернул тебе голову набекрень? Я ещё никогда не видела Марию такой возбуждённой. Запыхавшись от быстрой ходьбы, она присела на скамейку. — Мне вообще трудно понять вас, честолюбцев. Карабкаться, обдирая колени и локти, к каким-то высоким целям, ничего не видя и не слыша вокруг... Посмотри, как коротка жизнь. Еще вчера я носилась вприпрыжку, а сегодня... прошла быстрым шагом сто метров и всё. Больше не могу. Почему вы не умеете просто получать удовольствие от того, что делаете, не думая ни о славе, ни о бессмертии? Если они придут — хорошо, нет — ну и не надо. Ведь не в этом суть. Или я не права? Слова Марии, такие простые и естественные, зацепившись за что-то в моём заваленном буреломом сознании, требовали внимания и осмысления. — Мария, ты говоришь о честолюбцах так, будто тебе это чувство совершенно неведомо. Говоришь как о пороке или постыдной болезни. Неужели сама даже в ранней юности не ощущала своей исключительности? Не мечтала совершить что-то особенное и оставить по себе след? На этот раз её руки не пришли в движение, а лицо не выразило ни малейшего беспокойства. Похоже, вопрос не застал её врасплох. — В нашей семье право на исключительность безраздельно принадлежало отцу. Женщины, да ещё в Испании... нет... нашей сферой деятельности могла быть только семья. Да, мы оставляли по себе яркий след — детей. Здоровых, хорошо воспитанных и образованных. А что касается честолюбия... наблюдая жизнь своих родителей, я поняла, что не смогу прожить жизнь рядом с гением... вернее с человеком, убеждённым в своей исключительности. Рядом с такими очень сложно сохранить самоё себя. — А твой муж... он не считал себя гением? — Думаю в юности, как большинство мужчин, тоже мечтал о славе и героических свершения, но, когда мы познакомились, он был уже зрелым человеком. К этому времени успел помудреть и научиться радоваться жизни как таковой. И меня этому научил. — В словах Марии не было ни высокопарности, ни навязчивой убеждённости в своей исключительной правоте. Просто она видела смысл жизни с другой стороны, и излучаемый ею покой говорил сам за себя; она живёт без надрыва, в согласии со своей внутренней сутью. И об этом предстояло серьёзно подумать. Чутко уловив мои мысли, Мария, поднялась со скамейки и надела перчатки: — Вот и думай... графиня Елена де Альварес. — Я не графиня и не де... — Знаю, знаю. Зря бабушка навязала тебе этот псевдоним. Как будто обязательства наложила. — А что, это имя уже кого-то к чему-то обязывало? — Не знаю, детка. Я не знаток семейных историй. Всё. Пошли домой чай пить. Устала. Вечером, сидя в кресле с романом Ибсена на коленях, я размышляла над словами Марии. Уметь наслаждаться каждодневным бытиём, не заботясь ни о свершениях, ни о целях... Как это не похоже на то, что я слышала с раннего детства в семье, позже — в кругу коллег и друзей, и ежедневно от своего мужа. Мария излучает покой, а мы все... нервные и дёрганные. В памяти вспыли слова о её отце: «Я не смогла бы прожить жизнь рядом с гением... вернее, с человеком, убеждённым в своей исключительности. Рядом с такими очень сложно сохранить самоё себя». Когда-то Шарль говорил об опасности играть рядом с ярким, сильным партнёром, но ведь это только на сцене... Неужели и в жизни мне предстоит превратиться в его тень? Но хорошенько об этом подумать я не успела. Отвлекла новая, захватывающе интересная встреча. Глава 5 Толпы любителей скульптуры приходили в эти дни на выставку Родена. Они подолгу стояли у его работ, пристально изучая каждую деталь, и, наизусть повторяя мнения знатоков и критики, пытались отыскать в них то, чего сами никогда не заметили бы. Насытившаяся и утомлённая непривычным возбуждением, публика на секунду заглядывала в соседний зал, где, никем не замеченные, скучали три работы Камиллы Клодель, но тут же равнодушно разворачивалась и разъезжалась по домам. Работы Клодель её не интересовали. А я прихожу к ним уже третий раз. Не могу не согласиться с общественным мнением — в скульптурах мадемуазель Клодель пока нет того мастерства, той точности в проработке деталей, той мучительной трагедии человеческих страстей, отличающей работы Родена, но зачем сравнивать двух художников, мужчину и женщину, между которыми расстояние в двадцать лет жизненного и творческого пути? Безусловно, работая рядом с великим мастером, она много-му от него научилась, но что в этом плохого? В работах Камилы безусловно чувствовалось влияние Родена, но излучение было совершенно другим. Я не могу объяснить, чем именно они притягивали к себе, но потребность хотя бы на полчаса заскочить в галерею была в эти дни непреодолимой. Сегодня я оказалась в зале не одна. Молодая женщина в синем платье и копной светло-каштановых волос скромно примостилась на стуле в углу. Она не разглядывала скульптуры. Скорее просто отдыхала от шумных дискуссий в соседнем зале. Не обращая внимания на притомившуюся посетительницу, я устремилась к голове, растревожившей моё воображение. Эта поразительная двойственность: энергия и воля — если смотреть в анфас, и покорная обречённость в профиль! Совсем как я, постепенно терявшая саму себя, растворяясь во всезнании и авторитете мужа. Женский голос, прорезав тишину пустого зала, прервал мои размышления: — Извините за беспокойство. Если я не ошибаюсь, Вы — мадам Елена Альварес? Я вздрогнула от неожиданности. Неужели меня уже начинают узнавать? Сделав любезное лицо и машинально понизив голос на полтона, я повернулась к обратившейся ко мне поклоннице: - Да, Вы не ошиблись, я... — и осеклась на месте. Женщина, только что понуро сидевшая в углу, энергично откинув упавшие на лицо пряди волос, вышла на середину зала. — Я уже несколько дней наблюдаю за Вами... меня зовут Камила Клодель... можно спросить, что заинтересовало Вас в этой работе? Так вот почему она пряталась в углу! Она не отдыхала от выставки Родена, она, как и я, ждала свою публику. Тёмно-синие глаза ощупывали моё лицо и руки. — Как интересно. В жизни Вы выглядите совсем иначе чем на сцене... и двигаетесь по-другому. — А в чём разница? — В жизни Вы значительно энергичнее, острее. — На сцене меня определяет роль, а вне сцены — я сама. Артисты так же многолики, как и Ваши скульптуры. Камилла тряхнула головой, и светло-каштановые волосы, освещённые косыми лучами солнца, полыхнули медью. Полноватые губы разошлись в очаровательной улыбке, обрисовав на щеках две симметричные, детские ямочки. — И разгадать эту «многоликость» — самый восхитительный момент в работе как скульптора так и артиста. Не правда ли? — Во всяком случае Вам это замечательно удаётся. На лицо Камиллы, за секунду до этого освещённое солнцем и детской беззаботностью, набежала мрачная тучка. — Могло быть ещё лучше, уделяй я больше времени собственным работам. Вспомнились сплетни, потоками стекавшие со страниц бульварных газет в светские салоны: великий Роден, используя свою любовницу в качестве модели и подмастерья, лишь изредка позволяет ей работать самостоятельно. Самые злоязычные, падкие на сенсацию журналисты утверждали, что выставленные Клодель скульптуры — не что иное, как копии с незаконченных работ великого мастера. Можно ли этому верить? Я рассматривала лицо стоящей передо мной женщины: энергичный профиль, гордый, чувственный рот, подвижные, крупноватые руки, постановка головы... всё излучало яркий, взрывоопасный характер. Такие женщины не выставляют копий с работ своих любовников. Тёмно-синие глаза на секунду метнулись в сторону: — Госпожа Альварес, я понимаю, Вы очень заняты в театре, но мне бы так хотелось слепить Ваш портрет. У Вас очень сложное, выразительное лицо. Чувство солидарности к женщине, задержавшейся на много лет в тени своего звёздного партнёра, подсказало однозначный ответ. — Я буду рада Вам позировать... к сожалению не очень часто... раза два в неделю. До конца месяца днём я свободна... Репетиции новой пьесы мы начинаем только в следующем месяце... Скульпторша моментально отреагировала на моё медлительное заикание. — Мы никому не будем мешать, и нам тоже ни кто не помешает. Господин Роден работает сейчас в другой мастерской. Дома я рассказала Шарлю о знакомстве с Клодель и её предложении. Не буду лукавить, говоря что в восторге от твоей затеи, — тонкие, бледные губы мужа оттянулись вниз, — позировать Родену может и было бы интересно, хотя опасно, но Клодель... Бессмысленная трата времени. В такие минуты на меня накатывали ярость и чувство протеста. Как уживаются в одном человеке тонкая, романтичная чувствительность и черствый, высокомерный снобизм? Два дня спустя я решительно переступила порог мастерской. Элегантное платье, предъявлявшее прошлый раз стройную, устремлённую вверх фигуру, сменила бесформенная, перепачканная гипсом роба. Волосы скрылись под давно потерявшим изначальную белизну платком. Только тёмно-синие, возбуждённо горящие глаза принадлежали женщине из выставочного зала. Мне нужно куда-нибудь сесть? Нет. Сегодня я буду Вас только рисовать. Двигайтесь, ходите. В движении легче понять облик целиком. Я прогуливалась по огромной мастерской, заполненной почти законченными и только начатыми, обёрнутыми в мокрые тряпки, работами Родена. В дальнем углу тесной группой столпилось несколько скульптур, явно принадлежащих руке другого мастера. Это были работы Клодель, выполненные самостоятельно в свободное от Родена время. Вцепившись в меня круглыми, проникающими в самую душу глазами, Клодель произнесла самым невинным голосом: — Недавно Ваш муж написал очень хорошую статью в поддержку «Граждан Кале». Похоже, он единственный, кто правильно понял задумку Родена. Задетая с разбегу больная струна зазвенела пронзительно и фальшиво. Почему опять про моего мужа? Неужели со мной больше не о чем говорить, как только о нём? Ведь мы, в конце концов, соратницы по несчастью. Обе променяли свою независимость на призрачную жизнь в слепящих лучах остановившегося в зените солнца. В эту минуту я стояла к Камилле спиной, но она, чутко уловив возникшее напряжение, тут же сменила тему. — А как Вам удаётся обуздывать свой темперамент и становиться трепетной и покорной, как Ваши героини? Я резко обернулась, чтобы увидеть лицо Клодель. — Ой, пожалуйста, задержитесь на несколько минут в этой позе. Она так интересна! Постепенно я начинала постигать нетерпеливый характер Камиллы. Она засыпала меня вопросами, и, не дожидаясь ответов, тут же перескакивала на другую тему. Похоже мысли и ощущения вскачь проносились у неё в голове, обгоняя и расталкивая друг друга, как табун диких лошадей, вырвавшихся на свободу. — Ну и хорошо. Скользить по поверхности всегда проще. Не нужно напрягаться в поисках подходящих ответов, или открывать душу, сожалея на следующий день о случайно проскользнувших признаниях. — Второй визит в мастерскую проходил более гладко. Рисунки, сделанные два дня назад, аккуратно лежали на рабочем столе, портретный каркас подготовлен заранее, а удобное кресло, укреплённое на крутящемся станке, гостеприимно откинув полукруглую спинку, терпеливо ждало чуть припозднившуюся посетительницу. Камилла энергично принялась за работу. Её руки перелетали с одной части головы на другую, скользили по поверхности, вонзались в глубину, и безликие куски гипса постепенно оживали. Временами она работала молча, позабыв о моем присутствии, временами, вспомнив о светской вежливости, сыпала вопросами, не требовавшими ответа. — Елена... можно называть Вас по имени, ведь мы почти ровесницы?... Мне кажется, Вы почти уснули. Тяжело сидеть без движения? — Я действительно не привыкла подолгу сидеть без дела. Если это не помешает Вашей работе, расскажите что-нибудь о себе. — Обычно разговоры сильно отвлекают, но сейчас можно. Тем более, скучно ваять спящую красавицу. Чтобы Вам хотелось узнать? — Ну хотя бы... как Вы начинали. — О, это было забавно. Я лепила с раннего детства. У нас вообще очень талантливая семья. Брат пишет стихи, сестра великолепно играет на рояле. В детстве я перелепила всех родственников и соседей. Отец очень гордился моими успехами, а мама... она, знаете ли, верующая, католичка... для неё женщина, занимающаяся искусством, всё равно что блудница. Ей хотелось как можно скорее выдать нас с сестрой замуж, а брата определить на службу. Если бы не поддержка отца, не сидели бы мы сейчас в этой мастерской. Вам интересно, чтобыло дальше? — Конечно. Подозреваю, сейчас начнётся самое главное. — Моим первым учителем был Альфред Буше. Впервые увидев мои работы, он удивлённо выпалил: «Совершенно в манере Родена». До этого момента я никогда не слышала такого имени. — И не видели его работ? — А где я могла их видеть? Мы ведь жили в провинции, далеко от Парижа. А Роден тогда вообще не выставлялся. Короче, в 1881 году я переехала в Париж и поступила в академию Канаросси. Там то мои работы увидел Поль Дюбуа. И опять та же самая реакция: «Вы учитесь у Родена?» Камилла развернула меня спиной к себе, намечая затылок, и надолго замолчала. Сидеть в таком положении было ещё интересней. Теперь я могла, не стесняясь, сравнивать работы обоих скульпторов. Они были похожи и одновременно не похожи друг на друга. Роден лепил крупными, иногда небрежными мазками, Клодель облекала свои чувства в утончённо-проработанные, хрупкие формы. Прямо передо мной стояла незаконченная скульптура влюблённой пары. Два сплетённых то ли в танце, то ли в любовном порыве тела... Спина мужчины изломилась причудливой волной, повторяя капризы неведомой, томящей душу мелодии. А женщина... она обвивала партнёра, растворялась в нём, изнемогая от любовной муки. Боже, сколько страсти в этих двоих! В голове пронеслась нескромная мысль: неужели так чувствует себя Камилла в руках Родена? Или это её несбывшиеся фантазии, подаренные послушной, холодной глине? Червячок женской зависти, прятавшийся в самом потаённом уголке души, едва заметно шевельнул любопытной головкой: «А ты, вечно играющая чужие страсти? Суждено ли тебе самой хоть раз в жизни пережить подобное чудо?» В этот момент Камилла крутанула меня в прежнее положение. — Так на чём я остановилась? Ах да... Короче, мне стало любопытно узнать, что это за Роден, с которым меня всё время сравнивают. Объяснение прозвучало очень интригующе: «Самый скандальный современный скульптор. Одни называют его гением, другие обманщиком, выставляющем слепки, сделанные с живого тела». — И Вас такая характеристика не спугнула? — Наоборот, разожгла любопытство. — И Вы, набравшись смелости, отправились к нему в мастерскую... — Именно так. Почти шесть лет назад. Камилла опять на долго замолчала, сосредоточившись на моём носе, а я с нетерпением ждала нового разворота станка, возвращающегося меня к влюблённой паре. Лёгкий рывок, скрип плохо смазанного механизма, и две сцеплённых в изломе фигуры опять закружились у меня перед глазами. — Камилла, извините за любопытство... когда Вы лепили эту пару, Вы слышали какую-то конкретную мелодию? — Нет. Я слышала совсем другое, хотя... а Вы слышите какую-то мелодию? — Мне кажется, так самозабвенно можно танцевать только вальс. — А что... тоже неплохо. Пусть это будет вальсом. В бронзе он смотрелся бы ещё лучше. — Так отлейте его в бронзе. — Легко сказать. Это очень дорого. Таких денег у меня нет. — Извините за возможную бестактность, но неужели Ваши работы совсем не покупают? — Да кому они нужны ? Публике прежде всего нужно имя. Роден много лет вынужден был батрачить на Каррье-Беллеза, а потом на голландца Жозефа Ван Расбурга, подписывая свои работы их именами. А знаете почему? Потому что на эти имена был спрос, а Родена тогда никто не знал. — Подобную историю я слышала о Саре Бернар. Она сочла себя не только гениальной актрисой, но и художником, и начала рубить из мрамора скульптуры. На гастролях в Америке даже продала три штуки. — Ой, не говорите мне про неё. На последней выставке в Салоне она тоже выставила своё безобразие. Там у неё даже что-то купили. Всё бегала за Роденом. Хотела узнать его мнение. — Да, это замкнутый круг, Чтобы продать нужно имя, чтобы заработать имя — нужно продать. — Вот так-то. Значит «Вальсу» придётся подождать. Работа над моим портретом подходила к концу. Клодель рассчитывала закончить его через два-три сеанса. Рассказывая всё время о себе, она умудрилась потрясающе точно уловить мою суть. Гипсовая голова уже приобрела вполне конкретные очертания, а моя собственная потеряла всякую ориентацию от постоянного вращения. Цак — и передо мной успевшая согрешить роденовская Ева, Цак — и опять неутомимая влюблённая пара кружится в беско-нечном вальсе, Цак — и молодая женщина с слегка капризно оттопыренной нижней губой напряжённо вглядывается в будущее. Цак — и коренастый мужчина с пышной рыжей бородой, остановившись на пороге мастерской, с любопытством разглядывает новую модель. Губы Камиллы затвердели и поджались, обозначив упрямые складочки на смуглых, упругих щеках, а вздрогнувшая рука уронила очередную гипсовую кляксу на давно смирившийся с таким обращением балахон. Роден уверенно пересёк разделявшее нас пространство и, остановившись рядом с подестом, обратился ко мне с весьма своеобразным приветствием: — Мадам Альварес, а в жизни Вы выглядите далеко не так безобидно, как на сцене. Куда подевались Ваши добродушие и покладистость? — Выходя из дома, я аккуратно сложила их в сундук с театральным реквизитом. Роден, открыв крепкие зубы, очень симпатично рассмеялся. — И Вы не чувствуете себя стеснённой на столь маленькой сцене? Крупные, гибкие кисти рук обрисовали скромные размеры моего подиума. — Зато публика, — я указала охватывающим пространство жестом на стоящие по кругу скульптуры, — на редкость доброже-лательна. И ни одного ядовитого критика. — Естественно. А Вы разве не заметили объявление при входе: «Критикам и недоброжелателям вход в мастерскую категорически воспрещён» Камилла, упрямо соскребая гипс с балахона, ядовито заметила: — Боюсь, вчера объявление снесло ветром... да и замки, как на грех, заржавели. Вот и появляются теперь незваные гости. Роден, давно смирившийся с язвительностью своей подруги, ласково провел рукой по разбушевавшейся голове, заправив выбившийся из под платка локон, и по-хозяйски присел на стул рядом с портретом. — Вот тут очень хорошо... и этот переход у тебя замечательно получился, — лёгкие, подвижные пальцы, едва дотрагиваясь, скользили по влажному гипсу, — а вот это, — рука замерла где-то в районе виска, — здесь ты явно схалтурила. Это не правильно. И губы... в них явно не достаёт движения. За секунду до этого лёгкие и скользящие, пальцы, в момент приобретя силу, вонзились в указанное место, стремительно внося необходимые с его точки зрения исправления. Тишина взорвалась надрывно звенящей нотой: — Убери руки от моей работы! Я делаю так, как считаю нужным! Рука мастера повисла в воздухе, как подстреленная в полёте птица. — Но я просто хотел её немного улучшить... — А я не хочу, чтобы ты её улучшал. Когда я долепливаю ноги или уши твоим скульптурам, делаю их такими, как ты хочешь. А это моя работа! Роден смущённо посмотрел в мою сторону, и я поняла, что третий во время бунта на корабле — всегда лишний. Вспомнив о неотложных делах, я выскочила за дверь, на ходу натягивая на плечи меховую накидку. Не знаю, кто был прав в этом споре, я не такой уж тонкий ценитель, но по сути мне было нестерпимо жалко Камиллу. Роден душил её намертво. Хватит ли у бедняги когда-нибудь сил вырваться из этого прокрустова ложа, не обломав крыльев? На следующем сеансе Камилла выглядела рассеянной и невыспавшейся. Начинала что-то лепить, потом бросала и начинала снова. Сегодня работа явно не клеилась. Наконец, швырнув в сторону комок гипса, она начала изливать душу: — Понимаете, дело не только в работе. Он вообще относится ко мне, как к продажной девке. Эта его Роза! Она готовит ему еду, пришивает на сюртук ленточки почётного легиона... Он возится с её сыном, этим пьяницей и картёжником... Вы видели его пару раз здесь. — Но ведь, насколько я слышала, это его сын. Может его, а может и нет. И потом, они не женаты. Её по прежнему зовут мадемуазель Боре, а парня — не Огюст Роден, а Огюст Боре. Мы с Розой имеем на Родена одинаковые права. На бледном лице Камиллы загорелись два пунцовых пятна, а из глаз сочилось отчаяние. — Он чтит её как жену, а я... я... я бесплатная модель, готовая часами коченеть от холода на этом станке. Я нужна ему, чтобы месить глину и укутывать мокрыми тряпками незаконченные скульптуры... Он... он... Не закончив фразы, Камилла сорвалась с места и помчалась к раковине. Пару минут спустя, опустошённая и слегка успокоенная холодной водой, вернулась на место и принялась за работу. Пунцовые пятна погасли, оставив на посеревших щеках бледные, красные точки. — Вы хотели ещё что-то сказать? — Разве?... Ах да... просто он знает, что я никуда не денусь, потому что... жить без него не смогу. И вообще... простите за эту нелепую вспышку. Я не должна была выплёскивать на Вас свои проблемы. — Не жалейте об этом. Иногда необходимо выплеснуть свои чувства... чтобы не захлебнуться. Клодель, оставив работу, нервно катала в руках гипсовый шарик. — Понимаете, дело не только в этом. Розу я ещё могла бы вытерпеть, но он душит и корёжит во мне скульптора. Хочет превратить в свою копию, свою тень, а у меня не хватает сил сопротивляться. Каждый день кричит, что создал меня! Чушь. Ерунда. Меня создал Господь Бог. Он дал мне талант и азарт вдохновения. Роден только отточил и отполировал их. Я — не его скульптура. — Мне кажется, в этом смысле наши судьбы похожи. Клодель удивлённо подняла глаза, попеременно переводя их с меня на портрет и обратно. — Нет. Не похожи. Вы значительно сильнее. Вас не легко сломать. Поверьте, я чувствую людей, даже когда они молчат. Вспомнились недавние слова Марии: «Ты не можешь быть слабым человеком, сбегающим от трудностей. Ты — борец, не верящий в свои силы» Почему они разглядели во мне то, чего я сама до сих пор не прочувствовала? Вопрос повис в воздухе, не получив ответа... пока. В следующие недели я так и не выбралась к Клодель. В преддверии Рождества театры, соревнуясь в преданности публике, давали по два спектакля в день. Мы падали с ног от усталости, но не отставали от конкурентов. Шарль засиживался до глубокой ночи в своём кабинете, дописывая параллельно два новых сценария. Репетиции должны были начаться сразу после нового года. Актёры сгорали от любопытства. Мы знали, что Лекок и Антуан готовят к постановке «Пышку» Ги де Мопассана, но вторую новинку они держали от всех в строгом секрете. Шарль, изредка выходя из кабинета, запирал за собой дверь и загадочно улыбался: — Немного терпения. Для тебя это будет настоящим сюрпризом. Я волновалась не меньше других. Как будут распределены роли, в кого нам придётся перевоплощаться на этот раз? Мне полюбилась Пышка с первого взгляда. Бесхитростная, живая, темпераментная, острая на язык и действия... Барышня с чёткими принципами, невзирая на «беспринципную» профессию. Я давно выучила роль наизусть, каждый день открывая в ней новые прелести и оттенки, продумала платье с накладным бюстом и боками, приближающее объём исполнительницы к аппетитной пышности оригинала. Все было готово, и тут... Шарль, сияя победной улыбкой, протянул мне толстую тетрадь, испещрённую его чётким, округлым почерком. — Вот. Готово. Новый сценарий. Почитай. Тебе наверняка понравится. Женская роль скроена точно на тебя. Утончённая, умная, филигранная проработка, прелесть и изящество — именно то, что ты умеешь и любишь. Я взяла в руки тетрадь и прочла выведенный крупными, витиеватыми буквами заголовок: «Арап Петра Великого», по мотивам незаконченного романа А. Пушкина. Поставить спектакль по этому роману... Это же давнишняя мечта Лекока... Как здорово. Замирая от любопытства, я забралась с ногами в кресло и углубилась в сценарий. И что же... Чем больше страниц оставалось позади, тем сильнее тряслись руки от злости и обиды. Женская роль! Умная и утончённая... Очередная блеклая, покорная, унылая особа, способная лишь падать в обморок и разбивать голову о кованные сундуки! Да он что, решил удушить меня такими ролями? Задыхаясь от бешенства, я влетела в кабинет Шарля, на ходу швырнув в него пресловутый сценарий. Тетрадь поплыла по мерцающей в свете настольной лампы полировке, зацепилась за пепельницу и повисла на краю стола. Шарль, пытаясь удержать это скольжение, неосторожно дёрнул рукой и довершил катастрофу. Сценарий, беспомощно распластав крылья, лёгким шлепком приземлился на пол. Истекающий изумлением прозрачно-белесый взгляд Маэстро вонзился в меня по самую рукоятку. — Что это значит? — Я не буду играть эту роль. — Что значит не будешь? — Мне надоели эти безликие, унылые барышни, оцепеневшие на всю жизнь в своём безмозглом послушании. — Не говори глупости. Это твой тип женщин. Ты нашла себя в них. Ещё две-три таких роли — и станешь незаменимой. Успех, как говорят в театре, стоит уже на пороге. Эти убеждающе вязкие, фальшивые аргументы, лишь подстегнули моё сопротивление. — Я не нашла себя в них, а потеряла. Ты втиснул меня в это прокрустово ложе, придушив и переломав кости. Успех ждёт меня у порога! Но мне не нужен этот порожний успех. Я хочу проживать жизнь живых людей, а не наивных, полузамороженных кукол. — Это что-то новенькое. Ну и кого же ты хочешь сыграть на этот раз? — Пышку. Маэстро, наклонившись к столу, выдвинул мне навстречу своё пепельно-серое лицо. Губы судорожно дёрнулись и стянулись в бледную, едва различимую полоску. — Это невозможно. — Почему? — Почему? Да потому, что ты... Дамоклов меч, повиснув над головой, замер на несколько бесконечно долгих секунд в воздухе. Ну что же ты медлишь? Разве не знаешь, что страх ожидания страшнее мгновенной боли. Короткий взмах — и все сомненья, перемешанные с надеждами, мечта о полноценной жизни, придушенная цепкими пальцами, впившимися в горло... доля секунды... и всё останется позади. — Итак? Почему? — Потому, что ты провалишь не только роль, но и весь спектакль, а мы не можем себе этого позволить. Меч упал..., но я кажется выжила. И было не так уж больно. Руки, судорожно сжимавшие край платья, успокоились и расслабленно легли на колени. — Ну что ж. Значит я ухожу из театра. — Это что, шантаж? — Нет, разумное решение. Бездарностям нечего делать на сцене. Зачем занимать место, предназначенное не для меня. — Я никогда не называл тебя бездарной... Просто... ты можешь очень хорошо, даже блестяще играть, если тебя ведёт сильный партнёр. — Ладно, всё поняла. На сегодня хватит. Я иду спать. Мне во след устремилась целая стая убедительных, правильных аргументов, но тяжёлая дубовая дверь надёжным щитом прикрыла беззащитную спину, не готовую принять на себя новые, наносящие боль удары. Я легла в постель, завернувшись с головой в тяжёлое, душное одеяло. Когда-то бабушка Лизелотта созналась, что самые лучшие решения приходили к ней во сне. — Детка, если не знаешь, как поступить, иди спать. Во сне человек видит всё правильнее и чётче. — И утром просыпается с готовым решением на подушке? — Во сне я не только принимала решения, но и летала..., этакий шарик в голубой горошек. Смущённо улыбнувшись всеми ямочками, бабушка разгладила на пухлых боках светлое домашнее платье, усыпанное мелкими голубыми цветочками. Я крутилась под одеялом в ожидании сна, но ему, похоже, некуда было торопиться. Помню, всю ночь пыталась взлететь. Руки барахтались в тёплом, сером тумане, тело рвалось вверх, но ступни ног, ватные и бессильные, безнадёжно вязли в липком, густом месиве. Кажется, в какой-то момент я почти сдалась, смирилась с обременительным, но удобным пленом, и вдруг... откуда взялись силы... мощный рывок, жирное чавканье разрываемой в клочья липкой массы, свист в ушах... ещё рывок.. и ноги, босые и лёгкие, уже свободно парят в чистом, прозрачноупругом воздухе. Далеко внизу маленькие ботинки, навечно впечатавшись в зелёную глыбу, тоскливо смотрят мне вслед, нелепо раскинув порванные в клочья шнурки. Мы встретились с Шарлем за завтраком. Он выглядел невыспавшимся, но дружелюбным. — Ну что Нене, успокоилась немножко? Выглядишь во всяком случае вполне отдохнувшей. — Спасибо, всё пришло в норму. — И ты наверняка приняла какое-то решение? — Не только какое-то, но единственно правильное. Шарль, едва заметно, заёрзал на стуле. Это было нечто новое в наших отношениях — я, не спрашивая совета, самостоятельно принимала решение. — Надеюсь всё же, мне позволено будет высказать своё мнение? — Безусловно, но не сейчас. Ты сделаешь это вечером, когда я вернусь. После завтрака, переодевшись в элегантный, деловой костюм, я отправилась в Одеон, и через пять минут, с приторно-сладким почтением была приглашена в директорский кабинет. К... принял меня, как долгожданную гостью, наконец удостоившую терпеливого хозяина коротким визитом. Директорский кабинет я покидала свободной и счастливой... с новым контрактом в руках. Этот театр я выбрала не случайно — знала, что буду принята «со слезами восторга на глазах». И дело было не столько во мне, сколько в обострившейся конкуренции между «Свободным театром» и «Одеоном». Взаимоотношения между парижскими театрами того времени были чётко регламентированы. «Комеди Франсез» для любителей театра, как «Салон» для любителей скульптуры и живописи, оставался монопольным хранителем классицизма. «Одеон» с самого начала своего основания слыл новатором, вносящим свежую струю в надоевший передовой публике классический застой. Несколько десятилетий подряд эти два театра полюбовно делили между собой публику, влияние и славу, оставляя в тени десяток других театроводнодневок, с громким бульканьем всплывающих на поверхность и так же быстро идущих ко дну. Авангардизм «Свободного театра», оказавшегося на редкость живучим, спихнул «Одеон» с привычного пьедестала, вплотную придвинув к застойному « Комеди». Поверженный титан нуждался в срочной реабилитации и обновлении. Для этого хороши были любые средства. Имя Елены Альварес, неразрывно связанное с самыми громкими успехами конкурента, могло стать козырной картой в борьбе. Ещё два дня назад я описала бы картину так: «Жена господина Лекока, оказавшая предпочтение театру с устоявшимися прогрессивными традициями, была благосклонно принята дирекцией «Одеона». Сегодня, впечатав последние сомнения в зелёную глыбу, я рисовала картину другими красками: «Госпожа Альварес, в течение двух лет привлекавшая внимание публики филигранно проработанной, тонкой и умной манерой исполнения, предложила услуги театру, известному своими прогрессивными традициями. Дирекция с радостью заключила с ней контракт на пять лет, положив гонорар, вдвое превышавший возможности конкурента». Ноги, лёгкие, как во сне, едва касаясь земли, мчались домой через зимний парк. Ветерок, слегка обжигая морозом щёки, шелестел белыми ворсинками меховой шляпки. Господи, как хорошо! Где я была всё это время? Так чувствует себя человек, впервые выйдя на улицу после долгой болезни. Почти два года я провела в затхлом склепе, завешанном траурными занавесками, ослепшая и оглохшая от тоски и страха. Кто сыграл со мной эту злую шутку? Кто отнял два года полноценной жизни? Кто напел, что истинный талант хватает всё на лету? Кто внушил, что сомнения и кропотливый труд — удел бездарности? Кто сказал, что не страшно ежедневно выставлять себя напоказ? Когда это началось? Выпускной бал... зеркало, отражающее лёгкую нарядно одетую фигурку... неуверенность в себе, детский страх перед сценой, жёсткой критикой и публикой, имеющей свои взгляды на искусство. Я сама объявила себя бездарной и сама заперлась в этот затхлый склеп. Господи, как легко дышится в зимнем, насквозь промёрзшем саду снежной королевы! Низкое солнце, повиснув в зеленовато-янтарной дымке, зажгло хрустальные нити деревьев золотистыми искрами. Три пурпурные ягоды, три капли крови, повиснув на острие хрусталя, напоминают об ушедшем в прошлое лете. Как можно тратить короткие мгновения жизни на бесполезную суету? Много таланта или мало, войдет моё имя в историю, или умрёт вместе со мной... Какое это имеет значение по сравнению с вечностью? Я бежала по снежной дорожке, усыпанной осколками хрусталя, и только скрип мягких, тёплых сапожек нарушал звенящую тишину королевского зимнего сада. Дома Шарль, уже сотый раз измерял комнату короткими нервными шагами. — Наконец. Где ты пропадала? Я уже не находил себе места. Ты была вчера в таком состоянии... — Милый, не надо ни о чём тревожиться. Сегодня я проснулась и выздоровела. Сейчас всё расскажу. Он растеряно вертел в руках контракт с Одеоном. — Почему? Зачем? Такова твоя благодарность за всё, что я для тебя сделал? Вернее за то, что я из тебя сделал? Ты понимаешь, что совершила предательство? Он втыкал тупые, ржавые иголки в ещё не зажившую рану. Нестерпимо больно... и стыдно. Да, чувства подняли бунт, голова приняла решение..., но почему это предательство? Память вернулась в мастерскую Родена. Клодель с трясущимися от бессильной обиды губами: «Временами мне чудится, я всего лишь одна из его скульптур». Камилла, нам рано сдаваться! Роден и Лекок — два титана, но мы не их порождение. Мы — талантливые, азартные ученицы, нелёгким и упорным трудом заслужившие право на самих себя. Я решительно присела к столу, равноправно положив спокойные руки рядом с ладонями Шарля. — Не кричи и попытайся меня понять. Ты великолепный учитель, но не Господь Бог. Ты не изваял меня из пустого куска мокрой глины. Будь я пуста, даже ты не сумел бы вдохнуть в меня жизнь. Я бесконечно благодарна за всё, чему у тебя научилась, и, если не возражаешь, готова учиться и дальше, но сейчас мне нужна свобода. Иначе тебе придётся до конца жизни вытаскивать меня за руку на сцену, а я хочу выходить на неё сама. — Ты к этому ещё не готова. Всё. Я пошёл спать. Уже неделю мы с Шарлем разговариваем только в театре и только по делу. Сценарий «Арапа» бесследно исчез. В эти дни я родила Евгению Гранде заново. Раньше эта провинциальная барышня делала меня мягче и доверчивей, теперь она заразилась моим напряжением и силой. Наш раздор с Шарлем окрасил пьесу в новые тона. Ещё неделю назад Евгения в присутствии гостей скромно опускала глаза, не мешая господину Гранде, притворно заикаться и вдохновенно врать. Теперь, вскинув голову и пристально глядя ему в глаза, она постоянно сбивала лжеца с толку и с ритма. Робкая мечтательница научилась критически мыслить, умело пряча запретные плоды новых познаний. Она взрослела и умнела на глазах у зрителя, действуя при этом строго по сценарию. Шарлю, как и сбитому с толку Гранде, приходилось не сладко. Мои внутренние резервы, снеся плотину молчания, бурным потоком рванулись наружу. Мы играли эту пьесу каждый вечер, и каждый вечер она была другой. Я не готовила жесты заранее, не собирала их по крупицам, но импровизировала на ходу. Сжать до предела пружину, и распрямиться протестом лишь в одном повороте головы. Пара едва заметных капель иронии в голосе и детская доверчивость разлеталась в щепки. Чуть понизить голос и задержать паузу — и жалкая просьба звучит настойчивым требованием. Я не втискивалась в Евгению, я растягивала её под себя. Пусть борется, пусть живет, пусть каждый спектакль станет для зрителя новой надеждой. Хотя сценарий есть сценарий. Шарль сходу реагировал на импровизации, временами послушно следуя за мной, временами, забегая вперёд, провоцировал на новые находки. Дома, не обменявшись ни единым словом, он уходил спать, но предательски блестевшие глаза, выдавали его с головой. Великий артист, со всем свойственным ему вдохновением, втянулся в игру под названием «Какими мы будем завтра?». Марафон длился неделю. Труппа едва поспевала за нами, театр ломился от публики, Антуан ухмылялся и довольно потирал руки, а возбуждённая пресса ежедневно освещала ход боевых действий. Впервые, позабыв о зрительном зале, я влетала на сцену, как в собственную жизнь... ...Что случилось? Почему этот шум? Я, Евгения, так несчастна и одинока..., так хочется тишины и покоя, а они... Это зал взорвался аплодисментами и цветами. Только сегодня это уже не так важно. Ни слава, ни поздравления, ни газетные вырезки... потому что завтра я опять выйду на сцену. Слава богу, всему когда-нибудь наступает конец. Завершающий спектакль и... рождественская ёлка раскинула перед нами свои нарядные лапы, подарив три дня отдыха и покоя. Покой. До него оставался всего только шаг, и сделал его Шарль. — Кстати... я посоветовался на днях с Антуаном насчёт Пышки. Он в восторге от этой идеи. Считает, твоей живости и темперамента за глаза хватит на двух таких девиц. — И не боится, что я загублю спектакль? — Злопамятность Вам, мадам, не к лицу, хотя я готов извиниться за резкость... Впрочем, ты сама меня на неё спровоцировала. — Это чем же? — Несправедливым упрёком. Я втиснул тебя в мёртвые роли, придушив и переломав кости... Как ты думаешь, почему я заставлял тебя играть этих женщин? — Предполагаю, хотел превратить меня в Пенелопу. Повторяю твои же слова: «Буду очень благодарен тургеневской героине, получив через месяц послушную, скромную жену». — А я думал, ты понимаешь шутки. Кто сказал, что актёр обязан превращаться в своих героев? Неужели, чтобы сыграть Нахлебника, мне нужно было спиться и сесть на шею твоему отцу? Или Виктор Гюго, описывая Квазимодо, должен был отрастить на спине горб? Кто сказал, что актриса, играющая Пышку, должна прожить жизнь продажной девкой? — Мне казалось, играя всю жизнь один и тот же тип людей, актёр привыкает к этой оболочке, и, привыкнув, остаётся в ней навсегда. — Звучит красиво, но по сути не правильно. Наша задача сложнее и проще — мы действительно многому учимся у наших героев, но обязаны сохранять при этом себя. — Но почему ты так упорно подсовывал мне однотипных дам? — Система обучения. Моя и Антуана. Мы набрали в труппу блестящую, одарённую молодёжь: Элиза, ты, Жак и Анри. Можно было, как это делают другие театры, посадить каждого из вас на случайный репертуар, или подобрать то, что лучше всего получается. Зачем тратить время и силы на воспитание. Использовать, пока молоды, а потом заменить новыми. Мы решили вырастить из вас настоящих артистов. Я уже говорил: сыграть себя не требует большого таланта, а вот сыграть чуждую тебе личность — это уже высшие сферы. Вот туда-то мы вас и тянули. — Прости, но мне кажется, ты тянул в «высшие сферы» только меня. — Тебе это только кажется. Знаешь сколько часов проплакала на этом плече Элиза, получив роль Рыжика? Умоляла отдать ей близкую, до последней чёрточки понятную Гранде. Мы с Антуаном понимали, ты справилась бы с беспризорником за пару недель... — И почему же не согласились? — Хотели, чтобы вы обе переросли себя. Тебе казалось, ты одна трудишься не покладая рук. Другие стригут свои победы с куста. Знала бы, что происходило все эти месяцы с Жаком! Он ночами работал над ролями, а в семь утра, пока ты ещё нежилась в постели, полный сомнений стоял на пороге театра, поджидая Антуана. Милая, кто перевернул тебе голову набекрень? — Этот вопрос полгода назад задала мне Мария. — И что ты ответила? — Обещала подумать и найти виноватого. — Похоже, в этом ты хорошо преуспела. — Что поделаешь. Такова судьба любого расследования. Даже лучшие сыщики идут часто по ложному следу. Огонь камина, развернувшись многоцветной спиралью, отбрасывал голубовато-оранжевые тени на расплывшееся улыбкой лицо Шарля. Господи, это надо так всё перепутать! Оказывается, взлетев во сне, я освободилась не столько от лекоковской тирании, сколько от своей собственной. — Шарль, а куда исчез сценарий «Арапа»? Лекок наклонился к огню, старательно перемешивая полусгоревшие поленья. — Исчез. Улыбка, молодившая Шарля на двадцать лет, пожелтела и опала осенним листом. — Знаешь Нене, в тот момент, когда ты швырнула его мне в лицо... Это было так обидно... Я ведь готовил тебе подарок к нашему юбилею. Два года супружества — не малый срок. Ведь именно с «Арапа» всё и началось. — Но ты сказал, что на этюде это уже было серьёзно? — Да и нет. Я начинал это, как этюд, но увидев твои изумлённо распахнувшиеся мне навстречу глаза, понял... Я задумал эту пьесу, как лебединую песню. Хотел последний раз сыграть с тобой вместе. Сыграть самих себя. — А что потом? — Я решил больше не выступать. Безусловно игра приносит большую радость, но съедает так много времени, а у меня столько планов... — А что будет с твоей пьесой? — Ничего. Останется в ящике письменного стола. — Подожди Шарль, что-то не так. Ты написал великолепную пьесу, и бросать её в ящик неправильно. — Не знаю. Может это её судьба. Пушкин оставил роман незаконченным, значит и мне не следовало его продолжать. — Может сделаем по другому. Подари рукопись мне... с настоящей дарственной надписью. И храниться она будет в моей сокровищнице вместе с бабушкиными брильянтами. Только в ней будет значительно больше каратов. Согласен? ё— Мадам Альварес — собирательница антиквариата! Ладно, но сперва я измерю караты, а потом подумаю. ёВ подарок к Рождеству я получила от мужа брильянтовое колечко, подвешенное на тонком шнурочке к сценарию «Арапа». Дарственная надпись гласила: «Елене Альварес, запутавшемуся в трёх соснах сыщику, от невинно осуждённого Шарля Лекока». В тот же день я получила ещё один ценный подарок. Вернее вначале это была просто записка: «Уважаемая мадам Альварес, последние три дня я провела в театре с Вашей Евгенией. Горжусь и восхищаюсь. Считаю, моё предсказание сбылось — Вы сильная и мужественная женщина. Портрет готов, но этой ночью, под впечатлением последних спектаклей, я слепила ещё одну маленькую скульптурку, которую назвала Никой. Если понравится, буду рада преподнести Вам в подарок. Сегодня проведу целый день в мастерской одна. Ваша Камилла Клодель». Я помчалась к Камилле в тот же день. Она выглядела ещё более возбуждённой, чем в нашу последнюю встречу. — Ну что, я Вас заинтриговала? Камилла улыбнулась и размотала тряпку, укрывающую маленькую гипсовую фигурку на круглом крутящемся станочке. Рвущаяся из каменной глыбы босоногая Ника. Нога, упершись в скалу, разорвала сковывающий движения лёгкий хитон... Растрепавшиеся на ветру волосы, руки, ставшая ненужной одежда ещё в плену у камня, но напряжённое, гибкое тело уже вырвалось на свободу... — Камилла, Вы подглядели мой сон? — Скорее я подглядела Вас. Нравится? — Очень. Потрясающе. — Дарю. В благодарность за мужество и надежду. У меня тоже получится... когда-нибудь. Посомневавшись пару секунд, я вытащила из сумочки свой подарок. — Камилла, мне хочется подарить Вам к Рождеству одну вещь, — промямлила я, чувствуя, как по лицу расплывается дурацкая краснота, — только не смотрите на меня так уничтожающе. Это старинный испанский браслет, сохранившийся от давних предков. Я знаю, Вы не носите таких украшений, но на эти деньги могли бы отлить в бронзе «Вальс». Он замечателен. Клодель, истинная женщина, не преминула тут же надеть на запястье антикварное чудо. Поворачивая руку в рассеянных лучах солнца, она с любопытством наблюдала за игрой света в камнях и золотом плетении. — Боже, как красиво. Никогда не держала в руках подобного великолепия... Но я не могу принять такой подарок. Это слишком дорого. — Отлейте свое имя в бронзе, и тогда Ника будет стоить целое состояние. . — Спасибо. Мы с Вальсом постараемся оправдать Ваши надежды. Счастливого Рождества. Рождество мы справляли в кругу семьи у Франчески. Раз в год в её просторном доме собирались все дети и внуки. Старший сын, Антуан, навещал мать довольно часто, а Норберт появлялся раз в год и только по обязанности. Братья были совершенно не похожи друг на друга. Антуан удивительно походил на бабушку и Марию, а Норберт, вылитый из совершенно другого материала, смотрелся в этой семье приблудным. Вспомнился подслушанный в детстве скандал. Речь шла о женитьбе Норберта. В приоткрытую дверь рванулся разъярённый голос бабушки: — Ты не имеешь право вводить её в нашу семью! Я не хочу иметь дело с этими людьми. — Мама, это же несусветная глупость. О чём ты говоришь? Они — третье или четвёртое поколение, родившееся во Франции. Её отец прославился в войне с немцами, брат был тяжело ранен... Они такие же французы, такие же католики, как и мы. — Во-первых, мы не только французы, но и испанцы, а во вторых... Да что ты о них знаешь? Сегодня — свои, а завтра — предатели. И говорить здесь не о чем. Моего разрешения не получишь! Голоса умолкли, и только сквозь приоткрытую дверь я видела взад и вперёд шагающего по комнате Норберта. Наконец он опять заговорил: — Ну, как знаешь. Значит придётся жениться без твоего разрешения. Опять молчание, и расхаживающая по комнате бабушка. — Дело твоё, но знай — если женишься на этой девице, дверь моего дома будет для тебя навсегда закрыта. — Мама, это твоё последнее слово? — Да. — Ну что ж, значит я закрываю её за собой уже сегодня. ... Норберт, промчавшийся через анфиладу комнат, и грохот захлопнувшейся за ним двери... Тишина. Торопливые шаги мамы, и её стройная фигурка исчезает в бабушкиной комнате. Опять голоса: — Мама, ты что с ума сошла! Что ты натворила? — Ах, так ты уже в курсе дела? И считаешь меня виноватой? — Мама, я знакома с этой девушкой и с её семьёй тоже знакома. Великолепные, образованные люди... и Софи.. она просто изумительна, и так любит брата. — Господи, Шанталь, и ты туда же. Как вы оба не понимаете, что такое кровосмесительство — грех. — О чём ты? — Почитай внимательно Ветхий завет, тогда может поймёшь меня. Бог, их бог, объявив этот народ избранным, потребовал взамен беззаветной преданности себе, а потом, чтобы испытать Авраама, повелел ему убить собственного сына и что? Тот взял нож и пошёл убивать. Что же это за нравственность? Как они относятся к своим ближним? К своей собственной семье, к детям, если прихоть божья для них важнее всего? И ты желаешь такую жену своему брату? — Мамочка, так ведь Ветхий завет написан про иудеев, а они — католики, а значит живут по Новому завету, по библии, как и мы. — Вот именно. А что написано в библии? Почитай и слушайся родителей, а твой брат... дверьми хлопает. — Мамуля, ты никак в еретики записалась? — Это почему? — Да потому, что себя выше бога поставила. Если бог самодурствует — можно и проигнорировать, а твои пожелания — непреложный закон. Собственного сына за непокорность из дома выгнала. Что делать то будем? — Шанталь, я знаю твой острый язык и знаю, что ты Норберта любишь больше чем Антуана, но знай — сегодня ты меня не переспоришь. Если женится на этой... Софи... он мне больше не сын. Молчание в соседней комнате затянулось надолго. И опять сердитый мамин голос: — Это твоё окончательное решение? — Окончательное и бесповоротное. — Ну и оставайся одна... со своим Антуаном. ... и опять, второй раз за вечер, грохот захлопнувшейся двери. Вечером перед сном мама, как всегда, пришла пожелать мне спокойной ночи. — Мамочка, а что там за скандал у бабушки с дядей Норбертом? — А ты, хитрюга, подслушивала? — Да нет. Дверь в комнату была открыта, а вы так громко кричали... А кто на самом деле прав? — Откуда мне знать. Другое важно: есть грань между послушанием и свободой выбора, и родители не имеют права эту грань переступать. Даже, если с решением детей не согласны. Помоему, сын важнее принципов. — А со мной, когда вырасту, ты тоже будешь соблюдать эту грань? — Безусловно. Дороже тебя, моё чудо, у меня никого нет. — А что будет с дядей Норбертом? — Постараюсь со временем как-нибудь уладить. Бабушка человек упрямый, но умный, а умные люди умеют находить компромиссы. Не знаю, как они пришли к компромиссу, но Норберт женился на своей Софи, и они вместе с детьми, моими кузенами, раз в год на Рождество посещали Франческу. Мы сидели в большом зале все вместе, и всё же отдельно. Самодовольный дядя Антуан крутился всё время около бабушки. Не понимаю, за что она его так любит. Я лично не в состоянии говорить с ним более пяти минут. — Ну что, мадемуазель, как дела в театре? Наслышан, начитан про твои успехи. Скоро даже спать будешь в лавровом венке. Давай, трудись дальше во славу имени, которое носишь. Что можно ответить на такое приветствие? Вежливо поблагодарить и уйти в противоположный угол зала. Только в какой? В одном сидели мама и дядя Норберт. Она нежно обвила его шею и что-то нашёптывала в ухо. Он весело смеялся и похлопывал её по руке. Этот угол уже занят. В другом кузены, потягивая из тонких, хрустальных бокалов шампанское, громко хохотали. Безусловно речь шла о дамах, а значит моё присутствие в этом углу тоже не желательно. А вот там..., с достоинством выпрямившись на стуле, одиноко скучала Софи. Ей, как и маме, было слегка за сорок, но свежее лицо, стройная фигура и дивные карие глаза были попрежнему привлекательны. Заметив, что я направилась в её сторону, Софи улыбнулась и поманила к себе. — Присаживайся. Дай посмотреть на тебя вблизи, не только на сцене. — А ты видела меня на сцене? Когда-то, впервые познакомившись с ней, я обратилась к новой родственнице на Вы. Тогда они ещё не посещали бабушкин дом, и мама привезла меня к ним в отель. Работа Норберта, связанная с постоянными разъездами, позволяла им лишь изредка посещать Париж. Останавливались они всегда в одном и том же отеле и всегда в одних и тех же номерах. Услышав вежливое Вы, Софи удивлённо вскинула брови, и, вопросительно взглянув на маму, спросила: — Елена, ты уверенна, что хочешь обращаться ко мне так официально? — Не знаю. Я думала, так будет вежливее. — Ты называешь своего дядю тоже на Вы? Вот видишь. А я твоя тётя, значит ко мне тоже можно обращаться на Ты. Так, одним взмахом руки, Софи заложила фундамент нашей дружбы. А сейчас я разглядывала её маленькие, ухоженные ручки с пухленькими пальчиками, заострёнными к ногтям. В отличие от второй тёти, жены Антуана, она знала толк в украшениях, но никогда ими не злоупотребляла. На правой руке — обручальное кольцо, на левой — всегда что-то особое с красивым камнем в изысканной оправе. — Мы в Париже уже целую неделю, но знали, ты очень занята, и не хотели тревожить. Твоя мама отправила нас в первый же вечер в театр, а потом мы от туда уже не выходили. Смотрели вашу Евгению три раза. — Ну и как? — Впечатление потрясающее. Я читала Бальзака и пьесу видела в разных исполнениях, но у вас... Ты знаешь, я не сентиментальна, но в конце чуть не заплакала от досады. Надеялась: на этот раз девочке повезёт. Ты вселила в меня надежду. Потрясающе! Лекок играл тоже блестяще, правда не всегда за тобой поспевал. — Это самый замечательный отзыв за последнюю неделю. Именно этого мы и хотели — дать надежду. — А ещё мне очень понравился Жак Малон. В его исполнении непутёвый кузен вызывал такую симпатию! Он так смотрел на Евгению... Казалось, любит по-настоящему. Он должен был одуматься в конце пьесы и вернуться к ней. Правда сомневаюсь, что Бальзак был бы от такого конца в восторге. — Ладно, хватит обо мне и о театре. Расскажи лучше о ваших путешествиях. Где вы в этом году побывали? — Что касается Норберта, легче перечислить где он не был. Я сопровождаю его только, когда действительно интересно. Вот летом мы три месяца провели в России. Он с компаньоном затеял там какую-то серьёзную коммерцию. В Москве жили, потом в Петербурге, под конец даже до Архангельска добрались. — Ой, как интересно! Расскажи подробнее. Что там за культура? — Города очень разные. Петербург — это уже Европа, только пышнее и наряднее, а вот Москва... Боже, какие церкви, соборы. У нас таких нет. — Разве они не христиане? — Христиане, но не католики и не протестанты. Они называют себя православными, последователями Византии, и все обычаи, церковную архитектуру, иконопись переняли оттуда. Такая красота, аж дух захватывало. — Литература у них тоже очень интересная. Один из приятелей Шарля сделал в последнее время несколько переводов... У меня даже появилось желание русский язык выучить, чтобы самой читать... — А это хорошая идея. Безусловно в ближайшие годы поедете туда на гастроли. Всегда интереснее путешествовать, зная язык страны. Закончить разговор не удалось. Перебив саму себя, Софи указала глазами на семейную группу, собравшуюся в нескольких шагах от нас. Мама и Норберт, присоединившись к бабушке и Антуану, что-то им оживлённо рассказывали. — Смотри, — прошептала она мне в само ухо, — как упорна природа. Пару лет назад в Мадриде Норберт повёл меня в музей Прадо. Там есть целый зал портретов семейства Альварес. Когда их видишь всех вместе: бабушку, Марию, Антуана и твою маму — это особенно бросается в глаза. Вроде все разные, но порода... одна. Все с одного дерева. А мой муж в эту компанию уже не вписывается. — Как и мы, новое поколение. Посмотри на веселящихся кузенов и на меня. Ничего от прадского дерева не осталось. — Вот и хорошо. Пора природе придумать нечто новенькое. В детстве меня сильно огорчала непохожесть на маму, бабушку и Марию. Все трое казались сказочно красивыми. Сегодня эти сожаления остались далеко позади: то, что ежедневно показывалось в зеркале, меня вполне устраивало. — Елена, а что это твоего мужа не видно? Я пробежала взглядом по залу: действительно, куда спрятался Шарль. Как он чувствует себя в кругу моих родственников? И, распрощавшись на время с Софи, отправилась на поиски мужа. Он, как джин из бутылки, выскочил откуда-то из толпы и тут же был перехвачен веселящимися студентами, моими кузенами. Услышав обращённый к нему вопрос, почесал затылок, преувеличенно наморщил лоб и, слегка пожав плечами, что-то ответил, взорвав группу новым приступом смеха. За него не стоило беспокоиться. В любом обществе Шарль рано или поздно окажется в центре внимания. Присев в кресло в дальнем углу зала, я наблюдала за людским муравейником, находящемся в постоянном движении. Маленькие группки собирались на пару минут, чтобы тут же распасться и двинутся дальше. Казалось, в этот вечер всем было хорошо. По диагонали от меня, удобно расположившись на своём королевском троне, бабушка с одобрением и гордостью взирала на порождённый ею народ. Все эти умные, красивые, одарённые люди произошли от неё. Так что же такое бессмертие? Картины, скульптуры, симфонии, остающиеся после смерти творца, или множество новых людей, несущих наши частички в будущее? Мы встретились с бабушкой глазами. Она улыбнулась, я ответила короткой пантомимой: сняла воображаемую шляпу и отвесила низкий поклон. Уловив смысл театрального жеста, королева, охватив пространство щедрыми, дарящими благо руками, благодарно склонила голову. Глава 6 Репетиции Пышки. На этот раз все довольны полученными ролями. Жак играет господина Луазо, хитрого, жизнерадостного субъекта, продающего самое дрянное вино в Париже. Его шаро-образный живот, красная физиономия, обрамлённая седеющими бачками и плоские остроты, изредка перемежающиеся с удачными, хорошо известны в деловых кругах. Элиза с энтузиазмом репетирует роль его жены — полной, энергичной женщины, имеющей обо всём своё особое мнение. Анри утонул в вольнодумце Корнюде, а я — в Элизабет Руссе — Пышке. Внешне всё выглядит благополучно. Но в каждой пьесе есть два течения: надводное и подводное. Надводное — это сценарий, качество игры, одобрение или неодобрение режиссёра, а подводное — это мы, наши взаимоотношения друг с другом. Перед первой же репетицией Жак, отозвав меня в сторону, устроил настоящий разнос: — Я не хотел портить тебе настроение перед Рождеством, тем более, ты была пьяна от успеха, но сейчас хочу кое-что высказать. На последних пяти спектаклях ты, подруга, повела себя просто безобразно. Могла бы предупредить, что меняешь трактовку, а не делать это по-секрету от коллег. Ладно, с Лекоком вы всё дома, по-семейному обговаривали, но нам то каково. Каждый день — как на раскалённых углях. Если ты и в этом спектакле собираешься вести себя так же — то уж лучше я сразу откажусь от роли. Это был наш первый разговор наедине после «мансарды». Последние полгода, играя в Свободном театре», он категорически избегал встреч вне сцены. Объективно говоря, мне не за чтобыло на него обижаться, тем более после разговора с Элизой, но необъективно... Кто сейчас презрительно смотрит на меня, обвиняя в предательстве? Жак или кузен Гранде освобождается от опрометчивых обещаний, данных в юности? Кто мы сейчас? Или он уже вошёл в роль господина Луазо, заранее презирая Пышку? — Жак, мне очень жаль, если ты испытывал трудности на последних спектаклях, но именно в них ты превзошёл самого себя. То, как ты импровизировал — было гениально. — Понимаю. Лесть — самое действенное оружие, если хочешь выбить противника из седла. — А мы — противники? — Когда-то мы были друзьями, но теперь... не более, чем конкуренты. И я никому не позволю ни заталкивать себя в тёмный угол, ни сажать на горячие угли. Резкость и категоричность тона застали меня врасплох. Через полгода в Одеоне, в окружении чужих людей, я бы восприняла эти слова как данность, не имеющую никакого отношения к чувствам, но Жак... Почему-то от близких мы ожидаем гораздо большего, чем от чужих. Чужим мы прощаем безразличие, и даже хамство, чужие могут забыть наш день рожденья или поздравить на месяц позже, чужие могут категорично ставить свои требования и условия... Но свои... от них мы, по нелепой привычке, ждём понимания и самоотречения. Жак сам объявил себя чужим. — Хорошо, мёсье Малон, я учту Ваши пожелания и в будущем обязуюсь заранее согласовывать свои действия с режиссёром, который, если сочтёт нужным, будет Вас о них информировать. Набежавшая тень на секунду стёрла высокомерие с лица Жака, но тут же рассеялась, вернув ему прежнее высокомерие. — Я рад, мадам Альварес, что мы обо всём договорились. Что с ним? Какие неприятности настигли его на это раз? Ответ я получила пару недель спустя. Надевая пальто в гардеробе, не заметила подошедшей сзади Элизы и нечаянно толкнула её локтём в живот. Элиза громко вскрикнула и закрылась руками. — Ой, прости. Я тебя не заметила. Очень больно? Подруга, всё ещё прижимая руки к животу, отрицательно помотала головой. — Мне не больно, но ему... — Как, ты... беременна? — Угу. Уже четыре месяца. Пойдем, провожу тебя немного и всё расскажу. — Как здорово. А можно спросить кто отец? Лицо Элизы вспыхнуло возмущением: — Как это кто? Конечно Жак. Он переехал ко мне через неделю после подписания контракта. Попросил о помощи. Сказал, один не справится с алкоголем, а если я буду рядом, может и обойдётся. Вначале поселился, как сосед, ну а потом... Сама понимаешь. — Но он хоть рад ребёнку? — Сперва рассердился, а потом привык к этой мысли. Поэтому доиграю этот сезон и всё. — Но ведь через год вернёшься? — Не вернусь. Никогда больше не вернусь. Подумай сама, что будет с ребёнком, если родителей никогда дома нет. Днем — на репетициях, вечером — в театре, а ребёнок где? В лучшем случае у бабушки с дедушкой, а в худшем — у какой-нибудь гувернантки. Тогда и рожать незачем. Мать должна быть дома. — Это идея Жака? — Но я с ним совершенно согласна. Сказал, когда уйду из театра, поженимся. Мне то всё равно, а он не хочет, чтобы ребёнок бастардом рос. — А не жалко? Ты ведь из нас самая талантливая? — А чего жалеть? Слава, аплодисменты, новые роли — это конечно здорово, но мне лично важнее Жак. Ладно, я побежала. К обеду нужно ещё кое что купить, а то хозяин скоро придёт, а есть нечего. Но Элиза не побежала, а плавно поплыла по запруженной прохожими улице, бережно охраняя наполненный драгоценной жизнью живот от опасных столкновений с внешним миром. Так вот почему Жак такой нервный и желчный. Но хорош! Зачем искать Пенелопу, когда можно сотворить её из Элизы? Знала бы, бедная девочка, что ожидает её в будущем. Она дома с ребёнком и хозяйством, а он — по нимфам да цирцеям. Вспомнилась убеждённость подруги: «Зачем рожать ребёнка, если времени на него всё равно не будет?» А как было у моих родителей? Оба — целыми днями в театре, летом — месяцами на гастролях, а я — с бабушками. Не случайно в детских воспоминаниях родителей практически нет. Вернее они витают где-то в отдалении, как прекрасный символ. Ну и что? Значит лучше, чтобы меня не было? В памяти всплыли сцены из Рождества. Бабушка в окружении порождённого ею народа. Новые поколения, несущие её частички в будущее, и каждая из этих частичек — на вес золота. Графиня, вернее дорогая прабабушка, поверьте на слово, этот мир был бы гораздо беднее, не появись Вы, даже, если Вашему отцу пришлось ради этого совершить грех. Мысли вернулись к бабушкам. Что-то давно их не навещала. Именно обоих вместе. Времена, когда они делили пальму первенства в семье, давно прошли. Постарев и помудрев, поняли, что друг без друга всё равно не обойдутся и решили окончательно и бесповоротно сдружиться. Живя в десяти минутах ходьбы друг от друга, они по чётным дням пили чай у Франчески, а по нечётным — у Лизелотты. Вычислив, где они сегодня, прихватила в кондитерской их любимые пирожные и помчалась в гости делиться новостями. Положение Элизы огорчило обоих. Лизелотта, привыкшая первой высказывать свои суждения, тут же усомнилась в правоте будущей матери: — Как же так? Если отдавать ребёнка на воспитание бабушке, так лучше его вообще не рожать? Глупость какая-то. Бабушки часто получше матерей будут. И это правда. В молодости у женщины столько проблем, столько забот помимо детей... а в старости... только в них и радость. — А что за проблемы у тебя были в молодости? — Много, и одна сложнее другой. Мой муж, твой дед, знаешь каким был... твой отец в него пошёл... статный, красивый, талантливый и женщин очень любил. А уж они-то ему вообще проходу не давали. И тебе баронессы, и герцогини, про певиц и артисток и говорить нечего. А я что? Хорошенькая конечно, но простовата. А тут ещё одна беременность за другой. Знаешь как я каждый раз расплывалась? Самой на себя смотреть противно было. Как тут мужа дома удержишь. И разработала я план: чем по чужим салонам таскаться, пусть у себя весь бомонд принимает. Решила организовать у нас дома самый модный в Берлине театрально-художественный салон. Диеты, туалеты, хороший повар — это ещё полбеды, а вот себя образовать, чтобы в обществе простушкой не выглядеть... Трое маленьких детей дома, а я по ночам книги, газеты читаю, языки учу, светские манеры отрабатываю. Свекровь возмущается — это здесь, в Париже женщины давно свободно мыслят, а у нас в Берлине — кухня, церковь, дети и больше ничего. Слава богу, хорошую гувернантку нашла, чтобы днём на выставках побывать, а вечером в театр выскочить. — Ну, а с салоном получилось? — Ещё как! Поначалу муж не верил в мою затею, боялся, что опозорю его, а уж потом... сам ревновать начал. На шаг не отходил. А вот дети как-то мимо меня проскочили, слишком быстро выросли. По настоящему нарадовалась только с тобой. Ничто не мешало и не отвлекало. Франческа молча разглаживала скатерть своими тонкими изящными руками. — А ты, бабуля, что скажешь? Не согласна? — Наоборот. Полностью согласна. Мне тоже не легко пришлось после замужества. Мне тогда едва восемнадцать исполнилось, и переехали мы с мужем в Париж. Уже через месяц почувствовала, что не достаточно хороша для французской столицы. Понимаешь, Мадрид по сравнению с Парижем — глухая провинция. Это там я чувствовала себя принцессой, а тут... скатилась в провинциальные барышни. По французски говорю с сильным испанским акцентом, туалеты года три, как в Париже из моды вышли. Театры, живопись, передовая литература... бог мой, сколько нагонять надо было, чтобы не превратиться в этакую, как ты говоришь, Пенелопу. И никого из близких рядом. Подруги все там остались. Мама, Мария, папа... А тут и первая беременность... Я насторожилась. Сейчас главное не спугнуть бабушку. Значит была у неё мама, не умерла в молодости, и вспоминает о ней бабушка, как о близком человеке, только говорить не хочет. — Ну, а что с тобой дальше было? — Да что могло быть? Так и крутилась между беременностями и самообразованием. Даже частную учительницу французского наняла, чтобы от акцента избавиться и гувернантку для детей, чтобы на себя, да на мужа время хватало. — Но ведь сделала из себя первоклассную парижанку? — Сделала, только значительно позже. Тогда другие заботы отвлекли. Семья взорвалась и рассыпалась на куски. Папа, потерявший почву под ногами и все средства к существованию, нуждался в моей поддержке не только моральной, но и финансовой. Тогда-то и начались мои первые разлады с мужем... Ладно, всё это далёкое прошлое. От тебя дополучила всю ту радость, что не добрала с собственными детьми. Спасибо богу, что он твою маму не только талантом наделил, но и честолюбием, а то мы с Лотти к тебе и не подобрались бы. А Элиза твоя о своём решении ещё пожалеет. Бабушки переключились на воспоминания о своих, мне давно известных, геройских подвигах по выращиванию любимой внучки, её шалостях и болезнях, а я вернулась к размышлениям о Жаке. Почему он стал таким? Подтолкнул ли его к этому мой нелепый поступок, или с возрастом взяла своё истинная натура? За эти несколько лет мы все сильно изменились. Посмотреть хотя бы на доблестного Анри. Розали Депрео, свалившаяся когда-то в его надёжные руки, полностью отбила ему охоту к юмору. Теперь он открывает рот только на сцене. В остальное время, подобно молодому Байрону с лицом микеланджеловского Давида, меланхолично взирает на разочаровавший его своим несовершенством мир. Про него могу сказать одно: Анри, остановись в своём развитии. Ты — прекрасен! А вот нам, грешным, предстоит ещё долго плутать по дорогам в поисках своего совершенства. Интересно, какими мы станем к годам тридцати? Так хочется надеяться, что Жак придёт к согласию с самим собой, а Элиза одумается и вернётся в театр. Иначе мир потеряет большую актрису. Репетиции Пышки продолжались. Причём именно подводные течения обостряли пьесу до предела. Супруги ЛуазоМалоны в дилижансе душили своим презрением Элизабет Руссе, а за кулисами — Елену Альварес. Остальные участники, не понимая истиной причины, заряжались витавшей в воздухе агрессией и боролись каждый против каждого. Забавно, но именно эта, рассеянная в воздухе агрессия, придавала пьесе особую остроту и психологическое правдоподобие. Антуан и Лекок, наблюдая за действием со стороны, временами снижали накал страстей, опасаясь настоящего взрыва, иногда чуть-чуть раздували огонь, придающий блюду особую пикантность. Причины происходящего они трактовали по разному. Антуан винил в расколе мой контракт с Одеоном, который коллеги расценили как предательство общих идей. Лекок понимал суть происходящего значительно лучше, ошибаясь, правда, в нюансах. Два года в школе он видел нас с Жаком постоянно вместе, считая, как и все прочие, влюблённой парой. Грусть и кокетство Элизы тоже не обошли его внимание стороной. Себе в этой истории он, по-видимому, выделил роль разрушителя и захватчика, но никогда на эту тему не заговаривал. Он видел в нас роковой треугольник, где третий — либо лишний, либо — козёл отпущения. Как-то дома, с сочувствием подливая мне горячего чаю, он поинтересовался: — Ну что, до премьеры дотянешь? — Дотяну, если только супруги Луазо не отравят в дороге. — Не отравят. На обратном пути в дилижансе тебя уже никто ничем не угостит, а по пути туда все едят твои продукты. — Прекрасный, жизнеутверждающий сценарий. — Я бы сказал, жизнеобещающий. Мы дотянули не только до премьеры, но и до середины сезона. Спектакль стал настоящей сенсацией, украсившей наши головы звёздным ореолом. Мама, радостно сверкая серо-голубыми глазами, нежно подтрунивала: — Элли, как ты можешь спать? Ведь ты светишься теперь даже в темноте. Вскоре после премьеры нас с Шарлем пригласили на званный вечер, где присутствовал весь цвет парижского искусства. Лекок, тут же попав в окружение знаменитостей, бесследно исчез, оставив меня одиноко прозябать в углу. Из угла меня вытащила Сара Бернар. В жизни, вблизи я видела её впервые, и вид великой актрисы поразил своей оригинальностью. Рыжеватые волосы спереди были заколоты в какой-то причудливый кок, уравновешенный сзади точно таким же архитектурным сооружением. Ярко накрашенные губы, сильно напудренное лицо и вся подведённая, как маска. А вот фигура была потрясающей: тонкая, гибкая и двигалась как в танце. — О, восходящая звезда, Елена Альварес. Мне, надеюсь, представляться не надо. Дайте-ка Вас рассмотреть. На сцене Вы мне не очень нравитесь, а вот в жизни... что-то в Вас действительно есть. Хотя Ваша Евгения вначале мне совсем даже не понравилась. Вялая какая-то, скучная. Потом Вы, правда разошлись. Очень даже неплохо её оживили, но некоторые сцены так до конца и не поняли, и образ в целом, с моей точки зрения, не получился. Ну что, обиделись? Завтра в суд за клевету подадите? — Нет, не подам. Суды в наше время дорого стоят, а послушать интересно. А что Вы думаете о Пышке? — Об этой-то девице... Я бы сделала её иначе, но это ваше творчество... Я для Вас только зритель. Со всех сторон Бернар осаждали друзья и поклонники, постоянно перебивая и отвлекая от разговора. Она с любопытством следила за моей реакцией, ожидая неминуемого взрыва. Возможно пол года назад я и взорвалась бы, вернее, бросив на ходу пару язвительных замечаний в адрес её экзальтированной внешности, гордо задрала бы голову и удалилась расстраиваться в свой угол, но сейчас мне искренне хотелось знать её мнение. Дело в том, что последнее время у меня самой появились сомнения в абсолютной правильности наших теорий. «В жизни люди, если они не истерики, не орут, не рвут на себе волосы и не носятся из угла в угол. Тихо и спокойно можно значительно полнее выразить то, что чувствуешь» — любимое поучение наших режиссеров, приучавших нас играть чуть ли не шёпотом. Но ведь люди то бывают разными. Одни нашёптывают свои чувства, а другие кричат о них на всю улицу. Хотелось бы всё же подробнее узнать у Бернар, что она имела ввиду. Сара, поймав на лету мои мысли, ехидненько улыбнулась и закончила беседу: — Если Вас заинтересовали мои замечания, готова принять Вас завтра... где-нибудь около трёх. Здесь поговорить всё равно не дадут. Назавтра, приодевшись в пику Бернар по возможности скромно и по деловому, я отправилась к ней с визитом. В квартире царил жуткий хаос: повсюду были разбросаны ковры, пуфики, пледы, безделушки и всевозможные экзотические предметы, привозимые с гастролей. Сара возлежала на громадном диване в ослепительно белом платье и немыслимом боа фиолетового цвета. Как и вчера, голову украшали два рыжих клока, один спереди, а другой сзади. — Меня заинтересовало Ваше замечание по поводу Пышки. — Что, самолюбие покоя лишило? — Нет. Профессиональный интерес. Мне самой не всё нравится. Чего-то в этой даме не хватает. — А не хватает в ней прошлого и будущего. — Это как? — Да очень просто. Вы играете на сцене только три дня из жизни мадемуазель Руссе, забывая при этом всё остальное. Вы увлеклись её чувствами, упустив смысл профессии. Она действительно на минутку почувствовала себя порядочной женщиной, чем-то вроде швеи или горничной, по необходимости принятой в круг высокопоставленных господ, готовых разделить с ней её же трапезу и похвалить за патриотизм и политические убеждения. Но все прихваты, впитанные мадемуазель Руссе с ранней юности: походка, движения, манера говорить и кушать — это прихваты продажной женщины, а у Вас она — горничная. Бернар, гибко изогнув тонкое, пластичное тело, выудила из вазы аппетитное, румяное яблоко, поднесла его ко рту, но не надкусила, а, задержав на секунду в руке, бросила мне. — Повторите сцену завтрака в дилижансе. Я откусила кусок яблока, наслаждаясь его сочной, ароматной мякотью. Сара даже охнула от возмущения: — Посмотрите на себя в зеркало! Набили полный рот яблоком и двигаете челюстями... даже щёки раздулись... Фу, совершенно не эротично. Ведь Вы сидите в окружении бывших или будущих клиентов! Смутившись, я чуть не подавилась проклятым фруктом. — Знаете, как едят яблоки в присутствии посторонних женщины разных сословий? Торговка с рынка смачно с хрустом грызёт его, маркиза— лакомится, а продажная женщина надкусывает от яблочка. Повторив изящный изгиб, Бернар выудила второе яблоко: — Смотрите, как профессионалка соблазняет клиентов. Её губы, ставшие пухленькими и розовыми, на секунду обнажили остренькие белые зубки и приникли к фрукту, как в поцелуе. Она откусила крошечный кусочек, не спеша чуть заметно подвигала челюстями и проглотила, томно демонстрируя нежный изгиб шеи. — Ну ка, «надкусите от яблочка», только не переигрывайте. Вы не должны выглядеть слишком продажно. Мне пришлось ещё пять или шесть раз «надкусывать» фрукт прежде, чем сок перестал брызгать на юбку, а губы бесформенно расплываться по скользкой, глянцево-розовой кожице яблока раздора. — Ну ладно, завтрак в дилижансе ещё пол беды. Это хорошо видно только из первых рядов, хотя Ваших коллег настроит на нужную волну. Женщины почувствуют запах опасности, а мужчины — аромат желания, но это ещё не главное. Покажите, как Вы выходите из дилижанса и направляетесь к постоялому двору и не забывайте о профессии. Я двинулась по мягкому ковру, соблазнительно покачивая бёдрами. Вдогонку послышался крик отчаяния. — Господи, зачем Вы вихляете своим тощим задом, как последняя портовая дешёвка! Сара цветастой бабочкой вспорхнула с дивана, задрала полы ослепительно белого пеньюара, обмотала бока толстым пушистым пледом и поплыла... Движения, совершаемые её бёдрами, не поддавались описанию. Можно было лишь представить чувства, возникающие у смотрящих ей вслед мужчин. — Ну что стоите, открыв рот! Утолщайте бока и следуйте за мной!... Господи, да такой походкой можно отбить аппетит даже в дрезину пьяному извозчику! Бернар, на секунду прервав круговращение задним фасадом, с сомнением оглядела меня с головы до ног и вынесла окончательный приговор: — Мадам Альварес, оставайтесь актрисой. На сцене будете регулярно получать свой гонорар, а как жрица любви... точно умрёте с голоду. Куда Вы подевали свою эротику? Посмотрите внимательно на мои ноги. Сара задрала юбку, показывая, как переступают при ходьбе ноги, сообщая округлым бокам вращательное движение. — Поняли? А теперь пошли! Втечении получаса мы топтались по комнате, соблазняя зеркала и пуфики, пока вконец обессилевшая госпожа Бернар не плюхнулась на диван: — Всё. На сегодня хватит. Тренируйтесь дома на муже. Должна же и от мужчин быть какая-то польза. Когда будете готовы, напишите записку. Приеду в театр на Вас посмотреть. Я стояла перед зеркалом и училась эротично поедать фрукты. В процессе обучения выяснилось, что спелые груши и персики полностью непригодны для соблазнения мужчин. Они, при первом же прикосновении обильно истекая соком, заливают не только подбородок, но шею и декольте. Эти упражнения можно проводить только при наглухо замурованных окнах и дверях, иначе внимание особей мужского пола, — мух и ос со всех окрестностей Парижа, может нанести серьёзный ущерб красоте соблазнительницы. В конце третьего дня пришлось остановить выбор на твёрдых, высохших за зиму яблоках, давно утративших свой аромат и вкус. Но не в них суть. Получить удовольствие от такого способа еды всё равно невозможно. После ужина мы с Шарлем уютно разместились в малой гостиной. Он, прихлёбывая Бургундское из тонкого, хрустального бокала, погрузился в мировую политику. Я, не имея ни малейшего желания забивать голову каждодневной прессой, решила продолжить упражнение. Выбрав из вазочки самое твердое и гладкое яблоко, сложив губы бантиком, расположила их на глянцевой поверхности давно потерявшего летний аромат фрукта, и бросила, как учила Сара, «случайный» взгляд на сидящего напротив мужа. О ужас! В этот момент ему зачем-то понадобилось обсудить со мной политические интриги и он оторвал глаза от газеты... Удивление, непонимание, растерянность... и бледно-розовая краска разлившись по лицу, потекла на незащищённую галстуком шею. — Нене... ты... да конечно... ты права. Я последнее время слишком увлёкся делами... Сара Бернар! Вы не только великая актриса. Вы великая женщина! В этот вечер я впервые окунулась в «голубое озеро» моей прабабушки, и это было замечательно. На сцене я постепенно вводила новые элементы в образ Пышки. Как и предсказывала мадам Бернар, после эротического поедания яблока обстановка в дилижансе резко обострилась. Большая часть труппы откровенно забавлялась. Анри, восхищённо вскинув брови, чуть слышно прошептал: — Убедила. Плачу не глядя! А супруги Малон-Луазо откровенно злились. За кулисами Элиза, поджав припухшие от беременности губы, ворчливо произнесла: — Зачем так вульгарно переигрывать? Зрители всё равно не видят, а для нас не обязательно стараться... хотя... или хочешь вернуть проигранную позицию? То-то ты постоянно жмёшься толстыми боками к Жаку. — Я жмусь не боками, а килограммами ваты, и не к Жаку, а к господину Луазо. Элиза, ты сама актриса, собираешься выйти замуж за актёра, зачем же путаешь роль и реальность? — Не заговаривай мне зубы. И без тебя они постоянно болят. А касательно ролей... Сама знаешь, как часто в нашей среде меняют партнёров. Как раз после таких спектаклей. Жак, ехидно осматривая мои плавно покачивающиеся при ходьбе объёмы, сложенные бантиком губы и брошенные украдкой рассеянные взгляды, тихонько шипел вслед: — Ух ты! Мадам Альварес осваивает новую профессию! Многообещающая карьера! А вот зрители были явно довольны. Судя по аплодисментам, букетам цветов и отзывам критиков новая Элизабет Руссе пришлась им по вкусу. Месяц спустя я написала Саре Бернар короткую записку, приглашая заглянуть в театр. Через три дня она появилась в зале. ...Осторожно спускаясь по шаткой лестнице, выхожу из дилижанса. Уже ступив на последнюю ступеньку, почувствовала резкий толчок, едва не сбивший меня с ног. Не уцепись в последний момент за поручень, лежала бы на деревянном полу сцены с разбитым носом. Какая неосторожность! Зацепиться подолом юбки за выступающую часть декорации... Обретя равновесие, оглянулась назад в надежде освободить юбку, и ...о боже... встретилась с торжествующими злорадством глазами Жака. Его правая нога по хозяйски разместившись на моём подоле, прочно прижимала его к полу. У него за плечом маячило подёрнутое тревогой лицо Элизы. Господи, что за подонок! Эту акцию мести он предпринял сегодня не случайно. Похоже, госпожа Бернар раструбила о своём намерении присутствовать на спектакле. Во всяком случае в зале тут и там мелькали знаменитые лица, обычно не жалующие нас своим вниманием. Ладно, о пакостности Малона я поразмышляю потом. Он хотел выбить меня из седла, доведя падение продажной девки до гротеска, но я должна в нём усидеть. Как учил Шарль перед выходом на сцену: «Детка, набери полные лёгкие воздуха, оттолкнись ногами и взлетай в роль» Я заполнила лёгкие воздухом, оттолкнулась и... освободив юбку, игриво погрозила господину Луазо пальчиком: — Какой же Вы, месьё, однако шалун! ...и, не оглядываясь назад, поплыла к «постоялому двору» плавно раскачивая на ходу тяжёлые, ватные бока. Спектакль мы доиграли до конца без особых происшествий. Зрители, не заметившие маленького отклонения от сценария, наградили старательных актёров положенными аплодисментами и цветами, но у меня на душе было мерзко и тоскливо. По дороге домой мы с Шарлем не обменялись ни словом. Уж он то, находившийся всё время в зале, не мог не заметить этой пакости. Покончив с поздним ужином, он, наконец, прервал молчание: — А твой Малон оказывается редкостная скотина. Вышвырну его из театра при первой же возможности. Да и Элиза, попав под его влияние, изрядно испоганилась. Жаль. Ведь талантливые ребята. — Шарль, а если бы они подставили подножку не твоей жене, а другой актрисе, ты тоже выгнал бы их из театра? — Во всяком случае сделал бы так, чтобы они ушли сами. Хотя твой нос мне важнее, чем чужой. Мне пришлось бы прикладывать к нему холодные примочки и любоваться раздувшейся картофелиной, но... как то уж больно противно. — Мне тоже. Хотя... насколько я знаю, театр — не исключение. Ради славы и денег люди во все времена не только травили друг друга, но и отправляли на эшафот. Не знаю, зачем мне в этот момент захотелось пофилософствовать. Скорее всего заговаривала Шарлю зубы. Странное, двоякое чувство: смесь злости и жалости. С чужими месть была бы сладка, но ведь это были свои... вернее когда то были своими. И каждому из них по своему плохо. Ладно Элиза... она всё равно хотела уйти из театра, но Жак... Если опять останется на улице — сопьётся окончательно. Но как можно быть такой дрянью! Зачем мстить другим за свои неудачи? Видя мою растерянность, Шарль махнул рукой и закрыл тему: — Ладно. Решай сама, как считаешь нужным. Только будь с ними осторожней. Не давай поводов для интриг и сплетен, которые они, при первой же возможности, продадут прессе. Подозреваю, деньги им скоро понадобятся. Я снова бреду через парк, где ещё недавно царствовала снежная королева. Неужели она капризна, как все женщины? Любовно украсила ветки хрусталём, подсветила янтарным светом, а потом, потеряв интерес к сотворённому чуду, бросила всё и сбежала в Лапландию. Уже целый месяц, ежедневно проходя этот путь к театру, я старательно обхожу лужи, сожалея об ушедшей в небытиё красоте. Почерневшие от безнадёжной наготы ветки, тянутся к серому небу, как тощие, высохшие руки нищих старух, выпрашивающих подаяние. В конце аллеи на мокрой, всеми забытой скамейке примостилась одинокая птица. Жак... нелепо поджав под себя ногу, согревал ладонью длинный, загнутый книзу клюв. Не хочу встречаться с ним глазами. Я ещё не готова ни к колкостям, ни к вежливому «ни о чём». Отвернув голову в сторону гордо вышагивающего рядом с хозяйкой пуделя, попыталась проскочить мимо. Глупо! Он специально сел на эту скамейку, зная мой ежедневный маршрут. Покинув наблюдательный пост, Жак решительно двинулся навстречу. — Привет. Вот сижу и дожидаюсь... Хотел извиниться за вчерашнее. Прости, повёл себя, как последний идиот. — Только вчера? — Ну может и не только. Прости. — А если бы я не удержалась на ногах и шлёпнулась? — Не шлёпнулась бы. Я успел бы тебя поймать. — Не успел бы. У тебя на плече висела Элиза. Ну да чёрт с вами. Надеюсь, до конца сезона не убьёте. Я хотела обойти Жака и, как можно скорее, бежать дальше, но он, вцепившись в моё плечо, удержал на месте. — Подожди минуту. Давай поговорим. Ты не представляешь, как мне тошно. Выть хочется. Выглядел он и в самом деле отвратительно. Кожа, ещё недавно гладкая и чистая, покрылась мелкими прыщиками и порезами. Тусклые, поредевшие волосы торчали неухоженными клочьями, а на засаленном воротничке рубашки не хватало верхней пуговицы. Сердце заныло от жалости. Жак, милый Жак, почему ты так опустился? — Хорошо. Пойдём в «Старую мельницу». На улице слишком холодно. Столик у окна, свидетель и хранитель наших былых секретов, одиноко скучал в углу. Мы заняли давно отвыкшие от нас стулья и заказали утративший былой аромат кофе. — Так что же с тобой происходит? — Всё сразу и ничего хорошего. Прежде всего театр. Вообще не понимаю, что я там делаю. Глупый, юношеский идеализм! Святое искусство, самовыражение, просвещение масс... Чушь какая то. Кого мы просвещаем? Прыгаем по сцене, как клоуны... на потеху публике и всё. — Но ведь то, что мы играем, заставляет людей задумываться... — О чём? Все эти проблемы стары, как мир. Ну изображаешь ты мадемуазель Руссе, продажную девку, на минуту возомнившую себя порядочной женщиной. Ну использовали её люди и вышвырнули, как пустую бутылку. Ты так выразительно хнычешь на обратном пути, вызывая сочувствие зрителей... Надеешься этим изменить мир? Да выйдя из театра, они забудут обо всём уже через полчаса. Господи, так было и будет всегда! Использовать и выбросить за ненадобностью. Сама знаешь, как это просто. Оторвав взгляд от полупустой чашки, Жак на секунду ткнулся мне глазами в лицо и тут же спрятался за занавеской ресниц. Нечистая совесть взорвалась красными пятнами на моих щеках. — Жак, я знаю, что поступила по свински. Прости, если можешь. — Могу, потому что всегда знал, что тебе не пара. Барышня с такой родословной никогда не вышла бы замуж за безродного бастарда. Просто тогда... на минуту в голове помутилось. — Прости... — Да что ты заладила... Я сам не лучше с Элизой поступил. Залез к ней в постель, потому что одному тошно стало, а она тут же и повязала меня по рукам и ногам. — А ты будто не знал, что от этого дети рождаются? — У умных женщин — не рождаются. Они знают, что делают, а эта дурёха... — Почему ты настоял, чтобы она театр бросила? — Я настоял? Да я её каждый день убеждаю после родов как можно скорее на сцену вернуться! Моя мать согласна помогать, да и её родители, если мы поженимся, ни в деньгах, ни в помощи не откажут. А она вбила себе в голову, что дитё без матери пропадёт, и ничего слушать не хочет. Совсем разум потеряла. — И что же делать со всем этим? — Ой, Элли, если бы я знал? Одно могу сказать твёрдо — пить, как мой отец, не буду. Выживу. А за хамство прости. Больше не повторится. В перерыве меня отловила Элиза. Зажав в углу округлившимся животом, она с ходу приступила к допросу: — Ну что, поговорила с Жаком? — А ты знала, что он собирается со мной разговаривать? — Конечно, знала. Мы всё согласовываем друг с другом. Вчера целый вечер промучились, как поступить. Твой всесильный муж может его за это даже из театра погнать. В углу стало душно и тесно. Господи, ну что они за люди, и почему не могут оставить меня в покое? Жили бы своей жизнью, может счастливее были бы. — Элиза, чего ты от меня ждёшь? Ничего с Жаком не случится. Шарль не собирается вмешиваться. Ну что вам не живётся? — Тебе легко говорить. Всё лучшее от жизни хватаешь. Брак по расчёту, лучшие роли, протекция, хвалебные статьи в прессе, а нам самим продираться приходится. — Поэтому и решила после родов в театр не возвращаться? — И поэтому тоже. На одном таланте далеко не уедешь. Знаешь, как я просила у Лекока и Антуана роль Гранде? Ведь она, можно сказать, для меня написана, до последней чёрточки близка и понятна. Даже ночами снилась... А вместо этого они навязывают мне беспризорного мальчишку, потому что Гранде для тебя предназначили. Ещё бы! Бальзак, гордость французской культуры! Кому ещё играть, как не госпоже Альварес! А Пышка... Антуан эту роль мне предложил. Я даже разучивать и продумывать её начала, и вдруг... Опять появляешься ты, и меня заталкивают в мадам Луазо. Она якобы мне больше подходит. Раскрасневшаяся, сверкающая глазами Элиза, напирая животом, все глубже затискивала меня в тёмный, душный угол. Я уже приоткрыла рот, готовясь возопить о несправедливости её обвинений, когда перед глазами выплыла сцена скандала с Шарлем: — Я хочу сыграть Пышку. — Но это невозможно. — Почему? — Да потому, что ... Воздух в углу окончательно иссяк... а подкосившиеся ноги отказались держать предательски отяжелевшее тело. — Элиза, пойдём сядем куда-нибудь. Здесь душно... и пахнет мышами. — А ты что, когда-нибудь их нюхала? — Не знаю. Пойдём сядем. Элиза тяжело опустилась на свёрнутый рулоном запасной занавес и продолжила обвинительную речь: — Во всём виноваты мои родители. Воспитали из меня наивную идеалистку. Призвание, талант, настоящая любовь... Лучше бы, как твои, вовремя объяснили, как правильно жить. Да и Жак не лучше. Такой же романтик: «Не хочу, чтобы сын, как я, бастардом рос». Для сына было бы лучше, если бы Жак, как наш Анри, влиятельную покровительницу нашёл. — А Анри нашёл? — А ты будто не знаешь. Он уже полгода состоит в любовниках у Сары Бернар. Она любит таких — молодых, красивых с южной кровью. Сперва возилась с греком, сыном посланника, потом с итальянцем, а теперь наш Анри удостоился чести. Вон какой имидж ему сотворила! Глаз не отвести. — А я ничего об этом и не слышала. — А ты вообще слышишь кого-нибудь, кроме себя? Бернар уже взяла его в свою труппу. Доиграет до конца сезона и поедет с ней на гастроли в Лондон. Считай, слава ему обеспечена. Она мастерски продвигает любовников — играя рядом, умеет их наилучшим образом напоказ выставить. Если нашему другу хватит ума не подсесть на наркотики, как предыдущие фавориты, считай схватил за хвост свою Жар-Птицу. — Могу тебя порадовать, с осени меня здесь тоже не будет. Перехожу в Одеон. — Ну и что? Придёт на твоё место другая такая же. У таких, как я шансов всё равно нет. Её скорбно опущенные углы губ, покрасневшие от жалости к самой себе глаза и заунывно-скрипучий голос вызвали приступ раздражения. — Послушай, Элиза, ну что ты без конца жалуешься? Если считаешь, без покровительства в театре не прожить, то не ной, а заведи себе влиятельного любовника. Вот родишь, отдохнёшь немного и вперёд. — С тобой всё ясно, подруга. Другого от тебя и не ожидала. Только зря время потратила. Счастливо оставаться. Немного отдышавшись, я побрела домой, пытаясь собрать воедино всё, что друзья выплеснули мне на голову. Почему, когда я взбунтовалась, требуя роль Пышки, Шарль не сказал, что она уже отдана Элизе? Почему, вместо этого, пригрозил провалом? Хотел выйти сухим из воды: жена струсит и согласится играть в Арапе? Зачем же, неделю спустя, отобрал у Элизы обещанную ей роль? Испугался домашнего скандала? Мы уже почти два года вместе, но я так и не поняла, что он за человек. А Элиза... злится на весь мир, живущий не по её законам. Тоже мне, святая мученица. Господи! Как я устала от этой человеческой толкотни! Почему нам друг с другом на этой земле так тесно? Вечером учинила Шарлю настоящий допрос. — Почему не сказал, что Элиза уже репетировала Пышку? — А она разве её репетировала? Я этого не знал. — Послушай, перестань морочить мне голову! Неужели не понимаешь, как это важно! Лекок аккуратно сложил газету, разгладив каждый сгиб и выровняв края. Опытный дипломат. Ни слова в простоте. Всё нужно продумать и взвесить, чтобы не попасть впросак. — Элиза, как и ты, мечтала получить Пышку, но мы с Антуаном никак не могли прийти к окончательному решению. Ему не хотелось утверждать твою подругу на эту роль. Опасался, она сделает её слишком сентиментальной, а я блокировал твою кандидатуру — хотел вместе сыграть Арапа. Так что вопрос до последней минуты оставался открытым. — Значит официального утверждения Элизы на роль не было? — Почему ты переспрашиваешь? Хочешь поймать на лжи? Повторяю ещё раз: она выразила желание сыграть Пышку, но мы сомневались. Только после твоих блестящих экспериментов с Гранде пришли к окончательному решению в твою пользу. И протекции с моей стороны здесь не было. Даже наоборот. Я с облегчением вздохнула, но Шарль, язвительно буравя меня глазами, перехватил инициативу. — А если бы узнала, что Элиза утверждена на роль? — Тут же отказалась бы от всех требований, — ответ, спонтанно выскочивший из полуоткрытого рта, столкнулся с насмешливым взглядом Шарля. — Однажды я уже задавал этот вопрос. Готова ли ты всю жизнь довольствоваться вторыми и третьими ролями, лишь бы не вызывать зависти у соперниц? — Всю жизнь нет. В Одеоне всё будет по другому, но здесь речь идёт о подруге. — А вдруг в Одеоне тоже с кем-нибудь подружишься? Опять начнешь отступать? Я чувствовала, как Шарль своей железной логикой загоняет меня в ловушку. — А как ты прожил свою жизнь? С лёгкостью переступал через трупы? — Что касается трупов... нет, не припомню. Трупов вроде не было, а вот обиженных на моём счету не один десяток числится. И не боюсь признаться — ни чуть об этом не сожалею. — То есть, считаешь правильным идти напролом, не считаясь с чувствами других людей? Использовать их, как герои де Мопассана, а потом выбрасывать за ненадобностью на помойку? Шарль нервно повёл плечами, как бы отмахиваясь от неприятных мыслей, и, отхлебнув остывшего чаю, продолжил свои поучения: — На днях ты слегка пофилософствовала о жестокости мира. Цитирую дословно: «Ради славы и денег люди не только травят друг друга, но и отправляют на эшафот». А вот один простой пример из истории: три сына борются за трон отца. Безусловно война ведётся не на жизнь, а на смерть. Мне лично, когда я читаю историю двухсотлетней давности, важно не то, как правитель пришёл к власти, а что он для государства сделал. Если содействовал прогрессу и процветанию — слава богу, что победил. А если развалил его, утопил в бессмысленных потоках крови — будь проклята такая победа. — И какое отношение это имеет к театру? — Самое прямое. Для меня хорошая литература, хорошая пьеса — это не только развлечение, но и возможность воздействовать на человеческую мораль. Не так, как это делает проповедник в церкви, навязывая готовые догмы. Мы даём зрителю шанс самому задуматься и принять решение. И мне безразлично, кто сыграет ту или иную роль и почему. Важно как он это сделает. Если сумел заставить зрителей думать, значит вышел на сцену не напрасно. Вот и решай, стоит ли всё время уступать своё место, и кто от этого выиграет, а кто проиграет. Всё, что Шарль проповедовал тихим, хорошо поставленным голосом, звучало стройно и убедительно, но рядом звенели возбуждённые, надрывные слова Жака: «Надеешься изменить мир? Да они выйдут из театра и забудут обо всём через полчаса». Так кто же из них прав? — А чему мы можем научить людей, показав Пышку? Напомнить, как жестоко и несправедливо использовать друг друга ради собственной выгоды? Все это давно знают, но делали и будут делать. — А тебе не приходило в голову, что умный человек сделает из этой пьесы и другие выводы? — Какие? — Когда я впервые прочёл новеллу, то увидел в ней две параллельные линии. Одна из них, та, которую ты назвала. И здесь я с тобой частично согласен. Кто-то выйдет из театра и через час забудет, а кто-то узнает в попутчиках Пышки себя и задумается. Но вторая линия, и она значительно интересней, — это мадемуазель Руссе. В ней тоже многие узнают себя, вернее свою готовность за пару минут призрачного признания и фальшивой благодарности жертвовать своими интересами, а потом часами обливаться слезами обиды. — Ты имеешь в виду людей, позволяющих себя использовать? — Совершенно верно. Причём эта игра возможна только при наличии двух партнёров — охотника и жертвы. Не нравится быть жертвой — не подставляйся. Умный зритель сможет сделать из этого правильный вывод: не давай себя использовать, не будь наивным дураком, тогда не придётся лить слёзы. Каждый может научиться относиться к себе с уважением, вне зависимости от того, как зарабатывает на хлеб. — Да ты всё с ног на голову перевернул! — Перевернул. Потому что ты, как Пышка, ещё не научилась себя уважать. Мучаешься чувством вины, готова без конца отступать в тень, лишь бы, так называемые друзья, были тобою довольны. Просила за Малона, а он... вместо благодарности подставляет тебе подножки. — Но как можно сыграть вторую линию, не меняя сценария? — А ты прочти ещё раз Мопассана. Он великолепно всё описал. Антуан, делая сценарий, не понял второй линии и сгладил акценты. Он бил на жалость, стремясь устыдить мерзавцев, и не учёл, что Пышка не только жалобно плакала, но злилась и делала выводы. Тебе нужно сыграть по мопассановски, хотя Антуану это и не понравится. Готова рискнуть? — Конечно. Я перечитала новеллу Ги де Мопассана несколько раз, особенно конец. Там действительно всё было иначе: «...бурная злоба, желание выложить им всё напрямик в потоке брани, подступавшей к губам, но возмущение так душило её, что она не могла говорить. Пышка сидела прямо с застывшим и бледным лицом» По щекам действительно текли слёзы, которые она не могла сдержать, но это были не слёзы жалости к себе, а слёзы ярости. Навряд ли она когда-нибудь попадётся в такую ловушку снова. Похоже, завтра придётся полностью переделывать последние десять минут пьесы, но сегодня мне абсолютно наплевать, как отреагируют на это господин Антуан, супруги Малон-Луазо, Кордюне и все прочие. Вчера я бодро и смело пообещала себе не думать ни о коллегах, ни о данном Жаку обещании согласовывать с режиссёром все серьёзные изменения, но сегодня меня опять одолели сомнения: если мы все вместе — оркестр, то не может же каждый музыкант играть, как считает правильным, не обращая внимания ни на дирижёра, ни на партнёров? Нет, что— то опять не так. Хорошо, что есть время подумать — следующее представление Пышки стоит в программе только через три дня. Задумчивое ничегонеделанье было нарушено запиской от Сары Бернар. Она опять предлагала посетить её хаотично нарядную квартиру. На этот раз Сара выглядела абсолютно домашней. Ни архитектурных сооружений на голове, ни красочного боа, ни маски забавного Арлекина на залепленном цветастой штукатуркой лице. Бледноватая кожа, мелкая паутинка морщинок вокруг глаз и губ, чуть-чуть крупноватый нос, великолепные, умные серые глаза и высокий лоб, обрамлённый ореолом мелковьющихся, спадающих на плечи рыжеватых волос. Человеческий облик Сары оказался гораздо симпатичнее созданного ею имиджа, что правда не сказалось на её словоохотливости. — Замечательно, что Вы откликнулись на приглашение. Я очень люблю, когда меня навещают. Хотя, сама, признаюсь честно, ненавижу ходить в гости. А ещё обожаю получать письма, читать их, комментировать... Правда отвечать на них, к сожалению, никогда не успеваю. Я вообще человек весьма прихотливый. К примеру: с удовольствием даю советы, но не люблю, когда их дают мне. — И Ваши знакомые не обижаются? — Обижаются? Не знаю. Это их проблемы. Умные понимают, что моё время дорого стоит, а глупые... если не нравится, пусть ищут другие знакомства... Ну ладно, присаживайтесь. Хотите чаю? У меня есть особый сорт, привезённый одним хорошим знакомым из Китая. Бернар собственноручно заварила чай, поставила на маленький столик сервиз тончайшего китайского фарфора и разлила какой-то прозрачный, светло-жёлтый ни чем не пахнущий напиток. — Ну что, атмосфера в театре становится взрывоопасной? Раньше меня удивила бы её осведомлённость, но полученная от Элизы информация об Анри не оставляла сомнений в достоверности источника. Отпираться не имело смысла. — Да. Рекомендованные Вами нововведения настолько накалили атмосферу в дилижансе, что в один прекрасный момент я чуть не вылетела оттуда, как нагадившая на ковёр кошка. Бернар с сочувствием посмотрев на мой, чудом уцелевший нос, задумчиво произнесла: — Мужчины вообще непредсказуемы. Обычно, очарованные женской красотой, они распускают руки, а вот господин Малон распустил почему-то ноги. У него хоть хватило ума принести извинения? — Хватило. Объяснил свои проделки трудным детством и несложившейся жизнью. — Насколько я знаю, он и его подруга были когда-то Вашими близкими друзьями? — В том то вся беда. С чужими было бы не так обидно. — Могу дать совет. Как я уже сказала — делаю это всегда с удовольствием. Не заводите друзей там, где работаете. Тем более в театре. Там могут быть только конкуренты или враги, что, практически, одно и то же. — Спасибо. Точно такой совет я уже получила вчера. — И я знаю от кого. Хотите отгадаю? От Лекока. — Правильно. В этом Вы с ним удивительно похожи — оба охотно даёте полезные советы. — Наши с ним вкусы вообще похожи. Расходятся практически только по двум незначительным пунктам: ему не нравятся ни моя игра, ни мои скульптуры, а я... и то, и другое считаю совершенно гениальным. При этом Сара состроила такую забавную гримасу, что я от смеха чуть не захлебнулась китайским чаем. — Ну ладно. Пошутили и хватит. Я Вас, собственно пригласила, чтобы поговорить о Пышке. Она смотрится уже гораздо лучше, хотя ещё кое-чего не хватает. Когда я на Вас смотрю, всё время приходит на ум ипподром... скачки. — Господи, неужели я стала похожа на лошадь? — А Вы бывали когда-нибудь на скачках, где речь идёт о больших ставках? Нет? Обязательно сходите, но не спешите выкладывать деньги. Знаете как профессионалы срывают большие призы? Жокей, ведущий фаворита, разумеется за взятку, незадолго до финиша придерживает лошадь, не давая ей прийти первой. Сам профессионал ставит в этот день на «теневую» лошадку и срывает весь куш. — И чем это похоже на меня? — У меня такое чувство, что Вы себя тоже «придерживаете». Особенно в конце. Неужели боитесь рассердить друзей? Зачем так жалобно хлюпать носом? Мадемуазель Руссе темпераментная, грубая женщина. Она, можно сказать, ненавидит своих спутников. Ну так и отпустите себя, злитесь на них по настоящему, презирайте их. В дилижансе должно стать понастоящему душно. Поговорите с Кордюне (с Анри). Его, ещё более настырное насвистывание Марсельезы, создаст дополнительное напряжение. Меня поразил её совет. Пусть с разных сторон, но они с Шарлем пришли к одному и тому же. Она — с эмоциональной, он — методом рассуждений. Как всё оказывается просто! Не нужно придумывать ничего нового. Просто отпустить себя и не сдерживать чувств, переполняющих меня на самом деле. — Спасибо. Я должна благодарить бога, что Вы так охотно даёте советы. Они действительно бесценны. Мадемуазель Бернар измерила меня подозрительно-насмешливым взглядом, желая удостовериться, что благодарность не замешана на иронии. Но восторг и облегчение, наверняка отразившиеся на моей физиономии, убедили Сару в искренности высокопарно произнесённых слов. — Не думайте, что я всех осчастливливаю подобными советами. Вы своего рода исключение. Во-первых, я не вижу в Вас конкурентки. Пока до меня дорастёте, успею два раза состариться и четыре раза умереть. А во вторых... даже не знаю как это объяснить... что-то в Вас есть... такое ощущение, что мы — люди одной крови. В ушах всё ещё звучали последние слова Бернар. Что она имела ввиду под «одной кровью»? Темперамент, азарт... это могло быть чем угодно, но не происхождением. Судя по пересудам, она была наполовину еврейкой. Одни обвиняли в еврействе её мать, другие приписывали эту национальность отцу, голландскому коммерсанту. Два дня спустя мы опять сидим в дилижансе. В ушах скрипит уныло требовательный голос Элизы, жалобы Жака, согласованные накануне с перепуганной подругой, финансовые проблемы, назойливо обсуждаемые графом Юбером и фабрикантом Карре-Ламодоном и жуткая Марсельеза, громко и зловредно насвистываемая господином Кордюне... Реальность переплелась с придуманной жизнью в неразделимый жгут, вызывающий ярость и презрение к сидящим рядом со мной людям. Господи, что за счастье иметь право «себя отпустить» ! Чувствовать полной грудью и не сдерживать издаваемые лёгкими хрипы-всхлипы прощающейся с наивной бесхитростностью души. Первые три представления новой Элизабет Руссе не вызвали никакого отклика ни у публики, ни в печати. Только через неделю в одной из второсортных газет появилась статья некоего мёсье Огюста Любе, начинающего врача психиатра, разбирающего на примере героини де Мопассана синдром, названный им мазохизмом. Он утверждал, что такие пациенты, сами того не ведая, постоянно подставляют себя под физические страдания или моральные унижения, получая от этого им одним понятное удовольствие. Через три дня все газеты запестрели заголовками типа: «Мадам Альварес, блестящая исполнительница умалишённых женщин» Теперь я, сидя на диване, подобно Пышке заливалась слезами ярости и обиды, а Шарль, умирая от жалости, отпаивал меня жуткой смесью коньяка с валерьянкой. Перепуганные родители, посовещавшись за закрытыми дверьми, повелели Лекоку срочно писать ядовитое опровержение. Шарль, в принципе согласившись с их мнением, попросил два дня отсрочки. На следующий день, убедившись, что коньячно-валерьяновая смесь оказала необходимое воздействие, он начал приводить в исполнение свой собственный план. — Нене, если ты хочешь, я напишу в газету опровержение. Но публика опять начнёт судачить о твоей несамостоятельности. Всё по протекции, всё с подачи и под защитой всесильного мужа. Тебе это надо? — А что ты предлагаешь? — Опровержение ты должна написать сама. — Но я же не писатель! Я не умею писать статьи в газеты. — Вот и учись. Ты же пишешь письма своим родственникам... кстати очень даже симпатичные... вот и попробуй написать о том, как поняла эту новеллу. Что тебе лично в ней особенно ценно. Непрофессионализм будет свидетельством твоего персонального стиля. — Но ты потом проверишь? — Обязательно. Даже исправлю грамматические ошибки. Я пыхтела над коротенькой заметкой дня три, перечёркивая каждую фразу по десять раз, пока не создала вариант, который рискнула показать Лекоку. Текст звучал приблизительно так: «Уважаемый мёсье Любе великолепно описал симптомы психического отклонения, названного им мазохизмом. Хотя, думаю, нам всем было бы очень полезно научиться отличать временные недомогания от серьёзных, неизлечимых болезней. Ведь простудный кашель — ещё не чахотка, а лёгкое расстройство пищеварения — не всегда холера. История мадемуазель Руссе, мастерски описанная господином де Мопассаном, это история не болезни, а недомогания, которое могло приключиться с каждым из нас. Признание, похвала, иллюзия принадлеж- ности к более высокому кругу людей — это ли не соблазн, которому подчас нам всем трудно противостоять. Всегда ли мы с первого взгляда опознаём тонкую лесть? Как часто приносим в жертву свои интересы, боясь разочаровать тех, чьим мнением дорожим? Всегда ли хватает мужества сказать «Нет» просящему о помощи, зная, что поступаем при этом в ущерб себе? Для меня лично — это серьёзная моральная проблема: как, когда и во имя чего нужно жертвовать собой и своими принципами. Где лежит граница между христианским самопожертвованием и наивной слабохарактерностью, и как научиться одно отличать от другого? А Вам, уважаемый мёсье Любе, я посоветовала бы еще раз посетить наш театр и внимательно посмотреть заключительную сцену. Надеюсь со второго раза Вы поймёте, что мадемуазель Руссе — не Ваша пациентка, а бесхитростная, недолюбленная, униженная жизнью молодая женщина, на минуту перепутавшая грубую лесть с симпатией и уважением. И реагирует она, как абсолютно здоровый человек — учится на собственных ошибках. Один раз угодив в расставленную на неё ловушку, второй раз в неё уже не попадёт. До встречи в театре мёсье Любе и все те, кого заинтересует эта жизненно важная проблема . С уважением, Елена Альварес». Честно говоря, я изрядно трусила, протягивая Лекоку переписанный начисто листок с опровержением. Он долго и внимательно вчитывался в мои неровные строчки, временами склоняя голову на бок и подёргивая углом рта. Наконец отложил его в сторону и, иронично улыбаясь, поднял глаза на старательную ученицу. — А что... очень даже забавно. Гм... Временное расстройство пищеварения это ещё не холера... Ехидная Вы однако дама, мадам Альварес. — Ну что, совсем плохо? — Да нет. Отчего же. Я бы конечно написал по другому, но это твоё мнение, твоё письмо в редакцию. Так и отошлём. — Даже исправлять не будешь? — Буду. Пару грамматических ошибок. Кстати, хороший конец придумала — всех в театр пригласила. То-то Адриан обрадуется, увидев через три дня полный зал. Ну что ж, теперь можно и начинать. — Что начинать? — А вот это ты поймёшь в ближайшие несколько дней. Как и предсказывал Шарль, билеты на «Пышку» были распроданы до последнего. Администрации даже пришлось срочно допечатывать входные, стоячие места. Мы, заразившись напряжением зала, играли с двойным воодушевлением, выкладываясь до последней капли душевных и физических сил. Театральные критики, литераторы и специалисты по психиатрии рвали на части газетные строчки, наперегонки разъясняя друг другу разницу между мазохизмом и христианским самопожертвованием. В центре этого сражения «при Ватерлоо» метался, размахивая обоюдоострым мечём, могучий, непобедимый Лекок. Имена Пышки и Елены Альварес стали в эти дни нарицательными. «Свободный театр» переживал второе рождение. То ли в связи с подступавшей весной, то ли из-за своеобразия репертуара, но последнее время в зале тут и там мелькали пустые места. На фоне газетной шумихи мы в эти дни перещеголяли даже « Комеди Франсез». Вот она, непобедимая сила рекламы! В утренней почте я обнаружила плотный большой конверт, подписанный мёсье Огюстом Любе. К моему удивлению выпала оттуда лишь маленькая записка: «Мёсье Огюст Любе, он же — Камилла Клодель, будет рада принять Елену Альварес у себя в мастерской для дружеской беседы. При встрече всё объясню. Ваша Камилла». Коротенький текст сперва рассердил меня: что за глупая шутка. Ведь она меня чуть не утопила. Но вспомнив о том, что за этим последовало, поняла — Камилла сделала это не по злости, а по какому то замыслу. И вот, почти полгода спустя, я опять встретилась с работами Родена и Клодель. За это время многие старые знакомые покинули свои посты, уступив место новобранцам. Кимилла бросилась мне на шею, чмокнула в промёрзшую на ветру щёку и тут же потащила к большому, уютному креслу у пылающего всеми цветами радуги камина. — Понимаю, Вы ждёте моих объяснений. Начну по порядку. Сейчас у нас с Роденом очередная фаза больших разногласий, а значит он каждый вечер обедает у Розы и остаётся там ночевать. Мне очень плохо и одиноко, и в таком состоянии совсем не работается. Я пытаюсь себя всячески отвлечь, езжу одна на прогулки, хожу в музеи и в театры. Особенно люблю Ваш театр и Вашу игру. Хотите чаю... или может немного вина? — Лучше чаю, только не китайского. — А почему китайского? — Просто недавно одна знакомая таким угощала. Весьма странный напиток. Ну да ладно, рассказывайте дальше. — Один раз я уже смотрела Пышку... в самом начале... но на прошлой неделе, посмотрев ещё раз, просто не узнала. Меня совершенно потряс конец. Понимаете, я в ней себя узнала. Огюст опутывает меня паутиной лести... а я млею и барахтаюсь в ней, как опьяненная паучьим ядом муха. Это длится уже много лет, и у меня не хватает мужества его бросить. — Камилла, Вы нарисовали потрясающую картину. Точнее не скажешь. Ну а что случилось на спектакле? — Да посмотрела на всё это и поняла, что он очень грамотно со мной играет. Мадемуазель Руссе глаза открыла. Она умница. Ей одного раза хватило, чтобы эту игру понять и больше не подставляться. — Похоже, Вы были единственным человеком в зале, понявшим, что я хотела сказать. — В том то и дело. Так обидно стало, что ни кто другой этого не понял. Подождала пару дней. Думала умные критики догадаются и заговорят наконец, а потом решила сама начать дискуссию. — Но почему так странно и под псевдонимом? — Понимаете, я ведь неплохо разбираюсь в рекламе. Нужно было что-то скандально-горячее, чтобы сразу внимание обратили. Надеюсь, Вы на меня не сердитесь? — Наоборот. Вы совершили совершенно гениальный ход. Я у Вас в долгу. Прелесть какая... Огюст Любе... — Ну не подписываться же было: начинающий психиатр Огюст Роден... Камилла, раскинув руки и запрокинув рассыпавшиеся по плечам волосы, закружилась в диком, вакханальном танце, празднуя приближающуюся свободу. Я смотрела, приоткрыв восхищённый рот, на мчавшуюся в страстном кружении женщину, и благодарила бога, давшего мне дар помогать людям. Пусть даже одному человеку, но такому талантливому и прекрасному. Мы закончили сезон на высокой ноте. Газетные дискуссии давно увяли, но зал до последнего дня был переполнен. Антуан ходил грустный и растерянный — его основной состав покидал театр. Элиза уходила рожать ребёнка, я — в Одеон, а Анри — с Сарой Бернар в Лондон. Лекок, доиграв в последний вечер Мёсье Гранде, навсегда прощался с артистической карьерой. Заключительный банкет, не смотря на разбушевавшуюся за окнами весну, походил скорее на пасмурную, промозглую осень. Глава 7 Наконец наступил долгожданный летний отпуск. Мы распланировали его очень плотно. Вначале я сопровождаю бабушку в Мадрид и на могилу её отца, потом вместе едем к Марии, а в заключение — три недели путешествуем с Шарлем по Италии. Мадрид навеял на Франческу ностальгическую грусть. Она бродила по знакомым с детства закоулкам, долго кружила вокруг принадлежавшего им когда-то дома, рассказывая грустные и смешные эпизоды из детства, не утверждая больше, что у неё не было ни мамы, ни младшего брата Мигеля. С гордостью водила по музею Прадо. Оказывается, он был основан её родителями, а первую коллекцию составлял дед со стороны матери. Больше часа мы провели в зале Альваресов, узнавая в лицах давно умерших предков знакомые черты. Ну и семейка же мне досталась! Насытившись Мадридом, бабушка согласилась ехать дальше, в небольшой городишко, где покоились бесчисленные Альваресы, сохранившие за собой мавзолей неподалёку от принадлежавшего им когда-то замка. Мавзолей спрятался в углу старого заброшенного парка — точная копия старого экзотичного особняка, построенного в мавританском стиле, только совсем маленькая. Тот же кружевной фасад, лёгкие, едва касающиеся земли колоны и воздушные арки. Вот оказывается где находили свой последний приют эти величественные и гордые люди. Почему то с детства я считала их семейной усыпальницей музей Прадо. Боже, сколько же их было! Сколько судеб, сколько честолюбий, любви, ревности и разочарований нашли здесь свой последний покой. Мы остановились перед помпезным надгробьем из чёрного мрамора. Витиеватые золотые буквы торжественно и печально сообщали имя владельца: ХVI ». «Здесь покоится Граф Филипп Максимилиан Лоренцо де Альварес Бабушка долго гладила мрамор тонкими смуглыми ладонями, что-то поправляла, что-то нашёптывала побледневшими губами, а потом, опустив вуаль, неподвижно замерла. Её душа, оставив высохшее, постаревшее тело у мраморного обелиска, улетела в далёкое прошлое. Туда, где, совершенно незнакомый мне граф Филипп Максимилиан Лоренцо был для неё самым красивым, самым добрым, самым лучшим в мире отцом. Не желая мешать, я тихонько отошла в сторону, рассматривая высеченную из такого же чёрного мрамора маленькую, квадратную доску с закруглёнными краями. Прикреплённая к изголовью постамента, она привлекла внимание букетом свежих цветов, непонятно как оказавшихся на старой могиле. Маленькие золотые буквы сообщали имя владелицы: «В память о маркизе Шанталь де Пьерак» На обратном пути я спросила бабушку об этой доске. — Кто такая маркиза Шанталь де Пьерак и почему она всё ещё приносит на могилу твоего отца цветы? — Она не приносит цветов, потому что давно мертва. А вот кем она была... думаю, она была его единственной настоящей любовью. — Ты была с ней знакома? — Пойдём, сядем куда-нибудь, и я расскажу эту историю... а то ноги сегодня отчего-то плохо держат. Мы присели за пустующий столик маленького уличного кафе, заказали холодный лимонад, и бабушка, вначале слегка заикаясь, а потом, всё более приходя в раж, поведала мне историю любви своего отца в последние годы жизни. — Окончательно порвав отношения с моей матерью, он, больной и потерянный, приехал ко мне в Париж. Вначале я его даже не сразу узнала — старый, седой, сгорбленный с совершенно потухшим взглядом. Две недели он беспробудно пил, приводя моего мужа в ярость, а меня доводя до сердечного расстройства. Через две недели взял себя в руки, слегка отдышался и попросил помочь найти одну старую знакомую, маркизу Шанталь де Пьерак. Найти эту даму оказалось несложно. Давно овдовев, она всё ещё, время от времени, появлялась в высшем свете. Короче, с тех пор он быстро пошёл на поправку. Господи, как я была благодарна этой женщине! Она преданно поддержала отца в самый сложный период его жизни. Не дала ни спиться, ни умереть. Собственно, все последние годы они провели вместе. Жили то в Париже, то у него в замке, вместе дождались его реабилитации, возвращения чести и наград. Маркиза не могла быть похоронена в семейном мавзолее, так как не считалась законной женой, но папа просил в своём завещании после её смерти установить доску, которую они заказали ещё при его жизни. — А откуда цветы? — Это уже её пожелание. Она завещала большие деньги соседнему монастырю, чтобы они каждые два дня меняли цветы у его изголовья. — И в честь маркизы ты назвала мою маму Шанталь? — Да. Тогда я была ей бесконечно благодарна. Понимаешь, одна бы я с ним не справилась. Она помогла ему устоять... хотя после разрыва с женой он так никогда окончательно и не пришёл в себя. — А что же всё таки между ними произошло? — Точно не знаю. Он так ничего и не рассказал. Сказал только, что она предала нас всех и сбежала, не желая нести ответственности. — Это было как-то связано с политикой? — Не думаю. Мама ею никогда не интересовалась. Скорее, с экономикой. Пока отец был в почёте, она относилась к нему очень трепетно, а вот когда рухнул с пьедестала... Тут появился бог знает откуда некий американец, коммерсант, богатый еврей. Она вдруг резко увлеклась предпринимательством... какаято винодельня, гобелены, торговля... Как ни приедешь к ним — вечно корпит над бухгалтерскими отчётами... Мигеля с американцем свела, а потом... сперва сына в Америку отправила, а пару месяцев спустя, прихватив все деньги, сама к своему благодетелю сбежала. — А ты видела этого американца? — Раза два-три видела. — И как? — Господи! Страшный. Пугало огородное, но очень богатый. — А откуда ты взяла эту историю, если отец ничего не рассказывал? Сама придумала? — Ну что ты вцепилась в меня, как сыщик? Да, сама придумала. Нужно же было как то всё объяснить. — И всё ещё в неё веришь? — Верю. По другому и быть не могло. — А что Мария об этом думает? — Мария... она знает больше, чем я. Подозреваю даже, потихоньку с мамой тогда встречалась, но говорить со мной об этом не пожелала. Она вообще несколько странная. — Кто? Мария? — Да. Понимаешь, она была средним ребёнком, а средние всегда ни то, ни сё. Старший, первенец, всегда самый любимый, младший... последняя радость. А средний часто проскакивает незамеченным. У меня ведь с детьми так же было. Антуан — гордость и надежда, твоя мама — безграничная нежность, а Норберт... отношения с ним с самого начала не сложились, а уж после женитьбы на Софи... Так. Всё. Допивай свой лимонад и пошли, пока меня совсем не разморило. Карета плавно катила нас к гостинице, лишь изредка подпрыгивая на круглых, веками обточенных и обкатанных камнях. Ну не всё ли мне равно, что не поделили между собой мои предки? Любопытно конечно, но... почему то не хотелось верить в бабушкину версию. Вспомнились слова Жака: «От своих предков мы наследуем не только их состояния и таланты, но и их пороки». Не хотелось иметь в прабабушках корыстную даму, сбежавшую к любовнику, прихватив с собой всё состояние и оставив больного, потерпевшего крушение мужа умирать с голоду. Хотя, похоже, и у него рыльце было в пушку. Не успев выйти из двухнедельного запоя, бросается на поиски какой-то маркизы! Кажется, они оба были развесёленькой парочкой. Уже засыпая под лёгким, шёлковым одеялом, я постановила учинить грандиозный допрос Марии. На этот раз она от меня так просто не отделается. К завтраку бабушка вышла пожелтевшей и невыспавшейся. Тёмные круги под глазами выдавали проведённую без сна ночь. Рассеянно размешивая ложечкой сахар, так и не попавший в чашку, Франческа покачивала седой, не слишком опрятно уложенной причёской. Я, не прерывая её размышлений, терпеливо поедала мягкую булочку, густо намазанную вишнёвым вареньем. Наконец, собравшись с мыслями, бабушка подняла на меня свои тёмные, миндалевидные глаза. — Я вчера долго не могла заснуть... вернее, вообще не спала. Опять воспоминания замучили... Глупости я тебе вчера наговорила. Не могло этого быть. — Милая ты моя, зачем же тогда придумала эту скверную историю? Для чего тебе это было надо? — Наверное от обиды. Чтобы у них там ни было, но почему она сбежала со мной не попрощавшись? Уехала к Мигелю, повидалась с Марией, а я... как будто меня вообще для неё больше не существовало... Я то что ей плохого сделала! Очень больно было. Вот и придумала эту глупую историю, чтобы память её очернить. — Бабуля, но почему, если так мучилась, сама матери не написала? Потребовала бы адрес у Марии и написала. — Гордость на позволила. Понимаешь, для меня потом не так уж важно было, что там у них с отцом. Это в конце концов их отношения. Но со мной то зачем так? Для мамы Мигель всегда на первом месте стоял. С Марией тоже полное взаимопонимание, а я... меня она почему то сторонилась. Чем то я её не устраивала... Много лет спустя совсем уж было собралась написать, но оказалось — слишком поздно. Даже не знаю, где мама похоронена. Вот так то. В этот момент бабушка походила на маленького, сморщенного ребёнка. Она обиженно шмыгнула носом, крутя в руках бесполезную чайную ложку. Я вскочила со стула и притянула её к себе. Щемящая жалость и нежность к этой гордой, утончённой, недоступной графине, тоскующей по предавшей её когда-то маме... Господи! Родная, маленькая моя! Если бы ты знала, как я тебя люблю! Франческа, уткнувшись в меня мокрым от слёз лицом, всхлипывала и бормотала что-то на плохопонятном испанском языке. Слегка успокоившись, бабушка отстранилась, внимательно взглянула мне в лицо и уже на четком французском грустно произнесла: — Детка, когда ты вот так... мне кажется, она вернулась ко мне снова. В экипаже, по пути к Марии, бабушка сидела отвернувшись к окну и молчала. Только при подъезде, уже полностью успокоившись, сдержанно пояснила: — Не переживай и забудь об этом разговоре. Всё давно ушло в прошлое. Просто я расчувствовалась, постояв у дома, где выросла... и вообще... Обещай, ни о чём не расспрашивать Марию. Вернувшись домой после путешествия по Италии, я обнаружила на своём письменном столе толстую пачку писем. Перебирая пухлые конверты, подписанные незнакомыми именами, я обнаружила послание от Элизы. Сбившиеся, неровные строчки, местами расплывшиеся буквы, множество исправлений... всё говорило о душевном смятении написавшей письмо. «Елена, предполагаю, ты уже вернулась из отпуска и у тебя всё хорошо. Моя жизнь дала крен, хотя... может, так и лучше. Вскоре после твоего отъезда я родила дочку. Маленькая, очень слабенькая девочка прожила только три дня. Больше ей было не суждено. С Жаком мы расстались почти сразу, и это наверное к лучшему. Всё равно у нас бы ничего не получилось. Он меня никогда не любил, и ты здесь не причём. Просто он, как многие талантливые люди, живет в придуманном им мире. Видит и любит только себя и свои страдания. А меня он просто использовал, когда ему было удобно. Поняла это ещё до рождения дочери. И помогла твоя Пышка, вернее твоя игра. Большое спасибо. Не буду описывать, что пережила в эти месяцы. Главное — удалось выжить. Немного придя в себя, подписала контракт с очень серьёзным театром, правда не парижским, а марсельским. У них за пару недель перед началом важных гастролей заболела исполнительница главных ролей. Директор этого театра видел меня когда-то в «Рыжике», запомнил и написал приглашение. После завтра уезжаю на гастроли сперва по Австрии и Германии, а потом в Россию. Когда вернусь — обязательно встретимся. Извини за все гадости и резкости, которые я наговорила тебе в последнее время. Думаю — от беременности и меня просто голова съехала набекрень. Целую, твоя Элиза». Раздражение и злость, которые я испытывала к подруге в последнее время, тут же улетучились. Как это должно быть страшно, девять месяцев носить в себе живое существо, чувствовать его движения, мечтать поскорее увидеть маленького человека на яву, а увидев... даже не успев насмотреться, тут же потерять. Бедняга. Хорошо, что у неё хватило сил расстаться с Жаком. В отношении его чувств Элиза не ошиблась. Скорей бы она возвращалась. Представляю, сколько интересного она пережила во время гастролей. Перечитав ещё несколько раз, спрятала её письмо в ящик и принялась за остальную стопку. Забавно. Содержание остальных посланий было похоже на письмо подруги. Незнакомые женщины рассказывали о своих судьбах, об использовавших их людях, и об одиночестве, которым они заплатили за легковерие или душевную щедрость. Все так или иначе благодарили за мадемуазель Руссе и спрашивали совета, как жить дальше. Этот поток писем ошеломил меня. Неужели то, о чём я мечтала, выбирая эту профессию, состоялось? Неужели мысли и чувства, которые я вкладываю в свою игру, способны кому-то помочь? Но что я могу ответить женщинам, о которых знаю только то, что они пожелали рассказать? Какие советы могу дать, если сама только начинаю жить? Может на эти письма вообще не обязательно отвечать? Промучившись пол дня, пошла за советом к маме. Она часто рассказывала, что постоянно переписывается с поклонницами и женщинами, которые хотят стать красивыми. Уж она то знает, как обращаться с подобными письмами. Мама не стала перечитывать всю кипу. Взяла наугад дватри верхних и два-три из середины. — Ну что ж, дочка, ты становишься по-настоящему популярной. Такие письма нельзя оставлять без внимания. Все эти женщины доверили тебе свои чувства и надеются на помощь. — Но как я могу помочь, не зная об их жизни ничего, кроме отдельных эпизодов? — Мой жизненный опыт показал, что вообще нельзя давать конкретных советов, типа: « я на Вашем месте поступила бы так-то и так-то...», или « Вы должны повести себя так...». — А что же ты делаешь в таких случаях? — Елена, говоря о театре, ты формулировала свою задачу совершенно точно: «Мы даём возможность людям задуматься и самим принять решение». И это правильно. Никогда нельзя принимать решение за другого человека, ведь его реальных, подспудных проблем мы не знаем. Я вспомнила о недавнем разговоре с бабушкой. Кто знал, что она всю жизнь страдала из-за предательства матери, но не по отношению к отцу, а к ней. Говоря: « Матери у меня никогда не было», она на самом деле хотела сказать: Мама меня никогда не любила, или любила меньше, чем сестру и брата, и это было больно и несправедливо». — Ну и как ты отвечаешь? — Всё зависит от содержания. Если женщина пишет, что чувствует себя слишком тучной, не может носить платьев по предлагаемым мною фасонам, хотя они ей очень нравятся, я не буду советовать ей похудеть. — Почему? Это было бы самым разумным. Мама рассмеялась и, забавно подняв вверх указательный палец, важно произнесла: — Если бы она могла похудеть, она бы давно это сделала, не обращаясь ко мне за советом. Понятно? Поэтому лучше убедить её в том, что умеренная полнота многих женщин даже украшает. Напомнить о полноватых, но очень привлекательных женщинах на картинах Ренуара или пухленьких мадоннах Леонардо да Винчи, и посоветовать взять из моих новых моделей лишь те элементы, которые подходят к её фигуре и походке. Главное, не забыть пожелать корреспондентке удачи. — Но ведь это простая отписка! — Я так не считаю. Этим я призываю женщин не перекладывать ответственность на меня, пусть всего лишь за фасон нового платья, а развивать собственный вкус и думать самостоятельно. Возможно, это им поможет и в более серьёзных ситуациях. — Удивляюсь, что женщины всё ещё продолжают тебе писать. — А знаешь как интересно получать от них второе или третье письмо, когда они присылают рисунки самостоятельно разработанных фасонов на основе взятых у меня элементов. Иногда получается действительно талантливо. — Ну ладно, возможно с одеждой несколько проще, но как быть с жизнью, отношениями с близкими, с одиночеством? — Ну хорошо. Давай возьмём хотя бы это письмо. Что пишет о себе мадам Мадлен Кольбе? Мама несколько раз с выражением перечитала текст. Его, хотя и незамысловатый слог, приятно поражал спокойствием и рассудительностью. Женщина, не вдаваясь в слезливые подробности, кратко описала свою не сложившуюся жизнь. По прошествии стольких лет я, естественно, не могу на память воспроизвести этого письма, но общая суть состояла в следующем: Мадлен, старшая из двух сестёр, была крепкой, ширококостной, здоровой девочкой, унаследовавшей от отца рыжеватые, непослушные волосы и целую россыпь веснушек на квадратном, коротконосом лице. Бланш, младше её на три года, внешней статурой пошла в мать — этакая хрупкая, болезненная фарфоровая статуэтка с ангельским личиком и мягкими, густыми каштановыми локонами. Бланш постоянно простужалась, кашляла, чихала и температурила. Само собой разумеется, именно на этом ребёнке сосредоточились все тревоги и заботы родителей. Мадлен, не понимая их страхов, чувствовала себя нелюбимой и ненужной. Однажды, ей было лет десять, Мад стояла перед зеркалом, собираясь на детский праздник. Платье, перешитое из старого маминого, сидело отвратительно, рыжие волосы непокорно топорщились в разные стороны, делая лицо ещё более квадратным. На праздник идти расхотелось, тем более, что идти пришлось бы одной — Бланш опять лежала с температурой в постели. Мать, увидев её недовольное лицо, с досадой пропела: — Что опять не так? Что тебя опять не устраивает? И тут Мадлен осенила блестящая идея: — Знаешь мама, я подумала, мне не стоит идти на праздник. Бланш одна в кровати, а я еду веселиться? Лучше тоже останусь дома, посижу с ней, поиграем вместе... В этот момент мамино лицо подобрело и расцвело. Она обняла старшую дочь, расцеловала и назвала самым добрым, самым замечательным ребёнком на свете. Собственно этот день и определил всю дальнейшую жизнь Мадлен. Она поняла — жертвуя собой, будет всегда любимой. Она и жертвовала. Подросшая Бланш, превратившись в прелестную девушку с личиком херувима, рано вышла замуж, родила троих детей, тяжело болея после каждых родов. Мадлен на многие годы поселилась у сестры, помогая растить детей и вести дом. Потом заболел отец, и она вернулась помогать матери ухаживать за больным. Затем ухаживала за матерью, пережившей мужа всего на пару лет. И все эти годы родители не уставали благодарить бога, подарившего им такую дочь. « Мад, ты ведь у нас просто святая! Ты — лучшее, что нам было дано в этой жизни.» И вот: родителей больше нет, Бланш давно вырастила детей и в помощи не нуждается, а Мадлен, одинокая и никому не нужная, пишет письмо молодой актрисе Елене Альварес с просьбой о помощи и совете. « Я, рослая, костлявая старая дева, осталась в сорок четыре года без близких, без друзей и без смысла жизни. И самое страшное, посмотрев Вашу Пышку, поняла: меня, как и её, всю жизнь бессовестно использовали, даря похвалу и признание в обмен на самопожертвование, а потом выбросили за ненадобностью в беспросветное одиночество. Посоветуйте, как жить дальше. ... А может жить вообще больше незачем?» Письмо потрясло меня своим лаконичным трагизмом. Это тебе не романы Тургенева или Бальзака, которые, в крайнем случае, можно переписать заново, придумав счастливый конец. Жизнь, к сожалению, нельзя начать с начала. Не могу же я посоветовать Мадлен вернуться на тридцать пять лет назад обратно к зеркалу и, не взирая на плохо пошитое платье, поехать на детский праздник, пожертвовав похвалой и нежными объятиями матери. Это старая, банальная истина — нам не дано обладать всем сразу. Жизнь постоянно ставит нас перед выбором: или–или. Мысли уплыли в собственное прошлое. Ох уж эти женские зеркала! Сколько бед они натворили в наших жизнях, демонстрируя ранние морщины, заплывшие жирком талии и короткие, кривоватые ноги. Сколько часов провела я в детстве наедине с этим коварным стеклом, разглядывая свои круглые щёки и сокрушаясь, что не похожа ни на маму, ни на испанских бабушек. А кривое зеркало перед выпускным балом, предсказавшее безрадостное будущее! Да они, эти зеркала, хуже змея, совратившего Еву райским яблочком. Без них, как и без яблок, женщины были бы гораздо счастливее. Да и мужчины, полагаю, тоже. Мама терпеливо пережидала моё молчание, перечитывая заново письмо мадемуазель Кольбе. — Ну и что ты об этом думаешь? — Мне очень жаль эту женщину, но понятия не имею, что ей можно посоветовать. Хотя ты уже говорила, что советовать вообще не следует. — Да я очень сомневаюсь, что она ждёт от тебя реального совета. Ей было необходимо высказаться, излить душу, почувствовать, что её понимают, а выход она найдёт сама. Ведь ей и поговорить то не с кем. Подумай над этим и попытайся написать ответ, но не увлекайся. Постарайся уложиться максимум в десять фраз. — А ты проверишь грамматические ошибки? — По этой части лучше обратись к бабушке. Она у нас в семье самая грамотная. А содержание обязательно почитаю. Я прокорпела над ответом до самого вечера, стараясь создать что-то умное и взрослое. Плюясь и чертыхаясь, переписывала строчки, которых оказывалось то слишком много, то слишком мало, то вообще не о том. В итоге, выбросив всё это в помойное ведро, взяла чистый лист бумаги и искренне написала о своих ощущениях. «Уважаемая мадемуазель Кольбе! Ваше письмо меня очень взволновало и заставило о многом задуматься. Действительно очень горько полжизни, позабыв о себе, поддерживать родных и близких, а потом остаться в полном одиночестве. Но может быть в том то и суть, что это только первая половина жизни. У Вас остаётся вторая половина, которую Вы можете посвятить себе. И потом... может это не одиночество, а свобода? На первую половину выпало столько похвал и признания, что во второй Вы, возможно, могли бы уже обойтись и без них? Загляните в себя и задайте себе простой вопрос: «А чего бы мне хотелось? Что могло бы принести мне радость? Что интересного происходит в окружающем мире, который до сих пор проходил мимо меня? Свою свободу я заслужила». Мадемуазель Кольбе, я уверена, Вы обретёте утерянный смысл, любя и заботясь о себе так же преданно, как в первую половину жизни заботились о других. Простите, но под конец мне хочется всё же дать один совет. Держитесь подальше от пожилых спившихся мужчин и молодых, в пух и прах проигравшихся Жигало. Их единственная плата за обед, крышу над головой и деньги в долг, которые они никогда не возвращают обратно, состоит из девяти слов: « Милая, ты самая лучшая, самая святая женщина в мире...», От всего сердца желаю Вам удачи Елена Альварес. Содержание моего письма маме совсем не понравилось. — Ты пустила в ход свой, все известный сарказм, но, боюсь, мадемуазель Кольбе может обидеться. В её исповеди я не заметила ни капли самоиронии, или хотя бы намёка на юмор. Она пишет сухо, сдержанно и очень серьёзно. В письмах, как и в общении с малознакомыми людьми, если ты конечно хочешь продолжить это общение, нужно попадать в резонанс. Иначе возникает взаимное непонимание и, как итог, ненужные конфликты. — По-моему с иронией я писала не о ней, а о сутенёрах, общения с которыми посоветовала избегать. И потом... мне кажется, самоирония — это лучшее лекарство, и если мадемуазель Кольбе её не понимает... ей уже ничто не поможет. — Елена, я не буду настаивать на своей правоте, но мне ужасно любопытно, что из этого получится. Обязательно сообщи, если эта дама когда-нибудь опять даст о себе знать. — А на остальные письма тоже надо отвечать? — Конечно. Хотя бы пару строчек. — Боюсь, это станет скоро моей второй профессией. — Вот и хорошо. Вторая профессия— самая надежная гарантия независимости от капризных режиссёров и прочих ударов судьбы. Тогда я ещё не могла оценить маминой гениальной правоты. Только заметила, как задрожали её губы, заговорившие про эти удары. Она, на первый взгляд открытая и общительная, была на редкость скрытным человеком. Я могла только догадываться, что происходит в её душе на самом деле. А там не происходило ничего хорошего. Это случилось приблизительно год назад. То ли она умышленно ослабила цепь, на которой продержала отца столько лет, то ли он сам исхитрился с неё соскочить, но уже скоро год, как папа переселился к какой-то молодой певичке, навещая маму только по праздникам и по необходимости. Мама сухо и немногословно поставила нас в известность, попросив ни во что не вмешиваться и вообще с ней об этом не говорить, но выглядела она последнее время очень неважно. Честно говоря, его неожиданный прыжок в сторону меня удивил: зачем певичке понадобилась эта немолодая, изрядно располневшая и облысевшая знаменитость — понятно даже начинающей актрисе, но он, опытный, умный человек, наизусть знающий театральные интриги... Неужели тоже взглянул на себя в кривое зеркало? Я видела эту свеженькую, аппетитную девочку на сцене. Если она и старше меня, то всего на пару лет. Подвижная, с милым, задорным голоском и кокетливой улыбкой... Этакий цветок–однодневок, который никогда не станет звездой... во всяком случае без мощного покровителя. Но вправе ли я, недавно давшая такой же совет Элизе, осуждать папу или его певичку? Зачем осуждать других, если сама не без греха. Ведь замуж за Лекока я тоже выходила по расчёту, хотя за все эти два года ни разу ни о чём не пожалела. Выполняя мамину просьбу, я не проронила ни слова об ударившей по ней судьбе. Заметив вздрогнувшую нижнюю губу, хотела просто притянуть её к себе и погладить по волосам, утешить, как недавно утешала бабушку, но мама... резко поднявшись со стула, отошла к окну и повернулась ко мне спиной. Руки, обтянутые мягкой, тёмно-бордовой тканью домашнего платья, взметнулись к лицу, то ли смахивая непрошено набежавшие слёзы, то ли поправляя выбившуюся из причёски непослушную прядь светлых, завитых в тугие локоны волос. Мама не была ни сухой, ни чёрствой. Просто не признавала сентиментальности и ласк. Когда я была маленькой, она целовала меня только раз в день — прощаясь на ночь. Последние годы мы обменивались лёгкими прикосновениями к щекам друг друга при встречах и прощаниях. Она никогда не лезла мне в душу, не досаждала назойливыми вопросами, не пыталась выведать, что находится за пределами того, что я сочла нужным ей рассказать, но также никогда не углублялась в разговоры о своих чувствах. Её речь, даже рассказы о чём-нибудь очень серьёзном и важном, всегда отдавала лёгкой, относительно беззлобной иронией, исключавшей малейший намёк на слащавую сентиментальность. Кстати, такую манеру общения я однозначно переняла у неё. Хотя у меня с годами к ней добавилась изрядная порция яда. Сёстры Альварес тоже были достаточно скрытными, но их испанский темперамент, прорываясь через заслон отработанных с детства графских манер, выступал на лицах, напечатанным жирными буквами текстом. Их чувства я научилась читать довольно быстро, а интересующие меня подробности отгадывала по случайным оговоркам или незаконченным фразам. Как когдато, в рассказе о первых годах жизни в Париже, у Франчески вырвалось короткое замечание об отношениях с мужем: «С приездом отца начались наши первые конфликты...», которые, как мне кажется, закончились только со смертью этого таинственного супруга, хотя она, как и положено вдовам, говорила о нём только хорошее. По её рассказам, он был самым честным, самым порядочным, самым заботливым спутником жизни, какого может пожелать себе каждая разумная женщина. Но почему-то, по мужу графиня де Бельвиль, она до сих пор называет себя «де Альварес», хотя де Бельвили принадлежали к старинному роду, боковыми корнями соприкасавшимися с королевскими? Почему, говоря о муже, она никогда не смотрит мне в глаза, а лицо принимает отстранённо-тусклое выражение? Нет, Франческа явно не походит на женщину, вкусившую радости счастливой семейной жизни. Сентиментальной нежности не было ни в ней, ни в Марии, но, находясь рядом с ними, я окуналась в густые потоки тепла и приятия, полностью заменявшие объятия и поцелуи. В отличие от них, бабушка Лавуа, моя чудесная Лизелотта, была темпераментной, волевой, очень неглупой и невероятно ласковой женщиной. До сих пор помню ощущение её упругого, плотного живота и великолепного бюста, в который можно было зарыться с головой и замереть в уюте и защищённости от всех опасностей внешнего мира. Она с удовольствием посвящала меня в былые сердечные тайны, а я, не боясь показаться глупой или наивной, открывала в юности только ей свои незамысловатые секреты. Кстати, она была единственным человеком, знавшим о моём похождении с Жаком. Думаю, именно от Лотти унаследовал потребность в ласковости мой отец. В этом они с мамой совершенно на подходили друг другу. Он, проходя мимо жены, постоянно стремился обнять её, потереться о щёку, чмокнуть в нос, а она, морщась и с досадой отталкивая его руки, отступала по другую сторону стола или за кресло. Иногда он обиженно сопел и уходил в другую комнату, а иногда, изображая кровожадное чудовище, громко рыча, пускался в вдогонку, сдвигая и опрокидывая попадавшуюся на пути мебель. Отловив свою жертву, папа заталкивал её в угол, выход из которого стоил смачного поцелуя, а иногда и двух. В детстве я азартно втягивалась в эту игру. Громко визжа, носилась у них под ногами, стремясь первой попасться в папины сети. Он, грозно причмокивая, хватал меня на руки, подкидывал к потолку, раскачивал в воздухе и напевал на мотив какой-нибудь известной арии гимн предстоящему обеду: «Кто у меня самый сладенький, самый вкусненький, самый сочненький лакомый кусочек? В детстве я относилась к отцу с восторгом и обожанием, но уже лет в тринадцать почувствовала зыбкую поверхностность этой связи. Он всегда оставался артистом, постоянно нуждающимся в восхищённой публике, был великолепен на больших светских приёмах и маленьких семейных торжествах, в долю секунды очаровывал продавщицу цветов и привередливую баронессу, предпочитавшую симфонический концерт легкомысленной оперетте. Отец охотно давал дельные советы, связанные с театральной жизнью и общением с критиками, но все остальное, не имеющее непосредственного отношения к его славе... подёргивало глаза плёнкой сонливости, а рот искривляло в неподдельной зевоте. Он ушёл из дома ровно через год после моего замужества. Было ли это случайностью, или мама удерживала его все эти годы на цепи только из-за меня, сохраняя звучное имя Лавуа незапятнанным и незамутнённым. Она сама, сменив имя Шанталь де Бельвиль на Шанталь Лавуа, потеряла не только графский титул, но и частичку «де»— Лавуа— старший, несмотря на все честолюбивые происки, так и не был причислен к дворянскому сословию. Сожалела ли мама об этой утрате? Думаю, нет. Она принадлежала к поколению французов, гордившемуся не заслугами предков, а собственными достижениями. Все эти мысли и воспоминания промелькнули в моей памяти, пока мама, отвернувшись к окну, поправляла причёску. Последние дни отпуска я провела за письменным столом, отвечая на письма обездоленных поклонниц. Внимательно вчитываясь в текст, пыталась понять характер корреспонденток и вступить с ними в резонанс. Новая профессия начинала доставлять удовольствие — суть проблемы у всех одна, а вот причины... каждый раз новые. Одни боролись за любовь, другие — за принадлежность к привилегированной группе, а третьи, как я в детстве, — за признание неординарности собственной личности. Вспомнилась исповедь у Марии... «родственники своими ожиданиями гонят меня по арене, как дрессированную лошадь...». Откуда взялось тогда это чувство, ведь любви пришлось на мою долю с избытком? Меня любили безусловно и безоговорочно. И этот поток не стал бы менее полноводным, окажись я неталантливой серой мышкой, но мне почему-то только любви было мало. Впитав с детства неутомимое честолюбие Альваресов и Лавуа, я жаждала ещё и уважения. Уважения за конкретные заслуги. Я сама взгромоздила на себя эту ношу, сгибаясь и негодуя под её тяжестью. А чтобыло бы, окажись я и в самом деле абсолютно бездарной? Сломалась бы, как те несчастные женщины, на письма которых отвечаю сейчас с высоты своего Олимпа? Размышляя о причинах, приведших моих поклонниц к краху, я с ужасом задавала себе один и тот же вопрос — а что, если эта болезнь, постоянная жажда любви и признания, неизлечима? Что, если такие, как я, никогда не научатся бежать налегке? Заканчивая эту историю, забегаю на полгода вперёд. Вопреки маминым опасениям, Мадлен Кольбе не обиделась и прислала отчёт о своей новой жизни. Он был написан совершенно в другом тоне — жизнерадостно и иронично. Прежде всего Мадлен поблагодарила за своевременный ответ. Как раз дня за два до моего письма она успела обменять две крупные банкноты на девять, указанных мною «разменных» монет. Посмеявшись над «наивной доверчивостью неопытной старой девы», Мад безоговорочно выставила за дверь корыстолюбивого поклонника. Удостоверившись в полезности последнего совета, она поверила и в остальное — серьёзно задумалась над собственными желаниями, и вскоре, читая газеты, наткнулась на объявление о начале нового цикла психологических семинаров, проводимых каким-то учеником Зигмунда Фрейда. С тех пор она вполне счастлива. Два раза в неделю слушает лекции, каждый раз узнавая что-то новое о себе, обзавелась новыми знакомыми и, как ей кажется, смыслом жизни. В те дни, потратив последние дни отпуска на ответы растерявшимся женщинам, я не питала особых иллюзий в отношении полезности даваемых мною советов. И правильно делала. Мадемуазель Кольбе оказалась приятным исключением, отблагодарившим меня за усердие и старание. Повторных писем от других корреспонденток я так никогда и не получила. Последний день перед началом сезона, последний день уходящего лета. Шарль закончил очередной философский трактат, а я — последнее бесполезное письмо. После завтрака, посмотрев в окно, мы одновременно почувствовали желание сбежать на целый день из Парижа куда-нибудь, где не нужно ежеминутно снимать шляпу и вежливо раскланиваться с полузнакомыми, не представляющими ни малейшего интереса людьми. Через два часа наша коляска остановилась на берегу забытого богом и людьми лесного озера. Лишь одна маленькая, кособокая деревушка развалилась на одном из дальних берегов этой окружённой лесами чаши. Молча двигаясь вдоль берега по узкой тропинке, петлявшей среди упавших стволов и полу-сгнивших веток, мы радовались умиротворяющему запаху грибов и прелых листьев. Слабый ветерок и низкое сентябрьское солнце накрыли поверхность воды серебристой рыбьей чешуёй. В голове пролетели обрывки мыслей: странно, я столько времени посвящаю чужим людям, ничего не зная при этом о собственном муже. Каким он был до встречи со мной? Был ли когда-нибудь серьёзно влюблён? А что, если у него где-то живут взрослые дети? — Шарль, расскажи мне о себе, о своём прошлом. Ведь я о тебе ничего не знаю. — А тебе на самом деле хочется что-то обо мне знать? — Да. Ведь мы, прожив вместе два года, так и не познакомились. Вернее я не познакомилась с тобой. — Вообще-то я не очень люблю о себе рассказывать. Подчас больно ворошить прошлое... хотя... с другой стороны... почему бы и нет... Только с одним условием: ты не будешь перебивать и задавать вопросы. — Обещаю не издать ни единого звука. — Ну что ж. Давай знакомиться: Я был младшим из четверых детей, рождённым матерью в том возрасте, когда другие женщины, добросовестно исполнив обязанности деторождения, выходят на покой, с чистой совестью наслаждаясь правом на заслуженный отдых. Мама произвела так называемого «последыша», собрав воедино остатки отпущенных ей природой сил, но, к сожалению, этих остатков не хватило на создание полноценного, здорового ребёнка. Я получился хилым и болезненным. Мама героически поила меня какими-то отварами, часами держала за столом, заставляя доесть положенную порцию завтрака или обеда, укутывала тёплыми шарфами, выводя на получасовую прогулку в парк, но... В то время, как другие дети, с визгом бегая по траве, ловили цветных бабочек, я упорно отлавливал очередной насморк или кашель. Мама, обречённо вздыхая, укладывала меня в постель, заворачивая в горчичники и шерстяные одеяла. Собственно, всё моё детство прошло в кровати с книжкой в руках. Отец, с опаской протягивая очередную книгу, всегда выражал надежду, что она не повредит моему хлипкому здоровью. Предполагаю, остатков сил, собранных моими родителями для создания четвёртого ребёнка, хватило только на здоровый, любознательный интеллект. Тело, составленное из последних крошек, упорно не хотело жить, постоянно рассыпаясь на отдельные составляющие. В восемнадцать лет я был тощим, бледным подростком с головой, забитой всевозможными знаниями и оригинальными идеями, возомнившим себя гениальным актёром. Несмотря на слёзы матери и уговоры отца, я поступил в консерваторию на актёрское отделение, с пометкой на экзаменационном листке: «попробовать на характерные роли». Понятно, что с моей внешностью в герои-любовники я не годился. Кстати, учился я на одном курсе с Бернар. Тогда она была таким же тощим, нескладным подростком, как и я, но темперамента, эпатажа... Я совершенно терялся в шквале её эмоций. После выпускных экзаменов, где она сорвала третью премию за исполнение драматической роли и вторую за комедийную... я кстати, удостоился первых премий за обе, мы были приглашены в Комеди Франсез. Правда Сара проработала там не долго. Переругавшись с дирекцией театра, она перескочила в Одеон, а я остался в Комеди. Первый значительный успех мне принесла роль Квазимодо. Таким и подобрала меня великолепная Маргарита Бюсе, звезда парижского полусвета, прожившая много лет на содержании одного из сильных мира сего. К моменту нашего знакомства он успел осчастливить её своей своевременной кончиной, не забыв завещать горячо любимой женщине более чем приличное состояние. Марго была почти на пятнадцать лет старше меня. Рослая, статная женщина с крупными, хорошо сочетавшимися друг с другом чертами лица и великолепной, живой мимикой. Она была не просто куртизанкой, а куртизанкой высшего класса: умная, хорошо образованная, обладающая исключительными манерами, она много лет принимала у себя в доме всю культурную элиту Парижа. Начинающие художники, драматурги и артисты почитали за честь быть приглашёнными к ней на обед или на вечерний приём. Уж не знаю чем я заинтересовал Маргариту, но она решительно взяла меня под свою опёку. Быстро покончила с шерстяными шарфами и горчичниками, заменив их гантелями, фехтованием, ежедневными пробежками на свежем воздухе и холодными обливаниями. Бедная мама, прослышав о нововведениях моей подруги, неделю прорыдала в постели, призывая все возможные небесные кары на голову погубительницы драгоценного сына, который, только благодаря отварам и целебным растираниям, до сих пор избегал неминуемой гибели. Мадам Бюсе занялась не только моим здоровьем, но и светским воспитанием, познакомив с интереснейшими людьми того времени. Первые месяцы, забившись в угол её салона, я только прислушивался к спорам и суждениям мудрецов, не решаясь произнести ни звука. Зато вечером, после ухода гостей, разражался вдохновенной критикой, не жалея ни яда. ни сарказма, цитируя в лицах знаменитостей и их, под час весьма противоречивые аргументы, чем немало забавлял Маргариту. Однажды Марго решила окончательно и бесповоротно вытащить меня из укрытия. — Господа, вчера мёсье Лекок рассказал мне великолепную историю, сравнив две критические статьи, отправленные уважаемым мёсье N. в один и тот же день в две разные газеты. Это было просто великолепно! В одной он написал, что... ах нет... у меня так не получится. Шарль, не будете ли Вы так любезны повторить этот шедевр ещё раз? Естественно, распушив перья, я расстарался на славу. Гости, вдоволь повеселившись, тут же углубились в дискуссию на заданную тему. Маргарита, сияя всеми ямочками и зубами, праздновала победу. Её манёвр удался. С тех пор гости не только терпели моё молчаливое присутствие в дальнем углу зала, но, время от времени, по собственной инициативе вовлекали в общую беседу. Однажды меня довели до бешенства грязные, несправедливые насмешки над «Олимпией», впервые выставленной в Салоне Эдгаром Мане. Мне картина казалась абсолютно гениальной, ни с чем не сравнимой по манере письма и захватывающим дух ощущениям. Официальная критика громила её на корню. Я целый вечер объяснял Маргарите особую прелесть нового стиля. Наконец, притворно зевнув и потерев уставшие уши, она оборвала моё словоизвержение неожиданным предложением: — Почему я всё это должна слушать? Напиши свои мысли на бумаге и отошли в газету, как альтернативное мнение. — Но я не умею писать статьи в газеты. — Вот и учись, а я пошла спать. Утром я показал наставнице плоды ночного творчества, ожидая восхищённых похвал и громких аплодисментов. Реакция Маргариты была обескураживающей: — Ну и скукотищу же ты состряпал! Вряд ли у когонибудь достанет сил даже до середины дочитать. — А как, по твоему, нужно писать? В официальной печати все так пишут. — Поэтому-то их никто и не читает. Я, естественно, надулся и до вечера с ней не разговаривал. Даже к обеду не вышел, сославшись на боль в горле и повышенную температуру. «Заботливая» подруга, ворвавшись без стука в мою комнату, энергично сбросила с мнимого больного пуховое одеяло. Тёплый шарф, намотанный на шею, беспомощно трепеща бахромой, отлетел в дальний угол, а за ним, цепляясь за стулья и кресла, устремилась вся остальная одежда... Через час, окончательно излечившись от внезапной простуды, я выдавил из себя — А как нужно писать? — Точно так же, как ты говоришь: остро, зло, не гнушаясь парадоксами и колкостями. Только так можно выделиться из сотни авторов, заполонивших своими занудливыми рассуждениями все газеты. Ну я и написал, как она велела, что, признаюсь честно, доставило мне превеликое удовольствие. Марго кроила и лепила меня по своему вкусу. Ей даже удалось научить меня не стыдиться собственного тела. Её любимое высказывание: «Терпеть не могу красивых мужчин. Как правило, они скучны и самодовольны. Мужчина должен быть только изредка хорош собой. В особые моменты... Тогда это ценится и запоминается надолго». Она с одобрением ощупывала мышцы, подраставшие на моих руках и ногах: «Видишь, Шарль, если ты и дальше будешь так же усердно заниматься спортом, того и гляди, сможешь поднять меня на руки. То-то весело будет у тебя на руках посидеть и не обрушиться на пол». А ещё... Маргарита была невероятно азартной и щедрой любовницей, готовой заниматься этим в любое время суток. Господи, что за женщина и почему ей было отпущено так мало жизни! Мы прожили вместе почти двенадцать лет, а потом она начала болеть. Чахотка... невероятно зловредная и быстротекущая. Дважды я возил её на лечение в Италию. На пару месяцев ей становилось лучше, а потом опять наступало резкое ухудшение. Последний раз нам посоветовали швейцарские горы. Я отвёз Марго туда, поместил в самую дорогую лечебницу, но врачи сказали, что состояние уже безнадёжно. К этому времени из статной, цветущей женщины она превратилась в тощенькую, костлявую старушку. Теперь я мог без труда носить её на руках, но ни одного из нас это уже не радовало. Маргарита запретила оставаться при ней до конца. Просто велела врачу выставить меня из отеля и ни под каким видом не пускать к ней в комнату. В прощальный вечер она прочла мне своё завещание, в котором, кроме небольшого состояния, поделенного между мной и детьми, обязала развивать и совершенствовать свои таланты. Посоветовала не застревать на актёрстве, а попробовать силы в качестве режиссера, а может и драматурга. — Мальчик, ты ещё не познал себя. Ты гораздо талантливее, чем думаешь. Поверь мне. Я знаю людей. И не вздумай забрасывать спорт. Обещай добавить к прочим видам верховую езду, большой теннис и хождение под парусом... а потом... обещай через пару лет после моей смерти обязательно жениться, но не на деньгах, а по любви. Обещай не быть одиноким. Почти десять лет я не мог найти ни одной женщины, способной хоть частично заменить Маргариту, а потом понял, что такая мне уже не нужна. Я стал зрелым, уверенным в себе «желчным Лекоком», и единственно, чего мне не хватало в жизни — это занозистой, внешне нагловатой девицы, которую я мог бы опекать и за руку выводить на сцену... целый год собирал по крупицам своё мужество, а потом взял и сделал ей предложение. Вот такая история. Мы уже давно не вышагивали по тропинке, а, сами того не замечая, молча стояли у озера, размышляя каждый о своём. Чуть покрывшиеся желтизной деревья, сплошной стеной окружили тёмно-зелёную, неподвижную поверхность воды, создавая иллюзию двойного мира, выросшего из одного корня. Одна половина, устремлённая к небу, имела чётко прорисованные контуры и границы, а другая... зыбкая и размытая, затягивала в глубину, обещая встречу с неизведанными и невесомыми тайнами. Боже мой, как это похоже на нас — сверху чёткий, контрастно прорисованный облик, вызывающий то симпатию, то раздражение, а там... под корнями... совершенно иной, никому не веданный, зыбкий и таинственный внутренний мир. Как это могло случиться? Два года я прожила рядом тонким, болезненно-ранимым, неуверенным в себе человеком, видя в нём только уравновешенного, многоопытного, убеждённого в своей всемирной значимости гения Лекока. И зачем только ему понадобилась такая бесчувственная, близорукая эгоистка, как я? Глава 8 Моё появление в «Одеоне» прошло мирно и безболезненно. Я пришла туда не молодой дебютанткой, находящаяся под покровительством одного из сильных мира сего, а опытной актрисой, имеющей своё лицо и свой стиль. Новые роли уже не требовали многомесячной, напряжённой работы, вызывавшей приступы бессилия и отчаяния в первые два года. Школа Лекока приносила свои плоды. Заставляя играть женщин, чуждых моей сути, он вложил в руки опыт жизни и понимания людей, которых катастрофически не хватало той двадцатилетней, избалованной девчонке, не изведавшей ни настоящих лишений, ни человеческих страданий, которую ему приходилось силком вытаскивать на подмостки сцены. Жизнь катилась по гладкой, почти отполированной поверхности, когда вдруг... как гром среди ясного неба... я осознала, что у нас Шарлем должен родиться наследник. Это звучит совершенно нелепо: «гром среди ясного неба...»... Всего год назад, подняв вверх указательный палец, я, многоопытная мужняя жена, поучала друга Жака: «А ты разве не знал, что от этого иногда рождаются дети?» Мы с Шарлем никогда не затрагивали эту тему, как и многие другие, но поняв, что, несмотря на активное «это», у нас ничего не рождается, молча смирились с судьбой, каждый втихомолку обвиняя самого себя. Шарль, проживший двенадцать лет с Марго, так и не заимел собственных детей, хотя у неё было два сына от предыдущего покровителя. Он был уверен, что слабое здоровье в детстве стало причиной его бесплодия, а я, не сильно разбиравшаяся в медицине, пребывала в уверенности, что бесплодными бывают только женщины. И вдруг такая потрясающая новость! Шарль, растерянно моргая глазами, переспрашивал меня раз двадцать, не шутка ли это и вообще... заслуживает ли он такого счастья — на старость лет стать законным отцом... Я, гордо складывая руки на несуществующем животе, чувствовала себя если не богородицей, то во всяком случае первой женщиной в мире, удостоившейся чести выносить и произвести на свет непонятно откуда зародившуюся в ней новую жизнь. Кажется в те дни мы оба окончательно потеряли разум. Забыв всё, что недавно говорила Элизе, я с самым серьёзным видом сообщила на семейном собрании своё решение: — Ну вот и всё. С театром покончено. Теперь самое главное дело жизни — вырастить и воспитать здорового ребёнка. Мама с раскрасневшимися щеками и сияющими глазами, радостно поддержала моё решение: — Правильно. Я давно этого дожидалась. Бросаю театр и модные журналы и сажусь дома с внуком. Господи, какое счастье — наконец получить радость от малыша! Совершенно безразлично мальчик это будет или девочка! По накалившейся до предела атмосфере в комнате я поняла, что у нас над головами сгущаются тучи. Бабушки, настороженно переглянулись между собой, и Лотти, всегда более решительная и быстрая на ответ, пустила в ход всю свою подхалимскую дипломатию: — Шанталь, детка, ты слишком талантлива, чтобы зарывать себя в детских пелёнках. У тебя в голове плещутся ещё сотни нереализованных идей. Парижские дамы нам с Франческой этого не простят. Не надо спешить. Поработай ещё пару лет, а мы уж как-нибудь сами справимся. Не такие мы ещё старые. И потом... — смущённо улыбнувшись и опустив глазки, Лотти пустила в ход убийственный аргумент, — посмотри на себя в зеркало. Такая красавица. Не век же тебе одной куковать. Пора свою личную жизнь устраивать, а не внуков нянчить. Мама ошарашено переводила взгляд с одной захватчицы на другую. — Ну уж нет. Мало того, что собственную дочку практически не видела, так вы ещё и внучку хотите к рукам прибрать. С вас хватит. Вы уже своё удовольствие сполна получили. Теперь моя очередь. Лизелотта, один раз вцепившись в лакомый кусочек, не привыкла отдавать его без боя. Она вообще не привыкла отступать. — Подожди, детка, не горячись. На твой век этой радости ещё хватит. В этом деле главное начать. За одним малышом последует второй, а там, дай бог, и третий. Не успеешь оглянуться — уже и правнуки подоспели. Ты ещё молодая. Вся жизнь впереди. Наиграешься. Это нам с Франческой уже немного осталось. Может, последний раз, а ты вот кипятишься. Мы с мамой беспомощно переглянулись. Похоже, нас тут вообще не принимают всерьёз. Решительно вскинув голову, я рванулась на защиту своих прав: — Да что это такое! Забыли разве, что это мой ребёнок? Мне его и воспитывать. А законного отца вы вообще со счетов сбросили? На это раз подала голос Франческа. В отличие от подруги Лотти, она реагировала с некоторым запозданием, но более категорично: — А тебя, Элли, тут вообще никто не спрашивает. Тебе ещё в куклы играть, а не детей воспитывать. Взрослые без тебя разберутся, — и, блеснув глазами, перевела разговор на шутку: — А Лекока вообще нечего всякой ерундой от дел отрывать. Без его статей французская культура окончательно завянет. Мы с мамой, встретившись взглядами, взорвались одновременно. Хохот до слёз, до коликов в животе и спазмов в горле, сотрясал стены гостиной, отдаваясь звоном в висевшей под потолком хрустальной люстре. Наконец мама, отсмеявшись и протерев глаза, взяла меня за руку и потянула из кресла. — Поехали, дочка, обедать в ресторан. Похоже, мы обе ещё не дозрели до материнства. Вопрос о воспитании не родившегося ребёнка так и остался нерешённым. Я проработала в театре до рождественских каникул, а потом прочно засела дома. Самочувствие было не очень хорошее. Вопреки утверждению бабушек о моей недозрелости, для начинающей матери я была уже старовата — в конце января мне исполнится двадцать три. Сидение дома доставляло неописуемое удовольствие. Последние десять лет я постоянно куда-то спешила: общеобразовательный колледж, театральная школа, библиотека, выставки, театры, музыкальные концерты, репетиции, спектакли и светские приёмы... и вдруг... полная свобода от всех обязанностей. Можно спать до одиннадцати, завтракать до обеда, а потом обедать до ужина. Какая изумительная роскошь не смотреть постоянно на часы, преисполняясь ненавистью к нестерпимо быстро вращающейся стрелке! Великолепное ничегонеделание прерывалось лишь регулярными посещениями озабоченных родственников. Дважды в день появлялись тревожные лица бабушек, тут же впивавшихся в меня бесконечными расспросами: тошнит ли, болит ли, шевелится ли, а если да, то как энергично. Шарль, едва завидев их на пороге, скрывался у себя в кабинете, трусливо пережидая шквал бесполезных советов и предупреждений. Дважды в день, утром и вечером, обязательно забегала мама. В отличие от бабушек, она не кудахтала неугомонной наседкой, а веселила нас забавными шутками и безобидными анекдотами. Однажды, без всякого предупреждения, на пороге комнаты возник папа. Он нерешительно топтался в дверях, ожидая церемонного приглашения. Надо же, как он изменился за те пол года, что мы не встречались! Круглый животик, ещё недавно вальяжно свисавший из под нарядной жилетки, бесследно исчез, а щёки... они не расплывались больше мягкими складками по крахмальному воротничку, а, розовые и чисто выбритые, гордо сообщали о вернувшейся молодости и былом великолепии. Вскочив со стула, я бросилась ему на шею... как десять лет назад, когда он, приезжая с гастролей, возникал поздно вечером на пороге моей спальни. Нарадовавшись его посещению, велела подать чаю и свежих булочек с корицей, которые, судя по запаху, уже успела напечь наша замечательная кухарка. Папа, проведя рукой по ставшему плоским животу, заговорщески улыбнулся: — Чай — это хорошо, но если можно... без булочек. А ещё лучше — чашечку кофе. Мы дружно болтали ни о чём, с любопытством разглядывая друг друга. — А знаешь, дочка, я действительно рад, что становлюсь дедом. Страшно любопытно посмотреть на то, что вам удалось сотворить. Представляешь, твоя красота и лекоковская гениальность! — А если коварная природа задумала всё наоборот? Лекоковская некрасота и моя негениальность? — Не нарывайся на комплименты. Такой уж бездарной тебя тоже не назовёшь. Скажи лучше, ты на меня очень рассердилась за маму? Папин вопрос прозвучал неожиданно и фальшиво. Вся беда наших с ним отношений заключалась в том, что мы никогда не разговаривали ни о его, ни о моих чувствах. Серьёзно говорили только о театре. Во всём остальном лишь скользили по поверхности. В этот момент я не знала, чего он от меня ожидает — очередной шутки, или откровенного разговора. После минутного колебания решила, не заботясь о резонансе, повести разговор так, как хотелось мне. — Я не сержусь на тебя, но и не понимаю. Прожить больше двадцати лет с такой женщиной, как мама, а потом променять её на наивную, хорошенькую девчонку. Это всё равно, как всю жизнь лакомиться яствами лучших поваров Парижа, а потом сбежать в харчевню для извозчиков и заказать луковый суп с... извини меня... с мухами. — Насчёт мух... это ты, радость моя, несколько перестаралась, а вот что касается лукового супа в харчевне для извозчиков... В этом действительно есть особый шарм, потому что устрицы и фазаны очень быстро приедаются. — А если серьёзно? Я хочу это понять. Мало ли что ожидает меня в будущем. — А если серьёзно... то изволь. Жизнь с такими умными, сильными женщинами, как твоя мама, хороша только поначалу; чувствуешь себя избранным, выделенным из толпы привлекательных, но менее ярких претендентов. Тебя любит и ценит самая великолепная женщина в мире! Но лет этак через пять-шесть начинаешь замечать, что ты вовсе не муж, имеющий своё лицо, а объект воспитания. Она ставит перед тобой задачи и цели, которые ты, как дрессированный пудель, обязан безоговорочно выполнять. А то самое важное, что связывает супругов — нежность, любовь, страсть — превращаются в кусочки сахара, которые выдаются по счёту в награду за хорошо выполненный пассаж. И тогда действительно появляется желание сбежать в ближайшую харчевню, где тебе подадут простой луковый суп... правда, желательно, без мух. — Ну а эта девочка? Её, кажется, зовут Ариадной? Как с ней? — С ней я чувствую себя настоящим, полноценным мужчиной. Не думай, я не так наивен... я прекрасно понимаю, что нужен ей, кроме всего прочего, как трамплин для прыжка в высоту, но мне достаточно её нежности, преданности и уважения. Моей любви хватает пока на нас обоих, а дальше... жизнь покажет. Я ответил на твой вопрос? — Да папа. Ответил и очень точно. Странно, но отец повторил слова, которыми Шарль когда-то сделал мне предложение. Неужели это всеобщая мудрость зрелых мужчин, не рассчитывающих на ответную страсть молодых избранниц? Исповедь отца во многом созвучна с исповедью Шарля. Как он сказал тогда о Маргарите? «Она кроила и лепила меня по своему вкусу... А потом я стал взрослым и уверенным в себе Лекоком, и понял, что такая женщина мне больше не нужна. Мне захотелось опекать занозистую девчонку и за руку выводить её на сцену». Так и папа. Он опекает свою Ариадну, вытаскивая из артистического небытия, сам став при этом опять молодым и красивым. — Пап, дай бог тебе удачи и навещай меня почаще. Видишь, когда я стала взрослой, мы можем наконец начать серьёзно разговаривать. После его ухода я задумалась о маме. Трогательная забота о бабушках, Норберте и Софи, понимание и сочувствие к племянникам и подругам, внимание к жалобам поклонниц — все эти великолепные человеческие качества почему то никогда не проявлялись по отношению к мужу. В детстве у меня всегда было ощущение, что он перед ней в чём-то виноват, или по вредности не дотягивает до установленной ею верхней планки. Она никогда не была похожа на страстно влюблённую женщину. И вот сейчас, талантливая, молодая и красивая, она осталось одна, делая вид, что ничуть об этом не сожалеет. В детстве мама казалась мне идеалом. Даже манеру говорить, постоянно подтрунивая над собеседником, я скопировала с неё. Этот способ общения стал моей второй натурой. Даже в общении с Шарлем я не произношу ни слова в простоте и искренности. Наши диалоги напоминают полудружеские словесные дуэли, в которых побеждает тот, кто первым подловил собеседника на слабости или нелогичности. Не выйди я замуж за Шарля, взрослого, сложившегося человека, наверняка повторила бы мамину судьбу. Представляю свои гримасы в сторону мужа-сверстника, типа Жака или АнриИпполита. Я бы лезла на стенку от дурацких шуток одного, или приступов меланхолии и самобичевания другого, рисуя на своей физиономии такое... что сбежали бы они от меня не через двадцать лет, а через двадцать часов. Всё это хорошо и весело, но пора пожалуй учиться нормально общаться с собственным мужем. Он этого заслуживает. Мы с Шарлем сидим у кроватки нашего сына, маленького Марселя, появившегося на свет неделю назад, недоношенным и нежизнеспособным. Его приход в мир не был ни стремительным, ни победоносным. Он выкарабкивался медленно и мучительно, потратив на это до последней капли наши с ним общие силы. Мы со страхом смотрим на жалкое существо с большой круглой головкой и невесомыми ручками-ножками, бледноголубой паутинкой цепляющимися за воздух. Я подставила руку под эту паутинку, и она, совершенно случайно, обвилась вокруг моего указательного пальца. — Посмотри, он схватил меня за палец! Он держится за мою руку, значит не собирается от нас уходить! У меня за плечом раздалось странное бульканье... Шарль, уронив лицо в раскрытые ладони, пытался приглушить вырывающиеся из горла хрипы. — За что! Господи, за что! Его голова и плечи сотрясались от рвущихся наружу бессилия и отчаяния. Свободной рукой я гладила его седые, жёсткие волосы, пытаясь утешить и успокоить, как будто от этого сейчас зависела жизнь нашего сына. — Милый, родной мой, не надо терять надежды. Ты же видишь, он дышит, шевелится, держится за мою руку. Мы вытянем его, справимся, потому что иначе не должно быть. Сейчас ты успокоишься, и мы попробуем его ещё раз покормить. В прошлый раз мне показалось, он даже сделал несколько глотков. То ли поглаживания, то ли необходимость конкретных, целенаправленных действий привели Шарля в чувство. Он убрал руки с помятого, изборождённого слёзами лица, и, осторожно вытащив Марселя из кроватки, положил мне в руки. Я приложила к груди наше невесомое сокровище. Головка несколько раз беспомощно дёрнулась, пытаясь схватить последние глотки воздуха, и едва ощутимо прикоснулась к источнику питания. Странное, совершенно незнакомое ощущение: что-то щекотнуло и сладко потянуло меня за грудь. Три-четыре слабых усилия... и головка опять бессильно повисла на моём локте. — Ну что, опять ничего не съел? Подожди, надо следовать указаниям врача. Ему не достаёт сил сосать из груди — она у тебя ещё слишком тугая и неразработанная. Сцеди, сколько сможешь в бутылочку, а я попробую покормить его из мягкой соски. С соской получилось удачней, чем в первый раз. Марсель высосал почти тридцать грамм, и это было уже большой победой. Мы не оставляли его ни на минуту без присмотра. Спали по очереди по два часа, а потом менялись местами. Перед сдачей караула я нацеживала в бутылочку молока, писала отчёт родственникам и ложилась в постель, тут же впадая в странное состояние — то ли сна, то ли бреда наяву. Семейство, ещё недавно дравшееся за право воспитывать новорожденного, получило строжайший запрет на посещение нашей квартиры. Не дай бог занесут с улицы какую-нибудь простуду или инфекцию. В обмен на соблюдение карантинного заслона, мы обязались каждые два часа отправлять подробный отчёт о состоянии малыша. Недели медленно сменяли друг друга, а наш сын так и висел на волоске между жизнью и смертью, как будто ни как не мог прийти к однозначному решению — жить или не жить. Были дни, когда я впадала в панику и теряла надежду, и тогда Шарлю приходилось вытаскивать меня из водоворота отчаяния. Несколько раз он, потеряв мужество и последнее здравомыслие, срывался в ту же самую пропасть, и тогда мне приходилось из последних сил выуживать его на поверхность. Через месяц Марсель, так ещё ни чего и не решив, открыл глаза. Большие, круглые, серо-голубые... Они бессмысленно смотрели в пространство, не вызывавшего на бледном, крошечном личике ни интереса, ни неудовольствия. Похоже, внешний мир оставил его равнодушным. Когда-то, в долгие месяцы счастливого ожидания, мы с увлечение гадали, на кого наш ребёнок будет похож, от кого унаследует красоту и таланты... Сейчас было совершенно безразлично, станет ли он красивым и умным, или останется блеклым и бесталанным, главное, чтобы выжил. Врачи вынесли окончательный приговор — детей у нас больше не будет. Однажды домашний доктор, единственный, кто имел доступ к Марселю, принес небольшую книжечку, напечатанную на тонкой, полупрозрачной бумаге. — Вот смотрите, что мне недавно совершенно случайно попалось в руки. Эту книгу написала некая Адель Моро, много лет проработавшая сестрой милосердия в нашей миссии в Тунисе. Она лечила местное население европейскими методами и перенимала у них их медицинские секреты, что и описала в своей книге. Врач, перелистнув насколько страниц, открыл главу «Уход за ослабленными новорожденными». Миссионерка описывала метод морских купаний. Младенца ежедневно на двадцать минут опускали в тёплую морскую воду, принуждая держаться на воде и барахтаться в волнах. Она доказывала чудодейственное воздействие морской соли и активного движения на организм новорожденных, которые, по её утверждению, к годовалому возрасту практически догоняли своих, родившихся здоровыми, сверстников. — Я оставлю вам эту книжонку. Почитайте внимательно. Если заинтересуетесь — можете с этой дамой связаться. Адрес я выписал на отдельной бумажке. Живет она, кстати, недалеко от Парижа. Метод, описанный мадам Моро, казался с одной стороны очень убедительным, но с другой... трудно выполнимым. Откуда мы в парижской квартире возьмём море и волны. Не ехать же с полуживым Марселем в Тунис! И тем не менее Шарль написал обширное письмо миссионерке, подробно описав постигшую нас беду. Неделю спустя она уже стояла перед детской кроваткой, с ласковым сочувствием рассматривая маленького пациента. — Да, уважаемые родители, тут есть над чем поработать. Если вы готовы, составим план лечения прямо сегодня. Честно говоря, я лично ещё ни к чему не было готова, но Шарль, без предупреждения перехватив инициативу, уже сидел с мадам Моро за письменным столом и записывал под её диктовку шаги первой необходимости. После ухода мадам я, со свойственной мне энергией, бросилась на защиту здоровья и жизни сына: — Да как ты мог, ничего как следует не обдумав, сходу принять предложение этой авантюристки? — Я досконально прочёл её рассуждения и доводы, и они показалось мне вполне убедительным. Основной принцип не отличается от того, что сделала в своё время со мной Маргарита — укрепление тела через активные движения и водные процедуры. — Но тебе тогда было уже восемнадцать, а Марселю нет ещё и двух месяцев! — Если бы моя мама вместо шерстяных шарфов и одеял, вовремя прибегла к активному спорту, не дожил бы я до восемнадцати лет малахольным уродом. — Или вообще до восемнадцати лет не дожил бы. — Не говори глупостей и не трусь. Если мы через два-три сеанса заметим, что его организм с нагрузкой не справляется — прервём. Через два дня в квартиру въехала огромная цинковая ванна на тяжёлой деревянной подставке, батарея вёдер, груда простыней, полотенец и ещё тысяча мелочей непонятного ни одному здравомыслящему человеку предназначения. Наконец наступило самое страшное, что уже неделю регулярно преследовало меня в ночных кошмарах — первое купание Марселя в морских волнах. Мадам Моро, крупная, энергичная женщина с громким голосом и изрытым оспой лицом, раздавала команды направо и налево. Наш малочисленный персонал — две горничные, кухарка и специально нанятая для новорожденного няня, так и не успевшая приступить к своим прямым обязанностям, носились по квартире, как хорошо вымуштрованная рота солдат, выполняя короткие приказы опытного генерала. Наконец плацдарм был полностью подготовлен для боевых действий. Миссионерка трижды проверила локтём температуру, насыпала из кулёчка привезённой из Туниса морской соли, несколько раз опуская в воду палец и пробуя раствор на вкус. — Так. А теперь на сцену выходят родители. Нечего стоять, выпучив от страха глаза. Ваша задача — создавать волны, но пожалуйста — никаких штормов. Сегодня нам нужен лёгкий, утренний бриз. Вот так. Мадам Моро показала рукой, как нужно слегка пошевеливать воду, создавая в ванне небольшое волнение, и сразу, не дав ни минуты на репетицию, взяла на руки Марселя. Я завизжала, как ужаленная осой собака. Шарль, шлёпнув меня по руке, отдал короткий приказ: — Нам нужны волны, а не кудахтанье обезумевшей наседки. Давай работай. И вот наш бледный, даже толком не накормленный мальчик, уже барахтается в волнах, создаваемых извергамиродителями. Большая, мягкая ладонь мадам воздушной подушкой лежит у него под грудью, придерживая большим и указательным пальцами раскачивающуюся над водой головку. Марсель, тихонько скуля, едва перебирает в воде ручками и ножками, сморщив голубоватое личико в гримасу страдания. Ещё пару секунд... и мои ватные ноги, медленно теряя опору, ускользнут под цинковую ванну. Если бы не Шарль, я давно вырвала бы сына из лап этой проклятой миссионерки... Как он может, равнодушно взирая на страдания ребёнка, преспокойно купать руки в тунисской соли? Даже не взглянув в мою сторону, Шарль тихонько шепнул: — Иди, присядь в кресло. Не дай бог свалишься и разобьёшь голову. Она нам с сыном ещё пригодится. — Не свалюсь. Всё хорошо. Я уперлась ватными коленями в борт ванны и заставила себя сосредоточиться на волнообразном ритме. Минут через пять мадам Моро опять опустила локоть свободной руки в воду и потребовала добавить тёплой воды, разговаривая при этом только с Марселем: — Вот умница, вот молодец, давай, давай, двигай ножками. Скоро они станут такими крепенькими, что сможешь бегать за девушками. Вот тогда то и начнутся для твоей мамочки настоящие тревоги. Сейчас пока только цветочки. Мы ещё один раз добавили тёплой воды и соли по вкусу, прежде чем купальщица, внимательно осмотрев личико Марселя, постановила: — Всё. На первый раз хватит. Не будем человека переутомлять. Сейчас ополоснём его в пресной водичке, хорошенько разотрём, намажем маслицем и спать. Обещаю, после сна он потребует двойную порцию обеда. К моему удивлению, проснувшись, он действительно съел вместо обычных тридцати граммов, сто пятьдесят. Всю неделю мадам Моро приходила к нам в точно назначенное время и купала Марселя, ежедневно увеличивая продолжительность упражнений на две минуты. Под конец, нам стало казаться, что его руки и ноги движутся энергичней, чем в первые дни, а личико выражает если не удовольствие, то во всяком случае не страдание. Миссионерка, подробно объясняя смысл происходящего, давала наставления на ближайшие дни: — Следующую неделю вы будете работать самостоятельно. Только не вздумайте лениться и пропускать купания. В этом методе самое важное — непрерывность нагрузки. Пару раз пропустите — придётся всё начинать с начала. Я навещу Марселя через неделю и решу, как действовать дальше. Первое самостоятельное купание проходило в суете и препирательстве: мы с Шарлем не могли решить, кто изображает воздушную подушку, а кто делает волны. Наконец, уставший от перебранки отец, объявил волевое решение: — У меня руки больше... и не так трясутся. Держать его буду я. Твоя трясучка годится только для волн. Только аккуратнее. Не шторми. Отказавшись от дальнейших дискуссий, я молча подчинилась авторитету мужа. Надо отдать ему должное — он всегда почему-то оказывается прав. Похоже, эти купания действительно идут Марселю на пользу. Во всяком случае не вредят. Милый Шарль, до чего же ты немыслимая воображуля! У тебя не дрожат руки? Господи, да твои руки ходят ходуном, как и мои! После первых двух оборотов от одного берега ванны до другого, пот стекал градом по лицу новоявленного миссионера. Марсель, почувствовав, чужие, неумелые движения, напрягся и вообще перестал шевелить конечностями, покорно отдавшись на произвол своей нелёгкой судьбы. Шарль возил его по воде, как бумажный кораблик, сосредоточив всё внимание на бессильной головке, ежесекундно грозившей потонуть в волнах. Приостановив лёгкий, утренний бриз, я машинально подставила ладонь под крошечные стопки, слегка согнув ему ноги в коленях. В этот момент произошло чудо. Марсель, оттолкнув мою руку, распрямил ноги. Этот первый, слабый толчок, первое активное сопротивление чужой воле, был ощутим и великолепен. — Ну ка, повтори ещё раз. Подставь руку! Глаза Шарля наполнились восторженным любопытством. Я подставляла руку вначале под ножки, а потом и под ручки сына, вынуждая его двигаться и активно сопротивляться. Это было практически наше с ним первое осознанное общение. Закончив купание, мы, досконально соблюдая инструкции мадам Моро, ополоснули измученного Марселя в пресной воде, смазали принесёнными Адель маслами и уложили в кроватку. — Господи, я не знаю, как с этим справляются тунезийки, но для меня такие купания — непосильный труд. Шарль, нежно поглаживая мои, распухшие от солёной воды руки, задумчиво произнёс: — Всё же женщины — удивительные существа. Пока мы, павлины, распушив хвост, представляемся решительными и смелыми, вы, не стыдясь своей слабости, интуитивно делаете то, что нам никогда не пришло бы и в голову. Какая ты у меня умница! Следующие купания мы, все трое, преодолевали уже спокойнее. Наши руки, приобретя некоторый опыт, перестали пугать Марселя, а необходимость сопротивления заряжала его азартом. Он висел неподвижно в воде, пока я не подставляла ему под пятки руку. Чем энергичнее я сгибала его колени, тем сильнее становились толчки. Теперь Шарлю не надо было возить его по воде. Он продвигался вперёд сам. Последнее, седьмое купание стало настоящим праздником победы. Даже с шампанским. Шарль, бережно направляя сына к себе, вдруг заурчал и расплылся в счастливой улыбке. — Ой, смотри. Вот это да... Сейчас мы поплывём к маме, а она посмотрит на наше лицо! Развернув Марселя ко мне, он, бережно поддерживая головку, плеснул малышу на спинку немного воды. Мне навстречу двигались два огромных, сияющих голубизной глаза и широченная беззубая улыбка ребёнка, признавшего наконец, что мир, в который он так неохотно явился, на самом деле не так уж плох. Мадам Моро, приехав, как и обещала, в начале следующей недели, сразу заметила произошедшие с мальчиком перемены. Он, почувствовав знакомые, уверенные руки, сконцентрировал на ней взгляд и радостно одарил одной из самых широченных своих улыбок. Он улыбался не просто в пространство, а именно ей. С этого дня дело пошло на лад. Адель показала новую серию упражнений в воде и «на суше», которые мы выполняли с полной самоотдачей и послушанием. Сын начал потихоньку прибавлять в весе, признавая оба источника питания — маму и соску. Возможно, он мог бы уже обойтись только мамой, но Шарль... он был так счастлив ролью кормящего отца, что лишать его этой привилегии было бы слишком жестоко. Следующим шагом, объявленным решительной миссионеркой, было постепенное снижение температуры воды. — Первые две недели тунезийки тоже купают своих младенцев в деревянном корыте, нагревая воду на солнце до температуры тела, а потом постепенно снижают её, пока она не сравняется с морской, приблизительно градусов до 25 — 26. После этого женщины начинают опускать детей в море. — А что они делают с детьми, родившимися зимой? — Некоторые купают в корыте до весны, а некоторые... — И что же делают «некоторые»? — А «некоторые» ничего не делают. Когда в семье уже бегает пять или шесть голодных ребятишек, женщине некогда, да и незачем думать о купаниях. Ладно. Сейчас мы говорим о другом. Знаете, почему нужно снижать температуру? В тёплой воде человек распаривается и его тянет в сон, а прохладная стимулирует активность и энергию. Кроме того, она повышает сопротивляемость к простудам и прочим инфекциям, что тоже очень важно для дальнейшей жизни. Мы давно перестали спорить с Адель. Её программа стала для нас библейским законом, а она сама — чем то вроде оракула или пророка, потому что все её прогнозы и обещания рано или поздно сбывались. Месяцам к четырём Марсель уже пытался самостоятельно садиться и научился перекатываться со спины на живот. Переворачиваясь с боку на бок, он путешествовал по нашей широченной кровати, огороженной со всех сторон подушками и стульями. Дверь для посещения родственников еще не была распахнута настежь, но мы, оставляя небольшую щёлочку, разрешили им «просачиваться» по одному. Можете себе представить, что тут началось! Моему сыну предстояло стать ещё более избалованным, чем я. Со временем всё чаще, обращая ко мне просительные лица, родственники ненавязчиво интересовались моими планами. «А как скоро ты собираешься возвращаться в театр?» Ко всеобщему разочарованию, я сообщила своё окончательное решение: — Когда мой сын научится ходить. Я просидела с ним, ежедневно занимаясь массажем и плаванием до года и двух месяцев. К этому времени он уже прочно стоял на прямых, тренированных ножках и передвигался по всей квартире, держась за мебель или протянутую ему руку. А вот на кого он будет похож — мы так и не поняли. Да и какая разница. Главное, что он выжил. Старая, навязшая у всех на зубах, народная мудрость: «Друзья познаются в беде»... Вспоминая сейчас об этом периоде жизни, мне на ум приходит другая мудрость: «Мужья познаются в беде»... и жены, естественно, тоже. Мы никогда не справились бы с нашей бедой, если бы не Шарль. Сейчас, почти четверть века спустя, я с восхищением и благодарностью вспоминаю о своём замечательном муже. Что было бы, окажись на его месте другой человек? Даже если бы наш сын и выжил, остался бы на всю жизнь не только физическим, но и моральным калекой. Сейчас, когда я пишу этот дневник, перед моими, повидавшими жизнь глазами, проходит длинная череда несчастных супружеских пар, переломавших жизнь себе и друг другу только потому, что не действовали, а искали виновного: «Ты виноват в том, что это сучилось... Нет, это результат твоей непроходимой глупости и упрямства...» Как потерпевшие кораблекрушение: в то время, как одни помогают друг другу удержаться на обвалившейся мачте, другие выясняют, кто приобрёл билеты на эту трухлявую посудину. Если ли бы не высочайшая мудрость Шарля, это стало бы и нашей судьбой, потому что причина была во мне. Многоразовые матери и передовые врачи передавали из уст в уста золотое правило для беременных женщин: хочешь выносить здорового ребёнка, восприимчивого ко всем радостям окружающего мира, не ленись, а живи за двоих. Всё, что ему нужно — это свежий воздух, здоровая пища и масса приятных впечатлений. Вторая половина беременности проходила легко и беззаботно: ни мучительной тошноты, ни распухших лица и ног, ни необузданных прихотей или приступов хандры и слезливости. Мне хотелось напоследок всего насмотреться и всё пережить вместе с ним. Шарль пытался обуздать мою активность, уговаривая спокойно посидеть дома, а не носиться по выставкам и концертам. Но могла ли я не послушать вместе с моим малышом музыку Шопена и Листа? Отклонить встречу с Элизой, только что вернувшейся из России, или приглашение Клодель, создавшей новую скульптуру? Разве можно было не откликнуться на записку Бернар и не примчаться смотреть её «Даму с Камелиями»? А первая совместная выставка Родена и Клода Моне? А Жак с его задумками опробовать себя в качестве режиссёра? В принципе я не нарушала рекомендаций врачей: много спала, много ела, часами гуляла на свежем воздухе и развлекалась, заряжаясь массой положительных эмоций. Всё могло быть так хорошо, не оступись я в тот проклятый вечер, выходя из экипажа. Просто не попала ногой на ступеньку... Врачи назвали это преждевременными травматическими родами, хотя правильнее было бы назвать поздним выкидышем. Другой муж исполосовал бы меня своими упрёками, пожизненно казня за грехи. «А ведь я говорил... просил тебя, умолял не носиться в таком состоянии сломя голову..., а ты, безответственная эгоистка... Вот теперь и расхлёбывай эту кашу. Сына загубила и мне жизнь изломала.» Не лишённая женской изобретательности, я нашла бы двести десять причин, почему в случившемся виновата не я, а он. И мы, вместо того, чтобы действовать сообща во спасение сына, ругались бы до конца жизни, перегрызая друг другу глотки. С Шарлем всё получилось иначе. Это я бичевала себя за легкомыслие. Бессонно ворочаясь по ночам в постели, захлёбывалась чувством вины и ненависти к себе. В одну из таких ночей, потеряв голову от отчаяния, выплеснула всё это мужу на голову. Он, не перебивая, выслушал поток самобичевания и закрыл тему двумя фразами, причём закрыл её на всегда: — Нене, не надо изводить себя бессмысленными упрёками. Да, ты оступилась, выходя из кареты, но могла точно так же зацепиться ногой за ковёр, пересаживаясь с дивана на кресло. От этого никто не застрахован. Даже прописав себе на девять месяцев постельный режим, ты всё равно вынуждена была бы вставать в туалет, а значит... Какая разница, почему это произошло. Важно, что нам делать дальше. Вместе и дружно. Если начнём ругаться, точно не справимся. А теперь закрой глаза и постарайся заснуть. Шарль прижал меня к себе, укутав, как маленького ребёнка, одеялом, и укачивал, пока я не задремала. Впервые за последние десять дней. Ирония судьбы! Я выходила замуж, не пылая ни страстью, ни романтической влюблённостью. Привыкала к Шарлю медленно и со скрипом. Поначалу сильно мешали его некрасивость и холодная уверенность в абсолютном превосходстве, но после исповеди у лесного озера, а потом и Марселя, поняла на всю оставшуюся жизнь: он — это лучшее, что могла подарить мне судьба. С тех пор я знала наверняка, что никогда... никогда в жизни не причиню ему боль. Мне не нужна ни раздирающая душу страсть «Вальса» Камиллы Клодель, ни гимн эротической любви «Вечной весны» Родена. Моя любовь к Шарлю — это наполненная мощью, покоем и глубокой нежностью «Лунная соната» Бетховена Глава 9 Я пишу свой дневник, не соблюдая последовательности событий. Это скорее обрывки воспоминаний, переплетающихся между собой, наплывающих друг на друга, безжалостно перемешивающих хронологию. Врядли тогда, в мои неполные двадцать восемь, я была в состоянии думать и чувствовать так, как пишу сейчас, приблизившись вплотную к пятидесяти. То, что я пишу сегодня, моё отношение к Шарлю, когда его нет больше в живых, тоска по нему, сохранившая только самое лучшее, врядли полностью отражает тогдашние чувства. Если быть честной с самой собой, а это моё право — ведь дневник я пишу не для публики, а для себя и, возможно, для моей правнучки, если ей суждено когда-нибудь попасть в этот дом... Да, для неё и для Вас, Графиня... Мы познакомились всего неделю назад, а знаем уже друг о друге так много... Да, эти красивые слова о «Лунной сонате» я пишу сегодня, а тогда... Тогда, как все женщины, вышедшие замуж совсем молодыми, я мечтала о романтической любви, вкус которой до сих пор ни разу не изведала. Моя подруга юности Элиза была чертовски права. Сыгранная любовь не проходит бесследно. Повторяясь ежевечерне на сцене, она затягивает и требует продолжения. Это плата за право проживать чужие жизни. Встречи происходят на сцене, а расставания — за кулисами. Гастроли, поездки, иллюзия свободы от семейных обязанностей, иллюзия тайны и безнаказности... Знал ли об этом Шарль? Он хорошо знал театральную жизнь, и полагаю, выбрав в жёны двадцатилетнюю девчонку, не рассчитывал на её стопроцентную верность. Важно было другое; он никогда не задавал вопросов. Собственно, за двадцать пять лет совместной жизни таких краткосрочных « полётов» в сторону было два, но вспоминается сейчас только первый. Мы играли очаровательную комедию Лопе де Вега «Собака на сене». К тому времени я была уже причислена к авторитетам. Газетные критики давно перестали «по ошибке» называть меня моим настоящим именем, мадам Лекок-Лавуа. Оно прочно ушло в небытиё. Имя Елены Альварес писалось на афишах крупными буквами и на самом почётном месте. В этой комедии я исполняла роль Дианы, молодой графини, влюбившейся в своего секретаря Теодоро — молодого человека простого происхождения. Мой главный партнёр, получивший роль Теодоро, свежеиспечённый выпускник театральной школы, был совершенно очарователен. Стройный до хрупкости, с горящими энтузиазмом глазами и чистым овалом лица, он мог бы сойти за эталон красоты, если бы не слегка кривоватый нос и верхняя губа, изогнутая неровной скобочкой. Именно эти неправильности придавали его внешности определённую мужественность и особое очарование. Служанку Марселу, мою соперницу по сценарию, играла его бывшая одноклассница. Задорная девочка, успевшая к этому моменту очень неплохо исполнить несколько комедийных ролей. Я казалась им недоступной знаменитостью, снизошедшей со своего Олимпа, чтобы поразвлечься в кои веки лёгкой, незамысловатой комедией. В перерывах мои молодые коллеги прятались в потаённых углах, постоянно шептались друг с другом и хихикали, вызывая у меня почему-то чувство досады. К началу премьеры я уже в реальной жизни ощущала себя Дианой: Зажечься страстью, видя страсть чужую, И ревновать, ещё не полюбив, Хоть бог любви хитёр и прихотлив, Он редко хитрость измышлял такую. Я потому люблю, что я ревную, Терзаясь тем, что рок несправедлив: Ведь я красивей, а меня забыв, он нежным счастьем наградил другую. Я в страхе и в сомненьи дни влачу. Ревную без любви, но ясно знаю: Хочу любить, любви в ответ хочу. Не защищаюсь и не уступаю; Быть понятой мечтаю и молчу. Поймёт ли кто? Себя я понимаю. На самом деле я себя вовсе не понимала. Зарвавшаяся актриса, перепутавшая реальность с ролью. Зачем мне, взрослой, замужней женщине этот незрелый мальчишка? Я старательно припоминала кривой нос и капельки пота, высту-пающие от волнения на лбу моего партнёра, но... каждый вечер на сцене он излучал на меня такие пылкие чувства, что в перерывах я лопалась от злости, наблюдая за его кокетством с Марселой. Воистину собака на сене. Теодоро светился радостью, когда мы с Дианой подавали ему надежду, и с тоскливым непониманием всматривался мне в глаза, пытаясь рассмотреть причину очередной холодности. Причины холодности у нас с Дианой были одинаковы — мы обе боролись с чувством, на которое не давали себе права. Мне казалось, ей проще разобраться с собой. У неё на пути стояли лишь классовые предрассудки — она графиня, а он из простонародья, но оба молоды и свободны. А я... я замужняя женщина, мать ребёнка, за здоровье и правильное развитие которого всё ещё приходилось бороться. Обманывать доверие Шарля, проявившего столько благородства? Да кто дал мне право унижать его мелкими, пошлыми изменами? Зачем мне всё это? И всё же... Глядя на лёгкую, гибкую походку Теодоро, его свежие, прихотливо изогнутые губы и вопросительно страдающие глаза... Господи, какого чёрта он опять шепчет что-то Марселе на ухо, а потом, засмеявшись, нежно целует в щёчку! Отношения между артистами театра подчинены этикету и табелю о рангах не меньше, чем отношения придворных при дворе короля. Элита, работая на сцене бок о бок с начинающими, отодвигается от них на огромную дистанцию в перерывах и на банкетах. Маститый артист не простит молодому ни панибратства, ни дружеского похлопывания по плечу. Молодёжь, если хочет удержаться в театре, должна знать своё место. И это было второй причиной, почему я не могла себе позволить даже простой дружеской болтовни с Теодоро вне сцены. Нарушение этикета было допустимо только в одном единственном случае — маститый считал необходимым обговорить с начинающим какие-то нюансы, касающиеся работы. Однажды, воспользовавшись таким предлогом, я подсела за столик, где мой герой в одиночестве уныло потягивал жидкий кофе. Я долго выискивала подходящий повод, не решаясь на столь смелую демонстрацию свой заинтересованности. Молодой человек просиял от оказанной ему чести. Заказав себе чашку чаю, я с удовольствием разглядывала вблизи свежие, упругие губы, нежную кожу щёк и пушистые, натуральные, не приклеенные усики, окантовывающие капризно изогнутую верхнюю скобочку. Какая глупость! Почему у меня, как у шестнадцатилетней гимназистки, дрожат колени и перехватывает дыхание? Ах, это всё дурацкие, любопытные коллеги, со всех сторон простреливающие нас удивлёнными взглядами! Собравшись с силами, я, бодро бубня какие-то указания к роли, разглядывала тонкие, длинные пальцы и тут... боже, какая гадость... зачем это нелепое дешёвое кольцо на безымянном и неестественно длинный, остро заточенный ноготь на мизинце? Дрожь в коленях тут же прошла, сменившись неловкостью и скукой. Торопливо закончив свои поучения, я холодно поклонилась и покинула растерянно смотрящего мне вслед юношу. Дома с наслаждением наизусть повторяла совет, полученный Теодоро от его слуги Тристана: Поверьте, мысль о недостатках Целительней, чем всякий злак; Ведь ежели припомнишь вид Иного мерзкого предмета, На целый месяц пакость эта Вам отбивает аппетит; Вот и старайтесь вновь и вновь Припоминать её изъяны; Утихнет боль сердечной раны, И улетучится любовь. Последующую неделю я честно следовала мудрому совету, постоянно вызывая в памяти нелепо заточенный ноготь и медяшку на пальце. Первые дни это действовало безотказно, возвращая утраченный покой и уважение к себе, но к концу недели эта картина, потеряв остроту и убедительность, самопроизвольно подменилась изображением длинных, волнистых волос и тоскующих глаз, заставлявших меня сожалеть об уничижительной холодности и наигранном высокомерии. Мы оба втягивались в роль, как в собственную жизнь. Прикрывшись героями, словно щитом, выплёскивали друг на друга чувства, о которых никогда не решились бы заговорить, оставаясь самими собой. Сегодня мы опять на сцене. Теодоро протягивает письмо, написанное по требованию Дианы в ответ на признание о гложущей её ревности: «Кто любит вслед чужой любви, тот жаден, В нем завистью зажжен сердечный пыл; Кто сам себе блаженство не сулил, К чужому счастью остается хладен. ...................................................................... Но я молчу, чтоб низость высоту Не оскорбила. Я остановился, Не преступив заветную черту. И без того довольно я открылся; Забыть о счастье я мудрей сочту, Иначе могут счесть, что я забылся». Принимая письмо из рук партнёра, я невольно бросила взгляд на его пальцы. Пресловутое кольцо и нелепо заточенный ноготь бесследно исчезли. Неужели заметил мою реакцию на безвкусное, мальчишеское кокетство? Смущение и нежность расплылись по моим щекам красными пятнами. Господи, с каким наслаждением я, обращаясь к реальному Теодоро, повторяла стихи Лопе де Вега: Я рассуждаю наобум, И мой несовершенный ум Судить не может безупречно. Но вот плохое выраженье: «Молчу, чтоб низость высоты не оскорбила». Я прочту Вам небольшое наставленье: Любовью оскорбить нельзя, Кто б ни был тот, кто грезит счастьем; Нас оскорбляют безучастьем. Строфы, выделенные мною жирным шрифтом, я произнесла, слегка понизив голос и сделав небольшую паузу, вкладывая в них особый смысл, важный не только для Дианы, но и для меня самой. Можно ли было назвать любовью то, что я испытывала к молодому человеку? Скорее это было некоторое помрачение чувств, пустившихся вдогонку уходящей молодости. Дожив до двадцати восьми, я ещё ни разу не была влюблена. Страсть изображала только на сцене, ни разу не испробовав это блюдо на вкус. Я захлёбывалась вдохновением и радостью только в театре, ощущая взаимодействие с благодарной публикой. Взаимная любовь с безликой толпой, без глаз и губ. Я отдавала им себя, получая взамен восторг и поклонение, но зависть и любопытство, царапнувшие меня в мастерской Клодель при виде «Вальса», усиленные разочарованием и досадой на отсутствие в реальной жизни любви к одному конкретному мужчине, возвращались в последнее время каждый раз, когда я видела молодые, счастливые лица. Сексуальные отношения с Шарлем никогда не занимали в нашей жизни ведущего места, а после года борьбы за жизнь Марселя окончательно отошли на задний план. Я часто вспоминала его рассказ о Марго, щедрой любовнице, готовой заниматься этим в любое время дня и ночи. Как он тогда сказал? «Через десять лет я понял, что такая женщина мне больше не нужна. Я хотел опекать занозистую девчонку и выводить её за руку на сцену». Что ему больше не было нужно? Какие чувства он испытывал ко мне на самом деле? Кем хотел стать; мужем или отцом? Шарль встретился с Марго, когда той было за тридцать. Опытная и темпераментная от природы или от образа жизни, она приучила неопытного мальчишку к своему способу любви, когда активность исходит от женщины. Она разжигает и направляет ответное желания партнёра. В таких парах ведомым становится мужчина. Из меня не получилось раскованной Маргариты, срывающей одеяло и одежду с любовника, симулирующего простуду. Возможно, Шарль, избалованный этой женщиной, так и не научился проявлять активность сам. А может... только с ней, постоянно жаждавшей его, он не стеснялся своей некрасивости. Или просто заскучал от моей неопытности, предпочтя в конце концов дружбу несостоявшейся страсти? На все эти « А может...» я так никогда и не получила ответа, но с годами непознанная сторона жизни вызывала у меня всё больше беспокойства и внутреннего напряжения. Коллеги по сцене, после пары бесплодных попыток втянуть меня в «закулисные шалости», давно оставили эти затеи, наградив титулом патологически верной жены. Высокопоставленные, состо-ятельные мужчины, крутящие хороводы вокруг молодых, соци-ально незащищённых актрис, даже не предлагали своих услуг, зная, что я не нуждаюсь ни в протекции, ни в деньгах, ни в дорогих подарках. Годы шли, и моя незапятнанная репутация Снежной королевы продолжала сиять то ли чистейшим хрусталём, то ли начищенным до блеска медным самоваром. Так каковы же были в те дни мои чувства к Теодоро? Могу только повторить слова поэта, произнесенные устами самого героя: О новая мечта моя, Я за тобой слежу с улыбкой, Как ты, на крыльях тучи зыбкой, Летишь в надземные края; Остановись, взываю я, Мечта моя, остановись! Ты безрассудно мчишься ввысь, С тобой мы оба безрассудны; Хотя, кто ищет жребий чудный, Тот говорит тебе: стремись! Вот я и стремилась за своей мечтой, в которой, выбранный мою объект был всего лишь символом истинного героя. Это не было ни любовью, ни влюблённостью. Это было тоской по недоставшейся мне, неслучившейся любви. В этом «полёте» за мечтой мы оба должны были сохранять хотя бы остаток рассудка. Запятнать, или слегка подпортить мою репутацию было не так уж страшно. А вот молодому человеку, только начавшему свою карьеру, следовало охранять её пуще девичьей чести. Проникни эта сплетня на страницы газет, я отделалась бы дружелюбной насмешкой, под названием «Маленькие капризы примадонны», а вот моего партнёра утопили бы по самые уши: «Молодой Жигало, не проявив особого таланта на сцене, решил, подобно Одиссею, попытать свое счастье, приволокнувшись за Богинями и Цирцеями. ». Пробиться впоследствии через предубеждение режиссёров и публики удавалось не многим. Примером тому стал мой бывший соученик Анри-Ипполит. Бедняга прокрутился на орбите Сары Бернар только два сезона, а потом, подобно своим, не более удачливым предшественникам, бесследно исчез. Одни газеты писали, что на гастролях в России он был перекуплен пожилой, вдовствующей княгиней, другие утверждали, что ему удалось вскружить голову молодой дочери миллионера, но я знаю одно: на парижской сцене он с тех пор не появлялся. А жаль. Молодой человек был действительно талантлив. Это было третьей причиной, заставлявшей меня соблюдать осторожность. Призвав на помощь свой «несовершенный ум», я каждый раз в последний момент остужала наигранной холодностью разбушевавшийся пыл Теодоро... и свой собственный. До конца сезона мы ежедневно танцевали ритуальный танец, подобный старинному менуэту: приблизившись почти вплотную друг к другу, соприкасались взглядами и кончиками пальцев, а затем, чопорно раскланявшись, отступали на пару шагов назад и в сторону. Вся эта история так и осталась бы чопорным менуэтом, не отправься мы после окончания театрального сезона на трёхнедельные гастроли по Италии. Первую остановку труппа сделала во Флоренции. Флорентийцы — восторженно благодарная публика, заряжала такой энергией, что играли мы ещё темпераментней, чем дома. Это потрясающее взаимодействие артиста и зала! Как беден по сравнению с театром вошедший в последние годы в моду кинематограф. Один раз запечатлев себя на плёнке, артист не имеет больше ни малейшей возможности что-то изменить или улучшить. Застывшая форма, повторяемая сотни раз на всех экранах мира, становится его прошлым. Изображение не стареет, но и не мудреет. Не обогащается ни новым жизненным опытом артиста, ни его разочарованиями, ни достижениями. В театре герой меняется и дозревает вместе исполнителем. Как отличались Федра или Евгения Гранде, создаваемые мною тридцатилетней, от тех, какими я сделала их в двадцать. Под воздействием флорентийцев наша «Собака на сене» приобрела воистину итальянский темперамент, а вслед за ней и мы сами. Первый вечер подошёл к концу. Бесконечные «Бис» и «Браво», цветы, заполнившие сцену своим разноцветьем и ароматом, утомительные комплименты и призывные взгляды, расточаемые флорентийскими меценатами на праздничном банкете... всё возбуждение первого вечера осталось наконец позади. У себя в номере, избавившись от тесной парадной одежды, я блаженно развалилась в кресле, накинув на плечи тонкий, кружевной пеньюар. Вдруг белая тюлевая занавеска на балконной двери слегка встрепенулась. В следующий момент на ней загорелась пунцовая роза... А через секунду зазвенел голос Теодоро, перелезшего ко мне через балконную решётку: Мечта, не уступай сомненью, Служи любви и дерзновенью И пусть грозит нам гибель злая, Мы смело скажем, погибая: Из-за меня погибла ты, А я — вослед моей мечты, Куда стремились мы, — не зная. Ох уж эти артисты, привыкшие выражать свои чувства чужими словами! В решительные моменты собственный лексикон кажется нам бедным и невыразительным. Прикрываясь готовыми текстами, мы всегда оставляем за собой щёлочку для отступления: «Ах! Это была всего лишь шутка. Мы репетировали кульминационную сцену для завтрашнего представления». Теодоро, остановившись на пороге, ждал сигнала: вернуться к себе, или войти в мою комнату. Голосом, приглушённым пережитым успехом и пряным ароматом петуний, я продекламировала следующую строфу: Итак, вперед, хотя б всечасно Грозила гибелью стезя; Того погибшим звать нельзя, Кто погибает так прекрасно. ...Рано утром мой Теодоро осторожно перелез обратно в свою комнату. В течении трёх недель ежевечерне повторялся один и тот же сюжет: пунцовая роза на фоне белой занавески и строфы стихов, на этот раз одолженных у Шекспира. Теперь мой герой перевоплотился в Ромео. Какими словами я могла бы описать сегодня чувства двадцатилетней давности? Целой пригоршней сочных прилагательных: опьяняюще, поэтично, обворожительно, весело, но среди них не нашлось бы ни одного, описывающего чувство, вдогонку которому летела моя мечта. Все милые похождения заканчиваются одинаково: возвращением в повседневную, реальную жизнь и постепенным забвением. Так было и со мной. После гастролей я вернулась в Париж, а через несколько дней мы с Шарлем и Марселем уехали к морю. Ежегодное купанье в солёных волнах всё ещё входило в программу его оздоровления. Только сейчас я поняла, как соскучилась по сыну за три недели гастролей. К пяти годам он превратился в физически крепкого мальчика со сложным характером; редко сам по себе проявлял к чему-либо интерес или высказывал конкретное желание. Мог часами бездеятельно и вяло сидеть на ковре, крутя в руке бесполезную игрушку. Его глаза загорались энтузиазмом только тогда, когда нужно было оказать сопротивление. — Марсель, пойдём в сад, поиграем в мячик? — Не хочу. Хочу в парк на карусели. Если я предлагала почитать сказку, тут же раздавалось надрывное «нет». Он хотел играть в мяч. Наш сын никогда не принимал собственных решений; он только отвергал наши. Часто у меня возникало ощущение, что он постоянно борется за самостоятельность, которую мы вовсе не пытались ограничивать. В этой поездке Шарль опробовал новый способ общения. Если он хотел, чтобы сын сперва съел истекающую соком грушу, а потом брался за яблоки, рассчитывая на отказ, любящий папа формулировал своё предложение в следующей форме: — Марсель, попробуй яблоко. Оно выглядит так аппетитно. Тут же следовал ожидаемый ответ: — Не хочу яблоко. Буду есть грушу. Если мы просто звали сына купаться, тут же получали привычное «нет». Применяя альтернативный манёвр, Шарль быстро добивался запланированного успеха. — Сынок, я думаю, сегодня тебе не стоит купаться. Вода слишком мутная. — Вот уж нет. В мутной воде даже интересней, — надрывно вскрикивал зловредный мальчишка, и мчался в воду. Если с нашей стороны не поступало никаких предложений, Марсель часами сидел на подстилке, скрестив перед собой безвольные ноги и устремив пустые глаза в пространство. Как это было похоже на первые купанья в цинковой ванне. Бессильно болтающиеся в воде руки и ноги, и глаза, полные скуки и безразличия. Малыш оживлялся, лишь почувствовав ладонь, сгибающую ему колени. Непонятный и странный характер, возгорающийся только для протеста. У меня опять, как пять лет назад, началась бессонница. Ворочаясь в постели ночами, я тряслась от ненависти к себе, искалечившей жизнь собственному ребёнку. Неужели родовая травма повредила не только тело, но и мозг? С одной стороны малыш развивался нормально: вовремя научился говорить, связно мыслил, обладал чувством юмора, но замкнутость в себе и полное равнодушие к внешнему миру, вызывая страх, заставляли думать о патологии. Его ровесники, дети моих знакомых, были, в отличие от Марселя любознательны и подвижны. Через три дня я уже не могла слышать наигранно равнодушный голос Шарля, предлагающий альтернативные решения. — Можешь мне объяснить, чего ты добиваешься своими манёврами? — Ищу способ, как с ним общаться. Пока это функционирует. — А что будешь делать потом, когда ему исполнится шестнадцать? Чтобы отбить интерес к алкоголю, предложишь ежедневно к завтраку выпивать по ведру шампанского, а чтобы он не играл в карты, каждый вечер приглашать в казино? — А у тебя есть другие предложения? — К сожалению нет. Я пытаюсь понять, что у него в голове. Почему он такой странный? — Я тоже пытаюсь это понять, но пока ничего не приходит в голову, вот и экспериментирую. — А что написано в твоих умных книгах по психиатрии? — Фрейд часто говорит об эмоциональной, подсознательной памяти, сохраняющей следы психических травм, полученных в младенчестве. Вспоминая его страдальческое личико во время первых купаний, всё время думаю об этом. А что, если он пережил их, как акт насилия над собой, и теперь продолжает инстинктивно отталкивать наши руки, как делал это тогда в ванне. Что, если это зафиксировавшийся в памяти стереотип — активность нужна только для самообороны? — Господи, ну что же нам с ним делать! — Ничего. Наблюдать и любить. И перестань грызть ноготь. Будь оптимисткой. На следующий день я попыталась стать оптимисткой. После завтрака мы, как всегда, расположились на пляже. Марсель привычно скучал. Сложив расслабленные ноги в позе лотоса, он бессмысленно ковырялся совочком в песке, тоскливо свесив голову между плеч. Полная миска аппетитных фруктов стояла у него перед носом, но он ни к чему не прикасался, потому что от нас не поступало никаких предложений. Удобно расположившись на одеяле, я вооружилась сказками Шарля Перро, решив сегодня почитать вслух «Спящую красавицу». Казалось, я стараюсь для одной себя. Шарль, развалившись на одеяле, грелся на солнышке, а Марсель лениво пересыпал песок. Дочитав сказку до конца, я отложила в сторону книгу и перевернулась на спину. Перед полуприкрытыми глазами возникла красная роза и лицо Теодоро. Неужели я тоже спящая красавица, которой предстоит проспать сто лет, прежде чем появится настоящий принц? В чём я провинилась перед злой ведьмой? Может грешу, разыгрывая чужие страсти, и в наказание за обман она отняла у меня способность любить? Промелькнувшее воспоминание вызвало новый приступ стыда и отвращения к себе. Господи, что я за человек? Сыну грозит беда, а я занята своими мелочными, пошлыми похождениями! И зачем всё это было нужно? Зачем мне этот театр, чужие судьбы, жизни, проблемы... Зачем всё это, если собственная жизнь, как несмазанная телега, трещит по всем швам и разваливается на ходу. Я перевернулась на живот и вцепилась зубами в полотенце, чтобы не завыть в голос, как обездоленная деревенская баба, пришибленная мужем и жизнью. Отсидев положенные часы на пляже, мы лениво побрели домой обедать. Дорожка вилась вдоль моря, с одной стороны ограниченная гранитным парапетом, а с другой плотным рядом дикого шиповника, дурманившим головы своим раскалённым на солнце ароматом. Марсель, крепко вцепившись мне в руку маленькой, потной ладошкой едва переставлял ноги, окончательно разомлев от жары. Вдруг... откуда только взялись силы... выдернув руку, он рванулся в колючие кусты, тут же повиснув на острых шипах. Царапая в кровь руки, я с трудом отодрала его от колючек. Несколько цветастых лоскутков его рубашонки, так и остались висеть на сучках, напоминая полу-увядшие розовые бутоны. Присев перед ним на корточки, я с недоумением и жалостью вытирала капельки крови, выступившие на расцарапанных щёчках. — Сынок, что ты потерял в этих кустах? Марсель, обиженно сморщив нос, вытаскивал шип, застрявший в ладони. — Я ничего не потерял. Просто думал... там спит спящая красавица, и кусты расступятся передо мной, как перед принцем. — Хотел разбудить принцессу? — Ну да. Ей хватит спать. Снаружи столько моря и солнца... и пахнет так вкусно... а она спит и спит. — Господи, чудо ты моё маленькое! Настоящий герой! Малыш печально шмыгнул носом и помотал головой. — Значит не настоящий, раз кусты не расступились. — Ты настоящий, просто её время ещё не пришло. Ведь ей сто лет проспать суждено. Подрастёшь немного, а там глядишь и пора будет. Сын опять вцепился мне в руку, и, шмыгая носом, зашагал по дороге. Я молча наслаждалась теплом маленькой ручки, не уставая удивляться её мягкой влажности. Значит он не только прослушал сказку Перо от начала до конца, но и придумал собственную, вообразив себя принцем. Но почему же он никогда и ни о чём не говорит с нами? За обедом Шарль, сделав ворчливо-безразличное лицо, спросил в пустоту: — А я чего то не понял, почему ведьма так рассердилась? Поняв цель вопроса, я тут же ответила первую, пришедшую в голову глупость: — Да злая была. На то она и ведьма. Марсель, отодвинув тарелку с супом, звонко и сердито начал нас поучать: — Во-первых она была не ведьма, а фея, только старая, а потом... А вы бы не рассердились, если бы вас забыли пригласить на праздник? А потом... ещё золотой вилки не приготовили... другим феям подарили, а её нет. Шарль, продолжая игру, равнодушно пожал плечами и ворчливо пробубнил: — Конечно... мне бы тоже обидно было... но зачем столько злости? Смерть то зачем ребёнку дарить? Наш сын, угрожающе вытянув пухлые губки, шлёпнул рукой по столу: — А это... чтобы впредь неповадно было... обижать. В этот момент у меня потемнело в глазах. Боже, откуда у ребёнка столько злости? Разве его, всеобщего любимца, ктонибудь обижает? вопрос: Минуту поколебавшись, я всё же задала мучивший меня — Марсель, а тебе тоже хочется кому-нибудь отомстить за обиды? Но ответа я не получила. Упрямец, уткнувшись глазами в тарелку, лениво и равнодушно поглощал остывший суп. На следующий день я читала вслух «Золушку». Зная, что Марсель, прикрывшись показным равнодушием, внимательно вслушивается в сказку, я читала её по-настоящему профессионально. Мачеха говорила зло и скрипуче, сёстры — капризно и требовательно, а Золушка — мягко и покорно. На пути с пляжа, сын, привычно вцепившись в мою руку, неожиданно спросил: — А мачехи всегда злые? В этот момент я подумала о Марии и её приёмных дочерях. Мне казалось, все давно позабыли, кто кого на самом деле родил. Все дети без исключения относились к Марии нежно и преданно. — Нет. Бывают очень даже хорошие. Не хуже родных матерей. А что? Прошла целая вечность, прежде чем мальчик ответил на вопрос. — А если с тобой что-нибудь случится, папа тоже приведет домой мачеху? Вопрос толкнул меня в спину, заставив споткнуться о лежавший посередине дороги камушек. — А почему со мной должно что-то случиться? И опять бесконечное молчание, перешедшее в едва различимый шепот: — Тебя никогда нет дома... всё время от меня куда-то сбегаешь... А последний раз совсем убежала... надолго... Я думал, уже никогда не вернёшься. Господи, почему мне ни разу не пришло в голову, что сыну меня не хватает? Три недели, как последняя эгоистка, упивалась успехом и... и этим нелепым похождением с чужим, совершенно не интересным мальчишкой, тогда как мой сын, крутя в руках бесполезные игрушки, умирал от тоски и страха, никогда не увидеть свою маму! Почему моя жизнь так нелепа и бессмысленна? Не выпуская из руки мягкой, детской ладошки, я присела перед сыном на корточки, пытаясь поймать скрытый под ресницами взгляд. — Ты боялся, что я тебя бросила? Но это не возможно. Разве я смогу без тебя жить? Ну что же ты молчишь? Но Марсель, как улитка, на секунду показав свои чувства, уже спрятался в прикреплённом к спине домике, став опять недоступным. Остаток пути мы прошли молча. На душе было тошно и муторно. За обедом Шарль опять заговорил о сказке. — Сынок, а как тебе понравилась сегодняшняя принцесса? — Никак. Она дура. Эту я не стал бы будить. Пусть спит хоть двести лет. — Почему дура? — А нечего было злую мачеху и её дочерей прощать. Они ей столько зла причинили... почему она их простила? — Автор сказал, Золушка была не только красивая, но и добрая. Потому и простила. — Ну и дура. Я бы их наказал. А вы что, думаете по другому? Меня поразила форма вопроса. Будучи профессионалом, я очень чутко реагировала на воздействие слова. Мальчик не обращался к нам, как к авторитетам. Иначе построил бы вопрос по другому. «Разве я не прав?» или «А вы со мной не согласны?». Он не смотрел на нас снизу вверх, не подвергал сомнению свою правоту. Просто вежливо интересовался нашим мнением. Вот и всё. Если не хотим его потерять, придётся обращаться с ним так, как он это постановил. На равных. Марсель заставил меня серьёзно задуматься над ответом. А правда, когда можно простить, а когда лучше наказать, отплатив той же монетой? — Я думаю, всё зависит от конечного результата. Какую бы цель ни преследовала мачеха, девочка выросла скромной, искренней и работящей. Возможно, обращайся она с падчерицей, как с собственными дочерьми, девочка стала бы такой же капризной, честолюбивой и завистливой, как её сёстры, и принц в неё никогда не влюбился бы. Мачеха, сама того не желая, принесла Золушке больше пользы, чем вреда, а значит и мстить ей по сути не за что. Что ты об этом думаешь?, — переняла я предложенную сыном форму дискуссии. — А я бы всё равно отомстил, — буркнул Марсель, и спрятался в свою раковину. Для него на сегодня тема была исчерпана, хотя он наверняка будет об этом думать дальше, делая вид, что умирает от скуки. Может показаться странным, но в эту ночь я спала значительно лучше, чем в предыдущие. Мой сын не был ни заторможенным, ни умственно отсталым. Просто он был не таким, как большинство детей в его возрасте; не прыгал на одной ножке, не щебетал без умолку трогательные наивности, не радовался новым игрушкам. Его связь с внешним миром была глубокой и прочной. Он впитывал его в себя, перерабатывая на собственный лад, подчас слишком тревожно, подчас слишком жёстко, но, главное, думал, чувствовал и жил своей напряжённой, внутренней жизнью, не имея при этом ни малейшей охоты говорить о ней с окружающими. Почему тело и взгляд оставались при этом расслабленно-отсутствующими? Не знаю. Может внутренняя активность забирала слишком много энергии? Главное, я поняла, как с ним общаться: говорить на равных и не лезть в душу, куда он всё равно никого не допустит. Беседа с пятилетним ребёнком о мести навела меня на новые мысли. Последние месяцы перед гастролями мы начали репетировать Медею по Еврипиду. Этой пьесой театр собирался открыть новый сезон. Войти в роль колдуньи-детоубийцы было не просто. Я давно переросла школьное убеждение о необходимости полного слияния с героем. Не нужно становиться другим человеком, достаточно понять его основные движущие мотивы. Но как понять эту потребность в мести любой ценой? Я сама не страдала такой жаждой. Вероятно именно поэтому в моих воспоминаниях отсутствуют описания театральных интриг, свойственные мемуарам других коллег. Публикация таких мемуаров — наилучший способ мести. На чистые листы бумаги выплёскивается весь гной, вся грязь, накопившаяся в душе, за годы работы. И тут становится совершенно не важным, кто был тогда прав, а кто виноват. Важно, кто первым прокричал в пространство: «Меня в театре окружали сплошные мерзавцы и негодяи!» Глав-ное — побольше интимных подробностей и острый, въеда-ющийся в память литературный язык. Сегодня у меня нет ни малейшей охоты вспоминать старые дрязги. Я всегда старательно избегала подобных игр: вчера ты подбил мне глаз, послезавтра я выбью тебе зуб. Даже в молодости я не мстила ни Элизе, ни Жаку за злобные выпады. Пыталась понять их ситуацию и отходила в сторону. Для меня всегда было проще прекратить прогнившие отношения, чем годами делать друг другу пакости. В течение жизни я раззнакомилась со многими людьми, навсегда прикрыв за собой дверь, не объясняясь, но и не мстя. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на такие глупости. Тем более, как в случае с Медеей или с семьями Монтекки и Капулетти. Их утраты и боль были всегда обоюдными. В таких играх, как на войне, нет победителей. Есть только побеждённые, подсчитывающие свои ранения и потери. И, тем не менее, мне необходимо понять несчастную женщину. Этот миф имеет множество версий. В одних она является беспредельным монстром, в других — жертвой, потерявшей голову от любви. Еврипид положил в основу своей трагедии наиболее жёсткий вариант. В Колхиде правил могучий царь, сын Солнца; дочь его, царевнаволшебница Медея, полюбила Ясона, они поклялись друг другу в верности, и она спасла его. Во-первых, она дала ему колдовские снадобья, которые помогли сперва выдержать испытательный подвиг — вспахать пашню на огнедышащих быках, — а потом усыпить охранителя дракона. Вовторых, когда они отплывали из Колхиды, Медея из любви к мужу убила родного брата и разбросала куски его тела по берегу; преследовавшие их колхидяне задержались, погребая его, и не смогли настичь беглецов. Втретьих, когда они вернулись в Иолк, Медея, чтобы спасти мужа от коварства его дяди Пелия, захватившего трон Ясона, предложила дочерям Пелия зарезать их старого отца, обещав после этого воскресить его юным. И они зарезали отца, но Медея отказалась от своего обещания, и дочериотцеубийцы скрылись в изгнание. Однако, получить Иолкское царство Ясону не удалось: народ возмутился против чужеземной колдуньи, и Ясон с Медеей и двумя маленькими сыновьями бежали в Коринф. Старый коринфский царь, присмотревшись, предложил ему в жены свою дочь и с нею царство, но, конечно, с тем, чтобы он развелся с колдуньей. Ясон принял предложение: может быть, он сам уже начинал бояться Медеи. Он справил новую свадьбу, а Медее царь послал приказ покинуть Коринф. На солнечной колеснице, запряженной драконами, она бежала в Афины, а детям своим велела: «Передайте вашей мачехе мой свадебный дар: шитый плащ и златотканую головную повязку». Плащ и повязка были пропитаны огненным ядом: пламя охватило и юную царевну, и старого царя, и царский дворец. Дети бросились искать спасения в храме, но коринфяне в ярости побили их камнями. По сохранившейся легенде, Коринфянам тяжело было жить с дурной славой детоубийц и нечестивцев. Поэтому, говорит предание, они упросили афинского поэта Еврипида показать в трагедии, что не они убили Ясоновых детей, а сама Медея, их родная мать. Часто любители искусства протестуют против бесконечного повторения творческого наследия древних, уповая на новые темы и новые сюжеты. Но где их взять, эти новые темы? За прошедшие тысячелетия изменился темп и стиль жизни, но человек остался прежним. У него по-прежнему пять органов чувств и с десяток основных инстинктов и потребностей. С одной стороны — жажда власти, успеха, богатства, стремление творить новое и совершенствовать себя... быть признанным обществом в целом и своими ближними в частности, а с другой — потребность любить и быть любимым. Нашими предками, как и нами, двигали пять разрушительных инстинктов: Честолюбие, Ревность, Зависть, Страх и Месть. Все существующие в мире сюжеты, будь им пять тысяч лет, или только год — кровавые катастрофы, возникающие при столкновении этих инстинктов. Другого нет и быть не может. Последующие авторы лишь переносили старые легенды в современность, окрашивая их новыми деталями, психологическими подробностями и коллизиями, характерными для их времени. Трагедии древних были лаконичнее и жёстче. Там всё сводилось к жизни и смерти. Разве имеют срок годности жалобы обманутой мужем женщины? «Я спасла тебя от быков, от дракона, от Пелия — где твои клятвы? Куда мне идти? В Колхиде — прах брата; в Иолке — прах Пелия; твои друзья — мои враги. О Зевс, почему мы умеем распознавать фальшивое золото, но не фальшивого человека!» Разве иначе оправдывают свою измену современные мужчины? «Спасла меня не ты, а любовь, которая двигала тобой. За спасение это я в расчете: ты не в дикой Колхиде, а в Греции, где умеют петь славу и мне и тебе. Новый брак мой — ради детей: рожденные от тебя, они неполноправны, а в новом моем доме они будут счастливы». Когда Шарль и Марсель уснули, я попыталась придумать свою версию современной Медеи, перенеся её ситуацию в свою жизнь. Предположим, случилось следующее: Страстно влюбившись в Теодоро, я решила прожить с ним вместе долгую и счастливую жизнь. Это решение потребовало конкретных действий. Пришлось порвать отношения с Шарлем и на всегда отказаться от Марселя. Моя семья, не поняв такого предательства, исключила меня из списка живых. Что ж, я сознательно принесла их всех в жертву во имя своей любви. Но этого оказалось мало. Мечталось, мой герой будет, как и я, счастлив, но он постоянно тоскует и жалуется: — Публика аплодирует тебе, едва завидев на сцене, а меня вообще не замечает, хотя я не менее талантлив. Тебе повезло с отцом и мужем, а меня некому было протежировать. Нынешний главный «герой-любовник» уже в том возрасте, когда пора уступать место молодым, а он, как краб, вцепился в главные роли, не давая мне ни малейшего шанса проявить себя. Я, как каждая влюблённая женщина, бросаюсь на помощь своему кумиру. Сперва оттачиваю его мастерство, доводя до полного совершенства, передав до последней капли весь свой опыт. Месяц спустя начинаю аккуратно обрабатывать главного режиссёра. По моему замыслу, он должен назначить Теодоро официальным дублёром премьера. Задача не из простых. Нынешний дублер любим публикой и труппой. Я опять беру грех на душу, рискуя собственным именем и карьерой, но в конце концов мои хитрые интриги приносят желаемый успех: молодой человек, стоящий у меня поперёк дороги, отправлен в отставку. Не ведая, кому обязан своим несчастьем, он покидает Париж. Теперь предстоит решить самую главную проблему — вывести Теодоро на сцену. Возможность у меня только одна — на время убрать с неё премьера. Ну что ж. Придётся действовать. Выбор средств не велик, и каждый из них по своему опасен. На кон поставлено моё доброе имя. Но... улыбка любимого ещё дороже. Можно подсыпать в чай надоевшему коллеге изрядную долю слабительного, привязав бедолагу на неделю к туалету. Можно послать ему фальшивую телеграмму от престарелой тётушки, обещавшей любимому племяннику изрядную долю наследства в обмен на регулярные посещения. Пусть съездит на неделю к старушке и развеет внезапно накатившую на неё грусть... Слава богу, всё проходит благополучно. У нас неделя в запасе. Теодоро выходит на сцену. Все роли он играет в паре со мной. Я, опытная актриса, знаю, как обеспечить успех партнёру. Зажигаю его своей энергией, своим вдохновением, отступая при этом чуть-чуть в тень. Пусть публика видит только его, пусть восхищается только им. Я славой уже сыта. Для гарантии, опять рискуя своей честью, через подставных лиц подкидываю парочке маститых критиков идею внеочередной сенсации: на сцене театра загорелась новая звезда. Разбуженная публика ломится в театр. Какое счастье: мой Теодоро переживает свой первый потрясающий успех. Наша безоблачная любовь длится ровно два года. Какой мерзавец, какой негодяй. Он завёл себе молодую любовницу, и вывел её на сцену так же, как я выводила когда-то его. Подонок, талантливый ученик, превзошедший свою учительницу... он сумел опорочить меня настолько, что имя моё в театральном мире стало одним из самых грубых ругательств. Вот и всё. Теперь я стою на улице без семьи, без работы, без друзей и без денег. Куда податься? На что жить? А может жить дальше вообще не стоит? Конечно я могла бы уехать в глухую провинцию. Поменяв имя, наняться в гувернантки или в компаньонки... Или соблазнить какого-нибудь старого идиота с деньгами и выйти за него замуж... но, просматривая газеты, ежедневно натыкаться на описания триумфов этой пары, построившей своё счастье на развалинах моей жизни... Что сказал молодой подонок на прощанье: «Ты плела свои грязные интриги не для меня, а для себя самой. От сытого, довольного любовника в постели значительно больше проку, чем от голодного и недовольного». Почувствовала, как не у Медеи, а у меня, от возмущения затряслись руки. Господи, как ненавидела я в этот момент ни в чём не повинного Теодоро! Непроизвольно топнув ногой и вцепившись ногтями в собственные ладони, я едва не завыла в голос, захлебнувшись яростью и жаждой мести. — Не найду себе ни минуты покоя, пока не уничтожу, не растопчу их обоих. Они получат то, что заслужили!... На это у меня ещё хватит сил! Замотав головой, я попыталась вернуться в действительность. Ну и ну... никогда не знала, что способна на такую ярость. Горло пересохло, а руки всё ещё дрожат. Потихоньку пробравшись в кухню, выпила два стакана теплой воды, постояла у открытого окна, вдыхая аромат южной ночи, сполоснула лицо холодной водой, возвращаясь постепенно к себе самой. Осторожно переступая босыми ногами, прокралась в комнату давно уснувшего Марселя, и присела на стул у его кровати. Мысли вернулись к придуманной мною Медее. Нет, я бы так не смогла. Для меня не родился ещё тот мужчина, ради которого смогла бы причинить вред этому круглому, загорелому личику со вздёрнутым носиком и аппетитными, пухленькими губами! Слава богу, это была лишь придуманная мною пьеса, но во всяком случае теперь я смогу убедительно сыграть эту роль. Сколько однако сил и нервов стоит проживание чужих жизней. Вернувшись в спальню, я юркнула под одеяло и уткнулась носом в пахнувшее солнцем и морем плечо Шарля, и, уже засыпая, успела поблагодарить бога, обделившего меня способностью терять голову от любви. Глава 10 По пути домой мы заехали на пару дней к Марии. В последних письмах она часто жаловалась на слабость и недомогание. В последнюю зиму у неё даже не хватило силпосетить нас в Париже. Дом пустовал. Многочисленные родственники, к моей огромной радости, оставили её на неделю в покое, предоставив полностью в моё распоряжение. В первый день, неожиданно оживший Марсель, носился по комнатам, разглядывая незнакомые безделушки, картины и вазы. Обстановка дома, сохранившая староиспанский колорит, приводила его в неописуемый восторг. В одно из таких путешествий он наткнулся на старинный портрет « Дамы в шляпе». Ой, мама, посмотри... Эта тётя похожа на тебя. Недавно я видел твою фотографию на обложке журнала... помнишь. Там ты тоже в красной шляпе и белой накидке. И стоишь так же боком. Помнишь? У этой тёти твоё лицо. Я с любопытством взглянула на знакомый с детства портрет, о котором Мария упорно не хотела рассказывать. Раньше я никогда не замечала сходства с этой дамой, но сегодня... То ли свет падал иначе, то ли я изменилась с возрастом, но сегодня наше сходство казалось поразительным. Мария с любопытством наблюдала за моей реакцией. Подойдя вплотную к портрету, я повторила позу нарисованной на нём дамы. — Действительно похоже? Прищурив глаза, Мария разглядывала наши лица. — Очень. Как будто с тебя написано. — Но кто она? Ты ни разу не ответила на этот вопрос. Всегда уводила пить чай. — Это моя мама. Тогда ей было около тридцати, как тебе сейчас. Твоя прабабушка. — А как её звали? — Елена. — Графиня Елена де Альварес? Значит её имя подарила мне Франческа в качестве театрального псевдонима. А она тоже знала, что мы похожи? — Мы обе это знали. Старая дама, Елеонор, которую ты в детстве видела у меня в доме — её мачеха, знала нашу маму с детства. Она сразу обратила внимание на твою с ней похожесть. — Но у твоей Элеонор был другой портрет с таким же лицом. Тогда ты сказала. что это две разные женщины? — На втором портрете нарисована прабабушка нашей матери. — Надо же, как интересно. Получается, наша внешность повторяется через четыре поколения. — Получается так. Ладно. Пошли пить чай. Всё ещё находясь под впечатлением Медеи, я искала разгадку старой истории. Франческа сказала, мать предала всю семью и сбежала с любовником в Америку, не удосужившись попрощаться со старшей дочерью. Неужели прабабушка с моим лицом совершила то, что мне нафантазировалось неделю назад? Неужели по сути своей она была Медеей, и в ночных фантазиях я увидела её жизнь? Эти мысли мучили меня целый день. Я опять вспомнила слова Жака, сказанные в ранней юности, о пороках, которые мы наследуем от предков. Неужели ярость, охватившая меня пару дней назад — ярость скрытой во мне Медеи? Неужели боги, лишив меня способности страстно любить, решили прервать наконец цепь злодеяний во имя любви? Мои фантазии, нарушая с таким трудом обретённый покой, опять набирали обороты. Пора, не взирая на сопротивление Марии, потребовать с неё объяснений. Я подождала до конца вечера, когда Марсель и Шарль спокойно посапывали в своих кроватях, заварила свежего чаю и пригласила Марию к столу. Её хозяйство всегда вызывало ощущения уюта и красоты. Сервизы, поставленные на стол, были почти антикварны. Дом полон вещей, доставшихся от предков. Старая испанская культура, охраняемая Марией бережно и с любовью, придавала её жилищу особый колорит. Она не любила новых, современных вещей, казавшихся ей холодными и безликими. Очень состоятельная женщина, она их просто не покупала и не позволяла себе дарить. Поставив на стол любимые светло-голубые фарфоровые чашки, я вопросительно посмотрела на Марию. — Знаю, знаю, о чём будешь сейчас спрашивать, — ворчливо произнесла моя драгоценная бабушка, присаживаясь к столу, — но скажи сперва, зачем тебе это нужно? Что изменят в твоей жизни эти, давно забытые всеми истории? С детства я привыкла быть с Марией откровенной. Она никогда не давала прямых советов, но, рассуждая вслух, умела направить мысли в нужное русло. Когда-то, в самый сложный период сомнений, граничивших с отчаянием, она была первой, кому удалось поставить мою перевёрнутую голову на место. И на этот раз я не стала прятаться в раковину, как это делал мой сын, а честно рассказала о Медее и страхе, повторить жизнь её матери, естественно, опустив историю кратковременного, нелепого романа. Просто упомянула молодого коллегу, которому предстояло играть Ясона. Уперев лицо в сплетённые под подбородком руки, Мария внимательно выслушала рассказ, лишь изредка движением указательного пальца останавливала поток моего красноречия, уточняя отдельные моменты. — Ну что я могу сказать? Вижу, это не досужее любопытство. Хорошо. Расскажу некоторые детали. Твоя прабабушка не была Медеей, но с детства любила одного единственного мужчину — своего мужа. А ещё... была очень талантливым человеком, хотя не занималась, как ты, искусством. Просто талантливым... во всём, что делала, чем увлекалась. И матерью была замечательной. Наша мама никого не предавала. Эту версию придумал отец, чтобы оправдать их разрыв. Вот и всё. — Но почему произошёл этот разрыв? — Ох. Так не хочется об этом говорить... Ну ладно... Она была внебрачным ребёнком, а мой отец, вернее род Альваресов, превыше всего ставил чистоту крови. Когда он узнал, кем была её настоящая мать... не справился с этим и выгнал из дома. — Её мать была публичной женщиной? — Нет. Ещё хуже... во всяком случае для Испании и для графа Филиппа де Альвареса... — Разве может быть что-то, ещё хуже? — Может. Или тогда могло быть. Она была еврейкой. — Ну и что? Неужели это так страшно? — Для меня — нет... а для него и для Франчески — да. — Поэтому она уехала, не попрощавшись с Франческой? — Не поэтому. Муж запретил её встречаться с нами. Я сама нашла маму и встретилась с ней, а Франческа не искала. Мы с мамой и Элеонор решили, ей лучше не знать правды. В этом смысле она, как отец, очень враждебно относится к еврейской нации. В этом Мария была права. Вспомнился скандал с Нобертом из-за Софи. С какой убеждённостью она кричала о предательстве евреев! — Одного не могу понять. Почему, несмотря на нашу с прабабушкой похожесть, Франческа с такой любовью относится ко мне? Мария переставила чашку подальше от края стола и разгладила слегка сбившуюся под ней салфетку. — Ты ведь у нас специалист по человеческим душам. Сама знаешь, насколько мы все противоречивы. Думаю, Франческа была очень ревнивой. Отца ревновала к маме, маму — к нам с Мигелем, а ты... ты почти безраздельно принадлежала ей. Ну конечно, были ещё родители, Лизелотта, но они, как мне всегда казалось, оставались на втором плане. В тебе она получила маму обратно, на этот раз для себя одной. В памяти всплыла сцена в гостинице после посещения могилы графа де Альвареса. Всхлипывающая Франческа, уткнувшая лицо мне в юбку, и слова, смысл которых тогда не был понятен: «Когда ты вот так... мне кажется, она вернулась ко мне снова...». Господи, зачем людям театр, мировая поэзия и проза, когда собственная жизнь каждого из нас — это драма, трагедия и комедия в одном романе. Достаточно прожить свою собственную жизнь, чтобы так ничего и не поняв, уйти в мир иной таким же беспомощным перед самим собой, как и пришёл. Перед сном, прокравшись, к портрету прабабушки, я долго всматривалась в наше общее лицо. Да, она была красивой... даже очень красивой женщиной, но... судя по печальной складке у губ, особо счастливой себя не ощущала. Обратный путь домой мы проделали молча. Марсель мирно спал у нас на коленях, прижавшись головой к моему животу, а ноги обвив вокруг папы. Шарль чувствовал, что я чем-то встревожена, но не задавал никаких вопросов. Он, как наш сын, сам был очень скрытным человеком, мало кого допускал в душу и не считал себя в праве лезть в чужую. Это давно стало основой наших отношений; если мне хотелось что-то рассказать — он внимательно и плодотворно выслушивал, но и молчание воспринимал с пониманием. Ясно, что в данный момент я ни в сочувствии, ни в совете не нуждаюсь. На самом деле меня тревожила встреча с Франчекой. Последние годы она часто болела, силы убывали на глазах. Обмен визитами с Марией ушёл в далёкое прошлое. Ни та, ни другая уже не решались на длительные переезды. Последние два года, возвращаясь из Испании, я постоянно ловила на себе вопросительные взгляды Франчески. Она, исподтишка вглядываясь в моё лицо, пыталась прочесть правду: говорила ли я с Марией о прошлом. А я, краешком взгляда следя за ней, пыталась понять, хочет ли она эту правду узнать. Теперь, зная её отношение к еврейству, мне окончательно расхотелось об этом говорить — зачем ей такой удар в конце жизни. Мысли, скользнув в сторону, вернулись к прабабушке и Медее. Граф де Альварес, подобно Ясону, выгнав её на старость лет из дому, тут же бросился на поиски какой-то Шанталь де Пьерак. Но откуда взялся богатый американец, подобно афинскому царю Эгею, предоставивший ей новый дом и кров? Какая-то странная история, заполненная сплошными вопросительными знаками. Я не стала бы забивать себе голову этими загадками, не будь нашей с ней похожести. Прабабушка была наполовину еврейкой, но я... До сих пор считала себя смесью испанцев, французов и немцев. Еврейская кровь за пять поколений растворилась в этих потоках, но... Вспомнился давний разговор с Сарой Бернар: «Не думайте, что я всех осчастливливаю подобными советами. Вы своего рода исключение. Во-первых, я не вижу в Вас конкурентки. Пока до меня дорастёте, успею два раза состариться и четыре раза умереть. А во вторых... даже не знаю как это объяснить... что-то в Вас есть... такое ощущение, что мы — люди одной крови». Как она это почувствовала? Так звери по едва уловимому запаху отличают своих от чужих. Имело ли это открытие какоелибо значение для меня лично? В тот момент нет. Вскоре мы начали репетировать Медею. Сценарий, написанный по мотивам трагедии Еврипида, сохранив её психологическую глубину и лаконичность, был адаптирован к современному театру; ни обязательного для древней Греции хора, ни криков, ни заламывания рук в диалогах. Роль Ясона получил мой Теодоро, которого на самом деле звали Поль. В последний вечер в Италии мы с ним нежно распрощались, взаимно поблагодарив друг друга за три великолепных недели. Он был одновременно талантлив и благоразумен, что не часто встречается в нашей среде. Его не нужно было вытягивать на главные роли, как я это делала в своих фантазиях. Он их уже имел. А доброе имя своё охранял с тщательностью, поразительной для его возраста. Играя Диану и Теодоро, мы влюбились друг в друга, неужели, став Ясоном и Медеей, нам предстоит друг друга возненавидеть? Прощаясь, мы порешили на этот раз не так глубоко погружаться в своих героев. Для меня внутренняя структура пьесы была ясна. Слава богу, не нужно было играть совершаемые Медеей убийства и злодейства. Все действия происходят практически в последние два дня перед развязкой. Прошлое упоминается только в диалогах героев. Поль лепил Ясона великолепно. Он ухватил в нём самое главное. Герой, влекомый дьявольским честолюбием, рвётся, не разбирая пути, к власти. Хочет вернуть трон, отобранный у него родным дядей. Ясон позволяет Медее провести его к цели путём, залитым кровью и усеянным трупами. В тот момент для него хороши все средства. Собственно на той же идее построены детские сказки более позднего времени. Женщина, влюбившись в героя, волшебством и хитростью прокладывает ему путь к победе. Ему остаётся только в последний момент выхватить меч и срубить пару, плюющихся огнём, драконьих голов. Но детские сказки заканчиваются благополучно — влюблённые, победив зло, живут долго и счастливо и умирают в глубокой старости в один день. В них нет « потом», после свадьбы. В реальной жизни и в греческой мифологии это «потом» наступает. Ясон начинает бояться коварства жены. Её испорченная репутация становится препятствием для дальнейшего продви-жения, и доживать с ней до глубокой старости ему не хочется. Вернее, не уверен, что доживёт. Приходит время от жены избавляться, что он и делает, используя её же коварство и хитрость. Поль очень тонко и интересно обыгрывал мельчайшие переходы в стратегии Ясона: лесть, откровенное хамство и спекуляцию на былой любви. Его Ясон, бывший герой, вызывал жалость и отвращение. Его действительно хотелось растоптать. Наш прогрессивно мыслящий режиссер, Эмиль Коклен, был совершенно согласен с интерпретацией Поля, а вот мою Медею не одобрял. Уже две недели мы спорим из-за каждого эпизода, когда я пытаюсь вызвать сочувствие к несчастной женщине. — Елена, Вы играете обиженную Пенелопу, а не оскорблённую, взбесившуюся Медею, которая, подобно пышущему вулкану, извергает огненную лаву на то, что когда-то сама взлелеяла и взрастила. Она должна вызывать страх, а Вы её как будто оправдываете. Почему? Чего Вы хотите добиться? — Попытайтесь меня понять. Я не оправдываю коварную даму. Хладнокровному убийце нет оправдания. Но что мы хотим сказать публике, показывая эту трагедию? Злодейство не проходит бесследно, оно, рано или поздно, возвращается к человеку, его сотворившему. Вы согласны? — Естественно. А кто с этим спорит? Вы не открыли ничего нового. — Но ни один человек, сидящий в зале, не признает себя в негодяе. Зато каждый с готовностью узнает в себя в жертве. Поэтому и пытаюсь придать Медее колорит жертвы, пострадавшей за собственные грехи. Есть шанс, что пара зрителей, осознав принцип возвращения зла, воздержатся от дальнейших пакостей. — Ладно, считайте, Вы меня убедили. Покажите ещё раз эпизод, как Ваша страдалица убеждает Ясона принять отравленное покрывало в подарок новой жене... Подобное указание прозвучало откровенной издёвкой, не на шутку обидевшей и обозлившей меня. Вечером, почитав Марселю обязательную сказку, я отправилась за советом к Шарлю, в лицах изобразив дискуссию с Кокленом. Муж, внимательно просмотрел пьесу, разыгранную на домашней сцене, а я... закончив повествование, покорно сложила на коленях руки, предоставив себя на его суд. — Ну что я могу сказать? Твоё выступление перед Кокленом заслуживает похвалы. Рад, что ты всё ещё помнишь то, что я преподавал тебе в школе. Ну это... как понимаешь... шутка. А теперь серьёзно. Помнишь, когда ты сыграла окончательный вариант Пышки, тебе пришло множество писем от зрительниц? — Да, такое не забывается. Целый месяц потратила на ответы. — Если не ошибаюсь, все письма были от женщин, почувствовавших себя бессовестно использованными? Так? — Так. — Было ли в этой стопке хотя бы одно письмо от человека, осознавшего, что он всю жизнь использовал других? — Нет. Таких не было. — То же самое будет и с Медеей. Как бы ты её ни сыграла, ни один человек не узнает в ней себя, но, возможно, задумаются о ситуации в целом: «Стоит ли пользоваться услугами отъявленного негодяя, наёмного убийцы или убийцы по убеждению?» Ведь Ясон стал заложником Медеи, объектом шантажа. Пока он был компаньоном, всё функционировало замечательно, но как только решил идти своим путём... тут же и погорел. Согласись, по сути мерзавцами были оба. — Ну так что же делать? Как играть, если то, что я хочу сказать, всё равно никто не поймёт? — Милая, а не перепутала ли ты роль художника с ролью пастора? Тебе опять хочется поучать свою паству. Прочёл проповедь о десяти заповедях, и всё сразу одумались и перестали грешить. — А зачем же иначе всё это нужно? — А зачем Роден годами работает над своими скульптурами? Зачем Моне месяцами трудится над одной картиной? Зачем Рильке десятки раз переписывает одно стихотворение? Разве они кого-нибудь учат? Нет. Они прежде всего выражают себя, свои чувства... а мы... мы берём из их творений то, что нужно нам. Кто-то восхищается формой, музыкой, ритмом слова, игрой цвета или блеском мрамора, кто-то внутренним содержанием, а кто-то, глядя на красивый пейзаж, вспоминает свой отпуск у моря. Это наше право зрителя. Поняла? — Не знаю. Похоже у меня опять всё перепуталось в голове. А как же наши теории об особом предназначении людей, посвятивших себя искусству? — Это теории некоторых из наших собратьев, заболевших манией величия, возомнивших себя пророками, ведущими серую, безликую толпу к свету. — А ты с этим не согласен? — Не совсем... и это не проповедь, а просто размышления. Человека-творца можно назвать талантливым, а можно назвать одарённым, что гораздо точнее. Природа одарила его особыми качествами — богатым воображением, фантазией, умением остро и эмоционально воспринимать окружающий мир, и в придачу к этому дала инструмент, позволяющий выражать свои чувства и мысли. Но природа не сделала ни одного творца носителем абсолютной истины. Они — просто люди, способные к заблуждениям, как и все остальные. Поэтому особо противны те и из них, кто возомнил себя всезнающими пророками. — Но почему же ты свои статьи и книги пишешь с таким убийственным сарказмом? Когда их читаешь, можно подумать, ты единственный, кто за особые заслуги всё же получил в подарок эту «абсолютную истину»? — Ты... думаешь, поймала меня с поличным? Ошибаешься. Я не считаю себя пророком. Наоборот. С удовольствием выслушиваю альтернативные мнения. В частности твои. Подчас они бывают очень даже интересны. А сарказм — это форма выражать мысли, это приглашение к дискуссии. Задеть читателя за живое, расшевелить, если хочешь — обозлить... Это — как вызов на дуэль: разбей меня в пух и прах, если сможешь. — Да... меня ты кажется разбил. Придётся ещё раз поразмыслить над Медеей. Хотя... на самом деле я тоже не испытываю к этой даме сочувствия. Она получила по заслугам... и не стоит смягчать краски. Но какая ты всё же умница! Двумя фразами расставил всё на свои места. Собственно, мне большего и не надо. — Да, милая. Я старая, мудрая черепаха, хотя... — Что «хотя»? — Да так. Ничего. Этого тебе знать не обязательно. — И всё же? — И всё же... Жаль иногда, что мудрость мы получаем в обмен на молодость. В этот момент лицо Шарля, освещенное слабым светом настольной лампы, вовсе не казалось старым. Он опережал меня на двадцать два года. Через месяц ему исполнится пятьдесят, но время, занятое чем-то важным, забыло прочертить на его лице новые морщины; он почти не изменился и за те восемь лет, которые мы прожили вместе. Разве что седины прибавилось в густых, жёстких волосах. Ему ли, подтянутому, энергичному, успевающему за день сделать столько, сколько другие не одолеют и за неделю, жаловаться на старость? И впервые за последние два месяца после возвращения с гастролей меня охватило чувство нежности и благодарности к мужу. Ни за что конкретное. Просто за то, что он такой, какой есть. Без него мне было бы гораздо хуже. Я пересела на подлокотник его кресла и, очертив указательным пальцем контуры бровей и губ,... расстегнула верхнюю пуговицу на воротнике рубашки... До Маргариты мне конечно ещё далековато, но надо же когда-нибудь начинать... Утром я встала пораньше, чтобы пройтись до театра пешком. На ходу всегда хорошо думается. А размышляла я о собственных странностях. Восемь лет назад, играя тургеневскую Ольгу, я училась подавлять захлёстывающую меня агрессию по отношению к добропорядочной героине, а сегодня пытаюсь заставить себя сочувствовать одержимой местью Медее, не пощадившей даже собственных детей. Неужели я переучилась доброте? Или слишком увлеклась поиском скрытых смыслов и нестандартных путей? Или упрёк в эгоизме, в равнодушии к окружающим, сделанный когда-то Шарлем, настолько глубоко засел в мозгу, что я до сих пор стараюсь вывернуть себя на изнанку, учась к христианскому всепрощению? Пожалуй, настало время принять себя такой, какая есть, учиться доверять своей интуиции, своим чувствам, не ориентируясь на то, чего ожидают от меня другие. Упрёк в эгоизме — не что иное, как сильнодействующее оружие, хитрая манипуляция поведением другого человека. «Только плохие люди заботятся исключительно о себе любимом. Ты должен думать и заботиться обо мне», — говорит заядлый манипулянт. — «И тогда я готов признать тебя таким же хорошим, как я сам». Моё постоянное состояние — угрызения нечистой совести; я вечно не оправдываю ожиданий своих близких. Отдаваясь работе, недостаточно времени уделяю Марселю, заставляя ребёнка страдать от тоски по бросившей его маме. Ожидая внимания и инициативы от Шарля, почти полностью отбила у него охоту к супружеской жизни. Папа обижается за невнимание к его четырёхлетнему сыну, родившемуся годом позже Марселя. Мой сводный брат, законный продолжатель рода Лавуа, уже сейчас отличается завидной музыкальностью. Когда-то папу очень огорчил мой театральный псевдоним, взятый на прокат у испанских предков. Он рассчитывал, я украшу новыми лаврами его и без того славное имя. Теперь этот долг был переложен на плечи маленького Джильберта. Приходя к нам в гости, папа всегда берёт Жиля с собой, демонстрируя его разносторонние таланты. Наследник престола носится по всем комнатам, опрокидывая на ходу стулья и роняя вазы. Марсель тоскливо сидя на полу, смотрит на рассыпающиеся в руках неугомонного «дяди» игрушки, и сердито сопит. Папа, так и не насладившись нашими восторгами, разочарованно морщится и, не дождавшись обеда, покидает негостеприимный дом. Зато эти визиты приводят в бешенство маму. Она рассчитывала на мою солидарность, а тут такое предательство... Короче, я не оправдываю ничьих надежд и за это пожизненно награждена титулом главной семейной эгоистки. Но почему? Все эти ожидания мои близкие придумали сами. Разве я им что-нибудь обещала? Разве я обещала Шарлю стать второй Маргаритой? Обещала маме оборвать все контакты с отцом? Обещала отцу любить и восторгаться его сыном? Может они сами эгоистичны? Практически все наши обиды построены на неоправданных ожиданиях. Но кто в этом виноват: люди, не оправдавшие надежд, или те, кто требует от других того, чего они им не обещали? Только перед самым входом в театр, мне удалось наконец отключиться от рассуждений об эгоизме. Пора переселяться в Медею. Заряженная изрядной порцией справедливого гнева, я, как гладиатор, рванулась на арену, едва успев предупредить Коклена и Поля о подготовленных переменах. Какое мне дело до ожиданий Ясона, мечтающего запрыгнуть на первый попавшийся трон? Что мне за дело до старого коринфского царя, тревожащегося о благополучии засидевшейся в старых девах дочери? А эти глупые коринфянки, готовые выслушивать моё нытьё о несчастной женской доле! Прикрывшись покрывалом смирения, я сделаю вид, что раскаялась и готова на жертвы, но... Господи, как сладка будет долгожданная месть! Поль, привыкший на предыдущих репетициях к Медеестрадалице, совершенно одурел от излучаемой мною ядовитой энергии, но... Умный и талантливый мальчик, почувствовав кожей яд моей злости, быстро настроился на нужную волну. Диалог бывших супругов принял очертания поединка хитрых, хищных гиен. Коклен был счастлив. — Елена, что случилось? Вас не узнать. Это то, что надо. Вы просто великолепны. — Эмиль, спасибо за вчерашнее нравоучение. Оно оказалось очень плодоносным.. Месяц спустя, 15 октября 1894 года, Медея, роль, принёсшая мне впоследствии почти мировую славу, появилась на сцене Одеона, а вот что из этого получилось... Глава 11 Дело Дрейфуса Я не пишу исторический трактат. Это всего лишь частный дневник. Эту традицию заложила моя прабабушка. Дописывая последние страницы накануне отъезда в Америку, она ощущала себя мореплавателем, потерпевшим крушение, а свой жизненный путь — путём в одиночество, унаследованным вместе с домиком от предшественницы. Мой дневник — это диалог одновременно с двумя женщинами; с той, которая приходила сюда до меня, и с той, которая, возможно, придёт после. Графиня, Вы в своём дневнике много писали о святой инквизиции, обвиняя её в истреблении еврейского народа. Надеялись, с отменой этого инструмента тема антисемитизма навсегда исчезнет со страниц мировой истории. Испания, до последнего державшаяся за «единственно надёжное оружие победы над врагом, опасным для всего христианского мира», вынуждена была распроститься с ним с приходом на трон королевы Изабеллы. Инструмент исчез, а травля евреев... потребность, въевшаяся в сознание, как не излечимая болезнь, остаётся и по сей день одной из основных биологических потребностей человечества. Хотя... и мне очень хочется на это надеяться, Вы, моя уважаемая правнучка, читая наши дневники в двадцать первом веке, лишь удивлённо пожмёте плечами: «Надо же... неужели в те времена люди не нашли себе более важного и благородного занятия?» Я очень на это надеюсь, потому что конец девятнадцатого века взорвался одним из безобразнейших судебных процессов, вошедших в историю под названием «Дело Дрейфуса». Я не собираюсь проводить научно-исторический обзор событий тех дней. Лишь напомню Вам, моя уважаемая правнучка, официальную версию этого дела. Альфред Дрейфус родился в 1859 году в семье зажиточного еврейского фабриканта, поселившейся в Париже после франко-прусской войны 1871 года. Надо сказать, Франция была в то время первой европейской страной, предоставившей евреям равные с французами права. Дрейфусы принадлежали к так называемым ассимилированным евреям. Альфред окончил военное училище и поступил в армию инженером. В 1889 году получил чин капитана и в 1992 был принят на службу в Генеральный штаб, где оказался, по данным тех времён, единственным представителем этой национальности. В сентябре 1894 года в Генеральном штабе была обнаружена пропажа нескольких секретных документов, а через некоторое время начальник разведывательного бюро полковник Анри представил в военное министерство препроводительную бумагу, без числа и подписи, в которой адресату сообщалось об отправлении ему секретных документов. Письмо было найдено в выброшенных бумагах германского военного аташе, полковника Шварцкоппена. Полковник Фабр и эксперт военного министерства признали в этом письме почерк капитана Дрейфуса. Несмотря на расхождение во мнениях экспертовграфологов относительно авторства уличающего документа, 15 октября 1894 г. Дрейфус был арестован и по распоряжению военного министра, генерала Мерсье, предан военному суду по обвинению в государственной измене. Дело Дрейфуса разбиралось на закрытых заседаниях, доказательства обвинения не были тщательно проверены. Однако клерикальная и реакционная пресса ежедневно публиковала якобы достоверные сведения о преступлениях единственного офицера-еврея в штабе, распустив даже слух, что он уже давно признал свою вину. Военное министерство оказывало давление на суд и даже передало ему, вопреки принятым в Франции нормам судопроизводства, без ведома обвиняемого и его защитника материалы, якобы доказывающие измену Дрейфуса и не подлежащие оглашению в силу их секретности. В Министерстве возникли серьёзные разногласия: министр иностранных дел Ганото, на основании каких-то данных, не верил этому обвинению и возражал против возбуждения дела, но, судя по газетным статьям того времени, играл двойную роль, не решаясь публично обосновать свои соображения. Военный министр Мерсье, побуждаемый полковником Анри и майором Пати де Кламом, требовали военного суда над Дрейфусом. Пресса не была допущена в зал суда — заседание трибунала происходило при закрытых дверях. Дрейфус был признан виновным и приговорён за шпионаж и государственную измену к разжалованию и пожизненной ссылке на Чёртов остров, скалу в две мили длинной и полмили шириной, обитателями которой били лишь заключённый и его охрана. 5 января 1895 г. на Марсовом поле в Париже Дрейфус был подвергнут унизительной процедуре — « Гражданской казни». В последние месяцы « Дело Дрейфуса», став главной темой, обсуждавшейся не только в прессе, но и в каждой застольной беседе, раскололо общество на два враждебных лагеря — дрейфусары и антидрейфусары. Мы с Шарлем ежедневно проглатывали газеты от корки до корки, пытаясь за витиеватыми, невнятными строчками отгадать истину: что же происходит в суде на самом деле. Статьи с каждым днём приобретали всё более специфический характер. Дрейфус, его причастность к шпионажу, его человеческая судьба занимали всё меньше места. Фамилия «Дрейфус» всё чаще заменялась кличкой « этот еврей», и спор шёл не о виновности отдельного человека, а о вековой виновности еврейской нации. Францию захлестнула волна антисемитизма, газеты были полны карикатурами и заголовками: «Предатель-еврей Дрейфус», «Богатые евреи хотят замять дело Дрейфуса» Антидрейфусары, то есть антисемиты, выплёскивали в публику потоки порой абсолютно примитивной, порой хорошо продуманной и лихо аргументированной информации об опасности мирового еврейства. Дрейфусары выпускали ответные стрелы в своих противников, обвиняя их в невежестве и мракобесии. Это противостояние раскалывало не только общество, но и отдельные семьи. В воздухе пахло агрессией и гражданской войной. Все ждали развязки — показательной экзекуции осуждённого. Накануне пятого января Шарль положил на стол два именных билета — приглашения на трибуну для прессы и важных общественных деятелей, осторожно спросив: — Ты ведь тоже хочешь присутствовать на этом спектакле? — А ты что, хочешь туда идти? Зачем? — Хочу разобраться. Чтобы понять, мне нужно заглянуть в глаза этому человеку... и своим современникам тоже. А ты... ты не пойдёшь? Вопрос застал меня врасплох. Страх. Гражданская казнь — это не повешение и не гильотина. Там не хлещет кровь и не корчится в предсмертных судорогах человеческое тело, и всё таки... это такой же акт насилия. Казнь духа страшнее казни тела, потому что оставшемуся в живых телу предстоит жить с покалеченной душой.. — Ну что ты молчишь? Хочешь остаться дома? — Нет, я пойду с тобой. Ты прав, такое нужно видеть своими глазами. Мы пришли на площадь за полчаса до начала. Трибуна кишела репортёрами, вооружёнными фотоаппаратами и блокнотами. А публика... боже мой... ну точно, как в театре... повсюду бинокли, подзорные трубы, лорнеты. Январский воздух колыхался от предгрозовой духоты и напряжения. С моего места фигура Альфреда Дрейфуса была хорошо видна. Небольшого роста, стройный с выпрямленными плечами и опущенной головой. Как глупы и нелепы карикатуры на «евреяпредателя», публикуемые нашими бульварными газетёнками — длинный, горбатый вороний клюв, сально торчащие в стороны космы немытых волос, капля алчной слюны, повисшая в углу рта... Вместо всей этой гадости — аккуратные, чёткие черты растерянного, склонённого к земле лица. Он не строил из себя героя-страдальца за свободу и независимость, не произносил пламенных речей, не кидал в толпу свирепых взглядов, призывающих к мести. Ни малейшей игры на публику. Растерянность и непонимание происходящего. Барабанный бой, громкий, трескучий голос обвинителя, оглашение приговора... и растерянный полушёпот осуждённого: « Но ведь я невиновен, я невиновен...» Шпага переломлена над по-офицерски поднятой головой, сорваны и брошены в грязь осквернённые ордена и эполеты, казнь духа состоялась и тут... Из толпы, из переполненных бессмысленной злобой глоток, ядовитыми стрелами, остроугольными камнями, рванулся на площадь антисемитский вой: «Смерть еврею-предателю» « Да здравствует Франция, свободная от евреев!» Расталкивая плечами и коленями взбесившуюся массу, Шарль поволок меня в боковую улицу. Надвинув на глаза шляпу, он молча шагал к дому, мёртвой хваткой сжимая мой локоть. Марсель, сгорающий от любопытства, вцепился в нас с расспросами. Он хотел знать всё до мельчайших подробностей. Но как описать ребёнку гражданскую казнь невинного человека? Как объяснить человеку, начинающему жить, что добро побеждает только в сказках? Как отмахнуться от этих вопросов, глядя в пристальные, напряжённые глаза мальчика, который хочет всё знать? А ведь вечером мне опять играть Медею... ...Слава богу, злодеяния моей одержимой местью героини остались позади. Сверкающая золотом колесница Феба победно уносит её прочь от трупов детей и когда-то страстно любимого мужа. Занавес падает... и напряжённая тишина зала взрывается надсадными воплями. Я стою на краю рампы, благодарно кланяюсь, улыбаюсь, подбираю летящие в меня цветы и... ненавижу. Ненавижу эту рваную глотку одурманенной собственным воем толпы. Утром она осыпала проклятиями Дрейфуса и евреев, а вечером, с той же одержимостью, скандирует «Браво!» актрисе Елене Альварес. Вот она, цена славы! Вот они, наши судьи! Что может быть страшнее упивающейся своим единением массы! Сегодня она, захлёбываясь восторгом, сажает нового кумира на трон, осыпая его благоухающими цветами, а завтра... забивая камнями до полусмерти, провожает на эшафот. Толпа едина, а значит всегда права! Нас вызывают снова и снова, и я опять кланяюсь, улыбаюсь и собираю цветы... а может быть камни? С этого дня во мне что-то опять сломалось — расхотелось выходить на сцену. Как десять лет назад, душу переполнила тоска и апатия. Но сегодня не было ни стыда, ни страха перед собственным несовершенством. Была только злость за годы, принесённые в жертву наивным иллюзиям о силе искусства, делающего людей добрей и счастливее. В отличие от меня, мировое несовершенство зарядило Шарля позитивной энергией, побуждая ежечасно к активным действиям. Каждый квадратный сантиметр его письменного стола был завален книгами и брошюрами. За последние дни я уже не в первый раз просматривала приготовленную мужем литературу, открывая для себя абсолютно новое поле для размышлений. Сегодня на самом видном месте лежала книга Бернара Лазара «Антисемитизм, его история и причины», чуть подальше — толстенькая брошюра «Антисемитизм и революция», а рядом — целая стопка статей того же автора в ответ на нашумевший когдато антисемитский памфлет Э. Дрюмона «Еврейская Франция», а чуть в стороне — книга Теодора Герцеля «Новое гетто». Шарль, поправляя на ходу съехавший набок шейный платок, вошёл в кабинет и присел рядом. — Ну что, Елена Альварес, так на чьей же ты стороне? — А как ты думаешь? — Тут может быть по-всякому. Ты, как-никак, прямой потомок испанской и французской аристократии, а они всегда были людьми принципиальными, особенно в отношении евреев. Глаза Шарля шаловливо блестели, но только на поверхности. За тонюсенькой плёночкой шутки ощущалось что-то совсем другое. Интересно, а на какой он стороне? Случится ли со мной сейчас то же самое, что случилось с прабабушкой более полувека тому назад? Ну что ж, милый, держись: — А на чьей стороне могу быть я, потомственная еврейка? — Это как? — Да очень просто. Помнишь, летом у Марии, вы все удивлялись портрету моей прабабушки, похожей на меня? О ней в нашей семье всегда смущённо молчали. Франческа считала, мать сбежала от мужа к любовнику. В этот раз Мария рассказала, наконец, правду: муж, граф де Альварес, выгнал её из дома, узнав, что она внебрачная дочь испанского аристократа и еврейской женщины. — И поэтому ты считаешь себя еврейкой? — Конечно. Недавно вычитала в твоих книгах. По еврейским законам дети наследуют национальности матери, а значит она бала еврейкой, и Франческа, её дочь, тоже еврейка, и моя мама и я... и наш с тобой сын тоже еврей. Вот так-то. Закончив тираду, я злорадно посмотрела на Шарля, ожидая шквала эмоций и потока нелепых возражений. Вместо этого, почесав указательным пальцем затылок, он просто спросил: — А я... прожив с тобой почти десять лет... я тоже стал евреем? — В твоих книгах не написано, что это заразно. — А жаль. Хотя нет. Так даже лучше. — Что лучше? — Пусть я останусь одним из немногих чистокровных французов, вступившим в борьбу с мировым антисемитизмом, — важно произнёс Шарль и гордо выпятил вперёд подбородок, а я... в который раз за последние восемь лет поблагодарила, уж не знаю какого бога, за самый лучший подарок в жизни, за моего мужа. С этого дня Шарль сутками пропадал в библиотеках и архивах, делая выписки из старинных фолиантов, написанных не только по французски, но и на латыни. Гора книг и статей об истории еврейского народа и отношении к нему мировой общественности становилась с каждым днём всё выше и внушительней. В свободное от работы время он делился со мной новоприобретёнными знаниями. К моему огромному удивлению оказалось, что антисемитизм, вовсе не средневековое нововведение. Литература, описывающая якобы нелепые нравы и жестокие обычаи этого народа, существовала ещё до рождества христова, то есть до разрушения Иудеи. Почему-то религия, признававшая только одного бога, вызывала резкую неприязнь у соседей, предпочитавших делить власть над собой между многочисленными богами. Шарль давал мне читать свои выписки, сопоставляя информацию различных первоисточников и текстов из ветхого завета. За последние месяцы антисемитизм, вспыхнувший во Франции, подобно эпидемии чумы распространился по всей Европе. В газетах всё чаще проскальзывали сообщения о кровавых погромах в Польше, России, Испании и даже в Алжире. Вскоре Лекок поместил в газете «Фигаро» свою первую статью, критикующую «чумную эпидемию». К сожалению, по прошествии стольких лет я не могу дословно воспроизвести его тексты. Могу сказать только одно: его манера резко отличалась от общепринятых полемических традиций. В отличии от большинства собратьев по перу он не бранился с инакомыслящими, не обвиняя их в необразованности, легковерии и непроходимой глупости. Лекок работал не с личностями, а с аргументами. Сперва чётко и профессионально формулировал свою точку зрения, а за тем энергично громил доводы оппозиции, если таковые вообще удавалось обнаружить. В этом была его основная убойная сила — найдя неточности, нелогичности или злостное передёргивание фактов, он обрушивал на эти дефекты всё имеющиеся у него в арсенале остроумие, переходящее временами в сарказм. А запас этот был воистину неисчерпаем. Многие из лекоковских шуток становились со временем крылатыми, входя в золотой запас современного острословия. Первые же статьи в « Фигаро» привлекли в наш дом сперва Лазара Бернара, а потом и Теодора Герцеля. В последующие месяцы Бернар стал самым частым гостем. Он был всего на год старше меня, но выглядел уже пожившим и умудрённым жизненным опытом. Рядом с невысоким, подтянутым Шарлем Лазар казался пухлым и расплывшимся. Тёмные короткие волосы, не выдержав напора бушующих в голове мыслей, отступили к макушке, оставив на освобождённой территории высокий и умный лоб. Остатки потерпевшей поражение шевелюры, прочно осели на верхней губе и подбородке, образуя мягкую, идеально ухоженную окантовку сочных, слегка припухлых губ. Круглое пенсне удобно сидело на аккуратной горбинке небольшого носа. Случайный знакомый, не читавший его анархистских рассказов и язвительных статей на литературные темы, мог принять Лазара за милого, обаятельного добряка, но только в первый момент, пока тот молчал. Его манера озвучивать свои политические и литературные убеждения очень напоминала манеру Шарля: ирония и сарказм, не оставлявшие ни единого живого места на теле несчастного оппонента, имевшего неосторожность вступить с ним в дискуссию. О его прошлом я знала совсем не много. Предисловие к одной из книг информировало читателей, что родился Бернар Лазар в 1865 году в городе Ниме в семье, соблюдавшей еврейские традиции, хотя сам относился к, так называемым, ассимилировавшимся евреям — после окончания лицея учился на историческом факультете в Париже и к настоящему времени был уже известен в литературных кругах как прозаик-символист. В эти месяцы молодой человек переживал сложный период внутренней ломки. Ещё совсем недавно в одном из эссе, направленных против антисемитов, он превозносил эмансипированных евреев Западной Европы, отделяя их от отсталого восточноевропейского еврейства, погрязшего в схоластике. Он, как и Теодор Герцель, считал, что только ассимиляция способна победить антисемитизм. Осуждение Дрейфуса и всплеск шовинизма во Франции полностью перевернули их образ мыслей. Я не решалась принимать участие в дискуссии титанов, но разливать чай и молча сидеть в углу хозяйке дома всё же не возбранялось. Бернар, поясняя Шарлю своё разочарование, планировал новое направление общественной деятельности. — Вы можете меня понять, мёсье Лекок? Я ведь всю свою жизнь прожил с убеждением, что только ассимиляция евреев может побороть тысячелетний антисемитизм. Считал,наше обособление грубейшей политической ошибкой. Наивный дурак! Думал, слияние с культурой, научными достижениями, политическими и экономическими интересами той страны, в которой мы живём, сделает нас полноправными гражданами. Единственно, к чему я не призывал своих соплеменников — это менять религию. Зачем? В конце концов, добрая половина европейцев в глубине души уже давно превратилась в атеистов. Шарль внимательно вслушивался в речи гостя, покачивая в знак согласия головой. — Ну а каковы Ваши убеждения сегодня? — Да о какой ассимиляции может идти речь? В чужих домах мы всегда останемся нежеланными гостями. Как и всякому уважающему себя народу, нам нужен свой собственный дом, собственная страна и собственные законы. Я за второй « Исход». Сидя в углу за чайным столиком, я не могла оторвать глаз от возбуждённого лица Лазара Бернара, физически ощущая и разделяя его боль. Он, как и я, оставив позади себя первую половину отпущенной ему жизни, осознал, что потратил её на наивные, фантазии. Лазар потерял уважение к прогнившим насквозь соотечественникам, а я... я к озлобленной, жаждущей сенсации публике. Что за грустный итог бессмысленно прожитых лет. Как я уже писала, в те годы тема Дрейфуса и антисемитизма, расколов общество на две неравные половины, переселилась в семьи и их частную жизнь. Моя семья тоже не осталась в стороне от всеобщей войны. Очередной визит к бабушкам. В тот день по давно сложившемуся расписанию, чаепитие проходило у Лизелотты. Соблюдая еженедельный ритуал, мы с Марселем, накупив целый пакет сладостей, отправились в гости. Для сына только Франческа и Лизелотта были настоящими бабушками. Мою маму, несмотря на всё её возмущение, в этом качестве он так никогда и не признал. Самовольный мальчишка называл её не иначе, как Шанталь, или, что ещё хуже, Шанти. В свои пятьдесят всё ещё гибкая, стройная и экстравагантно одетая, она, по мнению Марселя, явно не дотягивала до настоящей доброй бабушки из сказок. Критически оглядывая её очередную шляпку, он, с присущей ему серьёз-ностью, выносил окончательный приговор: — Ты, Шанти, до бабушки не доросла. Поживи ещё лет пятьдесят, может тогда и подойдёшь на эту роль... для моих внуков. В его манере выражаться явно чувствовалось влияние отца и театральной семьи — все в жизни играли какие-то роли. Хотя в чём-то этот маленький философ был безусловно прав. Чем старше и слабее становились закадычные подруги, Франки и Лотти, тем больше они нуждались друг в друге. Последнее время они расставались только на ночь, расходясь по своим домам. Днём, от завтрака до ужина, пребывали вместе, под той или иной крышей. Им было хорошо, а нам — спокойно. Угасание физического здоровья не ослабило ни умственной активности, ни бурной реакции на события внешнего мира. В этот раз темой обсуждения был Норберт и его еврейское семейство. Франческа, с раскрасневшимся лицом и горящими гневом глазами докладывала ситуацию с поля боя: — Норберт окончательно потерял разум со своей еврейкой женой. Он уже переправил большую часть капиталов концерна в Америку и планирует в ближайшие месяцы переехать туда окончательно со всей семьёй. — А что послужило тому причиной? — То, чего и следовало ожидать. В деловых кругах все знают, что его тесть — еврей, а концерн у них общий. Вот некоторые из деловых партнёров и отказались от дальнейшей совместной работы с ними. Не испугались даже штрафных санкций за нарушение контрактов. И правильно. Сейчас патриотизм поощряется государством. Бабушкина настырная глупость действовала мне на нервы. Зачем она, когда-то умная женщина, повторяет эту газетную чушь? Не в силах сдержать раздражения, я вступила в совершенно бесполезную дискуссию: — Значит его деловые партнёры — предатели. Навредили не только себе, но и государству. В такое сложное время вместо того, чтобы экономику поддерживать, провоцируют финансовый кризис. Вторая государственная патриотка, бывшая немецкая поданная Лотти, вступается за свою подругу: — Детка, ну что ты рассуждаешь о том, в чём ничего не смыслишь! Зарылась в классическом репертуаре и дальше своего изящного носика ничего вокруг не видишь! Вот к примеру мерзавец Дрейфус. Такое доверие ему оказали. Невзирая на происхождение аж офицером в Генеральный штаб назначили, а он, тварь продажная, взял и предал отчизну. Франческа, опираясь на укреплённую подругой позицию, продолжила атаки на сына: — Вот и мой негодяй. Подумать больно. Урождённый граф де Бельвиль... прямой потомок графов Альваресов... и тоже предателем оказался. С минуту помолчав и вытерев батистовым платочком выступившие на лбу капельки пота, бабушка печально подвела итог: — Да какой он собственно граф. После стольких лет жизни с евреями сам таким же стал. Чувство жалости к двум горячо любимым старушкам, перемешиваясь с раздражением, нашло выход в горькой иронии: — А что, еврейство заразно, как холера? — Ещё хуже холеры. Не только заразно, но и передаётся по наследству. Вот так то. Я смотрела на Франческу, самоотверженно прикусив свой болтливый язык. Бабуля, родная моя, если бы ты только знала, что сама до кончиков ногтей заражена этой самой болезнью и передаёшь её по наследству от поколения к поколению. Что было бы с тобой, узнай под конец жизни правду? Примирилась бы с блудным сыном, по случайному капризу природы «заражённому» сильнее остальных, рождённых тобою детей, или возненавидела бы самою себя? Нет, доживи оставшиеся годы в мире с собой. Ты ведь тоже — каприз природы, столкнувшей в жилах одного человека мировую несовместимость. А на мать обижаться тебе по сути не за что. Она приняла в своё время мудрое решение — уехать, не сказав правды. Видать, действительно любила и понимала твою противоречивую суть. Подняв с пола выпавший из бабушкиной руки платочек, я перевела разговор на другую тему. — И что это вы, милые мои бабули, застряли на политике? Почитали бы лучше о наших знаменитых куртизанках. Похоже, парижане помешались на них посерьёзней чем на псевдопредаталях. Ну-ка, посмотрим, что эти дамы начудили в последние дни. Лотти, поняв политический манёвр, тут же переключилась на эскапады трёх жриц любви, ставших в последние годы чуть ли не главной достопримечательностью Парижа. Марсель, продолжавший дезориентировать родственников своим показным безразличием, вытянул уши и передвинул игрушки в зону слышимости. Но по пути домой заговорил не о куртизанках, а о Норберте и заразной болезни, передаваемой по наследству, загнав меня, как всегда в тупик. Единственно, что я усвоила с прошлого лета, ответы типа « вырастешь — узнаешь» с ним не проходят. Он тут же, как улитка, прячется в свой домик, после чего неделями приходится выманивать его на поверхность. Постоянное общение с сыном научило меня излагать основные премудрости в облегчённой, не теряющей объективности форме. Моя частная жизнь, временами давая крен в ту или иную сторону, двигалась, всё же, в заданном направлении, а значит вперёд. Несмотря на утрату уважения к залу, я по-прежнему разучивала новые роли, как и прежде вникая в их скрытый, психологический смысл. Сказывались привитые с детства любопытство, обязательность и дисциплина. Наш театр, чутко реагируя на настроения публики, начинил свой репертуар массой новых авангардистских пьес; жёстких, с криминальным сюжетом и преступлениями без наказаний. Билеты в театр были распроданы на два-три месяца вперёд. Странно, но почему-то Медея всё ещё оставалась гвоздём программы: нам приходилось играть её чуть ли не по два раза в неделю. Не знаю, было ли это заслугой режиссёра и исполнителей, или влиянием общего настроения. Потребности общества в раздражителях переменчивы, как погода ранней весной; временами душа требует перезвона колоколов и взбитых сливок, временами... нет ничего милее барабанного боя и круто наперченного бифштекса с кровью. В данный период, на фоне грозового неба, наша Медея была тем самым бифштексом, обильно нашпигованным острыми приправами и чесноком: местью, злостью и коварством. И хотела я того, или не хотела, но имя мое стало символом этого времени. Опять вспомнились слова Марии, сказанные много лет назад: «Почему вы, честолюбцы, не умеете просто получать удовольствие от того, что делаете, не думая ни о славе, ни о бессмертии? Если они придут — хорошо, нет — ну и не надо. Ведь не в этом суть». Тогда эта сентенция показалось самозащитой, или самооправданием обыденного, будничного героя, обречённого на безвестное прозябание. Зачем стремиться к тому, что тебе всё равно не дано? Сегодня, опробовав славу на вкус, смогла по достоинству оценить бабушкину премудрость. Манящая, терпкая пряность этого блюда очаровывает на расстоянии. Вблизи оно теряет не только запах, но и смысл. Остаётся только внутренняя суть того, что делаешь. Глава 12 После одного из таких спектаклей, завершившегося привычными овациями, мне представили импозантного немолодого мужчину с цепким взглядом выпуклых глаз, спрятавших свой размер и цвет под толстыми стёклами очков — Леопольда-Эмиля Рутлингера, олимпийского бога, «зажигающего звёзды» на парижском небосклоне. Месьё Рутлингер был известнейшим фотомастером нашего времени, успевшим уже снять весь цвет европейской аристократии. Сколотив изрядный капитал на дамах высшего общества, Рутлингер вложил его в открыточный бизнес. В его студии создавались уникальные портреты парижских красоток, разлетавшиеся по всему миру в виде почтовых открыток. Благодаря этому новомодному бизнесу мастер фотографии превратил свой небольшой капитал в сказочное богатство. Теперь он сам выбирал модели, и нужны ему были не милашки с вздёрнутыми носиками и пухленькими губками, а женщины-сенсации. Одной из самых ярких звёзд, зажжённых великим творцом женской красоты была Лина Кавальери. Рутлингер галантно склонился над моей рукой, как бы невзначай, измеряя взглядом всю в целом; от макушки до, спрятанных под юбкой, пяток. — Мадам Альварес, наконец мне посчастливилось посмотреть на Вас вблизи. Просто замечательно! Признаюсь честно, я давно искал случая с Вами познакомиться... и просить об одолжении... вернее о короткой аудиенции, естественно, если Вам это будет угодно. Безупречно вежливая поза просителя могла показаться вполне убедительной, не будь этого азартного, охотничьего блеска в глазах, который не смогли приглушить даже толстые линзы очков. Не азарт мужчины, охотника за любовью престижных куртизанок, а азарт бизнесмена, учуявшего запах добычи и прибыли. Я не стала утруждать себя ни притворным удивлением, ни наивным непониманием: — Хотите предложить поработать в Вами? — Да. Мне кажется... нет, я совершенно уверен, мы с Вами сотворим седьмое чудо света. — Ну, если всего лишь седьмое... то и время терять не стоит. — А Вы претендуете на первое? — Я ни на что не претендую. Я — реалистка. Невзирая на внутреннее сопротивление, я всё же взяла из протянутой руки визитную карточку, пообещав обдумать на досуге деловое предложение. В нынешнем состоянии апатии не только открыточный бизнес, но и его производитель вызывали раздражение. Ещё один негодяй, пожелавший использовать меня в качестве источника наживы! Проходили дни, но этот разговор вместо того, чтобы начисто исчезнуть из памяти, пустил предательские корни сомнения, подменяя первоначальную, кристально чистую злость, эдаким мутно-серым любопытством, побуждающим к постоянным внутренним диалогам: — А что собственно в этом плохого? Даже короли и королевы охотно давали писать с себя портреты. А художники, между прочим, получали за это не только деньги, но и славу. И потом... — Тут нет никаких «потом». Либо ты известна в обществе как талантливая актриса, либо как дешёвая кокотка. Того и другого одновременно не бывает, потому что одно из двух всегда вытесняет другое. Спор с собой продолжался неделю. Ежедневно делая полный оборот аргументов «за» и «против», вечером он неизбежно возвращался в исходную точку. Пока услужливая фантазия не подсунула новый довод — лица моих предшественниц, удивительно похожих на меня. Почему природа, создав этот облик, с невероятной настойчивостью повторяет его уже третий раз? Обе оставили после себя великолепные портреты, значит и я должна отдать должное капризу природы. Тусклые семейные фотографии, случайные журналистские снимки или красочные афиши, где я скорее узнаю своё платье, чем лицо... Нет. Всё это не в счет. Я должна, как они, оставить после себя портрет, сделанный настоящим мастером. Похоже, предложение Рутлингера — это судьба, и мне от неё никуда не деться. Так, мастерски договорившись с самой собой, я написала фотографу короткую записку, по светски сдержанно и равнодушно соглашаясь на переговоры. Ответная записка, переняв мой, слегка высокомерный тон, предлагала посетить Маэстро в его знаменитой на весь Париж студии, где я смогу познакомиться с выставкой лучших работ и, за чашкой чая, обсудить условия будущего сотрудничества. Ну и ну! Деловой человек, этот бизнесмен. Кто же из нас кому делает одолжение? К посещению я готовилась весьма тщательно. Хотелось создать облик серьёзной актрисы, не спешащей навстречу дешёвой популярности; имидж женщины с разносторонними интересами. Всем своим видом я намеревалась сообщить наглому предпринимателю, что в его студию привело меня любопытство к новому виду искусства, а не стремление удивить мир своими подрисованными губами и прочими округлостями. Я замуровалась в платье, тугой воротник которого упирался в самый подбородок, мешая не только дышать, но и свободно вертеть головой. Следуя заветам современных суфражисток, предоставила возможность корсету провести одинокий вечер в шкафу, заменив его скромной шалью, скрывающей от любопытных глаз истинные очертания и размеры неизбежных для каждой женщины выпуклостей и изгибов. Мёсье Рутлингер встретил меня с той же сдержанностью, с какой я протянула ему для приветствия руку. Обменявшись парой формально вежливых фраз, мы сразу перешли к делу... созерцания портретов, сделанных им за последние пять лет. Оперная певица Лина Кавальери, знаменитая балерина Клео де Мерод, испанская танцовщица Гвереро, шансонетка Отеро, три знаменитые куртизанки, уже несколько лет заполняющие сплетнями о своей интимной жизни первые страницы французских газет... Естественно, я видела много раз большинство из этих фотографий в виде красивых почтовых открыток, но эти... размером с небольшую картину... это было поистине впечатляюще, и самое главное — женщины вовсе не походили друг на друга. Рутлингеру удалось ухватить особую индивидуальность каждой из них. Как всякая нормальная женщина, я была любопытна и ревнива к выдающейся красоте своих соплеменниц, но из всей галереи выразительных глаз, чувственных губ, корсетов, превращающих женское тело в песочные часы, дорогих украшений и безупречных декольте, лавровый венок я надела бы прежде всего на Кавальери. В анфас её лицо могло показаться слишком округлым и мягким, но в профиль... Перед таким совершенством можно лишь склониться в низком поклоне и снять шляпу. Рутлингер прервал моё затянувшееся топтание перед портретами приглашением к разговору. Уютно расположившись в глубоком кресле, он щедрым жестом обвёл свои сокровища: — Вот она, маленькая лаборатория, где рождаются звёзды. Мне показалось, именно Кавальери вышла у Вас в фаворитки? — Да, Вы не ошиблись. Но почему Вы приписываете её успехи себе? Она ведь неплохая оперная певица. — Ошибаетесь. Никакая она не певица. А если и певица, то очень плохая. Знаете её историю? — Хотите поделиться очередной светской легендой? — Да. Сгораю от нетерпения. Так вот. Наталине было лет тринадцать, когда умерли её родители. Сердобольные родственники поместили сиротку в приют Римской католической церкви, откуда она, пару лет спустя, благополучно сбежала с гастролирующей театральной труппой. Уж не знаю как, но как-то добралась до Парижа и осела певичкой в одном из кафешантанов. Её внешность, естественно, привлекала внимание публики. В сочетании с приятным голосом она обеспечивала Лине неплохие доходы. Она так и осталась бы бабочкой-однодневкой, не попадись на её пути я. В роли модели она до сих пор не имеет равных. Удивительно чуткая, выносливая и пластичная. — Если я правильно поняла, её оперные таланты Вас не слишком заинтересовали? — ... потому что их у неё нет! Да, позднее она прошла курс обучения у оперного певца Маттиа Баттистини, но что с того? Пела в Травиате, Фаусте, Богеме, но знаете, что сказал ей великий Массне, который был, кстати, в неё страстно влюблён: «Ваша красота даёт Вам право иногда фальшивить». Вот Вам и таланты. Вершитель судеб вытянул щедрую длань в направлении своих великих творений. Его пухлая длань была увенчана тяжёлым перстнем — какой-то чёрный, до блеска отполированный камень в массивной золотой оправе. — Мадам Альварес, поверьте моему опыту. Ваша внешность заслуживает особого внимания. Через полгода Вы покорите мир. Я сделаю из Вас настоящую звезду. В этом человеке раздражало всё. Высокопарные жесты, интонации и... полное неуважение к окружающим людям, которых, похоже, делил на две категории: бездарные модели и тупая публика, жаждущая сенсаций. Надо признаться, в последнем я была с ним совершенно согласна. Рутлингер, казалось, прочёл мои мысли: — Да, толпа жаждет сенсаций, и я подаю их ей на блюдечке с золотой каемочкой. — Я Вас поняла. Сказочная популярность нынешних куртизанок и танцовщиц — Ваша заслуга, но я... Мне кажется, я и без Вас уже состоявшаяся звезда, во всяком случае на театральном небосклоне. Наглец упёрся мне в лицо своим линзами и заговорил интонациями родителя, поучающего неразумного, зарвавшегося ребёнка: — Мадам Альварес, милая Вы моя, да какая же Вы звезда? В лучшем случае комета, которая промчится по небу и через пару часов потухнет. И через год о ней будут помнить только несколько астрологов, успевших занести её имя в свои пыльные таблицы и карты. Все эти Ваши Федры, Медеи, Дамы с камелиями... на всех сценах мира сотни артисток до Вас играли когда-то этих дам, и сотни сыграют потом, когда Ваш облик навсегда забудется... А я могу подарить Вам бессмертие. Подумайте об этом. В чём-то он был прав, но его беспредельная, самоуверенная наглость злила невероятно. Пора уходить, иначе переступлю границы дипломатии. Поблагодарив за прекрасную выставку и «содержательный разговор», я поторопилась покинуть святилище, надев на физиономию одну из самых любезных улыбок, но... по дороге домой мысленно продолжала вести с коммерсантом напряжённую дискуссию. Жаль только, что лучшие аргументы приходят в голову на лестнице, когда дверь оппонента уже успела захлопнутся за спиной. Мой горячий, пышущий остроумием монолог, достиг высшего накала у дверей в собственную квартиру, когда наконец поняла, что спорить тут совершенно не о чем. Рутлингер сумел вовремя наладить производство товара, нашедшего на рынке колоссальный спрос. С его точки зрения человечество состоит из дух неравных половин: модели, способные вызвать интерес публики, и публика, готовая платить деньги за удовлетворение этого интереса. Он прав. В этом смысле я действительно комета— однодневка, одна из сотни исполнительниц популярных ролей. Кто вспомнит меня через двадцать — тридцать лет? В лучшем случае программки с моим именем и лицом сохранятся на одной из пыльных полок театрального архива, если конечно не сгорят в очередном пожаре. Он обещает бессмертие, но зачем оно мне? Вот главный и единственный вопрос, в котором предстоит разобраться. Лет десять назад, наивная идеалистка, я мечтала своим искусством изменить мир. Какая глупость! Он, этот мир, был создан не мной, и не мне его менять. В нём можно лишь прожить отпущенный богом срок, получить свою долю радостей и печалей и уйти, случайно прочертив на песке малюсенький след. Как мона Лиза. До сих пор специалисты гадают, кем была эта женщина, увековеченная Леонардо да Винчи. Одни считают её женой некоего Франческо дель Джоконде, другие — Констанцией де Абалос, любовницей Джулиано Медичи, третьи — вдовой какого-то Джованни Антонио Брандано, но опять же любовницей Джулиано Медичи. Кем была эта женщина на самом деле не узнает уже никто и никогда, да и зачем? Благодаря гениальному художнику она прожила свою жизнь и оставила по себе след. И Лина Кавальери оставит по себе след, не взирая на отдельные фальшиво пропетые аккорды. Слава капризна. Одни заслуживают её титаническим трудом, другие... случайно оказавшись в нужную минуту рядом с гением. Любопытно другое: кому из них двоих предстоит войти в историю — певице среднего качества Кавальери, снятой когда-то на почтовую открытку гениальным Рутлингером, или какому-то Рутлингеру, однажды удостоившемуся чести сфотографировать несравненную Кавальери. Так что же я мучаюсь? Мне не нужна слава Джоконды, но жаль исчезнуть из жизни, не оставив по себе никаких воспоминаний. Может всё же сохранить для внуков и правнуков свой нынешний облик? Да? Значит завтра сяду за письменный стол и напишу бизнесмену очередную вежливую записку. Губы, помимо воли, расползлись в ироническую усмешку: не смотря ни на что этот тип блестяще провёл свою партию, за полчаса поставив мне шах и мат — сбил спесь двумя фразами, и превратил из привередливого критика в заинтересованного заказчика. Как всё оказывается просто. Три дня спустя я снова сидела в студии лиходеяпобедителя. С лёгкостью выиграв партию, он успокоился и подобрел. На лице проступило хорошо знакомое выражение напряженного азарта. Совсем как у меня перед началом работы над новой ролью. Построение фраз, интонации голоса, жесты приобрели совсем иной рисунок. Сегодня он не походил на откормленного, самоуверенного индюка, обучающего меня неразумную азбуке жизни. — Мадам Альварес, мне хотелось бы сперва предложить Вам свой стиль работы, но если Вы имеете иные представления или пожелания, то... мы всегда сможем прийти к взаимно приемлемым компромиссам. — Безусловно. Расскажите сперва Вашу модель. — Для начала мы сделаем пять-шесть портретов. Если я Вас правильно понял, Вы хотели бы предъявить себя прежде всего как актриса, а потом уже как красивая женщина. Правильно? — Правильно. — Первые четыре портрета покажут Вас в Ваших лучших ролях. Безусловно это будет Медея, Пышка... потом... я бы посоветовал Диану из « Собаки на сене» и Ольгу из Нахлебника. Жаль, кстати, что этот спектакль сошёл со сцены. Очень умная, психологически тонкая вещь. — Так стоит ли эту роль брать для портретов, если я её давно не играю? — Стоит. Тут важен диапазон Ваших возможностей. От мягкой, тонко чувствующей натуры, до воплощения зла и расчётливости. Понимаете, что я имею ввиду? — Да конечно. Вы совершенно правы. — Хорошо, что на первом этапе мы так быстро договорились. На втором мы сделаем максимум два портрета «из жизни», то есть Вас вне ролей. — А потом весь этот материал пойдёт на изготовление почтовых открыток? Несмотря на искреннее стремление к перемирию, мне так и не удалось сдержать иронические нотки. — Это уже третий этап. Месяца через три я планирую провести первую персональную выставку художественной фотографии. Помещение для неё уже абонировано и почти готово. Публике придётся признать, что фотография — это не просто техническое баловство, а совершенно новый, очень перспективный вид искусства. Что касается почтовых открыток... если Вы согласитесь принять участие в совместном бизнесе... а это ни что иное, как бизнес... мы заключим официальный контракт на взаимовыгодных условиях, но об этом поговорим позже. Я окинула взглядом висящие на стенах работы: — Но разве этого хватит на целую выставку? Рутлингер удивлённо вскинул глаза. — А кто Вам сказал, что это единственное, что у меня есть? Вы видите только то, что висит в студии, оборудованной специально для портретов. Освещение, фон и прочее. Всё остальное я делаю на пленэре. У меня набралась вполне внушительная коллекция очень интересных пейзажей и жанровых сцен. А знаете, какая тема у меня самая любимая? Его облик третий раз за последние полчаса полностью поменял свою суть. Теперь он походил на счастливого ребёнка, допустившего нового друга до любимых игрушек. — Самая замечательная модель в жизни — это лошади. Вы даже не представляете, как они хороши! Они не бывают некрасивыми. Каждое движение — сама поэзия. Стоят ли они влюблённой парой, обвив друг друга гибкими шеями, вскидывают ли голову в призывном ржанье, вздымаются ли к небу, демонстрируя величие напряжённого, мощного тела... Господи, эта тема неисчерпаема... и прекрасна. — Ни об одной из своих женских моделей Вы не говорили с таким восторгом. — Разве это можно сравнивать? Женщина застывает перед камерой в неестественной, искусственной позе. Ей нужно только одно — выглядеть безупречно красивой, а лошадь... она, как ни в чём не бывало, живёт перед камерой своей жизнью. Ей наплевать на красоту. — Но как Вам удаётся эти моменты заснять? Такая модель не может замереть по команде на несколько минут? — В этом и состоит суть моего искусства. Остановить мгновение. Это художник может неделями работать над одним пейзажем, вносить изменения, подтирать и переписывать заново неудавшиеся фрагменты. Фотография не прощает ошибок. Конечно, у нас тоже есть свои маленькие секреты: при печати чуть приглушить или усилить контрасты, сгладить или подчеркнуть контуры предмета или лица, но в целом... либо я схватил неповторимый момент, либо он исчез из этого мира на всегда. Посвящая меня в тайны своего творчества, художник продолжал возиться с фотоаппаратом: настраивал свет, выбирал ракурс, наводил резкость, изредка пробовал вспышку. С самого начала он попросил не обращать внимания на эти эксперименты, правда время от времени пересаживал с одного места на другое. — Ну вот, мадам Альварес. На сегодня хватит. Считайте, первый сеанс состоялся. — Как? А когда Вы будете фотографировать? — А я уже сделал с десяток великолепных, живых эпизодов. Невероятно правдоподобных и выразительных. — Ну и ну! Значит сегодня я позировала не хуже лошади? — Во всяком случае не стремились выглядеть красивее, чем в обычной жизни. В этот момент фотограф походил на сытого кота, выманившего доверчивую мышку из норки и проворно прихватившего хищными зубками её беззащитный хвост. Под толстыми линзами очков заплясали чёртики. Рутлингер явно провоцировал меня на очередную колкость. То ли ему нравились перепалки, то ли изучал лицо обозлённой модели. Хитрая мышка, притворившись покорной и ласковой, подняла на котяру по-детски наивные глаза — бусинки и спросила голоском послушной ученицы: — Ну а что будет дальше? Что мы снимаем следующий раз? — К следующему разу подготовьте одну из своих любимых ролей. Какую — решайте сами. И не забудьте прихватить театральный реквизит. — А почему бы Вам не заглянуть в театр на один из моих спектаклей и не сделать живые снимки... так же, как Вы снимаете своих лошадок? — ... И подарить Вам очередную фотографию для газеты. Размытую, с открытым ртом и перекошенными глазами. Полагаю, такого добра у Вас дома скопилась уже не одна, доверху наполненная, коробка из под шляпок. Я думал, Вы хотели получить нечто уникальное, а уникальное мы сможем создать только здесь. Надо же, как богат арсенал выражений его лица! Минуту назад хитрое и довольное, оно отвело глаза в сторону и брюзгливо развесило губы. Интересно было бы создать галерею его собственных фотографий. Тоже получилось бы уникально. Мне стало неловко от наступившего молчания. Зачем я всё время пыжусь, претендуя на оригинальность? Я профессионал в своём деле, а он в своём, и ему решать, как ставить этот спектакль. — Вы убедили меня, мёсье Рутлингер. Отныне во всём буду полагаться на Ваши знания и опыт. Глаза собеседника недоверчиво блеснули под очками, но губы подтянусь, собравшись в пухлое колечко. Дома я увлечённо поделилась новыми знаниями с Марселем и Шарлем. Сына больше всего интересовали лошади и технические детали, а Шарля — этическая сторона дела. Оказывается он полностью разделял отношение Рутлингера к фотографии и кинематографу, как к самостоятельным видам искусства будущего. Оставшись наконец в одиночестве, я стала продумывать предстоящие съёмки, остановив первый выбор на Пышке. Школьный опыт пантомимы и коротких этюдов несколько облегчал задачу, хотя... движения, переходы, протяжённость во времени — волшебный инструмент, позволяющий добиться максимальной выразительности, были в данном случае недоступны. Требовалась одна единственная поза, одно единственное выражение лица, содержащее всё, на что на сцене уходит пять или десять минут. В последующие дни, выбрав из «Пышки» три фрагмента, определявших суть пьесы, я усердно отрабатывала задуманный образ, решив опробовать на Рутлингере коротенькую, но забавную игру. На пороге студии я появилась в полном сценическом всеоружии; прическа, грим и платье мадемуазель Руссе, и, прежде чем он успел привести в боевую готовность свою тяжёлую артиллерию, предложила разгадать три загадки: — Я подготовила три статических фрагмента из разных частей спектакля. Если Вы догадаетесь откуда, значит они мне удались, если нет — придётся работать над ними дальше. Фотограф неохотно отложил в сторону камеру и, приняв позу, которой больше всего подошло бы название «сатанинское терпение», приготовился к испытанию. Я по очереди показала все три фрагмента, замерев в каждом из них на две минуты, и, сгорая от нетерпения, потребовала разгадки. Рутлингер, потирая рукой подбородок, напряжённо шевелил губами: — Первый фрагмент — безусловно одна из сцен, когда мадемуазель лопается от гордости, наслаждаясь похвалами спутников. Правильно? — Совершенно верно. А второй? — Второй... скорее всего у дилижанса... утро после грехопадения. Она ещё не поняла, что произошло: вместо похвалы и благодарности — холод и безразличие. Растерянность и обида. — Потрясающе. Именно это я и хотела изобразить. Ну а третий? — Третий... я бы сказал, он скорее из начала. С такой злостью она могла смотреть только на немецкого офицера, требующего от неё профессиональных услуг. — Жаль, значит третий у меня не получился. Я хотела показать заключительную сцену: «осознание» — смесь ярости, обиды и жалости к себе... наивной и тщеславной. Поза «терпение» давно сменилась боевой готовностью генералиссимуса, рвущегося в атаку. Теперь Рутлингер раздавал команды: — Нет, нет. Последний фрагмент никуда не годится. В нём только злость и никакого осознания. Попробуйте ещё раз. На сцене это чувство приходило автоматически, постепенно вызревая из контекста пьесы, а сейчас его нужно было «выуживать» из эмоциональной памяти. Вспомнилось ощущение на сцене вечером после гражданской казни Дрейфуса. Отвращение к разорвавшейся в крике общественной пасти и злость на себя, положившую десять лет жизни к ногам этого чудовища. Состояние, потерявшее со временем свою остроту, накатилось опять смрадной, тяжёлой волной, пригвоздив на несколько минут к стулу. Вспышка, щелчок затвора... опять вспышка и опять щелчок... всё. Я опять на поверхности... Два победоносно сверкающих глаза под толстыми линзами очков. — Превосходно! Уверен, мне удалось это заснять. А Вы молодец. Такое перевоплощение! В этот момент я ощущала только смертельную усталость. Наша совместная работа продолжалась больше месяца. Я регулярно приезжала в студию к Рутлингеру с костюмом очередной роли, заранее продумав фрагменты. Это было пятьшесть кульминационных сцен, определявших суть и развитие пьесы, где героиня, не совершая никаких действий, лишь эмоционально реагирует на очередной поворот. Я проигрывала перед Рутлингером квинтэссенцию спектаклей, задерживаясь на пару коротких минут на каждой из вершин, а он, ловя эти моменты, создавал свои шедевры. Наконец театральная серия была готова. Несмотря на мои назойливые просьбы, маэстро не показал ни единого готового портрета. — Наберитесь терпения до выставки. Мне хочется, чтобы Вы увидели всё в комплексе. Единственно, что могу обещать — Вы окажетесь там в блестящей компании. Последние две встречи были посвящены портретам «из жизни». В выборе поз, ракурсов и освещений я полностью положилась на вкус Маэстро. Единственно, на чём пришлось настаивать с сатанинским упорством — это на портрете в полоборота в широкополой бордовой шляпе и кружевной накидке, закрывающей шею. Портрете, повторяющем позу прабабушек. Рутлингер бесился при одном упоминании такой картины: — Господи, милая Вы моя! Вот уж не думал, что Вы капризны, как все примадонны! Зачем Вам эта безвкусица? Повторяя его интонации, я продолжала настаивать на своём: — Господи, милый Вы мой! Да если вам не нравится такая фотография, так не несите её на свою выставку. Просто подарите мне на память. — А Вам то она зачем? — Семейная традиция. У каждой из моих бабушек и прабабушек хранится по такому экземпляру. Вот и я обязана оставить это на память потомству. Понятно? — Ну и семейка! И каждая водружала себе на голову бордовую шляпу? — Каждая ... и обязательно бордовую. — Вот видите. Значит ничего не получится. Мои фотографии чёрно-белые, а шляпа должна быть бордовая. — А подкрасить потом нельзя? — Вы что, издеваетесь надо мной? — Нет. Просто мне необходим такой портрет, и лучше Вас его ни кто не сделает. Под конец бедолага всё же сдался под моим напором и сфотографировал так, как я просила, правда подкрашивать шляпу отказался наотрез. Довольный выполненной работой, Рутлингер начал делиться планами предстоящей выставки: — Я планирую разбить её на три зала. В первом будут представлены пейзажи. За все эти годы у меня скопилось порядка пятидесяти совершенно уникальных фотографий. Представляете, что значит поймать момент? Подул ветерок и мгновенно изогнул ветви дерева в другом направлении... и образ исчез. Или солнце зашло за тучку, или птица, которая держала всю картину, вспорхнула и пересела на другое место... Иногда неделями охотишься за уникальным кадром, а потом выстрелишь и... промахнулся. — А что будет во втором зале? — Во втором на одной стене я хочу разместить жанровые сценки, а на другой, на центральной — лошадей. Это моя гордость. Рутлингер взял чистые листы бумаги и начал увлечённо рисовать план размещения фотографий на стенах. — А вот тут, в третьем зале, будут портреты знаменитых людей. Среди них есть несколько уникальных экземпляров. Здесь, — он очертил на бумаге продолговатый эллипс, — расположу Вашу серию. Всё кроме шляпы. Эту заберёте домой для прабабушки. Он ещё долго чертил схему будущей выставки, надписывал в квадратиках названия фотографий, потом перечёркивал, менял их местами, а потом снова возвращался к начальному варианту. Наконец мастер устал и успокоился. — Извините. Я, кажется, совершенно заморочил Вам голову. Пора расходится. Если не возражаете, я мог бы довезти Вас до дому. В последующие недели мне очень не хватало ставших привычными сеансов. За время общения с Рутлингером я прониклась его увлечённостью, поверила в фотографию, как в искусство. Это было именно тем, чему я непременно хочу научиться... чуть позже, когда пройдёт выставка и у Рутлингера опять появится время. Фотография могла бы стать для меня вторым инструментом самовыражения. К рисованию я так же бездарна, как и к пению. Собака, которую рисовала по просьбе Марселя, походила более всего на четвероногую курицу, а курица — на маленького пузатого крокодила на двух тонких ножках. Но видеть, остро и эмоционально воспринимать природу, забавные и трогательные сценки из жизни, тончайшие нюансы и перемены человеческих лиц — эти живые картины постоянно занимали моё воображение, просясь в бессмертие. Этим искусством необходимо овладеть. После выставки, ровно через неделю, обязательно попрошусь к Рутлингеру в ученицы. Глава 13 Мы мирно сидим за семейным завтраком. Я болтаю о чём-то с Марселем, а Шарль шелестит только что принесённой газетой. Вдруг он вскрикивает и роняет на пол свеженамазанный бутерброд. Мы с Марселем вскакиваем с мест и устремляемся к нему: — Что с тобой? Тебе плохо? Он отрицательно трясёт головой и протягивает мне газету: — На. Посмотри. На первой странице во весь разворот красуется фотография лежащего на тротуаре мужчины с нелепо подломленной правой ногой и текст отвратительно жирным, бьющим в глаза шрифтом: «Убийство ценою в пальто!» «Убит Леопольд-Эмиль Рутлингер!» А далее протокол допроса убийц, пойманных через четверть часа после совершения преступления. Два негодяя лет восемнадцати основательно повеселились в дешёвой пивнухе, потребив изрядное количество смеси вина с каким-то наркотиком. Расплатившись последней мелочью, которую они полчаса выскребали из совместных карманов, хулиганы покинули заведение, прихватив в дорогу недопитую бутылку вина с соседнего столика. На улице было слишком прохладно, а разгорячённая кровь стремилась к теплу и уюту. И тут они заметили одинокого господина в длинном, толстом пальто. Далее протокол приводится в лицах: — Вот он мне и сказал: «Давай позаимствуем у этого старикана пальто. Ты налетай справа, а я — слева.» — Это не я сказал, а ты. Я его сперва вовсе не заметил. — Не заметил, а бутылкой по голове шарахнул. — Но толкнул его ты. После чего он и упал. Зачем толкал? Я же говорил, просто стянуть пальто и убежать. Из заключения медицинской экспертизы: Потерпевший скончался в результате перелома основания черепа, явившегося результатом удара головой о поребрик тротуара. Негодяи были случайно пойманы дежурным полицейским. Его внимание привлекли две качающиеся фигуры, вырывающие друг у друга дорогое пальто. Рутлингер скончался в больнице, не приходя в сознание. Чуть ниже два тупых, безликих лица наркоманов. Господи! Что же ты делаешь? Куда смотришь? Как мог такое допустить? Зачем засоряешь землю такими мерзавцами? Как мог принести им в жертву этого незаурядного человека? Вопросы, на которые нет и не может быть ответа. Библия учит, что перед лицом господа все равны. Неужто и эти тоже? Я стою в церкви у гроба Рутлингера. Еще недавно живое лицо, постоянно менявшее своё выражение, застыло свинцовой маской. Когда-нибудь опустевшее место займёт новый художник, влюблённый в фотографию, но он... равнодушно взирая на лошадей будет ловко подкрашивать бордовые шляпки клиенток. Рядом с гробом стояла худенькая женщина с заплаканной пуговкой посередине маленького, бледного личика и крупный, молодой мужчина в очках, как у Рутлингера, с отчужденным равнодушием принимавший соболезнования. Это были многолетняя подруга фотографа, вернее, гражданская жена, совершенно не похожая на роскошных дам, годами обеспечивавших работой её мужа, и их общий сын, унаследовавшие немалое состояние усопшего. Посетители, как это и принято на похоронах, без устали обсуждали случившееся, посмертно засыпая похвалами рутлингеровский вклад в искусство и сожалея о несостоявшейся выставке. После похорон прошло уже две недели, а я всё ещё не могла оправиться от потрясения. В один из таких дней наша всезнающая горничная доложила о незнакомом госте и протянула его визитную карточку. На твёрдой, глянцевой бумажке красовалось выведенное каллиграфическим почерком имя: «Леопольд Бланше. Инженер–химик». Это был сын и наследник переселившегося в мир иной художника. Молодой человек смущённо топтался на пороге гостиной, не зная куда деть непослушные руки. Его близорукие, как у отца глаза, тускло поблёскивали под толстыми стёклами. У сына с отцом было много общего, но ему не хватало ни отцовского темперамента, ни породы. Чем я могу ему быть полезной? Присев на краешек предложенного стула, Рутлингер-сын, прорываясь сквозь заикание, попытался изложить свою просьбу: — Мадам Альварес, мне бы очень хотелось довести начатое отцом дело до конца. Я имею ввиду выставку. Сам, к сожалению, ничего в этом деле не понимаю, да и вообще не знаю с чего начинать. Ведь Вы были последним человеком, с кем он работал последние недели, правда? — Да. Он как раз закончил серию моих портретов, которые хотел подготовить к выставке. — Не согласитесь ли помочь мне хотя бы советом? Может Вы сами знаете что-то о его планах... или знакомы с людьми, которые разбираются в этих делах? Я, к сожалению, в искусстве полный профан. Признаюсь честно, в первый момент молодой наследник не вызвал у меня ни малейшей симпатии. Думала, рассчитывает найти ещё пару работ отца, по завещанию принадлежащих ему. Господи, почему я так подозрительна и агрессивна? Этот юноша — просто прелесть. Он первый додумался до простого действия, которое никому из нас, умных и просвещённых, не пришло в голову. — Господин Бланше, это просто замечательно, что Вы до такого додумались. Я сделаю всё, что в моих силах. Вы начали уже что-то предпринимать? — Да. Побывал в его студии, но нашёл там только с десяток уже известных портретов. Неужели только их он и собирался выставить? — Основная коллекция хранится в другой мастерской. Вы там тоже побывали? — Нет, и не знаю как туда попасть. — Неужели у Вас нет ключей? — Ключи то есть, но не знаю от какой двери. — Не понимаю. — Я не знаю, где находится эта мастерская. — А Ваша мама? Она тоже не знает? — Нет. Понимаете, мой отец был очень своеобразным человеком. Он никогда не разговаривал с нами о работе. Говорил: «Бизнес — вещь скучная и утомительная. Дома я хочу отдыхать и радоваться жизни». — Так о чём же он с вами разговаривал? — Меня много расспрашивал о химии. Она его очень интересовала. А с мамой в основном шутил. Он всегда относился к ней с большой нежностью. Называл деткой и малышкой. Да Вы её видели. Она и в самом деле очень маленькая и трогательная. Делал ей рисунки для вышивания, подставлял руки, когда она разматывала нитки... О выставке мы узнали всего пару недель назад, да и то из газет. Отец сказал, что готовит для нас сюрприз... к двадцатипятилетию их совместной жизни с мамой. — А Вы просмотрели его записные книжки? Может там есть адрес второй мастерской? — Просмотрел, но ничего не нашёл. — Ну и дела! Я посоветуюсь с мужем. Может он чтонибудь придумает. Рутлингер-младший, поблагодарив за соучастие и готовность к помощи, неловко распрощался и, слегка переваливаясь на плотных ногах, зашагал к двери. Ну и история! Где же искать эту таинственную мастерскую? Вечером я рассказала Шарлю о посещении молодого Рутлингера. Мой муж сразу приступил к делу: — Повтори ещё раз всё, что знаешь об этой истории. — Я знаю, что он месяца три назад абонировал помещение для выставки. Там должно быть три зала. В последний вечер он чертил схему расположения фотографий. Даже надписал, что и где будет висеть. Сказал, основная коллекция находится в другой мастерской. В студии, где делал мои портреты, хранились только фотографии, известные по открыткам. — Всё понятно. Не вижу никаких сложностей. Обращусь завтра в полицию или в ратушу. У них имеются все сведения о купленных или снятых помещениях. Через пару дней мы найдём адрес. Послушай, а может его и не надо искать? Скорее всего он уже перевёз всё в выставочный зал. Сын говорил тебе что-нибудь о зале? — Нет. Думаю, даже не догадался туда заглянуть. Вообще он какой-то заторможенный... или просто растерянный. На следующий день мы посетили зал. Он действительно был подготовлен к выставке: свет, равномерно падающий на белые стены, маркизы, защищающие будущие экспонаты от слепящих лучей солнца, мягкие стулья и скамейки для отдыха... даже журнал для отзывов в кожаном, глянцевом переплёте покоился на маленьком столике с гнутыми ножками в ожидании первых посетителей. Всё было готово... кроме экспонатов. Голые стены поражали своей девственной пустотой. Ни в прихожей, ни в многочисленных кладовках, ни в подготовленной для приёма посетителей буфетной, не удалось обнаружить ни малейшего намека на присутствие в здании фотографий. Серьёзного повода для беспокойства не было, но у меня почему то появилось предчувствие нереальности происходящего. Втроём с Шарлем и Рутлингером — младшим мы вернулись в студию, где делались портреты. С того дня, три недели назад, когда я была здесь в последний раз, в помещении ничего не изменилось. Всё стояло и лежало на своих обычных местах. Даже запах, смесь табака и дорогой мужской туалетной воды, давно пропитавший обтянутые белой драпировкой стены, по-прежнему витал в застоявшемся воздухе. Мы ещё раз обшарили все ящики письменного стола в надежде найти какие-нибудь записи или просто пометки на листочках бумаги, но... кроме схемы размещения фотографий, которую Рутлингер чертил для меня в последний вечер, ничего обнаружить на удалось. Оставалась надежда только на полицию: дай бог ей посчастливится найти адрес второй мастерской. Проходили недели, пресса захлёбывалась сожалениями об утраченной коллекции, предлагая разнообразные версии и направления поисков. Во всех газетах были размещены объявления, приглашающие всех, кто что-то видел или слышал о местонахождении квартиры или студии, посещаемой погибшим фотографом, немедленно сообщить об этом в полицию. Как всегда, в течении первых дней туда заглядывали любопытные старушки или спившиеся бродяги, жаждущие вознаграждения, но ни одно из указанных ими заброшенных помещений даже отдалённо не походило на мастерскую художника, и ни один из ключей, хранившихся у сына, не подходил к указанным нам замкам. В один из дней, после очередного неудачного путешествия в поисках бесследно пропавшей коллекции, Шарль, забрав у меня и рук бесполезную схему, просто и грустно подвёл итоги: — Думаю, нам пора прекратить поиски. Я, всё еще цепляясь за вселяющие надежду бумажки, принялась с жаром отстаивать очередную, пришедшую в голову, идею. — Как это прекратить? Но ведь они где-то лежат! — А если нет? — Что значит нет? — Может они ни где не лежат, потому что их никогда и не было. — Что значит « никогда не было»? — А то и значит. Может Рутлингер всё придумал. Может, он никогда не делал этих фотографий. — Ты думаешь, он — врун? — Нет. Не врун, а мечтатель. Он преклонялся перед фотографией, возможно даже пробовал снимать настоящие картины, но пока... пока у него их ещё не было. — Но ведь мои портреты он сделал. — Он их делал, но их ты тоже не видела. — А как бы он выкручивался через неделю, к открытию выставки, не произойди это нелепое убийство? — Возможно, всей коллекции предстояло сгореть за день до открытия. Такое тоже бывает. Не только фотографиям, но и негативам. Увлечённость — страшная вещь, а увлечённость фантазиями — ещё страшнее. Хотя... кто знает... может быть я и не прав. Может они и всплывут когда-нибудь через пару лет. Совершенно случайно. Мне вспомнилось одухотворённое, по-мальчишески гордое лицо Рутлингера, рассказывавшего о чудесах фотографии, о любви к лошадям, о коротких моментах бытия, которые он останавливал на лету... Во всяком случае в эти моменты он выглядел очень счастливым, хотя... «подарить мне бессмертие» так и не успел. Сожалела ли я об этом? Скорее всего нет. Через пару дней даже почувствовала некоторое облегчение: оказывается мысли о почтовых открытках довлели надо мной все недели, пока мы работали над портретами. Хотелось ли мне мировой славы? С одной стороны, она дала бы определённую независимость: независимость от капризов режиссёров, от театральной дирекции, от симпатии и антипатии критиков. Все театры Европы и Америки были бы счастливы принять «великую актрису» на своей сцене. Я могла бы играть так, как считаю нужным, не боясь потерять роль, вступая в разногласия с режиссёром. Но, с другой стороны, слава делает тебя неотъемлемым достоянием публики. Твой завтрак, твоя ночная сорочка, новое украшение и новые морщины, рано или поздно появляющиеся на лице — всё становится предметом пристального внимания и жаркого обсуждения. Хочу ли я жить на показ? Слава! Я снова и снова пробовала это слово на вкус, и каждый раз, щекоча гортань, оно оставляло во рту горьковатое, несвежее послевкусье. Когда-то в детстве я считала себя к Славе обязанной. По легендам моего исключительного семейства все они рождались с ярким, золотым нимбом над головой, и, едва оперившись, слегка оттолкнувшись от земли, тут же взлетали в золотую колесницу славы, заранее приготовленную у их порога. Ох уж эти семейные легенды! Мама за три дня одним росчерком пера уложила весь Париж к своим ногам. Папа, кружась и порхая по сцене златокрылой мечтой, четверть века не имел себе равных. А бабушки... две красавицы-провинциалки, по мановению волшебной палочки и чуть-чуть усердной работы в вперемешку с рождением гениальных детей, превратились в законодательниц столичной моды и вкуса. Но венцом этого торжественного шествия по славным вершинам были конечно же несравненные де Альваресы, на века оккупирововавшие стены музея Прадо. Какой приземлённой и безнадёжно никчемной казалась я себе в детстве со своими насморками, кашлями, любовью к куклам и музыкальной бездарностью! Поток школьной эйфории, промчав меня через рифы и скалы разочарований, вынес в конце концов к зеркалу на выпускном балу. Что увидела я в его отражении? Сказочную принцессу, тоненькую, как стебелёк розы... с огромными серо-голубыми глазами, ожидание и восторг которых отражались в чудесных александритах, тоненькой струйкой стекавших к основанию груди. Но это была не я. Это была Золушка, обращённая доброй феей в принцессу... всего на пару коротких мгновений. Ровно в полночь пробьют куранты, чары рассеются и на месте красавицы останется замарашка с потрескавшимися ладонями и сажей, пожизненно въевшейся ей под ногти. Тогда я не поняла, чего испугалась, но сейчас знаю наверняка: это был страх перед разоблачением и позором, рано или поздно настигающим любого самозванца. Да, в своей исключительной семье я ощущала себя самозванкой, и потребовалось почти десять лет, что б понять одну очень простую истину: мы все очень хорошие, очень трудолюбивые люди, одарённые всевозможными способностями, но мы не боги. И не нужно рвать себя на куски, продираясь к бессмертию. И потом... кто дарит честолюбцам бессмертие? Кто они, эти абсолютные судьи? Толпа... сегодня преклоняющая колени перед гениальным музыкантом, а завтра... с тем же энтузиастом аплодирующая дрессированному попугаю в цирке. Ещё два года назад я не знала слова «толпа». Передо мной в зале сидел «мой Зритель», мой соратник по вдохновению и сопереживанию, чуткий, отзывчивый собеседник, строгий и просвещённый судья. Сегодня я смотрю со сцены в зал... и не нахожу его там. Безусловно он где-то есть, просто затерялся, как осколок янтаря в вязкой, полусгнившей тине. И я никогда не опущусь перед толпой на колени, как Элиза Рашель, зачарованная и благодарная аплодирующей ей публике. Моё новое отношение к славе — не трагедия и не ломка. Мир идеалов и ценностей, построенный в юности, с годами становится душен и тесен, как платье, пошитое для первого бала. Разве мы плачем по этому платью? Мы храним его с умилением в старом шкафу, заменяя на новое, выбранное по размеру и моде. Новый мир представлений — не крушение и не горе. Это живой процесс и название ему... зрелость. Поэтому я не собираюсь уходить со сцены. Театр — мой способ познавать жизнь и людей, мой способ общаться с окружающим миром, это тот водоём, в котором я, несмотря ни на что, научилась оставаться самой собой. Я мысленно вернулась в те времена и поняла, что оставаться самими собой становилось всё труднее. Государственный шовинизм стремительно набирал оборо-ты. Со дня осуждения Дрейфуса прошло больше года. Уже больше года провёл бедолага на Чёртовом острове и тут... В нескольких, либерально настроенных газетах, появляется чудовищная информация. В марте 1896 года французская разведка перехватила письмо Шварцкоррена майору Эстерхази из которого явствовало, что последний является немецким агентом. Новый начальник французской разведки, полковник Пикар, ознакомившись с материалами дела, пришёл к заключению, что обвинение и суд по делу Дрейфуса были основаны на сомнительных доказательствах. Подвергнув повторно графологическому анализу документ, послуживший причиной осуждения Дрейфуса, Пикар установил, что написан он был рукой Эстерхази, что вызвало новый всплеск военных действий между враждую-щими партиями. В один из таких дней, когда война в прессе и на улицах, казалось достигла своей кульминационной точки, я получила записку от Жака. К этому времени наши конфликты остались далеко позади. Лет пять назад он появился с огромным букетом цветов, предложив наладить отношения. Сидя за чаем, мы подробно и добросовестно разобрались в былых ссорах. Жак, принеся тысячу извинений, объяснил своё поведение нервным расстройством в первый год после окончания школы. Виной тому была якобы охватившая его паника; ощущение собственной бездарности и не приспособленности к жизни. Почему он выбрал именно меня мишенью своих агрессивных нападок? Вполне понятная антипатия к тем, кто по расчёту выбирает лёгкий, устеленный мягкими коврами путь к успеху. А просьба о «генеральной репетиции» окончательно убедила Жака в моём двуличии: «прекрасная Елена» начала изменять своему Менелаю ещё до свадьбы. То-то будет потом! А тут ещё связь с Элизой, наложившая на него обязательства по содержанию семьи, к которым он совершенно не был готов. Сейчас, по его словам, он видел всё другими глазами и невероятно стыдился за все гадости, которые говорил и делал мне восемь лет назад. Само собой разумеется, примирение требовало щедрых комплиментов, на которые Жак в тот день не поскупился: исключительно умное, оригинальное исполнение последних ролей якобы окончательно убедило его в моём умении серьёзно работать вне зависимости от покровительства. Я смотрела на возмужавшее лицо бывшего друга, изучая перемены, произошедшие с ним за последние годы. Он больше не напоминал присевшую на нотный стан одинокую птицу. Повзрослев и слегка прибавив в весе, он оброс волосами и значительностью. Тонкий, изящно изогнутый клюв, по прежнему резко выдавался вперёд, но скошенный подбородок скрылся под густой, подстриженной по моде бородкой. Длинные, красиво уложенные волосы прикрывали тесно прижатые к голове уши, а большие очки в роговой оправе придавали круглым глазам выражение мудрости и всезнания. За последние годы Жак увеличился не только в объёме, но и в самооценке. Глядя на этого, когда-то невзрачного мальчика, я невольно пыталась проникнуть за кулисы его личной жизни: встретилась ли на его пути очередная «Маргарита», изваявшая из куска первоклассного мрамора настоящего мужчину, или он пришёл к взрослению самосто-ятельно найденным путём? Вглядываясь в импозантного, самоуверенного Жака, я не испытывала к нему ни прежнего тепла, ни доверия, но с другой стороны... Зачем вспоминать о старом зле? Ведь Медеей я становлюсь только на сцене. Зло осталось далеко позади, в другой жизни, когда все мы были мелочными и грешными. Мир был восстановлен. И так оказалось лучше. Через пять лет мы опять оказались в одном театре. Город Париж, хоть и богат культурой, но понастоящему престижных драматических театров в нём... раз два и обчёлся. В Одеоне Малон пробовал свои силы не только как артист, но и как режиссер. На этот раз он обращался ко мне за помощью. Я перечитала письмо несколько раз, чтобы не ошибиться в его содержании. — Я решил написать пьесу по мотивам «Самсона и Далилы». Сейчас эта тема очень актуальна. Общество осудило Дрейфуса, как предателя. Повсюду только и говорят о «предателе-еврее». Но причём тут его еврейство? Если он шпион, что совершенно не доказано, так и судить его надо за шпионаж, а не за национальность. В наше время, к сожалению, слово «еврей» стало синонимом слова «предатель», а это социально опасно. Пресса провоцирует толпу к погромам и бессмысленным расправам. Я хочу заставить соотечественников задуматься над этой бессмысленностью. Хочу на примере библейского предания о Самсоне нарисовать противоположную картину; предан еврей. Предан не только женщиной, которую любил, но и народом, в котором хотел ассимилироваться. Его, если хочешь, можно назвать первым евреем, готовым к ассимиляции. Филистимляне, видя в его непомерной силе прямую угрозу своему режиму, стремятся уничтожить Самсона. Это тоже нормально с точки зрения всемирной истории человечества, но для меня лично важна другая тема — психология предательства. Вся пьеса практически получилась, кроме кульминационной сцены: «Самсон добровольно выдаёт Далиле тайну своей силы». Почитай, пожалуйста, внимательно эту главу «Ветхого завета». Особенно ту часть, которую я выделил жирным шрифтом. Посылаю дословную копию. Надеюсь, сможешь мне немного помочь. Самсон и Далила. ... сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа, и передал их Господь в руки Филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не рожала. Явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рожаешь; но зачнёшь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого; ибо вот ты зачнёшь и родишь сына, и бритва не коснётся головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назарей Божий, и он начнёт спасать Израиля от руки Филистимлян... .............................................................................................................. Далее следует ряд злоключений и схваток с Филистимлянами, в которых Самсон всегда выходит победителем. .... После того полюбил он одну женщину... Имя ей Далила. К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: уговори его, и выведай, в чём великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его; а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сиклей серебра. И сказала Далила Самсону: скажи мне, в чём великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Трижды требовала Далила раскрытия секрета, упрекая его за ложь и недоверие, и каждый раз, когда он называл новый способ, тут же опробовала его в деле, убеждаясь при этом, что Самсон опять не сказал правды. И тогда сказала она ему: как же ты говоришь, « люблю тебя», а сердце твоё не со мною? Вот ты трижды обманул меня, и не сказал мне, в чём великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей всё сердце своё, и сказал: « Бритва не касалась головы моей, ибо я назарей Божий от чрева матери моей; если же остричь меня, то отступится от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди»... На следующий день Жак, сгоравший от нетерпения поговорить о пьесе, уже сидел у меня в гостиной. — Этот момент мне совершенно не понятен. Трижды Самсон убеждался, что каждую, придуманную им ложь, Далила тут же подвергала проверке, то есть, знал: она хочет его поймать, и явно не с лучшими намерениями. Так зачем же выдал ей свою тайну? Читая вчера выделенные жирным шрифтом строчки, я задала себе тот же самый вопрос, но единственный, пришедший в голову ответ, был банален и расплывчат: — По сути легенды это понятно. У Самсона было особое предназначение, и он обязан был его выполнить. То есть, погибнуть, став героем--освободителем. Вот он и выдал себя. А вот по человечески, я согласна с тобой, — не складывается. Погибнуть героем можно по разному. Его способ равносилен самоубийству. — В том то и дело. Это как с Иисусом Христом. Чтобы выполнить своё предназначение, он должен был погибнуть на кресте, а для этого ему нужен был Иуда... — Который, как и Далила, имел своё предназначение — стать предателем. Парность судьбы: на каждого героя свой предатель. Только вторым достаётся уж больно печальная роль в истории. Одним — вечная слава, другим — вечное проклятие. — Всё верно, но, судя по легенде, Самсон, в отличие от Христа, не знал о своём предназначении. И мудрецом он не был. Спонтанный, влюбчивый юноша, похваляющийся непомерной силой. Для древнего мира легенда вполне убедительна, но в наше время, когда все носятся с психологией и мотивацией действий, мне нужна в этом эпизоде более точная версия. К примеру, что предприняла бы ты, как женщина, захоти во чтобы то ни стало выведать интересующую тебя тайну? — После трёх неудач поменяла бы стратегию. Постаралась бы усыпить бдительность Самсона. Сделала бы вид, что его тайна меня вообще не интересует. Или ещё лучше — никогда по-настоящему не интересовала. — Так. Это уже интересно. Фантазируй дальше. — Наврала бы, что никогда не верила в наличие особого секрета. А связывала разными верёвками... чтобы себя позабавить и его тщеславие потешить. И непременно добавила бы, что люблю его, как ещё ни кого в жизни не любила. — Ну ты и интриганка! А дальше? Разговаривая с Жаком я, по своей всегдашней привычке, тормошила выбившуюся из причёски прядку волос. Скручивала в спираль, а потом распрямляла, пропуская сквозь пальцы. Жак, с любопытством наблюдая за этой игрой, вдруг, вытянув руку, возопил в пустоту: — Женщина, замри в своём величии. Ты — гениальна. Минуту спустя внизу громыхнула входная дверь. Жак умчался домой писать сценарий, оставив меня наедине с взбудораженными мыслями и растерзанной причёской. Если кто-нибудь из нас и был гением, так это он. Удивительный дар ассоциативного мышления. Хватал на лету обрывки мыслей и ощущений, превращая их в нечто ощутимое и оригинальное. Пару дней спустя Жак принёс на прочтение готовый сценарий. Пьеса получилась в целом очень удачной. Не нарушая библейского сюжета, он обогатил его прекрасными диалогами и сценами, выявляющими живые характеры героев. Единственно, в сцене признания он позволил себе вольность, и звучала она приблизительно так: Старейшины города филистимлян призывают Далилу на отчёт. Они ещё раз напоминают о важности поручения, требуя скорейшего выполнения задания. Далила подробно рассказывая о трёх неудачных попытках овладеть тайной, пытается набить себе цену: — Самсон не так глуп, как мы его себе представляли. Так просто эту задачку не разрешить. Похоже, потребуется значительно больше изобретательности и времени, а значит... и оплата за работу должна быть выше оговорённой суммы. Старейшины тут же пресекли корыстолюбие интриганки, пригрозив, в случае невыполнения задания, расправой не только с ней, но и со всеми её родственниками. Выставляя Далилу за порог, посоветовали быть порасторопнее и, как можно скорее, положить разгадку тайны Самсона на стол. В библейской легенде вопрос не стоял для Далилы так остро. Сограждане предложили ей деньги в обмен на тайну. Она могла согласиться и заработать, а могла и отказаться. В интерпретации Жака, один раз согласившись, Далила становится объектом шантажа. И Далила проявляет необходимую сноровку. «Следуя моему совету», она усыпляет бдительность Самсона. Сцена разгадки прозвучала у Жака так: Далила давно перестала задавать Самсону вопросы об источнике его богатырской силы. Они мирно возлежат на коврах и шкурах, отдыхая после бурных любовных утех. Он пропускает её распущенные волосы между пальцами, восхищаясь шелковистыми, упругими струями. Далила, разыгрывая влюбленную женщину, награждает его ответными ласками, перебирая и наматывая на пальцы его кудри. — Любимый, ни у одного мужчины я не видела таких длинных, густых и красивых волос. Они даже длиннее моих. Они сравнивают длину волос. У Самсона они действительно оказываются длиннее. — Так не честно. У женщины должны быть длиннее. Давай отрежем лишний кусок. Самсон отстраняет руку Далилы от своих волос, и, ей кажется, по его лицу пробегает тень страха. — Что, боишься потерять свою красоту? — Конечно. Без длинных волос я стану, как все. Три дня размышляет Далила над промелькнувшей догадкой, а потом, заласкав и усыпив Самсона у себя на коленях, зовёт цирюльника и Филистимлян. Далее сюжет ни на шаг не отступает от библии. Жак не просто прочёл последнюю сцену вслух, но разыграл её, исполняя две роли одновременно, переселяясь то в Самсона, то в Далилу. Закончив чтение, он нетерпеливо забарабанил пальцами по столу: — Ну что скажешь? Согласна с моей интерпретацией? Поколебавшись пару секунд, я решилась откровенно высказать одолевшие меня сомнения. — Мне кажется, ты несколько отклонился от цели, которую излагал в прошлый раз. Завуалировал предательство Далилы, подменив мотивы. — Это как? — Очень просто. Тебя интересует психология предательства? Так? — Так. — Но оно имеет три основных мотива: ради наживы, под дулом пистолета и по убеждению, и степень наказания в каждом из этих случаев разная. Я имею ввиду не юридическое наказание, а моральную оценку. — А по убеждению... это как? — Ну... из патриотизма. Как Юдифь. Она тоже, вроде Далилы... прикинулась влюблённой в Олоферна, провела с ним ночь, а потом отрубила голову. С точки зрения соратников Олоферна она была предательницей, а для своих соплеменников патриоткой. — То есть, для одних шпион, а для других — разведчик. — Совершенно верно. А ты повторил ситуацию с первой женой, когда женщина была поставлена перед выбором: или преданность мужу, или жизнь родственников и её собственная. В первом случае предательство было вынужденным, а значит заслуживало оправдания. Далиле, по библии, ничто не угрожало. Ею двигала только жадность. — Я понимаю, что ты имеешь ввиду, но... — И какое же здесь «но»? Политика? — Если хочешь — да. Пьеса сама по себе провокативна. Я вообще не уверен, что её пропустят. А так... — Если я тебя правильно поняла, этот эпизод — что-то вроде фигового листка на гениталиях античной статуи? — Да, что-то вроде того. Можно подумать, оба героя — жертвы чужих амбиций. Нет ни плохих, ни хороших. — Тогда зачем её вообще ставить? Я думала, ты хочешь публично высказать своё отношение к шовинизму, объявившему предательство национальным признаком? — Мне кажется, в любом деле важна гибкость. Умные люди поймут, что прячется под фиговым листочком, а для официальных органов, для цензуры, всегда будет отговорка — в пьесе речь идёт о сложностях выбора для каждой отдельной личности. Этакое « быть или не быть». — Знаешь Жак, в данном случае у нас с тобой тоже есть выбор. « Быть или не быть», высказаться или промолчать. Мне кажется, или мы молчим, или чётко показываем, на какой стороне наши симпатии. Или ты не согласен? — Чисто теоретически, ты права, а вот как будешь разбираться с возможными последствиями? Они могут оказаться непредсказуемыми. — Последствия этой пьесы вообще непредсказуемы. Ведь каждая сторона может принять нас за своих. И наоборот. — Не усёк твоей мысли. Разъясни. — Очень просто. «Дрейфусары» поймут это буквально — предан еврей. «Антидрейфусары» тоже могут принять нас за своих — шпион вкрался в доверие, клялся в любви и преданности, а потом усыпил бдительность и предал. Они могут назвать Далилу Альфредом Дрейфусом. Жак потёр пальцами переносицу под очками, надулся и замолчал. Минуту спустя, основательно продумав ответ, он искренне сознался в противоречивых чувствах: — Я понимаю, что ты права... и, возможно, я просто основательно трушу. И тем не менее хочу поставить этот спектакль с тобою в роли Далилы. Лучше тебя её ни кто не сыграет. Для меня это дело чести. А ты... ты готова к риску? Ведь это же риск, не правда ли? — Я и вправду ещё не знаю, готова ли. Мне надо подумать. Этот извечный вопрос «Быть или на быть»... Дай мне пару недель на размышление. — Согласен. Напиши записку, когда примешь окончательное решение. Глава 14 Прошло уже несколько дней после разговора с Жаком, а окончательного решения так и не нашлось. Тревожилась я не только за себя. Не могла же признаться Жаку, что шовинисты уже кружились алчными воронами вокруг нашей семьи. Финансовый скандал Норберта набирал обороты. С одной стороны договоры, нарушенные его деловыми партнёрами, повлекли за собой разорение некоторых дочерних фирм, выбросивших на улицу сотни безработных. С другой стороны, перевод основных капиталов концерна «Блюменталь & Блюменталь» в американские банки спровоцировал резкое падение курса акций, а значит и разорение ряда крупных акционеров. Пресса без труда раскопала, чьё имя стоит за вторым « Блюменталь». Это была старая семейная сага. Вскоре после женитьбы на Софи Норберт стал полноправным компаньоном своего тестя. Франческа запретила позорить имя и честь графов де Бельвиль. Сын ответил новым непослушанием, поменяв своё имя на имя жены. В эти дни шовинистская пресса, заглотив наживку, стаей голодных борзых драла на части «французского аристократа, продавшегося евреям за тридцать серебренников». Здоровье Франчески резко пошатнулось. Ежедневно повторявшиеся сердечные приступы держали всех в постоянном напряжении. Могла ли я в эти дни добивать её ещё одним позором — позволить валять в грязи имя Альваресов? Вторым поводом для тревог был Шарль. Стань я объектом публичного поношения, он мог бы повторить судьбу Жозефа Рейнака, члена французского парламента, политического редактора журнала « Републик Франсез». Рейнак был один из лидеров дрейфусаров. Резкое обличение шовинистического угара во Франции навлекло на него град оскорблений со стороны шовинистов. Несколько раз он дрался на дуэли. Шарль сохранял хладнокровие, когда дело касалось его лично, но если удар будет нанесён моей чести ... Вооружившись до зубов всем имеющимся в арсенале оружием, он наверняка ринется на её защиту. В таком состоянии Лекок способен вызвать оскорбителя на дуэль. Пусть общество очередной раз обвинит меня в эгоизме, но я не буду даже ради высочайшей вселенской справедливости рисковать его жизнью. Шарль горяч, но, к сожалению, уже далеко не молод. Я утопала в сомнениях, выбирая между двумя полюсами — героизмом и эгоизмом, когда жизнь сама подсказала единственно правильное решение. В утренней почте мы обнаружили письмо из полиции — запоздалый ответ, на запрос об исчезнувших фотографиях Рутлингера. С момента его гибели прошло уже больше года. Пресса, по началу певшая дифирамбы безвременно ушедшему из жизни художнику, сожалея о невосполнимой утрате художественных произведений, в какой-то момент резко развернула свои паруса к противоположному берегу. Гениальный фотограф был переименован в авантюриста, не создавшего ничего, кроме почтовых открыток модных красавиц. Главным аргументом прессы было отсутствие страховки сокровищ. Газета « Фигаро» писала: «Рутлингер был прежде всего коммерсантом. Он наверняка застраховал бы свои работы, причём на очень крупную сумму, найдись у него, что предъявить страховым компаниям. Как удалось выяснить нашим доверенным лицам, мёсье Рутлингер никогда не обращался по этому поводу ни в одну из них. Из этого напрашивается самый простой вывод — подобных произведений искусства никогда не существовало». В течении нескольких месяцев журналисты безжалостно расправлялись с добрым именем и достоинством человека, который уже не мог защищаться, а затем, потеряв к нему интерес, переключились на новые жертвы. И вот... Втроём с Шарлем и Рутлингером— младшим мы сидим за столом полицейского участка и, преодолевая отвращение, перебираем покрытые плесенью и изъеденные крысами фотографии. Вернее то, что от них осталось. Рядом примостился на стуле дурно пахнущий нищий неопределённого возраста, вытащивший «это» из какой-то помойки на окраине города. Просительно заглядывая Шарлю в глаза, он уже в пятый раз повторяет свою историю: — Третьего дня я отправился на обход помоек. Это конечно не моя территория. У нас ведь все помойки поделены... Если на чужую залезешь, не только поколотят, но и из общины исключить могут... но я значит так себе подумал: « Эта, на окраине ещё не поделена. Её ни кто из наших вообще не посещает. Туда вообще последние отходы сбрасывают. На своей территории всю неделю ни чем полезным поживиться не удалось. Вот и побрёл на ничейную» Бродяга смущённо почесал в голове и опять заискивающе посмотрел на Шарля. Тот ободряюще позвенел карманной мелочью. — Ну а дальше то чтобыло? — Ну что дальше... Стал одну из бочек разрывать... сперва тоже ничего полезного и вдруг... Знаете, ночь то лунная была. Совсем светло. Сбросил очередной слой, а тут что-то твёрдое. Разгрёб немножко, а там... Угол торчит, кожаный переплёт, вернее папка такая. Потёр рукой, она сразу и заблестела. Ну думаю, удача привалила. За такую вещь точно можно пару монет получить. Нищий сглотнул и снова уставился на Шарля. — Ну и как? — Да что «как»? Видите, что вытащил. Только один угол целым остался. Всё остальное крысы погрызли. — Ну а фотографии то откуда? — Да из папки и выпали. Я от злости её об землю шваркнул, тут они и посыпались. Правда, тоже погрызенные. — А как догадались в полицию отнести? — Да очень просто. Мы ведь тоже газеты читаем. Народ относит их на помойку, а мы подбираем и читаем. Вот и вспомнил, что в прошлом году за какие-то пропавшие фотографии награду обещали. Ну и подумал, а вдруг за эти самые. Бродяга опять судорожно сглотнул. Шарль, одобрительно кивнул головой и вытащил из портмоне пару купюр: — Вы очень мудро поступили, и вознаграждение заработали честно. Поройтесь там ещё немного, или где-нибудь по соседству. Если найдёте какие-нибудь фотографии, заработаете ещё денег. Спасибо, Вы оказали нам очень большую услугу. Мы в растерянности стоим на тротуаре, держа в руках завёрнутую в тряпку папку, вернее то, что от неё осталось. Сын Рутлингера, наморщив лоб, протирает очки и бормочет себе под нос что-то невнятное. Единственно, что нам удалось разобрать в этом бессвязном бормотанье, напоминало несколько раз повторенную фразу: «Но ведь они убили его, они убили его...» Шарль с сочувствием обнял за плечи молодого человека, явно потерявшего ориентацию: — Да, эти молодые наркоманы убили Вашего отца, и отбывают сейчас заслуженное наказание. Стряхнув с плеч тяготившую его руку, парень вернул на место свои очки и, наконец, чётко произнёс: — Я не это имею ввиду. Это не несчастный случай. Его убили умышленно. Убийство было запланировано, а мальчишек просто наняли за деньги. Меня как будто облили ледяной водой: — Но почему? Кому это понадобилось? — Поймите, мой отец был евреем. Потому он и на маме никогда не женился, чтобы я мог носить её имя — Бланше. Эти негодяи хотели, чтобы он остался в памяти современников евреем-коммерсантом, делавшим деньги на почтовых открытках, и лжецом, пожелавшим выдать себя за талантливого художника. Мерзавцы не только убили его, но и обесчестили. Шарль ошарашено взирал на Рутлингера младшего: — И Вы подозревали это с самого начала? — Нет. Догадался позже, когда мы сперва не нашли фотографий, а потом поднялась против него газетная шумиха. Я ведь знал, мой отец не лжец и не фантазёр. — Почему же сразу не сказали о своих подозрениях? Некоторое время мёсье Бланше нерешительно переступал с ноги на ногу и повторно протирал абсолютно чистые очки. — Простите, мёсье Лекок, но тогда я ещё не знал, на чьей Вы стороне. Губы Шарля побледнели и сжались в тоненькую полоску, а рука с побледневшими костяшками пальцев судорожно прижала к телу папку с остатками фотографий. На кого он злился? Неужели на Бланше, заподозрившем его в шовинизме? Последовавший ответ удивил не только молодого человека, но и меня: — Мёсье, если в папке находится именно то, что мы думаем... клянусь честью... я восстановлю доброе имя Вашего отца. А теперь прощайте. Дома он больше часу молча измерял кабинет длинными, нервными шагами. И вдруг, внезапно остановившись перед моим креслом, ошарашил вопросом: — Надеюсь, ты не потеряла план размещения фотографий на выставке? — Нет. Он хранится у меня в письменном столе. А что ты собираешься предпринять? Как всегда, приняв окончательное решение, Шарль успокоился и, присев по другую сторону стола, деловито изложил свой план. — Завтра я свяжусь с одним очень квалифицированным реставратором и с человеком, разбирающимся в фотографии. Надеюсь, им удастся расчистить останки и, хотя бы частично, восстановить их. Если это действительно работы Рутлингера, мы выпустим каталог несостоявшейся выставки. Для этого потребуется твоя схема и твоя помощь. Только ты сможешь расшифровать, что кроется за всеми перечёркиваниями и исправлениями. Самое ценное в этой схеме — названия работ. А уж на соответствующие комментарии к каталогу и вообще... к этому вандализму... я не поскуплюсь. Главное — убедиться, что это действительно те самые работы. Каждый из привлечённых специалистов был мастером своего дела, но ни один из них никогда не работал с таким материалом. Реставратор картин умел обращаться с масляными красками и холстом, несколько раз ему доводилось расчищать от плесени фрески на стенах полуразрушенных церквей, но с бумагой... Как она отреагирует на известные ему химикалии? Специалист-фотограф умел проявлять и закреплять отснятые кадры, но растворять грязь и плесень... это была для обоих абсолютно новая область, где приходилось экспериментировать, продвигаясь крошечными шагами, как по минному полю. Только через месяц Шарль показал мне три первых успеха. На одном из восстановленных фрагментов, недоеденном крысами, были чётко видны две обвившие друг друга лошадиные головы, изящные, почти лебединые шеи и глаза одной, стоящей «лицом» к зрителю, задумчивые и печальные. Я открыла план Рутлингера, Зал № 2 — «Лошади» и, торопливо порывшись в перечёркиваниях и исправлениях, нашла рамку с названием «Расставание». Это могла быть только она. На втором фрагменте чётко просматривалась плоская морда мопса со злыми глазами и голова обернувшейся к нему хозяйки, с таким же плоским и злым лицом. В зале «Жанровые сценки» я нашла два названия, которые могли бы подойти к этой картинке: «Дама с собачкой» и «Подруги». Что касается меня, я охотнее выбрала бы второе. Третьей фотографией, сохранившейся почти без повреждений... о воля божья и насмешка судьбы... была моя «Дама в шляпе». Ну и ну! Сомнений быть не могло. В папке хранились останки, уничтоженных шовинистами фотографий Рутлингера. Вечером я написала Жаку записку, состоящую из одного слова «Быть». Путь « Самсона и Далилы» на сцену театра пролегал через тернии и болота. Дирекция Одеона, одобрив написанный Жаком сценария, не спешила включать пьесу в репертуар. Причина лежала на поверхности и именовалась одним простым словом — «осторожность». Одеон уже много десятилетий гордо носил на своём челе марку высшего качества; всегда современен, остёр и политически нейтрален. Хотя по своим персональным убеждениям директор театра сочувствовал «дрейфусарам», вступать в конфликт с правительством и шовинистски настроенной публикой ему не хотелось. Зачем лезть головой в петлю, которую можно благопристойно обойти стороной? Того же мнения придерживался и главный режиссёр. В конце концов нам удалось найти компромиссное решение: Жак Малон со своей труппой арендует квадратные метры сцены в театре Одеон, неся полную финансовую и моральную ответственность за результат. Не знаю откуда у Жака нашлась такая уйма денег, но право на долевое участие мне пришлось отстаивать чуть ли не кулаками. Второй, неразрешимой проблемой, была «труппа», состоявшая в данный момент из одной меня. В ближнем и дальнем окружении не нашлось ни одного подходящего Самсона. Поль (Ясон — Теодоро) сходу предложил свою кандидатуру, но его тонкая, гибкая фигурка никак на соответствовала грозной мощи библейского силача. Единственным человеком, идеально подходившим на эту роль мог стать наш доблестный Анри-Ипполит, давно затерявшийся в дремучих российских снегах. Всем знакомы банальные трюки незадачливых криминалистов: вдруг, когда девятый вал почти накрыл утлый челнок потерпевших кораблекрушение... в трёх метрах от них из-под воды всплыл покрытый банановыми пальмами остров... С нами случилось то же самое. Вдруг из многолетнего небытия, сверкая по-прежнему безупречными зубами, всплыл великолепный Анри, впервые в жизни произнеся совершенно бесподобную фразу: — Ребята, мне показалось, я вам нужен. Оказывается, он не женился ни на богатой вдове, ни на наследнице императорской крови, а просто осел в провинции, пропивая остатки своих баснословных гонораров и маленького наследства, оставшегося от родителей. С деньгами, а значит и с лёгкой жизнью было покончено. Теперь он опять захотел работать, а значит в труппе нас стало двое. По просьбе Жака я написала призывное письмо Элизе, всеми силами соблазняя её ролью жены Самсона. Это была вторая главная женская роль, потому что Далила появлялась только во втором акте. Все эти годы Элиза редко показывалась в Париже, постоянно гастролируя по миру. Мы встречались не чаще двух раз в году, но и этого хватало, чтобы наговориться досыта. За это время она успела сменить трёх богатых покровителей, великолепно выглядела и замечательно играла. Критики ставили её на один уровень с Элизой Рашель, предсказывая не только мировую, но и посмертную славу. Написав приглашение, я не сомневалась в отказе; вряд ли через столько лет Элиза захочет не только играть с Малоном на одной сцене, но и работать под его режиссурой. Но похоже, эту пьесу вело само провидение — Элиза ответила согласием. Жак оставил за собой небольшую, но очень сочную роль: главного правителя филистимлян, сперва купившего алчную Далилу, а затем безжалостно расправившегося с Самсоном. Итак, сердцевина нашего диковинного цветка сформировалась как по мановению волшебной палочки. Украсить её необходимыми лепестками не представляло уже ни малейшего труда. Спектакль обещал пристальное внимание публики, а значит беспроигрышный шанс быть замеченным. Ощущение сладкой ностальгии захлёстнуло первые репетиции. Подумать только, через десять лет мы, почти не постаревшие, снова на одной сцене. Молодёжь, заразившись нашим энтузиазмом, самозабвенно мчалась впереди «стариков». Это блестящее начало продлилось не больше месяца. Уже на исходе третьей недели в группе наметились небольшие расщелины, становившиеся с каждым днём всё глубже и непроходимее. Каждый, принёся с собой десятилетний опыт успехов и амбиций, пытался режиссировать спектакль на свой лад, не признавая ни авторитета Жака, ни его видения пьесы, которая, не успев родиться, уже рассыпалась на части. Жак, перенявший стиль Лекока, поливал всех высокомерным сарказмом, но... то, что дозволено Зевсу, не прощалось быку. Малон был всего лишь один из нас, прошедших когда-то эту блестящую школу, и, хотя по сути был прав, ирония его в данном случае звучала фальшиво и неуместно. Чем серьёзнее становился разлад, тем жёстче и нетерпеливее реагировал Жак. Ясно было, ещё пару таких дней, и главные действующие лица соберут чемоданы и разъедутся по домам. Для меня успех «Самсона и Далилы» было делом чести. Написанное в записке «Быть» — эмоциональная реакция на общий психоз, казалась в тот момент смыслом жизни, и я не могла позволить чужим амбициям отобрать у меня этот шанс. Поразмыслив несколько дней над стратегией разговора, я рискнула пригласить Малона в «Старую мельницу».. Мой бывший друг демонстративно прошёл мимо столика в нише, служившего в школьные годы немым свидетелем наших творческих мук и сомнений, и занял место посередине зала. Молча опустившись на соседний стул, я отдала должное его такту и разуму. Наши отношения вступили в новую фазу, и старые традиции в неё уже не вписывались. Заказав кофе и собравшись с мыслями, я повела разговор так, как научил меня когда-то Шарль... Однажды я за что-то очень рассердилась на мужа и, не сдерживая ни темперамента, ни бушующего в душе возмущения, полными горстями выплеснула ему в лицо всё, что в тот момент о нём думала. Шарль, ни слова не говоря, поднялся со стула и ушёл в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Позлившись минут сорок и, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, я ворвалась к нему, намереваясь продолжить «промывку мозгов». Муж, остановив рукой поток красноречия, с любопытством спросил: — И ты надеешься таким образом от меня чего-то добиться? — Да. И очень надеюсь, ты поймёшь наконец, что не прав. Хотя, глядя в его невозмутимое лицо, я уже ни на что не надеялась, а Шарль, даже не предложив мне присесть, приступил к очередной проповеди: — Разговаривая со мной таким тоном, ты по-видимому, рассчитываешь, что этот «упрямый козёл» не станет с тобой разводиться из-за двух-трёх пронзительных взвизгов. Правильно? — И вправду не будешь? — Пожалуй нет... потому что лень, а вот врезать пару горячих по твоему... заднему фасаду, очень даже хочется. Но если будешь таким образом срываться с тормозов с посторонними, нарвёшься на более серьёзные неприятности. Посторонний, даже если в глубине души он и согласится частично с твоей правотой, обозлится не на шутку, и при первом удобном случае напакостит по полной программе. — А как надо разговаривать с посторонними, чтобы они не пакостили? — Вот это уже вопрос разумного человека. Причём не только с посторонними, но и со мной. Лучше сперва подумать, а потом орать. Способов много, но главное — начать с определения позиций и целей. В данном случае цель у нас общая, и это главное. А вот представления о способах её достижения разные. Вот с этого и надо начинать. Кто знает, может к концу разговора выяснится, что стратегия оппонента не хуже твоей, а может вообще удастся найти новую, которая окажется лучше двух предыдущих. Вот и попробуй начать разговор ещё раз и с самого начала. Именно так, припомнив уроки дипломатии «по Лекоку», я подготовила беседу с Жаком, постаравшись как можно меньше кривить душой. Звучало это приблизительно так: — Чем больше я углубляюсь в твою пьесу, тем больше она мне нравится. Ты написал её действительно здорово. Из наивной легенды сделал абсолютно современную, психологически обоснованную историю. Она обязательно должна обрести жизнь. И потом... у меня есть очень серьёзные, личные причины бороться за её осуществление, но... к сожалению, последнее время я начинаю побаиваться, что постановка развалится, не успев родиться. Или я ошибаюсь? Жак настороженно следил за моим лицом, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, демонстрируя дистанцию и готовность к сопротивлению. К концу фразы он подался вперёд, впечатав локти в крышку стола. — Ты не ошибаешься. Пьеса действительно рассыпается, потому что с этой труппой невозможно работать. Только посмотри, что они вытворяют. Каждый тянет одеяло на себя, не считаясь ни с сутью пьесы, ни с другими участниками. — Расскажи подробнее, что ты имеешь ввиду. — Да разве сама не видишь? Анри вбил себе в голову, что играет народного героя... Спартак чёртов. Сколько раз можно ему объяснять, что Самсон и Спартак — не одно и тоже. А если и Спартак, то только в заключительной сцене. В первых двух актах он просто доверчивый, влюбчивый мальчишка, похваляющийся своей непомерной силой и не знающий, куда её применить. — Мне тоже кажется, он не понял ни легенды, ни твоей пьесы. — Ну слава богу, хоть кто-то со мной согласен. Ну а Элиза что лучше? Этакая влюблённая, преданная Пенелопа, вынужденная сделать выбор между горячо любимым мужем и семьёй. Да не была она в Самсона влюблена! Как было в то время? Кто спрашивал у девушек согласия? Родители велели замуж идти, они и шли. А Элизе, во чтобы то ни стало, хочется себя во всём трагическом блеске показать. Здесь мне пришлось сделать паузу, изобразив, будто подавилась кофе. Как плести это кружево дальше? Естественно, каждому исполнителю хочется вдохнуть в свою роль как можно больше психологических нюансов. Ведь именно этому и учил нас когда-то Лекок — плоскость, намеченную автором, превратить в объём. Как напомнить об этом Жаку, не обозлив его окончательно? Вдосталь прокашлявшись, я двинулась на ощупь дальше: — Элиза в этой роли напоминает тебя в Пер Гюнте. Ты тоже превратил проходимца в поэта-героя, придумав ему совершенно замечательную защиту. Помнишь? Лицо Жака смягчилось и показало в улыбке остренькие зубки. — Тогда Лекок дал мне такое задание, а я Элизе ничего подобного не задавал. Незачем смотреть на Самсона коровьими глазами и млеть при виде его богатырской мускулатуры. — Но может это не так уж и плохо? Иначе ты получишь вместо одной Далилы двух. Кажется, Жак понял направление моих мыслей. — Ладно, подруга. Готов с тобой согласиться, что иногда веду себя, как диктатор. Но зачем же, во имя собственной выгоды, искажать суть? — Но почему все женщины должны не любить Самсона? Он что, инвалид или урод какой-нибудь? Пусть для разнообразия хоть первая жена отнесётся к нему с симпатией. Право, когда эту притчу читаю, жалко парня становится. Жак, как в добрые старые времена, вытянув вперёд указательный палец, важно провозгласил: — А ты, женщина, не так глупа, как кажешься с первого взгляда. Ну а что прикажешь со Спартаком делать? — Надо, применяя чудеса дипломатии, переубедить его стать Самсоном. Кстати, может и тебе попробовать себя в ином амплуа? — Это как? — Великолепный шанс сыграть режиссёра-демократа. Наступил кульминационный момент, ради которого, как сложный арабский орнамент, выплеталась эта не простая беседа. Если Жак сейчас взорвётся — пьеса погибла. Слава богу, мой друг удержался на скользкой поверхности. Лишь закрутил своим острым клювиком, с шумом втягивая в него воздух, но устоял. — Но Лекоку почему-то удавалось без демократии вытянуть нас туда, куда считал нужным. Я внутренне вздохнула с облегчением: — Когда это было. Десять лет назад. Тогда мы были неопытны и запуганны. У нашего второго режиссёра, Андре Антуана в «Свободном театре», получалось не хуже, хотя он и был демократом. — Что касается меня, то мне работалось с ним было гораздо легче и приятнее, чем с Лекоком. Ладно. Подумаю о твоём предложении. Жак опустил ладони на стол, завершая спор подписанием мирного договора. « Самсон и Далила» могли наконец, подняв паруса, покинуть утыканную скользкими валунами и острыми рифами бухту. Тем временем число расчищенных фотографий достигло пятнадцати. Я разглядывала эти обрывки, пытаясь подобрать к ним названия из плана Рутлингера. Особенно восхитительной была одна из жанровых сценок: остаток женской головки с утиным носом, нашёптывает на ушко приятельницы новую сплетню. Фигура приятельницы сохранилось почти полностью. Расши-ренные восторгом глаза, растянувшиеся губы и тело, уже пришедшее в движение. А как иначе? Надо первой успеть разнести сенсацию по округе. Пожалуй название «Подруги» больше подойдёт к этой сценке. Значит «Дама с мопсом» просто «Дама с собачкой». Ничего лучшего в плане найти не удалось. А вот остаток какого-то пейзажа. Как он похож на «Сад снежной королевы», завороживший меня когда-то в парке! Только у Рутлингера хрусталь уже тает. Пара осколков, оторвавшись от ветки, повисла в воздухе, а раздутая, распушившая перья птица склёвывает последние летние ягоды. В пейзажном зале нашлось только одно подходящее название — «Всё проходит». Я подбирала названия к купающейся в снегу счастливой кошке, к птице, распластавшейся на оконном стекле, к мощным лошадиным ногам, упёршимся в продавленную землю и... к своей голове в роли тоскующей Медеи. Боже, что это были за фотографии! Бесценный гимн красоте, уничтоженный воинствующими, безмозглыми шовинистами. Шарль составил каталог несостоявшейся выставки, разместив экспонаты в соответствии с планом. Исчезнувшие работы представил пустыми рамками с названиями и указаниями: «Не найдена» или « Восстановить не удалось». В некоторые рамки вставил копии снимков с неразборчивой грязью и следами крысиных зубов. Сын Рутлингера, показавшийся при первом знакомстве вялым и флегматичным, неожиданно проявил фантастическую энергию. Он добился повторного расследования дела об убийстве отца. На втором допросе мерзавцы сознались, что в тот вечер в пивной были наняты каким-то незнакомцем. Он поручил им ограбить и избить как следует указанного господина, а ещё лучше, «забить так, чтобы тот уже никогда не поднялся». Незнакомец выдал небольшой аванс, который молодые люди тут же и пропили. Остальную сумму получить не успели, так как были схвачены полицией. Описать толково внешность нанимателя недоумкам не удалось, да это и не важно. Ясно, что видели они только подставное лицо, за которым стоял серьёзный заказчик. Шарль углубился в написание сопроводительного текста к каталогу. Одновременно он подготовил несколько статей в центральные газеты, анализируя итоги нового расследования по делу Рутлингера. Хотя в прессу успели просочиться слухи о бродяге, нашедшем какие-то фотографии на городской свалке, Шарль до сих пор категорически отрицал принадлежность этого мусора оскандалившемуся фотографу. Реставрационные работы тоже держались в строгом секрете. Лекок готовил бомбу, взрывная сила которой не предвещала ни обществу, ни ему лично ничего хорошего. К сожалению, я не могу дословно воспроизвести блестящие строки, вышедшие из под остро заточенного пера Лекока. По прошествии стольких лет могу лишь повторить общее содержание его статей, возможно и сохранившихся до наших дней в каких-то архивах. «Убийство ценою в пальто или слава Герострата» Иногда приходится благодарить бога за то, что в нашем цивилизованном обществе существуют не только богатые, способные оплатить наёмное убийство, но и нищие, отыскивающие ценнейшие произведения искусства на городских свалках. Лекок подробно описал итоги повторного расследования убийства Леопольда — Эмануэля Рутлингера и состояние изъеденных плесенью и крысами фотографий. В чём провинился перед современниками Эмануэль Рутлингер? Только одним: родившись евреем, он позволил себе быть талантливым, увлечённым человеком... Наше поколение, породившее воинствующих шовинистов, украсило себя славой Герострата, бездарного честолюбца, сжёгшего в Эфесе храм Артемиды. Поколение, уничтожающее в пылу бессмысленной национальной войны культурные ценности — поколение Геростратов, поколение разрушителей. Шовинист по сути своей бездарен, а по сему агрессивен. Каждый шовинист в душе Герострат. Безумец перед казнью высказал последнюю волю: « Пройдут столетия, и ни кто не вспомнит имя создателя храма, но имя Герострата, уничтожившего его, останется в народной памяти на века». Я, Шарль Лекок, решил переписать историю заново. Мы восстановили остатки чудом спасённых фотографий и завтра выложим их во всех книжных магазинах. На каждом прилавке будет лежать каталог несостоявшейся выставки. Имя Леопольда-Эмануэля Рутлингера останется в памяти будущих поколений, тогда как имя его бездарного убийцы не узнает никто и никогда. Разве что он добровольно явится в полицию и заявит о себе, что мало вероятно. Бездарность не только завистлива, но и труслива. Эти мощные строки вызвали у меня в тот день двоякие чувства. С одной стороны меткий, сочный удар в орущую антисемитскую морду отозвался в душе торжествующим колокольным набатом, но с другой... Господи, убереги моего мужа от судьбы Рутлингера! Неделю спустя на сцене Одеона состоялась премьера «Самсона и Далилы». Ирония или парность судьбы. Самсон или Альфред Дрейфус. Самсон, ослеплённый и лишённый силы, медленно погибал в плену у Филистимлян, в то время как Дрейфус медленно сходил с ума в изгнании на Чёртовом острове. Критика отреагировала на премьеру весьма благодушно. Как в добрые старые времена отмечала блестящее исполнение, великолепную режиссёрскую работу, мастерски выполненные декорации, воссоздающие атмосферу древневосточной роскоши... и ни слова о политическом акценте пьесы. Этакое затишье перед бурей. Нейтралитет в тот период не признавался. Противоборствующие партии требовали от каждого чётко определённой позиции, доходя порой до абсурда, как это случилось с несчастным Роденом. Эту историю мне рассказала Камилла. В последние годы мы встречались с ней не часто. Запутанные отношения с Мастером изрядно истрепали ей нервы. Разговоры постоянно крутились вокруг Розы и бесстыдной эксплуатации Роденом камиллиной преданности и таланта. Года через три после рождения Марселя у неё появился шанс сравняться с соперницей — она обнаружила, что беременна. К сожалению, предчувствие приближающейся победы закончилась очередным фиаско — мучительным выкидышем, серьёзно подорвавшем её телесное и душевное здоровье. В случившемся бедолага как всегда обвиняла Родена. Несмотря на беременность она, по его требованию, продолжала ворочать тяжеленные глыбы глины, карабкаться вниз и вверх по строительным лесам, доделывая мелкие детали на его скульптурах, и часами позировать в положениях, выворачивающих всё тело наизнанку. Камилла посетила меня после почти годового перерыва. Боже, как она изменилась за это время! Отдельные пряди меднокаштановых волос, потеряв былой блеск, выбивались из причёски и неопрятно свисали на увядшие, бледные щёки. Беспокойные глаза, утонув в тёмно-синих подглазьях, находились в постоянном движении, не в силах подолгу задержаться на одном предмете. Она заскочила ко мне буквально на полчаса, вскоре после выставки в Салоне Национального общества изящных искусств, где Роден представил «Поцелуй» и памятник Бальзаку, заказанный лет восемь тому назад Обществом литераторов. Этот памятник, являвшийся, по словам Камиллы, абсолютным новаторством в скульптуре, был безжалостно раскритикован и отклонён комитетом Общества. На этот раз Камилла, обычно критиковавшая все действия Родена, была на его стороне. Возбуждённо жестикулируя сильными, гибкими ладонями, она в лицах изображала диалог двух членов комитета. Один, этакий надутый самодовольством субъект, описывает впечатление от памятника: — Спереди — снежная баба, сбоку — тюлень, а сзади... вообще невесть что! Другой, не менее маститый, подхватывает в той же тональности, украшая новыми, безобразными подробностями: — У него даже рук нет. Чем же он свои книги писал? Видимо пальцами ног, единственной частью тела, которую нам господин Роден позволил увидеть. Вслушиваясь в слова рассказчицы и наблюдая за её жестами, я припоминала странное ощущение, вызванное этим памятником. В белом гипсе он действительно не смотрелся. Мне лично гораздо больше понравился «Поцелуй», хотя... вполне возможно, я не так уж хорошо разбираюсь в современном искусстве. Но дело не в этом. Никому не дано право так зло издеваться над чужим творчеством. Не нравится — не смотри. Но так унижать достойного человека... в самом деле противно. Присев на краешек кресла и сокрушённо качая головой, Камилла, описала обстановку на выставке: — Даже те, кто поддерживал «Бальзака», едва взглянув на памятник, тут же переключались на дело Дрейфуса. — Но причём здесь Дрейфус? — Он теперь «при всём». Своего рода водораздел. Да Вы и сами всё это знаете. С одной стороны весь генеральный штаб, клерикалы, монархисты, националисты, с другой — радикалы, сионисты, социалисты и прочие вольнодумцы... Нейтралитет нынче наказуем. До смешного доходит. — Но какое отношение это имеет к Родену? Камилла, тяжело вздохнув, наконец успокоила руки и сложила их на коленях. — Самое прямое. Золя написал петицию, осуждающую действия Общества и образовал комитет по сбору тридцати тысяч франков на приобретение Бальзака и установку его в какомнибудь парижском саду. Несмотря на собственные неприятности даже внёс в фонд тысячу франков. — Действительно мужественный человек. Ведь с него самого приговор за «Я обвиняю» ещё не снят. — Да мужественный. Только месяц спустя он вычеркнул свою подпись и забрал деньги обратно. И знаете почему? — Догадываюсь. Роден отказался подписаться под петицией в защиту Дрейфуса. — Совершенно верно. Ведь он скульптор, а не политик. Всегда хотел просто работать. Я знаю его. Он живёт в своём замкнутом мире образов и форм и не хочет видеть ничего вокруг. — Ну, а что же будет с «Бальзаком»? — Самое нелепое в этой истории — половина «дрейфусаров» забрала свои взносы обратно, но на их место тут же заступили «антидрейфусары». Понимаете, какая гадость? Роденовское искусство никого не интересует. Все просто сводят счёты друг с другом. Минуту помолчав, Камилла ошарашила меня простейшим вопросом: — Неужели мы, как стадо коров, обязаны по удару хлыста бежать в указанную нам сторону? Неужели нельзя, никому не мешая, просто заниматься своим делом? Что я могла на это ответить? Мы не стадо коров. Мы ещё хуже — мы просто щепки, увлекаемые мощным потоком времени. Вскоре поднялась давно ожидаемая буря вокруг « Самсона и Далилы». Вначале, как я и предсказывала Жаку, нас все приняли за своих. Оба лагеря интерпретировали пьесу в свою пользу, щедро осыпая похвалами и благодарностями. Спустя пару недель, сообразив, что так не бывает, потребовали от Малона официального разъяснения. Перепуганный Жак примчался за советом к Лекоку. — Пресс-конференция назначена на послезавтра. Я не хочу неприятностей... и пьесу губить не хочу. Как правильно себя повести? Его глаза под роговыми очками, ещё вчера мудрые и всезнающие, сегодня источали даже не робость, а откровенный детский страх. Шарль, с самого начала предсказавший такой финал, не выразил ни удивления, ни испуга. — Я думаю, всё не так страшно, как кажется. На прессконференции тему Дрейфуса Вам вообще не надо затрагивать. — Но ведь вопросы будут задавать именно об этом? — Ну и что? Как ведут себя в таких случаях политики и коммерсанты? Используя массу высокопарных слов, рассуждают о чём угодно, только не о том, о чём их спрашивают. Вы интересуетесь классикой и все ответы будете сводить к этой теме. И не бойтесь отвечать вопросами на вопросы. — Это как? — Ну, к примеру... Вас спрашивают, кого Вы подразумевали под образом Далилы. Ответ может прозвучать так: «Нужно ли притягивать классические сюжеты к конкретной сегодняшней ситуации? Вся античная драматургия построена на столкновении страстей, присущих человечеству с древних времён: честолюбие, жадность, месть, зависть... и основным оружием в этой борьбе всегда были злодейство и предательство... Далее Вы начинаете рассуждать о достоинствах классической литературы и человеческих страстях. — Блестящий ход, мёсье Лекок. Зачем в самом деле притягивать античную литературу к современному противостоянию? Это понятно. Ну а как отвечать вопросами на вопросы? — Можно обратиться непосредственно к задавшему вопрос, но лучше всего к его соседу, придав лицу выражение, типа: «Мы-то с Вами люди умные и понимаем глубинную суть обсуждаемой здесь проблемы...» — Нда... Отличная стратегия. — Ваш единственный шанс, мёсье Малон, как можно искуснее «заболтать» представителей прессы. Увести от темы. Затянуть в дебри псевдоумных морально-этических дискуссий и уйти, так ничего и не сказав. Вспомните Вашу блестящую защиту Пера Гюнта. Тогда это у Вас мастерски получилось. Прощаясь со мной в прихожей, Жак, подняв большие пальцы обеих рук, впервые высказал своё восхищение Лекоком: — А твой муж действительно гений. С таким не пропадёшь. Забавно, что после стольких лет немых и не только немых упрёков в замужестве по расчёту, эта похвала... а может и мелкий подхалимаж... пришлись мне вполне по вкусу. — Спасибо, друг. Я давно и преданно люблю своего мужа. И не только за гениальность. Жак блестяще подготовился к спору с журналистами, забросав их вопросами об античном понимании добра и зла, предательстве и героизме, преданности идеям и фанатизме. Пресса, проведя почти два часа в зале заседания, так и не поняла отношения Малона к делу Дрейфуса. Критики и литераторы надолго погрязли в спорах о человеческой морали. В тот момент нам казалось, мы достигли своей цели — заставили общество просто задуматься, не привязываясь к национальному вопросу. Но... Зацепившееся за предательство общество, не признающее нейтралитета, связало почему-то именно моё имя с этой животрепещущей темой. «Предательница Далила, блестяще исполненная гениальной актрисой Еленой Альварес... Далила... предательница... Елена Альварес...» Всё смешалось в одну кучу. А тут новый биржевой кризис, падение курса акций бывших партнёров фирмы «Блюменталь & Блюменталь», новые нападки на Норберта. Кто-то из бойких журналистов, озолотившихся на этой на сенсации, докопался до его испанских корней. «Господин Блюменталь, потомок двух славных родов; с французской стороны — графов де Бельвилей, с испанской — графов де Альварес, несколько столетий преданно служивших французским и испанским Бурбонам, продался евреям за тридцать серебряников» С этой газетой в руках обнаружила однажды утром Лизелотта Франческу, навсегда уснувшую в своем любимом кресле у камина. Глава 15 Я вбежала в комнату, где несколько часов назад умерла бабушка. Мама стояла, отвернувшись к окну, дядя Антуан, утонул в кресле, прикрывая руками лицо и громко всхлипывая, а Лотти, сжавшись в комочек на краешке кушетки, бессмысленно смотрела в пространство перед собой и бормотала что-то бессвязное. Интуитивно бросилась к ней и притянула к себе: — Милая моя, родная! Как же ты теперь одна? Сегодня же увезу к себе, — бормотала я первые, пришедшие в голову слова... и остолбенела, столкнувшись с двумя круглыми, полными ненависти глазами. Маленькие, пухлые ручки с силой отшвыривали меня прочь. — Уйди! Это ты... ты во всём виновата. ты убила мою Франки. Далила! Иуда! Я беспомощно посмотрела на маму, но она... она только безнадёжно махнула рукой. — Иди домой. Мы справимся сегодня без тебя. На Антуана я даже не посмела взглянуть; с этой стороны могли последовать только оскорбления. Не знаю как добрела до дома. В прихожей меня встретил Марсель. Даже не взгляда, одного дуновения воздуха сыну хватило, чтобы почувствовать запах беды. — Мам, случилось что-то страшное? С папой? — Нет. С бабушкой. С Франческой. Она умерла. Марсель, не произнеся ни слова, взял мою руку и повёл в комнату. — Расскажи, как это случилось. Всё расскажи. Я и рассказала. Почти всё. О статье в газете, порочащей имя Альваресов, о бабушке, всю жизнь гордо охранявшей фамильную честь, о моём псевдониме и о Лотти, обвинившей меня в смерти её единственной подруги. Марсель, как он был в этот момент похож на Шарля, слушал молча и не перебивал вопросами. Только, когда рассказ подошёл к концу, сын серьёзно и по деловому попытался меня утешить: — Мам, на самом деле ты ни в чём не виновата. Но бабушку Лотти я тоже понимаю. Когда у меня ломается игрушка, или не получается задачка, мне тоже нужно найти виноватого и на него рассердиться. В первый момент это очень помогает. Скоро она успокоится и всё будет по старому. У неё всё равно нет никого ближе нас. — Как это никого? А сын, а Джильберт, младший внук? — Она не любит их так, как нас. Конечно она переедет жить сюда. Мы отдадим ей угловую комнату с балконом. Оттуда замечательный вид на старую церковь. Меня окатило волной нежности к сыну. Эта бескомпромиссная уверенность в моей правоте и непогрешимости! Заслужила ли я такую преданность? Жаль что он, как все Альваресы, не признаёт нежностей. Так хотелось бы прижать это чудо к себе, надышаться запахом пушистых волос и отогреться в родном тепле и уюте. Чуть позже, спрятавшись в своём кабинете, я забралась с ногами в кресло, подтянув к животу коленки — с детства эта поза всегда помогала справляться с неприятностями — и предалась своему любимому занятию — самокопанию. То, что я рассказала сыну было правдой, но правдой поверхностной, без подводных камней и утёсов. Ведь случилось именно то, чего я боялась, прежде, чем ответила Жаку решительным «Быть». Сердечные приступы после каждой атаки на Норберта бабушка заливала сильно действующими каплями и продолжала жить. Я знала: комья грязи, брошенные в де Бельвилей причиняют ей боль, но не доведут до могилы. Знала, что имя «де Альварес» для Франчески стоит после имени Иисуса Христа. Она, можно сказать, препод-несла мне самое дорогое из того, чем владела. Фамильные драгоценности, кольца, браслеты из костяной шкатулки были для неё просто безделушками, которые дарила нам по всякому поводу, и без повода тоже. Но титул... Да, для неё это было не имя, а титул, или икона, приносящая успех и удачу. А я легкомысленно бросила этот дар в грязь. Зачем? Почему честь какого-то Рутлингера стала важнее здоровья бабушки? Лизелотта права. Это я со своей Далилой навела на след охотничьих псов. Мой судья уже приготовился вынести обвинительный приговор. Но тут слово взял защитник: — До смерти довела Франческу не я, а гордыня. Достоинство и честь не в имени, а в деяниях. Что в них, этих именах, если последующие поколения ни чего не прибавят к их прежнему блеску? Сколько можно жить прошлым? Неужели я обязана всю жизнь носить этот титул, как хрустальную вазу, оберегая от пылинок и солнечного света? Тогда нечего было выносить его на сцену, никому не дающую никаких гарантий. И потом... удержать почётный титул на должной высоте можно лишь действуя, а любое действие — не только риск, но и обоюдоострый клинок. Принося пользу одному, оно неминуемо наносит вред другому. Как за карточным столом — чтобы один выиграл, другой должен проиграть. Или как на суде присяжных: победа защитника неминуемо оборачивается поражением обвинителя. А эти великие Альваресы, более двух столетий трудившиеся на пользу королей? Сколько смертей и изуродованных человеческих жизней покоится на счету этой пользы? Вот и наш злосчастный журналист. Сотворив сенсацию, он заработал горстку денег и пару дней популярности, а моя бабушка заплатила за это остатками своей недожитой жизни. Почти оправдав себя, поняла, что всё это не имеет ни малейшего значения. Какая разница, кто виноват. Франчески больше нет, и я даже не успела с ней попрощаться. Нет лучащихся, внимательных глаз, нежных узких ладоней, гладивших мои волосы и щёки, нет ощущения любви и защищённости от сознания, что она существует и любит меня совершенно бескорыстно. Почему последние годы у меня никогда не хватало на неё времени? Почему раздражалась за мелкое ворчанье и банальные политические сентенции? Она ушла, так и не узнав правды о своей матери, так и не примирившись с её памятью. Если я и виновата перед ней, то только за это. Шарль, внимательно выслушав мои самообвинения и самооправдания, перешёл, как всегда к делу: — Сейчас важно не кто виноват, а что делать. Мне кажется, тебе сегодня не стоит там появляться. Дай маме и Лизелотте оправиться от первого шока. Это первая реакция, но завтра она, надеюсь, уляжется и ты снова станешь дорогой и любимой девочкой. А мне всё равно нужно их навестить. Ты знаешь, с какой нежностью я всегда относился к Франческе. Да и твоей маме сейчас не просто. По себе знаю, как больно терять близких людей. Сейчас она наверняка нуждается в поддержке. Ведь от бывшего мужа в этом смысле проку не много. — Но как я могу сидеть дома, когда им обеим сейчас так плохо? — Обещаю, если почувствую, что утренняя сцена забыта, тут же пошлю за тобой. Но Шарль за мной не послал. Пару часов спустя вернулся домой разбитый и несчастный. — Они обе выглядят ещё хуже, чем я думал. Шанталь за один день почернела и состарилась, а Лизелотта... господи... она просто потеряла разум. Не ест, не пьёт... сидит в углу и что-то бормочет. — Но тебя-то она узнала? — Узнала... и выгнала... как соучастника. Даже не знаю, что и делать. — Но мама хоть с тобою поговорила? — Тоже не очень. Поблагодарила за внимание и отвернулась. — Что же ты там так долго делал? — Попал в лапы к Антуану. Этот мерзавец лил на меня помои полными бочками. За всё подряд. За Дрейфуса, за всех евреев, живущих на земле, за мои выступления в прессе... и за тебя. — А почему за меня? — Считает, я должен был запретить тебе играть Далилу. Ты, якобы, молода и честолюбива, но ни в жизни, ни в семейной чести ничего не понимаешь, а я, старый болван, не проследил. — Господи, как ты выдержал всю эту гадость? — Не вызывать же твоего дядю на дуэль? Шли дни, но семья меня к себе так и не подпускала. Чуть позже пришёл с визитом папа. Он давно вышел на пенсию. Ариадна, его молодая жена, не сделав сценической карьеры, превратилась в рачительную домашнюю хозяйку и образцовую мать. Мой брат, главная забота и надежда родителей, рос в атмосфере поклонения и обожания. Папа выглядел неважно. Уцепившись когда-то за нить Ариадны, он надеялся беззаботно выбраться из запутанного лабиринта, ведущего к старости. Но... месть Минотавра настигла его у самого выхода: он как-то оплыл, одряблел и стал меньше ростом. Глаза давно не лучились ни радостью, ни весельем. Папа довольно кислым голосом выразил соболезнования по поводу смерти бабушки. Надо сказать, они никогда не были большими друзьями, а после его разрыва с мамой Франческа вообще отказалась принимать бывшего зятя в своём доме. Это было единственным пунктом, где расходились их мнения с Лизелоттой. Папа, пришедший по поручению мамы, сообщил мне официальную дату похорон. Франческа завещала похоронить её в Испании, в усыпальнице Альваресов, рядом с отцом. Это завещание она показала нам лет десять назад, пояснив, что всё давно согласовала с местными властями, внесла заранее необходимые деньги и даже заказала надгробье на свой вкус. Мы стоим перед свежей могилой, разделившись на группы. Лотти, обвиснув на руках у невестки и сына, бормочет что-то о сестре, убитой бесстыдными, безжалостными злодеями. Антуан, распластавшись на холодном мраморе распухшим от слёз лицом, сотрясается в беззвучных рыданиях. Мария, прикрывшись густой вуалью, приникла к могиле Филиппа Максимилиана Лоренцо де Альвареса. Как когда-то Франческа, она нежно гладит смуглыми, морщинистыми руками чёрный мрамор, нашёптывая какие-то тайны давно ушедшему в небытие отцу. Норберт и Софи не приехали — мама и Антуан категорически запретили. Шарль, Марсель и я стоим в некотором отдалении. Им всем, похоже, не очень приятно наше присутствие. Они не принимают нас в своё горе. Я, залезшая в самое пекло политических дискуссий, всё ещё виновата в смерти бабушки. Но чем дольше я смотрела на чёрный помпезный мрамор альваресового надгробья, тем больше он вызывал раздражение. Неужели это судьба? Моя прабабушка, графиня Елена де Альварес, нанесла первый, но не смертельный удар незапятнанной чести графского рода, а я, Елена вторая, окончательно изваляла её в грязи. Туда ей и дорога. Она, эта ни кому не нужная честь, нас обеих лишила семьи. Чуть позже Мария, откинув вуаль, подошла к нам. Она нежно обняла меня и Марселя и протянула руку для поцелуя Шарлю. — Детка, зайди часика через два ко мне в отель. Нам нужно поговорить. До чего не кстати её приглашение! Мы планировали сразу после похорон сесть в поезд и вернуться в Париж, а теперь придётся задержаться ещё на один день. Да и беседовать с Марией совсем не хотелось. Выслушивать новую серию упрёков и увещеваний не было ни сил, ни охоты. Даже если я в чём-то и виновата, то изменить это уже невозможно. К моему приходу Мария уже успела заказать в номер чай и какие-то сладости. Попечалившись по сестре, по быстротечности жизни и бренности бытия, она ни единым словом не упомянула о моём разладе с семьёй. Закончив чаепитие, Мария вытащила из уже упакованного саквояжа какой-то ящичек и бережно положила на стол. — Детка, не знаю, когда нам доведётся следующий раз встретиться... поэтому решила сегодня передать тебе кое-что. Она отрыла таинственный ящик и вытащила большой, резной ключ. — А теперь слушай и не перебивай. В нашей семье существует обычай. Ты помнишь два похожих портрета — моей мамы и её прабабушки. Последняя, когда, по семейной легенде, её жизнь окончательно разладилась, нашла старые развалины в одинокой бухте у моря и построила на них маленький, неказистый домик. По преданию, она скрывалась там от маленьких неприятностей и больших бед. Говорила, дом успокаивает, а море помогает принимать правильные решения. Потом домик перешёл к её дочери, моей прабабушке, а та передарила его моей маме. Последние дни перед отъездом в Америку она провела в нём. Ей тоже казалось, что стены дома излучают особое умиротворение. Перед отъездом она передала ключ мне. Надо сказать, я тоже полюбила этот уголок, бывала там по нескольку раз в году, отдыхала, следила за домом, ремонтировала постоянно возникавшие трещины. Короче, бережно сохраняла для последующего поколения. Мама была почему-то уверена, что одна из её правнучек будет походить на неё. Не знала, правда, какая именно, поэтому просила передать дом и ключ той, кому он будет всего нужнее. Боюсь... я действительно этого очень боюсь, что тебе он когда-нибудь понадобится. — Скажи, неужели никто из твоих внучек на ней не похож? — Ну как сказать? Конечно, некоторые, особенно две младшие, имеют некоторое сходство, но так однозначно, как ты... Да и жизни у них размеренные, благополучные. Без риска. А у тебя... Ну, да дело не в этом. Не перебивай. Мария вытащила из коробки лист бумаги и развернула его на столе. — Вот здесь я нарисовала план местности и написала, как туда добраться. Сейчас это уже не богом забытая бухта, как тогда, а рыбачий посёлок. И стоит наше строение не на отшибе, а в компании нескольких, таких же неказистых созданий. От меня до посёлка сейчас всего пару часов езды, но вскоре обещают провести железную дорогу. Тогда будет ещё проще. Всё поняла? Я рассматривала карту местности и пояснения, написанные аккуратным, мелким почерком. Господи, опять этот голос из прошлого, невидимая связь, предсказывающая судьбу одиночества. — Мария, а ты тоже винишь меня в смерти бабушки? — Глупости. Твоя мама просто на минутку попала под влияние Антуана и Лизелотты. Ну с последней спрос невелик; бедолага от горя совсем разум потеряла, а вот Антуан... он просто злой и завистливый человек. — Но почему завистливый? — А как ты думаешь? Всю жизнь кичился своим происхождением, а сам так ничего и не добился. Дослужился в министерстве до небольшой должности и проживал сперва приданое жены, а теперь её наследство. Младшему брату всю жизнь завидовал. Сама знаешь, Норберт очень талантливый коммерсант. Твоей маме завидовал — она тоже всего добилась своими талантами, и тебе завидует... вот какой известности достигла... не переживай. Шанталь скоро оправится и всё будет по прежнему. Главное, не ожесточайся, не сердись и постарайся её понять. Ведь ты у нас умница. — Знаешь, как мне плохо было на похоронах. Они все вместе страдают, а я... как отверженная, как чужая... а ведь я бабушку очень любила... даже больше , чем маму. — Может, потому твоя мама и отстранилась? Она ведь совсем одна осталась — муж сбежал к какой-то дурёхе, у тебя Шарль и Марсель, Норберт далеко... ей только Антуан да Лизелотта и остались. Она больше тебя в жалости нуждается. — Ох, милая ты моя. Чтобы я без тебя делала? Всегда, в самые сложные минуты ставишь мне мозги на место. — Благодари бога, что дал тебе то, что можно на место поставить. Иначе даже я была бы бессильна. Но это ещё не всё. В коробочке осталась одна маленькая вещичка, которую я тоже хочу отдать тебе. Ворча что-то себе под нос, Мария вытащила на свет кольцо. — Это тоже осталось от мамы. В последний вечер она сняла с пальца и отдала мне. Сколько её помню, столько и кольцо это помню. Мой отец преподнёс его ей на официальной помолвке, сделав на заказ по её размеру. Мама с ним до последнего момента не расставалась. Только перед самым отъездом вздохнула, сняла и отдала мне. Но видишь, — Мария надела на палец очаровательное колечко с искусно огранённым сапфиром, оправленным мелкими голубоватыми брильянтами, — видишь, мне оно слишком велико. У мамы руки были крупнее чем у нас с Франческой, а тебе, думаю, должно подойти. На, примерь. Я надела кольцо на безымянный палец и поразилась; оно пришлось точно впору. Мария взяла мою руку и бережно протёрла камень чистой салфеткой. — Вот и носи его... если конечно хочешь. Она носила его до самого отъезда. До последней минуты надеялась, что муж за ней приедет. Маленькие брильянты, подхватив лучики заходящего солнца, преломлённые в сапфире, разбросали их многочисленными радугами по белой скатерти стола. Я смотрела на эти радуги и думала о женщине, до последней минуты надеявшейся на чудо, в то время, как он... её «чудо», уже целовал ручки какой-то маркизе. Мария прервала эти невесёлые размышления внезапным вопросом: — И где же витают сейчас твои мысли? — Вокруг маркизы де Пьерак и памятной доски в изголовье могилы твоего отца. — Значит ты и это знаешь? От Франчески? — Да. Много лет назад мы побывали там. Она и рассказала о романе под занавес. Но как ты допустила эту доску? — А ты считаешь, я имела право не допустить? Это его могила и его посмертное желание. Не нам судить как и почему люди проживают стою жизнь так, как считают нужным. Или ты не согласна? — Ох, Мария, мне бы твою мудрость и всепрощение. Поболтав ещё с полчаса о всяких мелочах, я почувствовала, что пора уходить. После переполненного грустными переживаниями дня, она явно нуждалась в отдыхе. Мы нежно обнялись, расцеловали друг друга в щёки и... Если бы я тогда знала, что прощаюсь с Марией навсегда. Она пережила старшую сестру всего лишь на год. В первые месяцы после возвращения домой регулярно писала маме записки, справлялась о здоровье Лизелотты, о ней самой, получая в ответ лишь одну короткую фразу: « Мы здоровы, у нас всё по-прежнему». Наконец наступил день, когда мама, даже не предупредив о посещении, влетела в мою гостиную и рухнула на диван. — Всё. Не могу больше. Так плохо, хоть заживо в петлю. Выглядела она действительно отвратительно. Ничего не осталось ни от былой моложавости, ни от горделивой элегантности. Наспех уложенные волосы обрамляли усталое, покрывшееся морщинами лицо. Господи, что же ты сделал за эти три месяца с моей мамой? — Ну что, всё так плохо? — Хуже не бывает. Самой тошно, а тут ещё и Лизелотта. Совсем с ума сошла. Носится по дому, швыряет всё на пол и кричит. От этого крика у меня в ушах постоянный звон. — А что врачи говорят? Может ей какое-нибудь успокоительное дать? — Да они уже всё перепробовали. Или спит по трое суток, не ест и не пьёт, или носится и кричит. — Но ты такого долго не выдержишь. Что папа об этом думает? — А что он может думать? К себе взять не может — жена не позволяет. Говорит, если не хочешь возиться — отдай в клинику, а мне жалко. Всё же не собака, а родной человек. Она же не виновата, что заболела. Прикрыв глаза, мама бессильно отвалилась на диванную подушку. — Мамочка, я могу тебе чем-нибудь помочь? Измерив меня колючим, оценивающим взглядом, мама отрицательно помотала головой: — Да чем ты поможешь. Всё, что могла, уже сделала. Эта колючее страдание, опущенные плечи и злость, сочащаяся из припухших глаз, вызвали смесь, казалось бы несовместимых чувств: жалость и нестерпимое желание уколоть чем-нибудь острым, чтобы проснулась наконец и пришла в себя. — Мама, мне кажется ты, заразилась от Лизелотты. Или это микробы от Антуана? Почему запретила Норберту приезжать на похороны? Что с тобой? Ты же разумная женщина. Бедолага ожидала всего чего угодно, но не нападения. По приготовленному ею сценарию вслед за материнским упрёком следует дочернее покаяние, а тут... ответная атака. От неожиданности мама вернулась в вертикальное положение, окончательно распрощавшись с диванной подушкой и, впервые за все эти месяцы, посмотрела мне в глаза. — А разве Антуан не прав? Разве вы оба, ты и Норберт, не опозорили имя старинного, заслуженного рода? Разве не знали, как моя мама им дорожила? Почему не посчитались с её чувствами? — Если говорить о чести старинного рода, то это Норберт украсил его новыми звёздами. Это ты прославила его своим талантом, а что сделал для него Антуан? Чванливо живёт на капиталы жены, при этом потихоньку ей изменяя. Я беззастенчиво повторяла слова Марии, но что делать, если сама до такого не додумалась. На минуту стало неловко за клевету на престарелого дядюшку. Ведь его измены приплела для красного словца: хотелось не только унизить, но и утопить зловредного родственника в маминых глазах. Но она, ни на минуту не растерявшись, нанесла ответный удар. Взяв меня за руку и прищурив глаза, вопросительно уставилась на кольцо. — О, да у тебя никак новое колечко? Тоже любовника завела? — Пока нет. Мне его Мария подарила. — И почему же? — А ты действительно хочешь знать? Мама следила за радугами, отбрасываемыми брильянтами, казавшимися голубыми в косо падавших лучах солнца, а я судорожно решала проблему «Быть или не быть». Нужно ли ей знать эту старую историю, давно расколовшую семью на две враждующие половины. вместе. — И о чём же ты, дочка, задумалась? — Пытаюсь принять важное решение. — Давай помогу. Важные решения лучше принимать Слава богу, к маме постепенно возвращается спасительный юмор, а значит эта новость не сразит её наповал. И, отбросив последние сомнения, честно рассказала всё, что узнала от Марии. Мама слушала, не перебивая, не бледнея и не падая в обморок. Закончив рассказ, я удивлённо уставилась на неё: — А ты что, знала обо всём этом раньше? — Нет, не знала. Моя мама не любила вспоминать о прошлом, тем более о своей матери. Но какое это имеет значение сегодня? — Для меня — большое. По еврейским законам дети наследуют национальность матери, а значит Франческа тоже была еврейкой, и ты, и Норберт, и даже наш главный семейный антисемит Антуан тоже еврей... и мы с Марселем продолжаем это... «победоносное шествие»... Норберту досталось, по-видимому, чуть больше этой крови. По словам Марии, в его лице прабабушка узнала черты своей матери. Даже коммерческие таланты у него в ту семью, как впрочем и у их младшего брата Мигеля, твоего дяди, переселившегося, как и Норберт, в Америку. Мама долго сидела молча, задумчиво следя за игрой света в старинных камнях. И заговорила, так и не отведя от кольца взгляда: — Хочешь сказать, моя мама всю жизнь охраняла сокровище, давно превратившееся в прах? — А как ты думаешь? Мог порядочный мужчина, выгнав на старость лет жену из дома, и едва выйдя из запоя, броситься искать утешения у какой-то маркизы Шанталь де Пьерак? Кстати, Франческа назвала тебя в её честь. Вокруг маминого рта пролегла горькая складка. Возможно, в этот момент она подумала о своём любвеобильном муже, сбежавшего после двадцати лет супружеской жизни к блеклой, ничего не стоившей девчонке. Осмотрев меня так, как будто впервые увидела, мама с сомнением спросила: — А Франческа тоже знала, что ты похожа на её мать? — Мария сказала, они обе знали. Потому бабушка и предложила мне в качестве псевдонима это имя. — Надо же, как всё сложно. Слушай, как ты думаешь, мы ведь имеем право написать обо всём Норберту? Получается, он не случайно выбрал в жёны Софи. Голос крови подсказал. То-то они оба порадуются. — А может и Антуана заодно порадуем? — Ладно, оставь в покое старого дурака. Его уже не исправишь. У меня другая идея родилась. Может попросить Норберта и Софи поискать в Америке следы графа Мигеля де Альвареса или его детей? Всё же мир коммерции, как и любой другой, достаточно тесен? — Можно так, а можно у Марии спросить. Ведь она с братом все годы переписывалась. Мама опять откинулась на диванную подушку, но на этот раз не от бессилия, а от облегчения. Кризис миновал, и подводным течениям не удалось расколоть остаток семьи надвое. Может, всё же не надо было прабабушке скрывать от Франчески правду? Понимание сути причиняет значительно меньше боли, чем неизвестность. Отношения с мамой удалось наладить, но состояние Лизелотты лучше от этого не стало. — Мама, а кого она ещё узнаёт? — По-моему, никого. К собственному сыну обращается на Вы, а когда он уходит, спрашивает кто это был. Говорит, очень внимательный господин, только слишком грустный. — Но тебя то она узнаёт? — Нет. Говорит, я её подруга, но тоже очень милая. — Значит, если я приду к ней, меня она тоже не узнает, а значит не прогонит? На следующий день, глубоко вдохнув с детства знакомый запах, я переступила порог маминой гостиной. Лотти мирно восседала за столом, уставив бессмысленные глаза в пространство. Я вежливо поклонилась и поинтересовалась её здоровьем. Сердце, от тоски и жалости превратившееся в маленький, твёрдый комочек, застряло где-то в горле и мешало дышать. Бабушка с любопытством всмотрелась в моё лицо и... так и не узнав, вежливо поприветствовала, приняв за новую медсестру. — А Вы что, новенькая? Так ужасно, что доктор не может приставить к нам постоянный персонал. Я слушала её ворчанье и с трудом узнавала в этой аккуратно одетой и причёсанной старушке свою любимую бабушку. Куда подевались чудесные ямочки на щеках? Уютные, родные и тёплые округлости, которым я когда-то доверяла свои секреты? Куда подевались смеющиеся, любящие глаза и мягкие губы, подарившие мне столько сочных поцелуев? За столом сидела сухенькая, ворчливая старушка, жалующаяся незнакомой женщине на бездельника доктора, совершенно не интересующегося своими пациентами. Через полчаса, сетуя на усталость, она попросила отвести её в постель. С тех пор я навещала бабушку ежедневно. Приходила днём и помогала справляться с обедом. Её правая рука едва могла удержать ложку. Приходилось кормить, как маленького ребёнка, уговаривая съесть ещё пару кусочков, которые непременно сделают её большой и сильной. Но эти кусочки почему-то не помогали. Наоборот; с каждой неделей Лотти становилась всё меньше и бледнее. Она по-прежнему обращалась ко мне на Вы, но явно радовалась ежедневным посещениям. Советовала больше времени проводить на свежем воздухе, находя новую помощницу слишком худой и бледной, и жаловалась на злых, неблагодарных людей, убивших её любимую сестру, с которой она в ближайшее время собирается воссоединиться. Лотти не страшилась смерти. Спокойно говорила о ней, как об освобождении то забот и страданий. — Скоро я тоже смогу наконец отдохнуть. Очень устала. Пора на покой. Вскоре она вообще отказалась вставать с постели, проводя большую часть дня в полудрёме, утонув в высоких, пушистых подушках. А однажды, так и не проснувшись, перешла в мир иной, покинув нас неузнанными и непрощёнными. Теперь у меня остались только мама, Шарль и Марсель. Папа с Джильбертом появлялись только по праздникам, а к себе и вовсе не приглашали. Молодая жена не стремилась поддерживать отношения со взрослой дочерью мужа, а я не хотела огорчать этими встречами маму. Норберт регулярно присылал длинные, полные внимания и сочувствия письма, но возвращаться во Францию не собирался. Его коммерция, пустив в американскую землю крепкие, разветвлённые корни, приносила сочные плоды и стабильные доходы, требуя постоянного присутствия предпринимателя. Найти следы Альваресов ему так и не удалось. Антуан, оскорбленный нашим примирением, не удостаивал нас с мамой даже поздравлениями к рождеству. Когдато большая, любящая и любимая семья, развалилась на множество равнодуш-ных друг к другу кланов. На память о бабушках осталось всего несколько официальных фотографий: напряжённые, серьёзные, чужие лица, не излучающие ни тепла, ни любви. При виде безликих портретов, вспомнила, как когда-то хотела обучиться этому искусству и ещё раз пожалела о безвременной кончине Рутлингера . Вместо него моим первым учителем стал его приемник, когда-то участвовавший в создании каталога. Многое переняв от великого мастера, он стал преданным поклонником его таланта. С тех пор техника фотосъёмки, сделав несколько гигантских шагов вперёд, позволяла даже таким дебютантам, как я добиваться определённых успехов. Первыми жертвами моего обучения стали Шарль и Марсель. Они оказались корыстной моделью, время которой приходилось покупать крупным подхалимажем и мелкими подарками. Странно, я была так восприимчива к лицам и жестам, но ухватить острые, выразительные моменты не успевала. Как говорил Рутлингер, не успевала остановить мгновение. Вспомнился первый день в мастерской Маэстро. Он возился с аппаратурой, пробовал вспышку, задавал вопросы, развлекал невероятными историями, а в это время исподтишка ловил удачу. А что, если попробовать так со своими близкими? В первый же вечер они попались в расставленную ловушку. Крутясь вокруг камеры, делала вид, что ищу удачные ракурсы, просила совета, провоцируя на ядовитые замечания, а сама потихоньку снимала. Готовые фотографии вызвали взрыв негодования: — Мама, у меня что, в самом деле такой длинный нос и... торчащие уши?, — кричал Марсель. — Не может быть, что я так размахиваю руками и выдвигаю вперёд подбородок?, — возмущался Шарль. — Мама, если не умеешь снимать — не берись. Лучше поезжай в театр и играй «Даму с Камелиями». Этот протест стал первым успехом, первыми мгновениями, которые удалось остановить. Жаль только, времени на новое развлечение не хватало. Оно, невероятно насыщенное, утекало сквозь пальцы с невероятной скоростью. Новые роли, новые исполнительские эксперименты и бесконечные гастроли не только в Европе, но и в России, о которой с таким восторгом рассказывали Элиза и Софи. К этой поездке я готовилась особо тщательно; полгода старательно изучала русский язык, перечитала книги известных русских писателей: незадолго до этого переведённые на немецкий язык пьесы Чехова, «Преступление и наказание» Достоевского, прозу Пушкина и конечно же, романы Толстого. Несмотря на столь тщательную подготовку, Петербург принял меня весьма холодно. Город, покорённый экстравагантными Сарой Бернар и Линой Кавальери, остался равнодушным к «тихим прелестям» мадам Альварес. В своё время Элиза назвала петербургскую публику чопорной и холодной, как сам город. О городе не хочу судить строго. Его, как и человека, чтобы полюбить, нужно узнать и прочувствовать. А как узнаешь и прочувствуешь силуэты, мелькающие за окном проезжающего по заснеженным улицам экипажа? Роскошные дворцы, золочёные купола, нарядные дамы и господа в зрительном и банкетном зале, обескураженные моим русским языком. Кому он нужен, если даже официанты и швейцары в отелях гостеприимно изъяснялись с нами по-французски. А вот Москва... это было незабываемо! Проще, теплее и обаятельней. Но главное... Даже страшно начать... мы сыграли уже три спектакля: один новаторски-современный и два традиционноклассических. Характеры моих героинь менялись в том же диапазоне: от романтично прозрачных, до беспринципно порочных. Это случилось после «Самсона и Далилы». В центральной московской газете появилась статья некоего Константина Станиславского. Он называл мадам Альварес первой и совершенно уникальной французской актрисой, не играющей на сцене, а живущей на ней. Среди прочих исполнительских достоинств он отметил то, над чем я билась годами: «Играя доброго, актриса ищет, где же он злой, а в злом — где же он добрый. Она исходит не только из сценарного действия, но и из сути персонажа, его уникальной психологической ценности». Усомнившись в знании русского языка, я потребовала дословного перевода. За все годы, проведённые на сцене, я не читала о себе ничего лучше. Эти простые, добрые строчки были в тысячу раз ценнее оваций беснующейся толпы. Это была не слава, и даже не признание, а полное понимание того, чему я посвятила двадцать сценических лет жизни. Потрясающе! Оказывается Россия богата не только блестящими литераторами, но и умными критиками. Мой секретарь быстро рассеял случайное заблуждение: господин Станиславский вовсе не критик, а выдающийся артист, постановщик и художественный руководитель Московского Художественного театра. Два дня спустя на очередном банкете мне представили симпатичного мужчину, явно перешагнувшего своё сорокалетие. Позже оказалось, он всего на три года старше меня. Светлая чёлка редеющих волос причудливо спадала на левую половину лба. Контрастные, чётко прочерченные брови и роскошные усы красиво обрамляли сильно удлинённый овал лица. Это был Константин Станиславский. По счастливой случайности или по чьему-то доброму умыслу, за столом он оказался моим соседом. Обменявшись ритуальными приветствиями, мы приступили к знакомству. Его мягкая, ненавязчивая манера говорить и внимательно вслушиваться в ответы располагала к естественной откровенности. Поблагодарив за похвальный отзыв в газете, расположивший ко мне московскую публику, рискнула пожаловаться на русских швейцаров и официантов: — Готовясь к поездке, я так старательно учила ваш язык, надеялась в России немножко попрактиковаться, но все упорно говорят со мной по-французски. Вместо ответа собеседник предложил выбор между белым и красным вином по-русски. О чудо! Я не только поняла вопрос, но даже хватило словарного запаса на членораздельный ответ. Беседа набирала обороты, хотя, вслушиваясь в мои ответы, лицо Станиславского заметно напрягалось. Спустя пару фраз он, подобно опытному врачу, уточняющему симптомы заболевания, аккуратно заметил: — У Вас очень симпатичное произношение. У кого Вы брали уроки? Почувствовав что-то недоброе, я ответила без прежней уверенности: — У русского эмигранта. Вернее у его сына, родившегося уже во Франции. Он занимается литературными переводами. — Тогда понятно почему швейцары и официанты предпочитали говорить с Вами по-французски. — И почему же? — Ваш учитель преподнёс Вам великолепный язык, использовавшийся литераторами прошлого века. Современные простые люди его уже не воспринимают. Он давно вышел из обихода. Но я рад, что Вы меня понимаете и знаете почему? Ни в голосе, ни в глазах моего собеседника не было даже намека на насмешку. Вместо ответа он задал новый вопрос: — Вы слышали что-нибудь о Чехове? — Ещё как. Это были мои домашние задания — переводить диалоги из « Трёх сестёр» на французский. — Потрясающе. Завтра мы даём « Трёх сестёр». Приглашаю на спектакль. Раз знаете текст и понимаете диалоги без параллельного перевода — не заскучаете. Заодно познакомитесь с моей партнёршей по сцене. Она бесподобно исполняет одну из сестёр, Машу. С Ольгой Книппер-Чеховой? — А почему Чеховой? — Потому что она жена Антона Павловича, — и на секунду замолчав, добавил, — мои соотечественники завтра разорвут меня на куски, если я и дальше буду отвлекать внимание гостьи на одного себя. Хотя очень хочется поговорить с Вами подольше. Пользуясь французской свободой нравов, я рискнула взять инициативу на себя: — Тогда приглашаю Вас завтра после спектакля на ужин вдвоём. Там и наговоримся. Следующий день запечатлелся в памяти во всех подробностях. Атмосфера Художественного театра, публика, впитывавшая в себя каждый нюанс чувств и действий, и лирический дуэт Станиславского-Вершинина и Маши-КнипперЧеховой... описать всё это у меня просто не хватит слов. Наш поздний ужин затянулся часа на четыре. Константин Сергеевич, обнаружив во мне увлечённого слушателя, описывал свою новую систему актёрского мастерства, анализируя параллельно мою игру. — Понимаете, ведь мысль, прежде чем стать мыслью, была чувством. От этого и надо идти, а многие наши собратья совершают путь задом наперёд. Пытаются осмыслить чувство, а потом подобрать соответствующие выразительные средства: выражение лица, интонации, движения. И получается у них игра, но не жизнь. А как входите в роль Вы? Вспомнила, как готовясь к Медее, училась испытывать «жажду мести», а пытаясь стать Ольгой — училась чувствовать жалость. — …Именно поэтому каждый спектакль не похож на предыдущий. Иногда меня охватывает такая острая жалость, что буквально кидаюсь на шею спившемуся папаше, надеясь защитить от новых бед и унижений, а иногда... в этом чувстве больше досады чем жалости. Как можно так бездарно обойтись со своей жизнью! И тогда прощание получается вымученным и напряжённым. Я не знаю откуда эти чувства приходят, но никогда им не сопротивляюсь. Можно сказать, иду у них на поводу. — А если не приходят? — Тогда хуже. Бывают дни, когда внутренний фон собственных забот настолько силён, что через них уже ничего не может пробиться. — Ну и что тогда? — Тогда не остаётся ничего другого, как не жить на сцене, а играть. — Мадам Альварес, можно задать бестактный вопрос: как Вы к этому пришли? — А я к этому не приходила. Меня привели. Более двадцати лет назад. Мой учитель в театральной школе, Шарль Лекок. Посчастливилось попасть в его экспериментальную группу. Он опробовал на нас свою новую систему. — Потрясающе. Двадцать лет назад он додумался до того, что я только сейчас нащупываю. Лицо моего собеседника стало поистине печальным. — Не переживайте. Можно сказать, вы додумались до этого одновременно — к сорока годам. Ведь он на двадцать лет старше Вас. — Было бы так интересно с ним поговорить. А он ещё жив... простите, я хотел спросить работает ли он ещё в театре? — В театре он больше не работает. Но слава богу жив и здоров. Мёсье Лекок... мой муж... уже более двадцати лет. А почему бы Вам не навестить нас в Париже? Я покажу Вам настоящий город, не туристский? — С удовольствием. Но сперва, пока Вы здесь, я познакомлю Вас с настоящей Москвой. Эти гастроли, как никакие другие, оставили по себе очень яркий след, а беседы с необыкновенным русским режиссером породили целый хоровод новых мыслей. Вспоминая свои откровения, я пришла к забавному заключению. Вопреки утверждению Шарля: «Артист на может всю жизнь играть самого себя», именно это мы и делаем. Погружаясь в обстоятельства чужой жизни, проживаем свои собственные чувства, хранящиеся как в сознании, так и в подсознании. Но каждый раз только свои. Прощаясь со Станиславским, я взяла с него слово при первой же возможности посетить Париж. Из России я привезла не только новые мысли, но и массу портретов и городских пейзажей. После возвращения из Москвы я буквально рвалась между фотографией и театром. Со временем и Марсель пристрастился к новому виду искусства. Мы часами гуляли по Парижу и его пригородам в поисках интересных мотивов. — Ой, мама, посмотри на это дерево. Оно отбрасывает такую причудливую тень. Дай мне попробовать. Сын вырывал из рук фотоаппарат и щёлкал затвором. Разглядывая впоследствии проявленные снимки, мы часами спорили, кому принадлежал случайный успех. На неудачи не претендовал ни один из нас. Со временем стало ясно, что удаются мне только портреты и жанровые сценки. Сказывалась многолетняя привычка наблюдать за людьми, их мимикой, жестами и чувствами, мгновенно меняющими лица. Через пару лет три толстых альбома в кожаных переплётах, превратились в ценнейшую сокровищницу семейной жизни Лекок — Лавуа. Эти фотографии сохранили историю взросления нашего сына и нестарения энергичного, мудрого Шарля, почти не изменившегося за прошедшие двадцать три года. К двадцати годам Марсель перерос отца на целую голову, а моя макушка едва доставала ему до плеча. Постоянные занятия спортом превратили нашего крошечного недоношенного мальчика в широкоплечего спортивного красавца. От меня он унаследовал только круглые, серо-голубые глаза, чётко очерченные, причудливо изогнутые брови и темно-каштановые волосы. Всё остальное принадлежало Шарлю. Даже отцовская мимика перешла к нему по наследству. Сердясь, он стягивал рот в тонкую полоску, полумесяцем изгибая его углы к квадратному подбородку. А нежность и радость расправляли их в розовый бутон, наполняя светом не только глаза, но и каждую клеточку крепких щёк, ещё не требующих ежедневного бритья. Годам к семнадцати его потребность в борьбе за независимость излечилась сама по себе, как излечиваются на исходе подросткового возраста многие детские болезни. Поняв, что никто не посягает на его свободу, он успокоился и научился самостоятельно принимать решения. К его удивлению, даже выбор профессии не встретил с нашей стороны ни малейшего возражения. Марсель не интересовался ни театром, ни искусством. Его страстью были механические конструкции, способные не только передвигаться по земле, но и взлетать в воздух. Блестяще закончив гимназию, сын поступил в университет на инженерный факультет, и уже на втором курсе присоединился к группе «отчаянных»; юношей, увлечённых конструированием и полётами на аэропланах. Первым полётом он открыл не только новую эру своей жизни, но и новую страницу в моём четвёртом альбоме. Шарль, с любопытством наблюдавший за нашими успехами, предложил отобрать наиболее удачные фотографии и издать первый, серьёзный каталог. Но... Шарль никогда не издал мой альбом, как никогда не встретился со Станиславским, потому что.... Глава 16 О том, что случилось дальше, вспоминать не хочется. Я пишу этот дневник, заново проживая свою жизнь. Каждый день, каждую грусть, каждую беду и каждую радость я проживаю заново, но уже по другому. В первый раз проносилась по собственной жизни, как по горному серпантину, не ведая, что ожидает за поворотом. События, вчера казавшиеся необыкновенно важными, неделю спустя начисто забывались, не оставляя на судьбе ни малейшей царапины. Другие, мимолётно зацепившись за рвущееся вперёд сознание, неожиданно возвращались обратно, выворачивая жизнь на изнанку. Возврат в прошлое дарит особую свободу; возвращаться только туда, куда хочется ещё раз вернуться, посмотреть только на то, что хочется ещё раз увидеть. В те дни я не хочу и могу возвращаться. Ещё раз потерять Шарля... Нет. Второй раз этого не пережить. Он вышел из дома по обычным делам... и больше никогда не вернулся... был растоптан какой-то взбесившейся лошадью, напуганной гудками начинающего автомобилиста. А ему бы ещё жить и жить! Разве шестьдесят шесть это возраст? Больше ни слова об этом. Не хочу и не могу. Мы остались с Марселем осиротевшими, растерянными и одинокими. Только потеряв Шарля, поняли; всё в нашем доме и в нашей жизни держалось на нём одном. Он был крепостной стеной, за которой мы чувствовали себя непобедимыми. Стена рухнула, на дав ни минуты на подготовку. Обнажёнными и беззащитными отдала на милость всем ветрам и врагам. Марселю в тот год исполнилось двадцать, и отец был его кумиром. И моим тоже. Я часами сидела в кабинете мужа и разбирала его архив. Перечитывала заново старые публикации и новые, незаконченные работы. Постепенно возникло желание написать о нём книгу, поместив туда фотографии последних лет. Это было единственной возможностью пожить рядом с ним ещё немного. Время бессмысленно ползло по выжженной солнцем равнине, а за книгу я так и не взялась. Поняла, должно пройти время, прежде чем смогу объективно думать о муже и писать о нём, а не о себе. Со временем, оглядываясь назад, поняла, что из этой затеи вообще ничего не выйдет; прожив с Шарлем почти четверть века, по-настоящему я его так его и не поняла. Он, подобно Марселю, прикрывал чувства панцирем всезнающей иронии. Свои чувства обнаружил один единственный раз, повествуя о Маргарите. А еще, после рождения сына не скрывал отчаяния и страха. Все эти годы он был замечательным учителем, помощником и защитой, вырастил и воспитал меня по своему вкусу, заменив сбежавшего в свою жизнь отца, но... Наши супружеские отношения так и не состоялись. Я так и не смогла заменить ему Маргариту. Как он, при его темпераменте, прожил все эти годы? Были ли в его жизни женщины, восполнявшие то, чего недополучал дома? Мы никогда не задавали друг другу вопросов, но … временами он загорался внутренним светом, не имеющим ко мне никакого отношения, а потом опять угасал, посвящая все силы и время работе. Услужливая память, возвращая в прошлое, сожалела о сотне упущенных возможностей проявить инициативу в наших отношениях, но, робея перед реальной жизнью, я предпочитала страсти на сцене. В итоге... состоялась как актриса, как мать, как преданный и благодарный друг своему мужу, но как женщина... осталась никогда не проснувшейся «спящей красавицей». Моё окружение настаивало на скорейшем возвращении в театр, утверждая, что только работа сможет отвлечь от раскопок прошлого. Я поверила и вышла на сцену, но... чувства молчали. Чужие жизни, чужие страсти, чужая публика... Зачем всё это, когда собственная жизнь, обещавшая когда-то так много радости, к сорока четырём годам потеряла смысл и значение. Казалось, Шарль, убегая в потусторонний мир, по ошибке прихватил с собой мой вдохновение. Во всяком случае оно бесследно пропало. Несколько месяцев, пользуясь приобретёнными навыками, пыталась обходиться без него: играла на сцене, не живя на ней, а потом... взяла бессрочный отпуск и опять заперлась дома. Марсель, видя моё состояние, протянул руку помощи — принёс заказ клуба авиалюбителей на серию репортажей о полётах на новых двухместных самолётах. — Мам, нам нужны очень хорошие фотографии, а ты стала большим специалистом по съёмкам движущихся объектов. Но этого недостаточно. Фотографии должны сопровождаться толковым текстом. Тебе придётся напрячь голову и ознакомиться с материей. Надеюсь, это поможет тебе немного отвлечься. — Но ведь я ничего не понимаю в технике! — Слишком много понимать и не надо. Главное, твои тексты не должны быть безнадёжно дилетантскими. Нужно, описывая события происходящие на взлётном поле, правильно пользоваться терминологией. Завтра я познакомлю тебя со своими друзьями и с нашим новым самолётом. — Сынок, а зачем вам эти репортажи? — Сама знаешь, что такое охрана авторских прав. Любое новое достижение должно быть надёжно задокументированно. Интервью, подтверждённые подлинными снимками с места событий — самая надёжная документация. Не отказывайся. Поверь, это пойдёт тебе на пользу. Марсель торжественно разложил передо мною несколько книжек по истории авиастроения с описанием первых успехов и катастроф, постигших отважных испытателей. Пару дней спустя я уже стояла на лётном поле, с ужасом созерцая хрупкую стрекозу, на которой предстояло подняться в воздух моему сыну. Маленькая эскадрилья дружно приветствовала начинающую журналистку, спеша заразить её своим восторгом и энтузиазмом: — Вот увидите, через несколько дней сами запроситесь в самолёт. Стоит один раз пережить это чувство... скольжение в воздухе между небом и землёй... и Вы уже никогда не сможете от него отказаться. Хрупкая конструкция, беспомощно развалившись по середине поля, не вызывала ни доверия, ни симпатии, но... в угоду молодым энтузиастам, пришлось изобразить оптимизм и бесстрашие. Наконец, пилоты оставили меня в покое, дав возможность слегка осмотреться и привыкнуть к местности. Позабыв о журналистке, они что-то бурно обсуждали, постоянно изображая напряжённо выпрямленными ладонями стремительное движение вверх к небу и плавное возвращение на бренную землю. Вооружась недавно купленной профессиональной камерой, позволявшей, в отличие от обычных фотоаппаратов, делать короткометражные фильмы продолжительностью в пять-семь минут, я углубилась в первые съёмки. Марсель, готовясь к старту, картинно выпрямился перед нелепой этажеркой, торжественно взмахнул руками и натянул на голову круглый шлем. Хрупкое сооружение покачнулось под его весом, но устояло. Едва успокоившись и придя в равновесие, оно недовольно заурчало, судорожно зашаталось из стороны в сторону и медленно сдвинулось с места. Перепрыгивая с кочки на кочку, оно уверенно набирало скорость, неотвратимо приближаясь к краю взлётной полосы. У меня захватило дыхание: только бы не пропустить самое главное, только бы поймать этот волшебный момент, это чудо — отрыв от земли! Доскакав до края взлётной площадки, хрупкое насекомое злобно заурчало, закашляло и... несколько раз натужно фыркнув, остановилось, уткнувшись головой в траву и задрав хвост к безнадёжно далёкому небу. Мальчики метнулись к упрямому животному, а я остановила камеру. Похоже, сегодня им уже не взлететь. Провозившись с мотором около получаса, эскадрилья пришла к тому же выводу. — Мадам Альварес, Вы уж извините, но похоже сегодня для всех неудачный день. Давайте попробуем повторить через недельку. К этому времени мы наверняка устраним неполадки. — А может кочки виноваты? Мне всё время казалось, самолёт перепрыгивает через них из последних сил? Дружный хохот инженеров-испытателей явился высочайшей оценкой моей технической грамотности. — Не тревожьтесь, мадам. К Вашему следующему посещению мы устраним не только неполадки в моторе, но и кочки. Как и было обещано, через неделю я получила повторное приглашение на испытания. На этот раз самолёт послушно взметнулся в небо и, покружив около получаса в пронизанном лучами солнца голубом пространстве, благополучно опустился на траву. А мне удалось поймать и запечатлеть эти исторические моменты. Команда энтузиастов поместила репортаж об удавшемся испытании в журнале авиаторов, а несколько дней спустя передала столь важные для них материалы во все центральные газеты. Им требовалось как можно скорее «застолбить» участок и оформить патент на изобретение. Эта история принесла пользу не только пилотам, но и репортёру. Главный редактор «Фигаро» пригласил меня на должность внештатного корреспондента, отдав на откуп новые выставки, театральные премьеры и конечно же авиацию. Публикации проходили на конкурсной основе: несколько внештатных работников представляли свои пробные материалы, из которых редакция отбирала наиболее удачные. Далеко не все мои репортажи имели честь появиться в печати, но время от времени и им улыбалась удача. Статьи о Сезонах русского балета Сергея Дягилева в Париже оказались козырной картой. Первое знакомство с дягилевскими балетами состоялось 1909 года. Шарль был тогда ещё жив. Труппа Дягилева прибыла в Париж в апреле и немедленно начала подготовку зарезервированного для сезонов театра Шатле. Одновременно с этим в напряжённом режиме проходили последние репетиции. В тот год мы пересмотрели весь репертуар — пять балетов, поставленных Михаилом Фокиным, тогда только начинавшим карьеру хореографа. Премьера балетных сезонов обернулась настоящим триумфом. Критики, захлёбываясь цветастыми фразами, изо всех сил стремились перещеголять друг друга: «Красный занавес подымается над праздниками, которые перевернули Францию и увлекли толпу в экстазе вслед за колесницей Диониса... «Невозможно вдоволь насмотреться на Нижинского и Карсавину... А уникальные декорации и костюмы, выполненные Рерихом, Бакстом и Бенуа... «Мы никогда не видели подобной красоты. Русский балет привёз на гастроли настоящую сенсацию...» «Сверхчеловеческое мастерство артистов и в центре всего — Нижинский, который выпрыгивает так высоко, что кажется уже никогда не вернётся обратно...» В первый сезон я увидела Вацлава Нижинского двадцатилетним юношей. Он был ровесником Марселя, правда значительно меньше него ростом. Не более 160 сантиметров. И ноги... таких непомерно развитых мышц я не видела ни у одного танцора. А вот лицо.. лицо, эффектно загримированное на сцене, в жизни оказалось слишком длинным, грубоватым и самодовольным. Ещё бы! Весь Париж носил его на руках. Он, подобно Айседоре Дункан, отбросил всё, что когда-то учил, и отправился на поиски собственного способа выражения художественной истины. Он двигался тем же путём, каким за три года до него шёл Пикассо, создавая свои первые кубистические картины. Нижинский летал над сценой уже три сезона, и все эти годы я не могла отвести глаз от его фантастического полёта. И лишь одно тянуло к земле этого непревзойдённом артиста: его непомерный эгоцентризм. Нижинского интересовал только он сам. Рядом партнеры могли творить чудеса, терять голову и умирать под звуки музыки, не встречая с его стороны ни отдачи, ни взаимодействия. Он танцевал свои роли только для себя. Наибольшие эмоции в сезоне 1912 года вызвал «Послеполуденный отдых фавна». Идея создать балет на античную тему пришла Дягилеву во время поездки в Грецию в 1910 году. Впечатлившись изображениями на античных амфорах, он заразил своим энтузиазмом Нижинского. Хореография поставленного ими балета — с приземлёнными, нарушающими каноническое представление о сольном мужском танце, движениями — вызвала бурю противоречивых откликов. Многие, например, парижская «Фигаро», упрекали «Фавна» в непристойности: «Мы имели неподходящего фавна с отвратительными движениями эротической животности и с жестами тяжкого бесстыдства. Справедливые свистки встретили слишком выразительную пантомиму этого тела плохо сложенного животного, отвратительного de face и ещё более отвратительного в профиль» Роден воспринял это совершенно иначе: «Нет больше никаких танцев, никаких прыжков, ничего, кроме положений и жестов полусознательной животности... его взгляд следит, руки напрягаются, кисть широко раскрывается, пальцы сжимаются один против другого, голова поворачивается с вожделением измеренной неуклюжести. Согласование между мимикой и пластикой совершенное. У него красота фрески и античной статуи. Он идеальная модель, с которой хочется рисовать и лепить. Меня представили Нижинскому перед генеральной репетицией. Узнав, что мы в некотором смысле коллеги, молодой человек не только дал разрешение на съёмки, но и согласился на короткое интервью. — Мёсье Нижинский, я лично полностью разделяю мнение мёсье Родена. Тем более, ему самому потребовалось несколько десятилетий, чтобы быть понятым широкой публикой. К сожалению всё новое требует времени. Помогите же парижанам как можно скорее понять и принять эротику в танце. Вацлав, слегка выставив вперёд правую ногу, замер в позе Фавна, облокотившегося на невидимую колону: — Понимаете, ведь у страсти как таковой, нет пола. У красоты его тоже нет. Красота, как известно, в глазах смотрящего, а страсть — в душе вожделеющего. Каждый, кто смотрел на меня, видел воплощение собственной страсти. — Вы хотите сказать, что выражаете в танце чувственность, бурлящую в каждом из нас. Просто мы ещё слишком зажаты и консервативны, чтобы показывать эти чувства открыто? — Да, вы поняли меня совершенно верно. Я танцую свою мечту — то главное, что жжёт мою душу. А люди смотрят на меня и видят души собственные. У нас всех чертовски много общего. И когда кому-то удается показать это общее, его объявляют гением. — А Вы сами никогда не сомневались в своей гениальности? — Признаться честно, когда начинал — ещё не был в этом полностью уверен, но сейчас... думаю, иду по правильному пути. В словах Нижинского не было ничего нового, и тем не менее, ответ произвёл впечатление. Вспомнились собственные сомнения и страхи в начале карьеры. Ведь и мне тогда едва исполнилось двадцать. Откуда взялась у этого юноши столь непоколебимая уверенность в себе? Неужели это и есть печать гения? Гордо вздёрнутый подбородок, высокомерный прищур глаз... я поверила бы в его слова, если бы не подрагивание, вышедшей из под контроля правой ноги, и пальцы, теребящие край полупрозрачной туники. — Мёсье Нижинский, мне очень хочется задать последний вопрос. Драматическим артистам необходимо, позабыв о публике, взаимодействовать друг с другом на сцене, как в жизни. Проникаться чувствами партнёра, заряжаться его энергией. Только тогда мы не играем а живём. Неужели в балете это не так важно? Мой оппонент, скорчив забавную рожицу расшалившегося фавна, ответил, ни секунды не раздумывая: — А гений всегда эгоистичен. Он творит прежде всего для самого себя. Собственно, последнего гения, который не был эгоистом, звали Иисус Христос. И, развернувшись на носках в полупоклоне, Вацлав исчез за кулисами. Я добавила самые удачные фотографий к этому интервью, не изменив в нём ни единого слова. Мёсье Нижинский, я благодарю Вас за откровенность! Именно она, обойдя менее удачливых соперников по перу, помогла мне попасть во все центральные газеты. Неожиданный успех открыл перед начинающей корреспонденткой двери на все театральные премьеры. В последние годы театры переживали новое рождение. Отброшенный в прошлое классический репертуар, уступил место современным формам выражения — экспрессионизму и символизму; пьесам о неудовлетворённости, заставляющей искать и не находить счастье в повседневной жизни, об уничтожении самого себя в поисках совершенства. Критики называли это драматургией молчания, намёков и недомолвок. Основной темой стал протест человека против всевластия рока. Готовя репортажи, я не рядилась в мантию всезнающего критика, никого не бранила и не превозносила до небес. Какое уж тут всезнание! Самой бы разобраться с новыми формами. Просто брала интервью у актёров, режиссёров и авторов, задавая вопросы по заранее разработанной методе. Пусть они разъясняют нам, консервативной публике и журналистке, то, что мы ещё не успели понять и принять. Хвала создателю, я была не единственным консерватором в театральном мире, бессознательно цепляющимся за старые, классические формы. В эти годы он страстно увлёкся романом Льва Толстого «Анна Каренина», написанным более тридцати лет назад. Почему именно сейчас роман привлёк столь пристальное внимание режиссёров и кинематографистов? В год смерти Толстого ( в 1910 году) в Германии сняли по нему первый немой фильм. Год спустя Россия, отстаивая особые права на наследие великого автора, создала свой вариант. А в настоящий момент Франция, всё ещё мнящая себя центром мировой культуры, готовит к выпуску на экраны свою Анну в исполнении начинающей актрисы Жанны Дельвэ. И это только кинопродукция! А театры... боже милостивый, сколько Карениных и Вронских ежедневно проживают свою пагубную любовь на всех сценах мира! В одном Париже их насчитывается уже три. Так много Карениных и все такие разные! Одних недозволенная страсть иссушила до состояния дистрофии, других переполнившие чувства уподобили мопассановской Пышке... но при этом все они, удивительно похожие друг на друга, стали «жертвами жестокого, лицемерного общества». Трижды перечитав роман, я так и не смогла согласиться с подобной трактовкой. Не была ли истинная причина катастрофы в самой героине? Нарушив обычаи, она не смирилась с ролью отверженной. Спалила себя и того, кого любила, злостью, ревностью и жаждой мести. Каренина, в моём понимании, не была злодейкой Медеей. Совершенно иной тип женщины — заблудшей и расщеплённой, которую хотелось понять и пережить, но для этого нужно вернуться в театр. Я почувствовала, как вдохновение, предательски покинувшее меня три года назад, по хозяйски расселось на пороге опустевшей души и громко скулит о прощении. Оно здесь, значит можно возвращаться на сцену. За помощью обратилась к Жаку. Десять лет назад он предложил мне совместно поставить «Самсона и Далилу». Сегодня я предлагала ему Анну Каренину. Друг юности даже не пытался скрыть, что давно ожидал моего прихода. Ещё бы. За последние годы он сделал блестящую карьеру. Начав когда-то с Далилы, сегодня он возглавлял один из самых прогрессивных парижских театров. Жак обладал особым чутьём на то, чему только предстояло войти в моду. Как и в юности, друг, вслушиваясь в пространные объяснения, уткнулся в меня тёмными круглыми глазами и склонил голову к правому плечу. — Элли, мне очень нравится твоя трактовка, да и сам роман... он имеет столько пластов, что исчерпать их в одном спектакле просто не возможно. Мы обязательно поставим такую пьесу... но не в этом году. — Почему не в этом? — На то есть несколько причин. Во-первых, репертуар на этот год давно скомплектован и объявлен, а бюджет исчерпан. — Ну а во-вторых? Не во мне ли дело? — Я бы сказал иначе. Не в тебе, а в твоём трёхлетнем отсутствии. Подожди, не дёргайся, не злись, а дослушай до конца. Я покорно выпрямилась на стуле, приготовившись выслушать поучения бывшего друга, а потом встать и на всегда прикрыть за собой дверь. Но что-то в его взгляде, в интонациях негромкого голоса заставило насторожиться. — Элли, помнишь тогда... после смерти Лекока... публика по началу с большим сочувствием отнеслась к твоему горю и с нетерпением ждала возвращения на сцену. А потом, год спустя... наши недоброжелатели подняли головы и распустили сплетни. — Да, я помню их ехидные статьи: «Пигмалион ушёл, и Галатея опять превратилась в немой камень». Неужели мне нужно бояться? Или ты сам веришь этой клевете? — Тебе ничего не нужно бояться, и я в это не верю. Недаром мы столько лет провели на одной сцене. Я доподлинно знаю, как серьёзно и мучительно ты разрабатывала свои роли. Для меня ты не только очень талантливая актриса, но и умный человек. — Так в чём же дело? — В том, что нам предстоит это ещё раз доказать публике. Меня окатило волной тягучей, тёмно-фиолетовой грусти. Спустя четверть века я опять стою перед зеркалом выпускного бала, со страхом вглядываясь в своё отражение. Кто она, эта стройная женщина с серо-голубыми глазами и камушками, мутными струйками стекающими вдоль шеи к основанию груди? Кто она? Принцесса или самозванка, четверть века выдававшая себя за королеву? — Элли, ты не слушаешь меня. — Нет, что ты. Просто на секунду отвлеклась. — Тогда повторю ещё раз. Тебе нельзя возвращать к старому репертуару. К ролям, которые разрабатывала при жизни Шарля, иначе твой успех опять припишут его старым заслугам. Забудь на время классику. — Так что же по твоему мне нужно играть? — Мориса Метерлинка. «Синюю птицу». Потрясающая философская притча, посвящённая вечному поиску символа счастья и познанию бытия. Я предлагаю тебе роль феи Берилюны. Это пьеса о тебе... вечный поиск самой себя. Я невольно вцепилась в подлокотники кресла. Неужели Жак прочёл мои мысли? Но он, внимательно следя за моей реакцией, продолжал восхищаться пьесой. — Знаешь с чего начинается твоя роль? — Ну? — Моя внучка больна... — А что с ней? — Не знаю. Она хочет быть счастливой... — Ты уже назвал это моей ролью? — А ты разве ещё не подписала контракт? Возвращение блудной дочери на сцену состоялось, хотя давалось ей нелегко. Разум признавал право новаторского искусства на жизнь, но душа... Она по-прежнему тянулась к привычной гармонии, предательски предпочитая Вагнеру и Малеру благозвучного Шопена, а кубизму Пикассо портреты Ренуара и пейзажи Моне. Чтобы победить упрямую душу разумом, я заставляла себя посещать все современные выставки и концерты в надежде проснуться и полюбить то, чего не хотелось любить. Воистину брак по неволе. Однажды, лениво бродя по очередной выставке, я спиной ощутила преследовавший меня взгляд, одновременно вызывавший неловкость и раздражение. Сделав резкий поворот, я столкнулась с тёмно-шоколадными, миндалевидными глазами, очень удачно пристроившимися на тонко выточенном, смуглом лице. Обладатель красивых, назойливых глаз вежливо склонил в поклоне высокую, спортивную фигуру и отвернулся. Недоумённо пожав плечами, я перешла в соседний зал и задержалась у весьма странной картины. Мрачные краски: коричневые, грязно-синие, переходящие в фиолетовые... и в промежутках три или четыре вспышки ядовито-красного. Ну и гадость! Бред алкоголика или самоубийцы. За спиной раздался низкий, приятный голос: — Вам тоже нравится эта картина? Назойливый молодой человек пытался наладить контакт. Господи, ну что ему не молчится! Пора охладить неуёмную болтливость лёгким хамством. — Кому может нравиться такая гадость? — Мне. Надев на лицо «змеиное» выражение, я умышленно резко развернулась к собеседнику: — Понимаю. Помогает после хорошего перепоя. Но может лучше было остаться дома с холодным компрессом на лбу? Молодой алкоголик почему-то не смутился. Продемонстрировав в улыбке здоровые, хорошо ухоженные зубы, он покаянно склонил голову, взметнув, как гривой, волнистыми, надушенными кудрями, и шаркнул ножкой: — Мадам Альварес, понимаю, что действую Вам на нервы, но я... простите... мне давно хотелось с Вами познакомиться. — Это для чего? Зануда слегка поморщился, будто откусил от лимона. — Не «для чего», а «почему». — Ну и «почему»? — Потому что мы с Вами коллеги. Правда я ещё не достиг такой популярности, как Вы, но,... В этот момент я вспомнила, где видела его красивое лицо. Он действительно сыграл несколько неплохих современных ролей в новом театре, постепенно входящем в моду. — Но... эта картина нравится мне не потому, что вчера напился до беспамятства... я вообще не напиваюсь... вредно для профессии. — Так чем же она Вам нравится? — Это ... как всполохи надежды в периоды беспробудного отчаяния. Ведь у каждого бывают такие периоды жизни, не правда ли? — Насчёт « беспробудного отчаяния»... не знаю. Не имела чести. Я вижу на этой картине «всполохи» злобы и зависти неудачника, взявшегося не за своё дело. — Вот видите. Значит картина не так уж плоха, если заставляет каждого зрителя увидеть в ней что-то своё... и задуматься. Разве не это есть цель любого искусства? Это замечание вызвало очередной всплеск раздражения. Сколько ему может быть лет? Двадцать три... двадцать четыре? Нет, пожалуй чуть больше. Наверное он всё же на пару лет старше Марселя. В этом возрасте идеализм ещё простителен. Когда-то, в начале карьеры, я тоже мечтала о возвышенной роли искусства, помогающего человечеству задуматься о добре и зле. Сколько лет понадобилось, чтобы окончательно избавиться от иллюзий? Десять... пятнадцать? Значит и у него это ещё впереди. Считая разговор законченным, я перешла в следующий зал, но молодой идеалист придерживался противоположного мнения: продолжал упорно вышагивать рядом и, беззастенчиво высказывая суждения о картинах, по мимо воли затягивал в обсуждение. В последнем зале, юный наглец, уверенный в неотразимом воздействии своего обаяния на пожилую даму, пригласил её на «чашечку кофе» в фешенебельную кондитерскую. Как будто я не знаю, сколько зарабатывают молодые актёры, даже если и пытаются одеваться как денди! Или рассчитывает, что пожилая дама щедро оплатит счёт? Мне стало грустно. Неужели я уже вошла в тот возраст, когда состоятельные женщины становятся добычей молодых сутенёров? Ну и ну! Придётся отбить мальчику охоту к подобному ремеслу. — Молодой человек, извините, что не имею возможности обратиться к Вам иначе, так как Вы... случайно позабыли представиться, а память у нас, пожилых дам, как Вы знаете, уже далеко не девичья... да, так что я хотела сказать... ах да... хватит ли у Вас денег оплатить счёт в столь дорогом заведении? На этот раз смазанная ядом стрела попала наконец в цель. Свежие щёчки незадачливого щёголя порозовели, а ресницы, по девичьи длинные, пришли в хаотичное движение. — П... простите, мадам Альварес, но мне кажется, Вы меня не за того приняли. Я не лакомлюсь пирожными за счёт дам. Мне просто хотелось немножко поговорить... Вы не только талантливая, но и умная актриса, что среди нашей братии не часто встречается, а Ваши репортажи просто привели меня в восторг. Я хотел использовать случайно представившуюся возможность с Вами познакомиться... Вот и всё. Но если это наводит Вас на такие мысли, то... извините за назойливость. Юноша резко развернулся на каблуках и зашагал к выходу. А я представила на минутку на его месте Марселя. Мой вольнодумный сын, уверенный в своей мужской привлекательности, мог бы точно так же заговорить на выставке с незнакомой дамой. Правда он прежде всего представился бы: «Марсель Лекок... да, да... тот самый, стартовавший на гидросамолёте с авианосца La Foudre...», — и какая-нибудь подозрительная дама, вроде меня, обозвала бы моего сына сутенёром? — Постойте. Не надо так сразу обижаться. И назовите, пожалуйста Ваше имя. Я его в самом деле не могу вспомнить. Разобиженный претендент на внимание не заставил дважды повторять приглашение. — Меня зовут Марк Грэм. И это не псевдоним. — Ну что ж, мёсье Грэм, если вы ещё не передумали, я принимаю Ваше приглашение. Фешенебельная обстановка кондитерской Марка явно не смутила. Судя по тому, как он уверенно перемещался в поисках подходящего столика, это не было его первым посещением заведения для избранных. Да и с меню, похоже, он был не плохо знаком. Аккуратно доев первое пирожное, мёсье Грэм опять заговорил о мрачной картине с выставки, сознавшись, что в данный период жизни она вполне соответствует его настроению. Сыграв весьма удачно несколько малоинтересных ролей, он зашёл в тупик. Режиссёры не успели распознать его таланта и продолжают использовать для второстепенных персонажей. — Понимаете, чтобы тебя распознали, нужно сыграть чтото серьёзное, а чтобы получить серьёзное предложение, нужно, чтобы тебя распознали. Просто замкнутый круг. Как давно это было? Более двадцати лет назад? Мастерская Камиллы Клодель. Камилла, ещё молодая, здоровая и очень красивая: «Чтобы продать работу, нужно имя, а чтобы заработать имя, нужно продавать работы». Как скучно стареть. Всё один раз уже было. Озабоченное лицо, склонённое к пустой тарелке, напомнило о друзьях молодости, Жаке и Элизе: «В театре невозможно пробиться, обладая всего лишь талантом. Успех — это нечестная лотерея, в которой чаще выигрывают не талантливые, а везучие... или пронырливые». А он, этот Марк, кто он на самом деле — талантливый или пронырливый? Знаю одно, сегодня ему не повезло — он поставил на пустую карту. — Вы правы, мёсье Грэм. Чтобы добиться успеха нужен не только талант, но и немного удачи. А сегодняшняя картина понравилась Вам не случайно. Всполохи красного — это Ваш шанс и надежда. Главное — не упустите ни того, ни другого. Грэм, не колеблясь, оплатил счёт и вручил на прощанье визитную карточку. — Мадам Альварес, я Вам искренне благодарен за беседу. Вы умеете так замечательно слушать. Можно предложить мою визитку? Вдруг я когда-нибудь Вам понадоблюсь. Марселя, как всегда, не было дома. Поужинав в одиночестве, лениво разложила на столе свежие газеты, решив ограничиться лишь чтением заголовков. На первой странице « Фигаро» красовалась Сара Бернар с очередным молодым любовником. Воистину женщина — легенда. На двадцать два года старше меня, а всё ещё в зените славы. Пудра Сары Бернар, губная помада Сары Бернар, причёски Сары Бернар... Вот это реклама, вот это имидж! Вот с кем нудно было бы сегодня познакомиться на выставке Марку Грэму. Он как раз в её вкусе — красавец с примесью южной крови. А почему собственно с ней? Почему я никогда не уделяла должного внимания рекламе своей персоны? Вспомнились мамины доводы о пользе жёлтой прессы: — Некоторые, предчувствуя неминуемый закат, умышленно совершают какие-нибудь экстравагантности. Попав на страницы газет, они напоминают публике, что ещё существуют. А что, если это мой последний шанс вернуться на большую сцену, или сняться в кинематографе? Мне нужен не реальный роман, а внимание и популярность. Просто роман, если и привлечёт внимание прессы, то лишь на пару недель в начале и на пару недель в конце. Мне нужно дру-гое — ежедневно появляться на страницах газет в течении года. Моя история, как криминальный роман, должна удерживать внимание публики до последней страницы. А это возможно только при одном условии — публика и пресса будут, соревнуясь друг с другом в находчивости, целый год искать ответ на вопрос: «Есть он, этот роман, или его нет?» Разгулявшаяся фантазия уже написала полный сценарий: розыгрыш, с запутыванием следов и дезинформацией. Утром я отправила Грэму срочную записку с приглашением на чай. Марк появился в гостиной, сияя каждой порой молодого, красивого лица. Он был уверен, что уже получил вожделенную роль. Напоив гостя обещанным чаем, я аккуратно перешла к зародившейся вчера идее. — Мёсье Грэм, наш вчерашний разговор не оставил меня равнодушной. К сожалению, в данный момент я не могу предложить Вам интересную роль в театре, так как сама, после трёхлетнего перерыва ещё не обрела прежней силы, но кое-какая идея у меня вчера появилась. Главное — мы оба нуждаемся сейчас в мощной рекламе, а значит можем оказать друг другу реальную помощь. Лицо Марка тут же поблекло. Красный всполох надежды оказался мыльным пузырём, но он, сохраняя учтивость, всё же выразил тусклый интерес к невнятному предложению. — И что же Вы предлагаете? — Нам нужно привлечь внимание публики и удерживать его в течении весьма продолжительного времени, иными словами надолго попасть на страницы газет. — И как же Вы планируете это сделать? — Идея моя довольно банальна, хотя может и сработать. — Ну так расскажите свою идею. Я всё ещё тянула время, подбирая правильные слова. Страшно в первый раз приглашать молодого мужчину в любовники, пусть даже и в фиктивные. — Публика с большим интересом следит за романами знаменитых пожилых дам с молодыми мужчинами. Особенно, если мужчина годится ей в сыновья. Лицо мужчины, годящегося мне в сыновья, покрылось красными пятнами. — Мёсье Грэм, я не приглашаю Вас в любовники, но предлагаю сыграть эту роль в течении нескольких месяцев по особому сценарию. Преодолев первый приступ неловкости, Марк попытался сосредоточиться на моих пояснениях. — Что же это за «особый сценарий»? — Игра состоит в дезинформации: сегодня мы показываем себя влюблённой парой, а завтра — хорошими знакомыми. В поисках сенсации репортёры должны гоняться за нами, как они годами гоняются за известными куртизанками, или политичес-кими деятелями. Поддерживать месяцами такой интерес можно лишь талантливой игрой и остросюжетными коллизиями. Я предлагаю Вам деловой контракт со строго оговоренными условиями. Впервые за последние четверть часа юноша открыто посмотрел мне в глаза. — Мадам, Вы на редкость хитроумная женщина. Но где мы возьмём этот сценарий? — Мы будем писать его сами, на ходу приспосабливаясь к ситуации. — И каковы же условия контракта? — Месьё Грэм, во всей этой истории самое важное — сохранение тайны. И здесь могут возникнуть некоторые осложнения. Ведь Вы человек молодой, и наверняка у Вас есть подруга, которая очень болезненно отреагирует на измену. Но если она узнает о розыгрыше, будет ещё хуже. О нём, рано или поздно, узнают и сочувствующие ей подружки. Что Вы об этом думаете? Я поймала себя на том, что всё больше вхожу в роль одной из героинь-злодеек, которых вдоволь наигралась за последние двадцать лет. И, что совершенно удивительно, чувствовала себя в этой роли, как на сцене, вполне уверенно. Мой собеседник, доброжелательно усмехнувшись, поторопился с ответом: — В данный момент у меня нет подруги. С последней мы расстались месяц тому назад, а новую ещё не успел завести. Хотя меня лично удивляет другое: неужели Вы не боитесь скандала, который может разразиться вокруг Вашего имени? Ведь до сих пор оно ни разу не попадало в жёлтую прессу? — Не боюсь. Пора ему начинать туда попадать. Через неделю, проведя несколько предварительных репетиций, мы приступили к первому акту пьесы, под названием « Зарождение тайной страсти». Стали «случайно» встречаться во всех публичных местах, выражая при этом удивление и трудно скрываемую радость. Разгуливая по выставочным залам, обменивались впечатлениями, которые почему-то всегда совпадали. Бросались друг в друга тайными взглядами, и тут же смущённо отворачивались, испугавшись их откровенности. Иногда Грэм, склонившись ко мне, говорил в вполголоса что-то забавное, а я, по-девичьи опустив накрашенные ресницы, смущённо улыбалась и отходила в сторону. Мы постоянно ходили в один и тот же ресторан и садились за один и тот же столик, говоря официанту, что тут особенно вкусно кормят. Этот болтливый, пожилой мужчина планировался на роль будущего свидетеля. За ужином заказывали одинаковые блюда, каждый раз удивляясь совпадению наших вкусов. На самом деле именно эти заказы требовали постоянных компромиссов. Я терпеть не могла устриц и креветок, которые Марк готов был поедать тоннами, а он ненавидел спаржу и артишоки, которыми я ограничивалась на поздних трапезах, опасаясь нанести вред своей тонкой талии. Приходилось вести строгий учёт на право заказа: один день креветки, другой — спаржа. Мы старательно разыгрывали заготовленную комедию уже две недели, но до сих пор почему-то ни в одной, даже третьесортной газете, не появилось на одной заметки о «нашей любви». Энтузиазм Марка таял на глазах: — Что-то Ваш план не срабатывает. Мы ежедневно таскаемся по концертам и ресторанам, шепчемся в каждом углу, Вы давитесь моими устрицами, а я Вашей спаржей, но никого это, похоже, не волнует. Меня тоже угнетало молчание прессы, но, надев на лицо безусловную уверенность в успехе, я попыталась поддержать оптимизм партнёра: — И не надейтесь, что это сработает моментально. Даже принцам крови удаётся в течение нескольких месяцев удерживать в тайне появление новой метрессы. Наберитесь терпения. Поддерживая оптимизм соучастника представления, я всё более теряла свой собственный. Неужели моя персона уже никого не заботит? Неужели пресса и зрители успели начисто забыть Елену Альварес? Когда-то боялась попасть на жёлтые страницы, а теперь они поворачивается ко мне равнодушной спиной. Ну что ж. Придётся по следам, проложенным когда-то Камиллой Клодель, самой написать на себя пасквиль. В первый вечер мне удалось подобрать только название: «Первая весна или Бальзаковский возраст?» Во второй вечер к нему добавился отвратительный текст, подписанный неким Клодом Роше: Говорят, Париж — большой город. На самом деле это маленькая, тесная деревня. Стоит выйти за порог дома, и тут же встречаешь одни и те же знакомые лица. Несколько недель назад моё внимание привлекла очаровательная пара, явно находящаяся в зените первой любви. Кареглазый, высокий, удивительно элегантный юноша, и его спутница — небольшого роста, стройная женщина, скрывающая лицо под густой вуалью. Казалось, пара, как два голубка-неразлучника живёт только своей любовью и... искусством. Они встречались мне повсюду — на выставках, модных концертах, музыкальных вечерах и в ресторанах. Вернее в одном ресторане, пользующемся особым доверием влюблённых. В какой-то момент спутница, пожелав шепнуть очередные ласковые слова на ушко своему кавалеру, приподняла вуаль... Я узнал её! Прекрасная, неповторимая, последние двадцать лет царящая на сцене и в наших умах, несравненная Елена Альварес! Узнал и её молодого спутника — восходящую звезду современного театра Марка Грема. Так что же я видел — «Вечную весну» или «Бальзаковский возраст»? Клод Роше. Собираясь на следующую встречу с партнёром, я присовокупила к своему гардеробу густую вуаль. Марк, оглядывая новый маскарадный костюм, проявил неожиданное сочувствие. — Вас очень расстроила эта заметка? — Напротив. Это то, что надо. Надеюсь, камушку удастся всколыхнуть стоячее болото. Разве это не есть наша цель? — Да, конечно. Но всё равно... как то неприятно читать подобные колкости. — А Вы что, надеетесь на протяжении всей жизни читать о себе только хвалебные рецензии? Вряд ли удастся. Если хотите стать знаменитым, приготовьтесь всю жизнь хлебать коктейль из патоки, смешанной с помоями. Иначе не бывает. Временами меня начинало подташнивать от собственной мудрости и многоопытности, но с Марком иначе не получалось. Он, на редкость незрелый, постоянно требовал утешения и ободрения. — А зачем же тогда прикрылись сегодня вуалью? — Опознавательный знак. Теперь многие будут искать в толпе даму с вуалью в сопровождении молодого, кареглазого спутника. Мы упорно продолжали привлекать к себе общественное внимание, появляясь везде, где собирается просвещённая публика, а значит и журналисты, но ответа на мой пасквиль так и не последовало. Переждав пару дней, я опять взялась за перо, нырнув в роль сентиментальной дамы бальзаковского возраста, свято верящей во вторую молодость и присущую ей большую любовь. Главное — полностью поменять литературный стиль, не поддаваясь соблазнам иронии и двусмысленности. Из этой затеи получилось приблизительно следующее: Уважаемые дамы, меня лично очень обидело письмо мёсье Роше. Он насмехается не только над известной актрисой Еленой Альварес, но и над всеми нами, женщинами, вступившими во вторую молодость. Со всей ответственностью могу доложить; это изумительная пора. Мы всю жизнь преданно выполняли свой долг — рожали и ставили на ноги детей, заботились о хозяйстве, окружали мужей теплом и любовью, служа им многие годы самой надёжной опорой, и вот... По воле божьей остались одинокими вдовами в расцвете сил. Наши лица возможно и потеряли девичью свежесть, но души... Мы всё ещё способны чувствовать красоту, смеяться, любить и дарить радость. Я считаю, каждая из нас, вступившая в эту пору, заслуживает счастья не меньше, чем молоденькие девушки, ещё не познавшие трудностей жизни. Мы можем дать мужчине значительно больше, чем они, потому что жизнь научила нас не только любить, но и прощать. Письмо можно было бы написать и получше, но для начала дискуссии оно вполне подходило. Этот крик женской души, некой Клотильды Бюсе, я отправила в еженедельный женский журнал, любимый не только дамами из общества, но и средним сословием. На следующий день после выхода очередного номера, в редакцию полетел ответ возмущённой матери великовозрастного, неженатого сына. Она, по моей задумке, забрасывала комьями грязи « престарелых вертихвосток», бесстыдных «вампиров», питающихся свежей кровью невинных юношей. Дальше дискуссия развивалась уже без моего участия. Особенно старались дамы — борцы за эмансипацию. Речь, какникак, шла о равных правах с мужчинами на любовь в любом возрасте. Марк, тщательно прорабатывавший ежедневную прессу, пересказывал мне своими словами мои же заметки, вычитывая в них то, чего я вовсе не имела ввиду. Вот она, великая сила искусства, дающая возможность читателю догнать и перегнать писателя! Выполнив первую часть программы — привлечение народного внимания, мы могли переходить ко второй. Смена мелодий напрашивалась сама по себе: за неделей любви следовала неделя доброго знакомства. Почти ежедневно мы добросовестно разыгрывали подготовленные сцены, но внимания на них снова ни кто не обращал — публика окончательно погрязла в теме женской эмансипации. Марк снова загрустил, а я обратилась к своему, пропадающему в туне литературному таланту. На этот раз письмо в редакцию писал пожилой поклонник театрального искусства. Доброжелательный человек, склонный во всём видеть только хорошее, сообщал, что в молодости пробовал свои силы на любительской сцене, поэтому кое-что понимает в её специфике. Автор письма утверждал, что не может быть ничего лучше обмена опытом между актёрами разных поколений и разных театральных школ. Такой обмен безусловно обогатит обоих участников новым опытом, что пойдет на пользу не только самим артистам, но и театральной публике: «В ближайшее время нам предстоит стать свидетелями нового театрального шедевра, который, в тайне от прессы, готовят нам мадам Альварес и мёсье Грэм. А вся бессмысленная, банальная грязь типа «Бальзаковского возраста» или « Запоздалой весны», которой досужая толпа пытается измазать двух преданных служителей Мельпомены, не достойна нас, истинных парижан» Эти дурацкие строки заставили самого автора морщиться от отвращения, но по многолетнему опыту чтения открытых писем в редакцию, автор знал, что пишут их далеко не самые светлые головы. К счастью, это письмо обогатило самого автора новыми замыслами. К этому времени нам самим успело наскучить однообразное топтанье в людных местах. А почему бы и в самом деле не заняться обменом опытом? Следующие эпизоды нашей «дружбы» были перенесены в театр, где играл Грэм. В первый же вечер я заняла место в ложе для почётных гостей. Слава богу, оказалась там не одна — работать без свидетелей не имело смысла. Занавес взметнулся вверх... я «надела» на себя строгое, учительское лицо и вытащила приготовленный заранее блокнот для заметок. Когда игра Марка была хороша, я довольно кивала головой, помечала в блокноте название эпизода, ставила восклицательный знак и несколько зашифрованных заглавными буквами комментарий. Когда его исполнение казалось поверхностным или фальшивым, недовольно морщила нос и ставила вопросительный знак. Через полчаса соседи по ложе следили уже не за действием на сцене, а за моими пометками. Хотя игра Марка оставляла желать лучшего, с вопросительными знаками приходилось обращаться весьма экономно: вредить его репутации не входило в мои планы. В этой ложе мы с блокнотом провели три вечера, и, к большой радости обоих, каждый раз с новыми соседями, а значит количество свидетелей обучения становилось всё больше и больше. Следующий фрагмент « обмена опытом» разыгрывался на моих спектаклях. На этот раз Марк покачивал головой, вздыхал и делал пометки условным шрифтом. Новая стратегия в сочетании с письмом « доброжелателя» возымела успех: пресса опять обратила к нам своё любопытное лицо. Марк несколько дней боролся с искушением заглянуть в мои пометки. Наконец самолюбие сдалось под напором любопытства: — Мадам Альварес, а Вы делали пометки всерьёз или играли? — Признаюсь честно; в начале делала это напоказ, а потом увлеклась и стала следить за Вашей игрой по настоящему. — А почему бы тогда нам и в самом деле не обменяться опытом? Его самоуверенность меня всегда раздражала, но сегодняшняя формулировка... «давайте обменяемся опытом...» однозначно привела в ярость. Мало того, что три дня любовалась недозрелой игрой, так ещё выслушивать от него «замечания»! Но что делать? Я сама выбрала этого повесу в партнёры, и довести до конца игру, начатую по моей инициативе, было в моих же интересах. — А почему бы и нет? Давайте меняться. Кто начинает? — Конечно Вы. Я готов к полному разносу. Открыв рабочий блокнот, я прошлась по основным пунктам. Странно! Марк выслушивал объяснения не перебивая и не оправдываясь. Наоборот. Вдумчиво впитывал каждое слово. По ходу занятия во мне все выше поднимала голову нечистая совесть. Почему я к нему так агрессивна? По сути он совсем не плохой мальчик. — А теперь Ваша очередь, Марк, — и поймала себя на том, что впервые вслух назвала Грэма по имени. — Ну мой список вопросов не такой длинный. Практически всего один эпизод. Помните, когда Ваш партнёр объясняется Вам в любви... Наши учителя говорили, что ни в коем случае нельзя во время диалога поворачиваться к залу спиной. А Вы... простояли к залу спиной почти целую минуту. Я на часы посмотрел. Почему? Я хорошо помнила эту сцену. Выражение лица «влюблённого» было таким лживым, что смотреть в него не было никаких сил. Но почему спиной к залу? Авторитетного ответа на этот, совершенно справедливый вопрос, у меня не нашлось. Пришлось сказать правду. — Знаете... он так нелепо пучил глаза и плевался... что я не выдержала и отошла в сторону... вытереть лицо. Марк откровенно расхохотался. — Да, этот юноша явно не блещет талантом. Как он оказался на сцене? — По очень сильной протекции. — А Вы не могли отказаться с ним играть? — Не могла. Его ставки значительно выше моих. Лицо Грэма опять загрустило: — Я сыграл бы эту роль лучше. — Безусловно. Но у Вас нет таких знакомств, поэтому придётся продолжать нашу собственную «постановку». Не так ли? Мы перемещались по общественным местам, строго соблюдая правила дезинформации. В какой-то день появлялись вместе, шептались, нежно соприкасаясь плечами и смеясь над нам одним понятными шутками. Пару дней спустя приезжали на важный приём по раздельности. Я проводила время в кругу своих старых знакомых, Грэм веселился в компании молодых людей и кокетливых женщин. Встретившись случайно в толпе, мы здоровались за руку и обменивались несколькими банальностями, типа: — Ну надо же! Париж и в самом деле большая деревня! Едва выйдешь за порог и тут же натыкаешься на массу добрых знакомых. Поболтав с минуту о « ни о чём», расходились в разные стороны, пожелав друг другу приятного вечера. На одном из подобных приёмов нас захватила в плен группка любопытных, молодых репортёров. Их интересовал обмен опытом и дальнейшие творческие планы. Срочно надев лицо строгой учительницы, гордящейся, по секрету от ученика, его блестящими успехами, произнесла короткую речь о пользе прилежания. — Мёсье Грэм удивительно талантливый человек. Но мне бы хотелось видеть в нём чуть больше прилежания. Мы, я имею в виду моё поколение, даже в ущерб светской жизни, посвящали тренировкам каждую свободную минуту. — А что Вы, мёсье Грэм, могли бы сказать об учебном процессе? — Я... ах да... мадам Альварес не только блестящая актриса, но и бесподобный педагог. Мне, можно сказать, выпала козырная карта... В тот же момент рука Грема обхватила педагога за талию... и лихо сползла вниз, удобно разместившись на её правом бедре. Я, едва не задохнувшись от возмущения, попыталась спасти ситуацию. Сняв разнуздавшуюся руку подопечного с преподавательской задницы, переложила её на спинку кресла, случайно оказавшегося в доступной близи и с укоризной погрозила шалуну пальцем: — Мёсье Грэм! Вот к чему приводит недостаток прилежания! Отработка жестов заправского соблазнителя у нас намечена на послезавтра, — и, обращаясь к собеседникам за сочувствием, устало добавила, — видите, как не просто обучать молодёжь, постоянно стремящуюся к самостоятельности. Вечером следующего дня я устроила Грэму жестокий разнос: — Вы думаете иногда, что делаете? Для чего Вам понадобилась эта дурацкая выходка? Всю сцену загубили! Ни в лице, ни в позе нашкодившего ученика не проглядывало ни толики раскаяния. Вызывающе глядя мне в глаза, он нагло заявил: — Я пытался спасти эпизод. Вы, войдя в преподавательскую роль, явно переигрывали. Зачем было изображать из себя синий чулок сегодня, когда вчера множество любопытных видели нас, двух голубочков, в парке на скамейке, спрятавшейся в цветущей сирени? — Это не важно. Нас видели не одни и те же люди. Вот пусть и гадают, что же тут на самом деле. Доказывая свою правоту Марк, темпераментно взмахнув рукой, задел указательным пальцем спинку, стоявшего вблизи стула и обломал острозаточенный, отполированный ноготь. Грубо чертыхнувшись, он вытащил из внутреннего кармана пилочку и, развалившись на стуле, начал подпиливать остроугольные обломки. Что напоминает мне эта поза? Длинные, перекрещенные ноги, вытянутые вдоль стола, упрямый наклон головы... Ах, да... Любимая поза Марселя, протестующего против моих нравоучений. Когда это было? Позавчера... он ворвался ко мне в кабинет, сжимая в руке пачку газет. — Неужели тебе это нужно? Неужели не противно? Я знала, рано или поздно этот разговор состоится, но зачем именно сегодня... так некстати... — Да сынок. Мне это нужно. — Этот примитивный придурок? — Нет. Газеты. Марсель рухнул на стул в той же позе, как сидел в данную минуту Марк. — Не понимаю. Объясни, пожалуйста доходчивее. Его рот в точности до нюансов повторил мимику отца: уголки тонких, сжатых в бледную струнку губ, презрительно изогнулись вниз. — У меня с Грэмом нет никакого романа, но мне нужна эта шумиха. Первые четыре пасквиля я написала сама, чтобы обратить на нас внимание. — Ну ты даёшь! И зачем нужна эта, как ты говоришь, шумиха? — После трёхлетнего перерыва режиссёры перестали принимать меня всерьёз. Предлагают совершенно нелепые роли, а я... я не только хочу, но и могу ещё сыграть что-нибудь настоящее. — Понятно. Реклама. Решила сработать под Сару Бернар. А что посоветуешь делать мне, когда вся эскадрилья за спиной хихикает над моей матерью, а в глаза сочувственно комментируют её выбор? Обо мне ты не подумала? Я что, должен их всех по очереди вызывать на дуэль? Губы обиженного Марселя, как когда-то у Шарля, стали по детски округлыми и припухшими. — Что тебе делать? Знаешь, однажды твой отец дал великолепный совет Жаку Малону, как отвечать журналистам на пресс-конференции. Этот совет помог ему избежать серьёзных неприятностей. — Ну и же он ему посоветовал? — Приблизительно так: Ваш единственный шанс, мёсье Малон, отвечать вопросами на вопросы. Вы должны как можно искуснее «заболтать» журналистов. Увести от темы. Затянуть в дебри псевдоумных дискуссий и уйти, так ничего и не сказав. — Звучит очень убедительно, но как это реализовать в нашем случае? В какую «псевдоумную» дискуссию можно затянуть моих сослуживцев? После минутного размышления я предложила Марселю один из возможных ходов: — Ну хотя бы так: Свобода печати и охрана прав знаменитостей на частную жизнь. Ведь все вы, пилотыпервопроходцы, уже стоите на пороге славы. Многим из вас предстоит войти в историю. Вот и вопрос: знают ли молодые люди, что оборотная сторона славы — это жизнь на продажу? Готовы ли они к такой жизни, считают ли оборотную сторону славы справедливой в своём случае? Вот и затяни друзей в подобную дискуссию. Думаю, интерес к твоей матери моментально угаснет. Своя рубашка ближе к телу. Во всяком случае это лучше, чем дуэль. Лицо сына расправилось и просияло. Его круглые, сероголубые глаза светились мне навстречу с тем же восторгом, с каким мои сияли когда-то навстречу Шарлю, одним взмахом руки убиравшим с дороги трудности, казавшиеся непреодолимыми. — Ну ты и хитрюга! А что, на самом деле очень полезная тема, — и, помолчав с минуту, не удержался от провокационного вопроса: — И от кого только ты унаследовала талант к интригам? Выкрутишься из любой ситуации. — Ну как же! Я же прямой потомок великих Альваресов, столетиями оттачивавших этот талант на политической сцене. Не могла же выдать вторую версию; еврейских предков моей прабабушки. Не даром гласит народная мудрость: там, где француз, немец и англичанин безнадёжно застрянут, еврей выкрутится и пойдёт дальше. Сын, не вполне убеждённый в чистоплотности моих действий, продолжал наступление: — А если бы папа был жив, ты тоже обратилась бы к подобной рекламе? — Дурачок. Если бы папа был жив, он наверняка придумал бы что-нибудь поумнее. Если бы ты только знал, как мне без него плохо и одиноко! Сын, ставший вдруг взрослым и сильным, прижал к себе мою голову и прошептал в ухо: — Мамочка, мне без него тоже очень плохо, но не одиноко, потому что у меня есть ты, а у тебя — я. Вдвоём мы какнибудь прорвёмся. Вспоминая этот разговор, я невольно сравнила Марка с Марселем. С сыном было гораздо проще; он доверял мне, любил меня и мы были друзьями, а Грэм... Временами возникало чувство, мы оба друг друга едва терпим. Марсель умён и гибок, а Марк... А действительно, что за человек этот Марк? Я ведь его абсолютно не знаю. Мы никогда не говорим ни о себе, ни о реальных ощущениях, ни о прошлом. Уверена только в одном: юноша честолюбив и упрям. Очень сложно иметь дело с партнёром, когда не уверен в его надёжности. Но сейчас важно понять, зачем он разыграл эту глупую сцену. — Марк, может я и не права. Объясните пожалуйста Вашу задумку. Лицо Грэма тут же утратило зловредное выражение, а тело — дурные манеры. Он подобрал ноги и прилично разместился на стуле. — Мне кажется, мы передозировали с обменом опытом. Вообще передозировали с дружбой. Вторая тема в последние недели абсолютно отошла на задний план. Публика уже близка к разгадке: « Дружба двух поколений», ну а что дальше? Ни Вы, ни я своих проблем ещё не решили. — И поэтому Вы смешали карты? — Но ведь это было необходимо! Или Вы опять не согласны? На этот раз я была с ним абсолютно согласна. Похоже, Марк чувствует ход сценария не хуже меня, а временами даже лучше, и, по правде сказать, это открытие меня вовсе не огорчило. — Марк, Вы поступили разумно. Я забираю назад все несправедливые обвинения. Глаза Грэма просияли торжеством, как накануне сияли радостью глаза моего сына. И, наклонившись вперёд, партнёр выдал неожиданную идею: — Думаю, пора усилить первую линию сюжета. Но все парковые дорожки мы уже давно истоптали. Самое время менять декорации. И знаете, чтобыло бы самое верное? Сбежать. — Куда сбежать? — По мне, самое подходящее место — Ницца. Разгар сезона, весь Бомонд нежится на Лазурном берегу по утрам, и играет в казино вечерами. Чем не блестящая сцена! Как Вам такая идея? Разглядев нотки сомнения, помимо воли проступившие на моём лице, Марк, смущённо вспыхнув, торопливо добавил: — Естественно, свою часть поездки я финансирую сам. Нам не нужно останавливаться в Грандотеле. Это было бы уж слишком «напоказ». Мы «спрячемся» в маленьком, уютном отельчике на краю города. Ведь мы хотим сбежать от внимания прессы. Я знаю такой уголок. Мой родственник содержит его уже тридцать лет. Неделю спустя мы прибыли в Ниццу и остановились в отеле, выбранном Грэмом, заказав два раздельных номера. В последние дни что-то сместилось в наших отношениях. Марк, почувствовав себя полноправным партнёром, оставил замашки упрямого, зловредного мальчишки, а я перестала злиться и допекать его нотациями и нравоучениями. В знакомой стихии, соблазнение благоволящей к нему женщины, простоватый подросток превратился в умного, заботливого мужчину, и общаться с таким мужчиной становилось день ото дня приятнее... Первая совместная прогулка в горы повернула наши отношения в новое русло, которое я и страшном сне не могла себе представить. Марк перед каждым камушком заботливо протягивал надёжную, мужскую руку, стараясь предотвратить неминуемое крушение ломких, рассыпающихся на ходу костей престарелой спутницы. Тревожно заглядывал ей в лицо, надеясь своевременно распознать приближение неизбежного при такой нагрузке обморока. Час спустя, обтерев предательски выступившие на лбу капельки пота, мой кавалер, рухнув на первый попавшийся камень, изумлённо спросил: — Неужели Вы совсем не устали? Уже больше часа со скоростью юной газели перепрыгиваете с камня на камень, не проявляя на малейшего признака утомления! Я и то выбился из сил. Откройте, пожалуйста, секрет Вашей вечной молодости. Кому посчастливилось хоть раз в жизни встретить женщину, не падкую на комплименты? Если вы, мой любезный читатель, когда-либо такую и повстречали, то это была точно не я. Та, о которой идёт речь в этом дневнике, расплывшись в бесстыдно самодовольной улыбке, тут же выдала свою сокровенную тайну: — Всё очень просто. К завтраку — ежедневная гимнастика, а к ужину — спаржа и артишоки. Марк недоверчиво покачал головой. — Это наверняка не всё. Тонкую, гибкую талию, лёгкие, быстрые ноги и вообще... общую, танцующую грацию можно сохранить ежедневной гимнастикой, но всё остальное... Тёмные, миндалевидные глаза, обрамлённые густыми, длинными ресницами настойчиво прилипли к моему лицу, вызывая смущение и ещё что-то, что я в тот момент не смогла бы обозначить будничными, каждодневными словами. Не отрывая взгляда, Марк, как бы впав в транс, продолжал вливать в мои уши сильнодействующий яд: — Такие изумительные сияющие глаза, свежие, выразительные губы, поворот головы... Знаете, только сегодня, когда Вы сняли маску великой актрисы и стали самой собой... Только сегодня я понял, как Вы... восхитительны. Простите за откровенность... А я..., да прости мне господи этот грех... не могла оторваться от настойчивости устремлённого на меня взгляда. Неужели и это один раз уже было? На сцене да... сотни раз..., но так, в реальной жизни... нет, такое произошло со мной, женщиной прожившей уже большую половину своей жизни, пожалуй впервые. Разум по прежнему видел перед собой глуповатого, провинциального юнца, любой ценой рвущегося к успеху, но чувства, десятки лет дремавшие в подсознании, подняли голову и стремительно рванулись наружу. И я, потрясённая их интенсивностью, не рискнула перечить. Последующие дни мы, позабыв о сценарии, на полном серьёзе пытались скрыться от любопытной публики, но она, как на зло, именно сейчас, когда стала совершенно ненужной, объявила охоту на прячущуюся от неё пару. И тем не менее рано или поздно всё в жизни повторяется. В один из вечеров снова затрепетал тюль балконной занавески и через секунду на нём загорелась пунцовая роза. Когда-то розу держала рука Ясона-Теодоро, сегодня зелёный черенок сжимали тонкие, смуглые пальцы Марка Грэма. Всё было как «тогда», но, в то же время, совершенно иначе. Теодоро, подобно тонконогой, грациозной газели, настороженно навострившей уши, в нерешительности стоял на пороге, готовый к мгновенному прыжку в безопасность в случае неудачи. Грэм, чёрной, хищной пантерой, убеждённой в исключительном праве завоевателя, вошёл в комнату и прикрыл за собой дверь. Утром... хотя нет... утра как такового не было. Были дни, вечера и ночи, смешавшиеся в один бурный поток чувств и времени, неотвратимо уносящихся в прошлое. Когда-то я стремилась вслед за своей мечтой, тоскуя о проносящейся мимо жизни. Сегодня скромная, пугливая мечта едва поспевала за прорвавшей плотину стихией. Да, это я — босоногая Ника Камиллы Клодель, вырвалась на свободу из намертво сковавшего меня холодного, равнодушного камня. Глава 17 Мы вернулись в Париж, начисто позабыв о сценарии. Зачем мне реклама, новые роли, новые контракты, новые, ежедневно разыгрываемые на сцене, чужие страсти? Зачем всё это, когда есть реальная жизнь? Я стояла перед зеркалом, удивляясь мятежно улыбавшейся женщине по другую сторону стекла. Кто она? Неужели ей уже почти сорок восемь? Неужели в соседней комнате сидит за книгами ей двадцатичетырёхлетний сын? Почему её мерцающие в полутьме глаза источают столько чувственности? Неужели это я? Не только пресса, но и публика в зале с восторгом приветствовали звёздную пару — Елену Альварес и Марка Грэма. Газеты кричали о волшебном сиянии, исходящем на зрителей, когда на сцене появляются «Возродившиеся от любви». Поклонницы, вошедшие во вторую молодость, забрасывали меня письмами благодарности за подаренную надежду. А я... я могла бы в те дни исписать мелким почерком сотни страниц, изливая на них своё счастье и благодарность судьбе за такой подарок. Всё было так хорошо. Три месяца невыносимого счастья. А потом... потом наступил день расплаты, потому что за всё хорошее приходится платить, и чаще всего нестерпимой болью. Утренние газеты, как и апельсиновый сок полагаются к завтраку. Привычно распахнув первую страницу, я не сразу поняла смысл набранных витиеватым, праздничным шрифтом строчек: Вчера вечером состоялась официальная помолвка мёсье Марка Грэма и очаровательной мадемуазель Сильвии Манчини. А чуть ниже фотография крупным планом; Сияющий Марк прижимает к себе хрупкую, молоденькую барышню с рассыпавшимися по плечам пышными густыми волосами. Что это? Очередная газетная утка? Мы же виделись с ним только вчера днём и всё было так хорошо! Такого не может быть! Я внимательно всматривалась в сфабрикованную газетчиками фотографию... и чем дольше она маячила у меня перед глазами, тем реальнее становился её сюжет. Орхидея в петлице у жениха и кольцо на пальце, которого вчера днём ещё не было. И победная улыбка невесты, дождавшейся своего часа. Не могу сказать сколько времени я, окаменев и потеряв последнюю способность мыслить и чувствовать, провела за столом с газетой в руках, когда в гостиную без доклада, как свой человек, ворвался Марк. Окинув меня вороватым взглядом, он рухнул на стул, приняв свою любимую позу — не то защиты, не то протеста; руки, скрещённые на груди, и длинные, мускулистые ноги, вытянутые вдоль стола. — Ну что, ты уже в курсе дела? — Да вот... успели проинформировать. Он сидел, прикрывая наглостью возрастающую неловкость. Не дождавшись дальнейших вопросов, предатель перешёл в наступление: — А что ты думала? Твоя игра будет продолжаться вечность? Её всё равно пора было заканчивать. Месяцем раньше или месяцем позже. — Почему не счёл нужным предупредить вовремя? — Опасно. Ты женщина темпераментная и непредсказуемая, а мне нужно было выиграть время. Я задавала вопросы, не слишком вдумываясь в их смысл. — Для чего ты выигрывал время? — Ты хочешь знать правду? — Конечно. — На прошлой неделе я подписал великолепный контракт. Главная роль в совершенно новом проекте. Фильм с крупными планами, передвижными камерами, многоплановыми ландшафтами и потрясающим психологическим сюжетом. Настоящая революция в искусстве. Считай, рождение кинематографа. Фильм будет длиться целых два часа. Марк, забыв об осторожности, пустил в ход свою импульсивную жестикуляцию. Следя за привычным движением рук, машинально подумала: « Сейчас опять обломает полированный ноготь». — И почему же не поделился радостью? — Ты же знаешь, дорогая, я очень суеверен, а хозяину надо было ещё отрегулировать кое-какие финансовые вопросы. Раздражённое сознание зацепилось за холуйское « хозяин». — А вчера хозяину удалось всё окончательно отрегулировать? — Да, вчера состоялось официальное подписание контракта. — И откуда появилась Сильвия Манчини? Губы Марка расползлись в кривую, пакостную усмешку: — А она никуда и не исчезала. Она всегда была. Я с самого начала ей всё объяснил... я имею ввиду нашу рекламу, и велел тихонечко сидеть и ждать... — И она, верная, преданная Пенелопа, послушно ждала? — Да, Сильвия очень умненькая девочка.. Я почувствовала пульсирование в висках и головокружение. Пришлось залпом выпить стакан воды и переждать подступившую тошноту. Только последний вопрос, и пусть он катится ко всем чертям. — А зачем тебе понадобилась Ницца? — А зачем тебе это знать? — Так, женское любопытство. — Ну если любопытно... Видишь ли, дорогая, ты великолепно играла сцены дружбы и наставничества, потому что играла саму себя, а вот в сценах любви была совершенно беспомощна и ненатуральна. Этакая мраморная статуя, пытающаяся изобразить живую женщину. Своей фальшивой игрой ты всё время сбивала меня с ритма, превращая в какого-то глупо хихикающего слюнтяя. Мы оба выглядели на редкость тупо. Вот я решил тебя оживить, чтобы показать себя во всём блеске и поскорее закончить надоевший спектакль. Ещё минуту назад думала, что дошла до последнего предела. Думала, хуже уже не будет. И вот... Самодовольный бархатный голос отдавался нестерпимой резью то ли в висках, то ли в солнечном сплетении. Но Марка было уже не остановить: — Надо сказать, дорогая, лечение пошло тебе реально на пользу. После Ниццы ты стала... неподражаемой. Я вцепилась ногтями в собственные ладони, чтобы сдержать рвущийся наружу душераздирающий, животный вой. — Уходи. Ты свободен. Минуту спустя грохнула входная дверь и наступила полная тишина. Вернувшийся с работы Марсель, обнаружил в кресле зарёванную мамашу. Господи, неужели предстоит ещё одно испытание — упрёки и нравоучения собственного сына. Вместо этого, взрослые, сильные руки вытащили меня из кресла и посадили к себе на колени. — Мамочка, до чего ты стала маленькой и беззащитной. И не надо переживать из за всяких подонков. Бог шельму метит. Рано или поздно зло обязательно вернётся к нему обратно. А мы что-нибудь придумаем. Ты же у меня умница. Упрёки я бы ещё вынесла, но жалость... Уткнувшись носом в широкую грудь, я завыла, как побитая уличная дворняга, которую в кои веки приласкал случайный прохожий. А сын... он молча гладил мои растрёпанные волосы, целовал в макушку и вытирал платком распухший от слёз нос. Потом, как раньше это делал отец, напоил потерявшую голову маму смесью валерьянки с коньяком и отправил в постель, посоветовав выспаться и собраться с мыслями. В ближайшие дни нам предстояло искать элегантный выход во спасение семейной чести. Несмотря на гремучую смесь, заснуть так и не удалось. Все сыгранные мною героини, униженные и обманутые женщины, которых я так и не смогла до конца понять, всю ночь продежурили у моей постели. Несчастная Федра, сгоревшая от страсти к годившемуся ей в сыновья Ипполиту, Евгения Гранде, принявшая кузена за порядочного человека, Медея, пожертвовавшая честью и совестью во имя любимого мужа, и Элизабет Руссе, продавшаяся за пару дешёвых комплиментов. Прожив десятки раз их несчастные жизни, я так ни чему от них и не научилась. И сегодня они снова вернулись ко мне, объединившись в одну единственную женщину, имя которой Елена Альварес. Днём ещё удавалось сохранять равновесие, но ночью... стоило лишь забраться под одеяло... сперва медленно и осторожно, а потом всё жёстче и неотвратимее сжимались вокруг меня тиски воспоминаний. Из сумрака выплывали восхищённые глаза, сильные, требовательные руки, гладкая оливковая кожа, обтягивающая каждый мускул плоского живота, золотистый пушок, мерцающий каждым отдельным волоском на длинных, стройных ногах, ... и мучительная тоска по головокружительным взлётам, чередующимися с падениями ... падениями только для того, чтобы снова взлететь. Господи! Куда деться от этой муки? Тоски, переплавившейся в ярость и ненависть? Почему нельзя запереть воспоминания в свинцовый сундук и бросить, как проклятое богами богатство, на дно моря, чтобы они больше никогда не доводили меня до исступления? Почему нельзя вернуться на несколько месяцев назад и пережить всё это ещё раз, в полную силу наслаждаясь вкусом каждой, выпавшей на долю, секунды? А ещё лучше... вернуться назад и прожить эти месяцы совсем по другому. Без этого. Тихо и безмятежно. Сокровище, выброшенное в море... тихо и безмятежно дожить до унылой старости, так никогда и ничего не познав? Добровольно обокрасть себя самоё? А в самом деле, кто из нас, Марк или я, проиграл этот поединок? Он добросовестно отрабатывал роль, а я жила и чувствовала, как никогда в жизни. У него на выходе остался лишь новый контракт, а у меня... целый сундук золотых минут. Кто из нас нищий, а кто богач? Кто победитель, а кто побежденный? Сам того не желая, он подарил мне несметные сокровища, получив в замен жалкий, медный грош. Так за что же на него злиться и за что мстить? Я победила и бесконечно благодарна ему за всё, что было. Ещё пару недель, и душа пойдёт на поправку. Днём уже хватало сил разбирать накопившуюся за неделю почту — поток упрёков и потаённого злорадства бывших доброжелательниц. Я, видите ли, посмела обмануть их, лишив надежды на вечную, бескорыстную любовь, ожидающую нас во второй молодости! Что поделаешь, дорогие дамы. Нет ничего проще превратить любовь, случившуюся во второй половине жизни, в вечную. Надо просто вовремя умереть. Как нелепо всё получилось. Мне взбрело в голову повторить триумфальное шествие Сары Бернар — женщины, гордо пронёсшей через пол века титул беспроигрышной похитительницы мужских сердец. Не знаю на сколько страстно она влюблялась в каждого из своих фаворитов, но одно знаю наверняка; ни один из них не посмел бросить её так громко и так позорно. Она всегда успевала вовремя отправлять их в отставку, заменяя новыми, таким же бездарными и такими же привлекательными. Что поделаешь. Хоть мы и одной крови, но судьбы у нас разные. С лихвой наглотавшись дамских укоров и двусмысленностей официальной прессы, почувствовала, что настало время заканчивать разнуздавшуюся шумиху. Прежде всего ради Марселя. Неделю назад у нас состоялся серьёзный разговор. Внешнее спокойствие, подобно затаившемуся вулкану, могло обмануть только неопытного наблюдателя, а я... не даром я знаю своего сына с рождения. Чем напряжённее внутренняя работа, тем расслабленное выглядит тело и равнодушнее смотрят в пространство круглые, серо-голубые глаза. В последние дни он, как в детстве, сидел на диване вялой игрушкой и бессмысленно теребил в руках случайно попавшиеся на глаза предметы. Я понимала, как ранят его унизительные статьи и насмешки друзей, и знала, это когда-нибудь приведёт к катастрофе. За двадцать лет, с тех пор, как мы читали сказки Шарля Перо, его повышенная чувствительность к любой, даже самой незначительной несправедливости, ни на йоту не изменилась., ... Он не был ни злопамятным, ни мстительным, но сказанная в детстве фраза: «За зло нужно наказывать... чтобы впредь не повадно было других обижать...», осталась на всю жизнь принципом его жизни. Особо остро он реагировал на несправедливость по отношению к слабому. В данный момент слабой и беззащитной была я, а значит ни кто не смел меня обижать. В любой момент, потеряв терпение, он мог вызвать Грэма на дуэль. Неделю назад, застав Марселя вяло сидящим в кресле, я решилась на разговор: — Ну что, совсем плохо? — Мне или тебе? — Мне терпимо, а тебе? — Мне не очень... терпимо. Почему на земле столько мерзавцев? Этот Грэм... такие не имеют права на существование. — Сынок, об этом я и хотела с тобой поговорить. Не нам решать, кто имеет право на существование, а кто нет. Это была игра, в которой каждый преследовал свои меркантильные цели. Состязание в силе, как футбол, или бокс... Состязание, в котором одному предстоит выиграть, а другому проиграть. Таковы правила. А если бы выиграла я, его мать или невеста тоже помчались бы меня убивать? — Ну а что делать? Терпеть дальше все эти унижения? Я имею ввиду тебя. — Нет, сынок. Дай мне неделю сроку. Приду в себя и обязательно что-нибудь придумаю, но сейчас мне необходима твоя помощь. — Что я могу для тебя сделать? — Укрепить тылы. Дай слово, что не затеешь скандала, и ни кого не вызовешь на дуэль. — Ты боишься за Грэма? — Я боюсь за тебя... и за себя тоже. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Ведь у меня никого больше не осталось. Пожалуйста, не рискуй собой во имя дурацких понятий о чести. Не оставляй меня одну. Удивление вытеснило равнодушную апатию из прищуренных, серо-голубых глаз. Марсель впервые видел меня сентиментальной. Даже в первые месяцы после гибели Шарля, превратившись в соляной столб, я не проронила ни единой слезинки. Только на кладбище, когда гроб стал медленно опускаться в сырую яму, завыла и, потеряв равновесие, чуть не свалилась вслед за ним. Хорошо, отец успел вовремя подхватить. Иначе похоронной бригаде пришлось бы выуживать из склизкой ямы вдову, перепачканную грязью и глиной. Марсель обещал хранить в безопасности наши тылы, взяв взамен обещание не принимать никаких решений, не посоветовавшись с ним. Выполняя данную клятву, я посвятила сына в боевой план: ответить всем оппонентам сразу в один приём; пригласить «на чай» четырёх наиболее активных журналистов, которым позволено будет взять у меня дружеское интервью. Главная ставка делалась на ответственную редакторшу дамского еженедельника, пожилую даму, посвятившую жизнь женской эмансипации. Подобное интервью в собственных стенах было даже при нашей свободе нравов делом беспрецедентный, а потому нуждалось в тщательной подготовке. Разработка системы защиты не представляла большого труда — принцип «забалтывания» по Шарлю Лекоку действовал безотказно. Значительно сложнее оказалось придать себе счастливый, довольный жизнью вид. За две недели глаза утонули в синих подглазьях, ещё недавно свежая кожа потускнела и покрылась сеточкой мелких морщин, а волосы... сероватая, жёсткая пакля свисала бессильными прядями вдоль увядших щёк. Проведя у зеркала более часа и окончательно разуверившись в умении рисовать по живой модели, решила в пользу загадочного полумрака. «Ах, жара на улице совершенно невыносима. Я приказала призакрыть шторы». Напоив гостей чаем со свежеиспеченными булочками и удобно разместившись в кресле, я приготовилась отвечать на вопросы. Журналисты, вооружившись блокнотами и фотоаппаратами, ринулись в бой. — Мадам Альварес, наши читатели опасаются, столь неожиданная помолвка мёсье Грэма с мадемуазель Манчини явилась для Вас большим потрясением? — Неужели для читателей эта помолвка явилась такой уж неожиданностью? — Мы все в течении года с огромным напряжением наблюдали за развитием звёздного романа, так радовались за вас обоих... и вдруг ... полная катастрофа... — Ну что Вы! Как можно называть катастрофой естественное желание двух молодых людей создать семью, родить и воспитать детей? Разве может быть в жизни что-нибудь естественнее и прекраснее? — Мадам Альварес, Вы вложили столько сил и времени в создание мёсье Грэма как артиста. Передали ему, можно сказать, весь свой опыт. А тут такая неблагодарность! Разве такое можно простить? — Милый друг, Вы мне безобразно льстите. Талантливым актёром создала мёсье Грэма не я, а Господь Бог. Он необыкновенно одарённый человек. Я только слегка отточила и отполировала то, что так удачно изваяла природа. Уже полчаса мы играем с журналистами в кошки-мышки. Они пытаются пробудить во мне то Медею, то Пышку, то ещё какую-нибудь разъярённую, разобиженную на всё человечество женщину, а я, разыгрывая блаженную идиотку, с нетерпением жду двух главных вопросов, ради которых и затеяла этот театр. В гостиной царила влажная духота. Гроза, с самого утра подступавшая к Парижу, до сих пор не решалась нанести сокрушающего удара. Ещё десять минут и, с таким трудом наложенный грим, потечёт бурыми струйками по бледно-зелёным щёкам. Наконец-то, хранившая до сих пор молчание редакторша женского журнала, открыла рот: — Мадам Альварес, мои читательницы пребывают в горе и гневе. Вы дали им надежду на вторую молодость, на ещё один шанс пережить настоящее, глубокое взаимное чувство. Они так радовались за Вас... и за себя тоже. А что вышло? Вы лишили нас всех последней надежды! Уж если Вы потерпели крушение, то чего ожидать нам, простым смертным. Что вы могли бы сказать моим читательницам в утешение? Ну наконец-то свершилось! Гроза, полдня набиравшая силу, швырнула в раскрытое окно первую, разъярённую молнию. Я с облегчением подставила стремительно размокающий грим подоспевшей на помощь прохладе, сделала многозначительную паузу... и погнала вскачь свою боевую колесницу: — Уважаемые господа, не случайно поэты сравнивают вспышку страсти с грозой. Огненные всполохи чувств, громовые раскаты сомнений и бурные потоки воды, смывающие все грехи и разочарования. Человеческая страсть не уступает со силе страсти природы. И так же, как она ... недолговечна. Я не спеша поднялась со стула и вышла на балкон. — Выгляньте наружу. Гроза прошла. Всего несколько минут ...и всё позади. А теперь мне хочется задать вопрос вам, мои уважаемые собеседники. Неужели всё это было напрасно? Подойдите ко мне и посмотрите на эти кусты. Ещё десять минут назад они, пожухлые и пропылившиеся, смиренно опустив головки, готовились к осени, а теперь! Нет, вы только посмотрите! Омытые и помолодевшие, они опять горделиво сияют своей изумрудной зеленью. Подчинившись призыву, гости, один за другим, потянулись на балкон. А я... картинно облокотившись о парапет, завершила заранее подготовленную, высокопарную фразу: — Каждая из нас, вошедших во вторую молодость, в праве решать: подставить ли всю себя под эти освежающие струи, или переждать грозу в пыльном, затянутом паутиной, чулане! Закончив монолог, я бессильно опустила руки, полюбовалась ещё пару секунд на ожившую листву и вернулась в комнату. Мои бедные гости, оглушённые патетической бессмыслицей, постепенно приходили в себя, а я с нетерпением ожидала последних вопросов. Первым очухался пожилой журналист: — Мадам Альварес, Ваше сравнение человеческих страстей с силой природы очень впечатляюще. Хорошо, когда этот взрыв приводит к обновлению, но ведь может привести и к беде, как, к примеру, извержение Везувия, уничтожившего вокруг себя всё живое... В дискуссию включился второй журналист: — ...Или судьба Анны Карениной, которая последнее время привлекает к себе внимание всех театров мира? Выдержав небольшую паузу, я включилась в литературнофилософскую дискуссию: — Да, это хороший пример. Но что на самом деле сгубило Каренину? Её чувства, или конфликт с обществом, отказавшим женщине в праве на эти чувства? Закончив фразу, я перебросила мяч редакторше женского журнала: — Разве не этой теме Вы отдаете столько сил и энергии? Права женщин не только на обучение и профессиональную деятельность, но и на полноценную эмоциональную жизнь? Теперь можно передохнуть. Гости, позабыв цель посещения, углубились в литературно-философский спор. Первой очухалась редакторша женского журнала. Поёрзав на стуле и допив остатки холодного чая, она задумчиво произнесла: — Всё, что Вы сказали, мадам Альварес, поистине замечательно, но как нам, ищущим любви и тепла женщинам, уберечься от лап брачных аферистов или молодых Жигало? Боже, сколько молодых, привлекательных мужчин, занимается этим недостойным ремеслом, — и, поправив съехавшие с носа очки, брезгливо добавила, — уж они то умеют их изображать... я имею ввиду... страсти! Ни секунды не задумываясь, я расплылась в победной улыбке: — Этот тип мужчин действительно опасен, но ... Брачного афериста или Жигало можно опознать... если не с первого, то со второго взгляда. Что касается мёсье Грэма... он никогда не предлагал мне руки и сердца и не просил денег в долг. Оппоненты одобрительно закивали головами, тщательно записали последнюю фразу и защёлкали фотоаппаратами. — Мадам Альварес, мы благодарим за столь интересное интервью и за время, которое Вы нам уделили. Что Вы могли бы сказать нашим дамам на прощание? Великодушно улыбнувшись, я замкнула круг: самым лучшим ответом на глупый вопрос может стать только глупый ответ: — Разгадайте простенькую загадку. В чём главная сила и главная слабость нас, женщин вступивших во вторую молодость? Журналисты, поглядывая друг на друга, закрутили головами. — Ну что ж. Придётся выдать секрет: наша главная сила и слабость в том, что мы всё ещё слишком молоды. Последняя пара снимков, поклонов, благодарностей и расшаркиваний завершили эту нелепую аудиенцию. Вечером повторила спектакль на бис специально для Марселя. Сын... боже мой, как похож он был в эту минуту на своего отца... спина слилась в единое целое с высокой спинкой кресла, а руки мягко стекли с подлокотников, обрисовав их округлость узкими подвижными ладонями... Досмотрев сцену до конца, он искренне развеселился: — Ну мать, ты даёшь! Впечатляюще! Столько трескучих фраз в одной упаковке и на одном дыхании! Но ты молодец. Надо же, очень даже славненько получилось, хотя... — Думаешь перестаралась? — Понимаешь... хорошо, если они всё так в газетах и опишут, как ты сказала, а если переврут, изобразив тебя и в самом деле блаженной или круглой идиоткой? — А что в этом плохого? — А зачем тебе это надо, себя позорить? — Сын, я может и не так умна, как вы с папой, но успела многому от вас научиться. Их, я имею ввиду журналистов, было четверо, и все они между собой конкуренты и договариваться не станут. Каждый наврёт по своему. А знаешь, что из этого следует? — Могу догадаться. Переведёшь стрелки на репортёров. — Совершенно верно. Буду сравнивать противоречия и фатальные разночтения четырёх интервью, сожалеть о лживости прессы, не заслуживающей ни народного доверия, ни затраченного на неё времени. Обычная репортёрская возня. Через пару недель тема Грэма полностью потеряет актуальность, и ты обретёшь покой. Марсель, вытянул ноги вдоль стола и скрестил руки перед грудью... чёрт побери, почему он опять сидит как Марк ... — Мам, это ты тоже унаследовала от великих Альваресов? — Нет. Работе с прессой я научилась от твоего папы. — Ну ты и скромница! Одни таланты от знаменитых предков, другие — от знаменитого мужа... А что от тебя самой? Гордо расправив плечи и выпятив подбородок, я сделала многозначительную паузу, а потом с апломбом воспела хвалу самой себе: — А от самой себя у меня самое главное: способность уместить всё это в одной голове и применять своевременно и по мере необходимости. На том и закончился наш замечательный вечер. Только с прессой бороться не пришлось. Она настолько увлеклась темой женского равноправия и общественными предрассудками, сгубившими Анну Каренину, что мы с Грэмом забылись, как вчерашний несостоявшийся обед. Пару недель спустя мне поступило официальное предложение сыграть в следующем сезоне загубленную обществом Анну, но сделать этого так и не удалось... Ни в следующем сезоне, ни позже... и вообще никогда. Миру было уже не до театров и не до сражающихся за престижные роли актёров. 3 августа Германия объявила войну Франции, обвинив её в «организованных нападениях, воздушных бомбардировках и в нарушении бельгийского нейтралитета». Глава 18 Нападение велось через территорию Бельгии. Взять Париж предполагалось за 39 дней. В двух словах суть плана была изложена Вильгельмом II: «Обед у нас будет в Париже, а ужин— в Санкт-Петербурге». Началась тотальная мобилизация. Германские армии стремительно шли вперёд. Союзные английские части отступали к побережью, французское командование не было уверено в возможности удержать Париж. Уже 2 сентября правительство Франции переместилось в Бордо. Силы французов перегруппировывались к новому рубежу обороны по реке Марна. Французы энергично готовились к защите столицы, принимая экстраординарные меры. В один из дней из города исчезли все такси: командование приказало срочно перекинуть на фронт пехотную бригаду, использовав для этой цели все, имеющиеся в городе машины. А мы... Сейчас я могу назвать это не иначе, как пиром во время чумы. Эйфория, разжигаемая правительством и печатью, превратила французов в безумцев, жаждавших реванша: прежде всего возвращения Эльзаса-Лотарингии, отторгнутых у Франции в 1871 году, после поражения во франко-прусской войне. Казалось, парижане готовились не к войне, а к празднованию победы: в кафешантанах до рассвета гремели канканы, цветастыми бабочками взлетали пышные юбки и ножки, затянутые в тонкие, кружевные чулки. Бокалы пенились шампанским, утомлённое солнцем танго кружило хмельные головы, а немыслимые экспрессионистские пьесы о поисках вечного счастья будоражили оторвавшиеся от реальности души. Эскадрилью Марселя призвали на фронт в первую же неделю. Сын, пытаясь меня успокоить, бодро лгал о прогулочных полётах: — Нам предстоит всего лишь кружиться над позициями противника и фотографировать. Мы ведь не боевики, а разведчики. Никакой опасности. — Зачем лжёшь? Даже я знаю, что ваши двухместные самолёты уже начиняют бомбами и отправляют в бой. Не пройдёт и полугода, как их оснастят пулемётами и тогда... — И тогда... Мама, ты ведь понимаешь, что это мой долг. Я выслушивала высокопарные доводы, безнадёжно покачивая головой. Разве можно взрослого мужчину, подобно новорожденному Моисею, упаковать в бельевую корзинку и пустить в плаванье по реке, уповая на спасительные волны, прибивающие наших сыновей к безопасным берегам? В эти дни лётчики были рыцарями-освободителями, воюющими с врагом один на один, и Марсель всецело принадлежал к их касте, а у меня не было ни волшебной палочки, ни колдовской силы, способной, удержать сына в тылу. А ведь он, талантливый инженер, мог бы, как Ролан Гарро, прикрывшись щитом чертёжной доски, до конца войны совмещать боевое оружие с главной осью самолёта. Вместо этого, вскинув ладонь к козырьку военной фуражки и браво прищёлкнув каблуками, сын, как в небо... шагнул в распахнувшуюся перед ним дверь, оставив меня однуодинёшеньку в пустой квартире, пропитанной тоской и надеждами. Война, стремительно набирая обороты, уже не предвещала быстрой победы ни одной из сторон. Германии так и не удалось пообедать в Париже, а ужин в Санкт — Петербурге отодвинулся в непреодолимое будущее. Мои коллеги, вспомнив о патриотизме, заговорили о передвижном театре: — Мы обязаны быть рядом с солдатами, поддерживать их боевой дух. Ведь на фронте не только стреляют. Бывают и передышки. В любых условиях люди нуждаются в радости, и эту радость принесём мы. На скорую руку были подготовлены развлекательные программы, где немцы, пузатые недоумки в касках, после каждого выстрела трусливо разбегались по кустам, или прятались за спинами таких же робких соратников, а французы... как всегда элегантные и остроумные, с лёгкостью одерживали победы не только над врагом, но и над прекрасными дамами, непонятно как оказавшимися на поле боя. Нагрузив многочисленные чемоданы немыслимой дребеденью и нелепыми костюмами, мы, одолжив у энтузиастов пару никуда не годных автомобилей, покатили к местам боевых действий. Сейчас воспоминания об этом наивном патриотизме, заливают лицо краской стыда за себя и за всех нас, но тогда... Мы знали войну только по историческим романам, мемуарам полководцев и дипломатов, а поле боя видели лишь на полотнах великих мастеров: кони и люди, смешавшиеся в одно красочное месиво, кровавые всполохи задохнувшегося в пыли солнца и ... уютная тишина выставочного зала. Стоя перед картиной не испытываешь страха; у тебя над головой не рвутся снаряды, не падают срубленные головы и не слышно криков смертельно раненых людей. Автомобили, жалобно подвывая, тряслись по разбитым дорогам, приближая нас, наивных идеалистов, к жестокой реальности жизни. На линию фронта мы прибыли в минуту затишья. Радушный приём и добротный обед полевой кухни рассеяли зародившиеся в пути сомнения. Вскоре, облачённые в маскарадные костюмы, артисты бодро вскарабкались на наспех сколоченный деревянный настил, окружённый сидящими на земле зрителями. Уже четверть часа мы разыгрываем весёлые сценки, приправленные забавными, острыми диалогами, не получая в ответ ни взрывов смеха, ни выразительных, лукавых улыбок. Утомлённые лица мужчин, кривясь время от времени в скептические гримасы, всё настойчивее сбивали с ритма. Чувство неловкости и фальши, зародившееся в первый момент прибытия, постепенно переросло в стойкую уверенность бессмысленности происходящего. Мы всё ещё топтались на подмостках, когда на поляну выскочил открытый автомобиль и прогремел срывающийся на крик голос: — Подъём! Немцы перешли в наступление. Мы... на передовой... Бронемашины... Через десять минут будут здесь. «Публика», подгоняемая резкими, торопливыми приказами пожилого полковника, кинулась на боевые позиции. Внезапно на головой раздалось отвратительное шипение и свист, а через секунду в ста метрах от нас разорвался первый боевой снаряд. А потом началось такое... чего я не могла представить себе даже в страшном сне. Вокруг грохотала земля, выбрасывая в воздух комья грязи, камней и вырванных с корнем молодых деревьев, а мы, стадо перепуганных баранов, бессмысленно толпились на деревянном настиле, не имея ни сил, ни мужества покинуть свой ненадёжный остров. Какой-то офицер в съехавшей набекрень каске, выпучив побелевшие от бешенства глаза, заорал во всю мощь своих тренированных лёгких: — Да уберите же этих... идиотов... отсюда... пока всех не перестреляли! — Но куда, капитан? — В блиндаж, в укрытие, к чёртовой матери... ! Чьи-то руки поволокли меня, как тряпичную куклу, через колдобины взрытого снарядами поля и с силой швырнули в грязную, наполненную водой канаву. Через секунду в этой луже барахталась уже вся труппа. На следующий день нас погрузили в перекошенный на бок автомобиль и отправили в тыл. Пристыженные, бесполезные и разочарованные, мы десять дней добирались до Парижа. Эта вылазка научила меня простой мудрости: не навязывай ближнему того, в чём он в данный момент не нуждается. Позже прочла в газетах об обходном манёвре одного из подразделений немецкой армии, атаковавшем французскую дивизию, готовящуюся к переправке на Марну. Я вернулась в пустую квартиру, помудрев на сто лет. Познав, что такое война. Ежедневные сводки о погибших, раненых и пропавших без вести, сообщения о проигранных сражениях и бесславном отступлении наших войск вытеснили из жизни парижан канканы и танго с шампанским. Каждая женщина, проводившая мужа или сына на фронт, жила короткими перебежками от письма к письму, от газеты к газете. Ежедневно в город прибывали полные составы с больными и ранеными. В госпиталях катастрофически не хватало свободных мест. Мы с мамой, как когда-то Франческа и Лотти, сидели под одной крышей, и, пытаясь отвлечь друг друга от грустных мыслей, только усугубляли общее паническое состояние. Однажды мама, просматривая очередные сводки, сунула мне под нос свежее объявление. — Смотри, медицинского персонала не хватает. Объявлен приём всех желающих на краткосрочные курсы санитарок и медсестёр для работы в госпиталях. Может нам тоже туда пойти? Чем сидеть дома и сходить с ума по Марселю, занялись бы чемнибудь полезным. — Думаешь, справимся с этой работой? — А почему нет? Ведь ухаживала я два года за Лизелоттой. Может и для меня, дамы не первой свежести, найдётся что-нибудь по силам. Через два дня, заражённая маминым энтузиазмом, я стояла перед пожилым, дряблого вида господином, представлявшим приёмную комиссию. — Мадам Альварес... не думаю, что наша работа придётся Вам по вкусу. Это... знаете ли... для людей иного склада. В памяти всплыли сцены из недавнего прошлого — артисты в маскарадных костюмах, барахтающиеся в грязной луже. — Простите, мёсье...Здесь мой театральный псевдоним неуместен. Я, Елена Лавуа-Лекок, как раз того склада, который нужен в подобной работе. Мутные, голубые зрачки, утонувшие в набухших подглазных мешках, с недоверием смотрели на меня снизу вверх. — Сомневаюсь, что Вы отдаёте себе отчёт в том, что говорите. После первого практического занятия в госпитале от группы не остаётся и половины. Вид крови, запах экскрементов и… простите... гниющего человеческого мяса... повергают чувствительных дам в глубочайший обморок, и они тут же навсегда исчезают из нашего поля зрения. — Мёсье, у меня сын на фронте. Он лётчик. И я не могу сидеть дома, сложа руки. Хочу выхаживать раненных на войне мужчин... Может потом другая женщина, если это не дай бог случится, выходит моего сына. Добро, как и зло, всегда возвращается. Обещаю удержаться на ногах. Удалось ли мне выполнить обещание, данное в запальчивости главному хирургу? Да именно так. Пожилой мужчина с опухшими глазами был главным хирургом, проводившим свой единственный выходной за столом приёмной комиссии. Я удержалась на ногах благодаря вовремя подоспевшему совету. Перед входом в больничную палату меня придержала за рукав старшая медсестра Мелани — немолодая, крепко сбитая женщина в белой головной повязке с красным крестом: — Милая, ты главное не тушуйся и не думай о запахах. Смотри в лица и в глаза страдальцев, и думай, что вчера они были ещё молодыми и здоровыми. И завтра, если ты будешь им хорошо помогать, на собственных ногах отправятся по домам. Смотри на них не как на больных, а как на людей, которые в тебе сегодня нуждаются. Перешагнув порог, я вцепилась глазами в искажённое болью, серое лицо юноши, лежащего на ближайшей ко входу кровати... и забыла, что следовало падать в обморок. Чуть позже и маме подобрали работу по силам: штопать и гладить бельё, дезинфицировать перевязочный материал, читать и писать письма для тех, кто не мог это делать самостоятельно. Со временем госпиталь стал моим вторым домом. Я привыкла к ночным дежурствам, к загноившимся ранам, к человеческим экскрементам и к страданиям. Только к смерти привыкала медленно и с трудом. Первый пациент умер у меня на руках. Пожилой рабочий, потерявший обе руки. Он не хотел жить. Говорил: «Я всегда был кормильцем семьи, а теперь стану обузой. Если умру — жена получит хорошую пенсию, выживу — получим гроши на двоих». Захотел умереть и умер. Я, присев в коридоре на трёхногую лавку, тихо скулила, по бабьи вытирая слёзы концами головного платка. И опять на помощь пришла старшая медсестра: — Зачем воешь? Всё хорошо. Человек отмучился. Все страдания для него позади. — Что ж тут хорошего... умереть? — Ох, милая. Ты видать в жизни мало страдала. Иногда смерти ждут, как избавления. Для него она таковым и была. Всё. Вытри нос и пойдём работать. Нас живые ждут. Я вернулась к живым, но до позднего вечера перед глазами стоял безрукий рабочий. Ведь его раны уже не гноились. Обрубки почти затянулись тонкой, розоватой, бугристой кожицей. И сильных болей не было. Так от чего же он умер? И опять пригодилась мудрость старшей медсестры, накопившкй за двадцать лет, проведённых в этой больнице, не только практи-ческий опыт, но и особую философию. — Ты, смотрю, всё грустишь? — Да, всё пытаюсь понять, что мы просмотрели. Почему он умер? — Да мы ничего не просмотрели. Всё видели. И врач всё видел. Был почти уверен, что этот болезный не выживет. — Но почему? Бог так решил? Мелани, с сожалением вздохнув, лишь махнула рукой: — И чему только тебя в твоих театрах столько лет учили, если жизни так и не поняла. Всё очень просто. Наши лекарства, перевязки, уколы — это только полдела. Остальное зависит от самого человека. И бог здесь не причём. У каждого есть внутренние резервы. Хочет жить, значит они включаются в работу и человек выживает, не хочет — никакие лекарства не помогут. Один от простого насморка помереть может, а другой все эпидемии и войны переживёт. — А войны тут при чём? Там пули да снаряды решают. Попадут или пролетят мимо. — Так то она так, да не совсем. Отец мне рассказывал. Одни без единой царапины всю войну проходили, хоть первыми в самые горячие точки лезли. Пули над головой просвистят, да и пронесутся мимо, а другие... на первую же шальную нарывались. Капитан у него был такой. Его все заколдованным называли. Так он говорил: «Я решил здоровым домой вернуться, а потому чувствую, где следующий снаряд упадёт. Вот и отступаю на шаг в сторону» Шутил, конечно. Но видать и впрямь что-то чувствовал. Внутренние резервы работали. Я, как зачарованная, вслушивалась в неспешную речь наставницы и молилась о Марселе: «Господи, дай моему сыну волю к жизни! Пусть и у него включатся резервы!» Мелани давно убежала по своим делам, а я продолжала размышлять над её словами. А чему, в самом деле, научил меня театр? Изображать чужие чувства и скрывать свои собственные? Разыгрывать нелепые комедии с молодым любовником, а потом ещё более нелепые мелодрамы с журналистами? Почему я не решилась открыто высказать свои чувства? Честно и откровенно: «Да, я по уши влюбилась в мужчину, годному мне в сыновья. Да, несколько месяцев была с ним безмерно счастлива, а потом... А потом мучилась и страдала ... Страдала не столько от его измены, сколько от подлости и вранья. Но, какой бы ни была цена короткого счастья, до сих пор абсолютно ни о чём не жалею». Почему не сказала просто и честно, как сейчас? Зачем понадобился цирк на балконе? Всё очень просто: театр научил меня жить напоказ и по другому я не умела. А теперь могу, и эта вторая жизнь проживается значительно полноценнее первой, хотя состоит она из тяжёлой работы сутками напролёт, праздников при выздоровлении тяжёлых больных и печали по тем, кому не удалось выжить, кто, как говорят здесь, отмучился. Но главное — из коротких перебежек от письма к письму от сына. Марсель больше не лжёт о бреющих полётах над головами противников. Честно описывает дуэли один на один в воздухе. Подробно рассказывает об Адольфе Пегу, первым одержавшим пять воздушных побед. Забавно, но его ощущения сходны с теорией Мелани. Марселю кажется, у него открылся шестой орган чувств — читать мысли на расстоянии: «Знаешь, мама, мне кажется, я начинаю читать мысли противника на расстоянии, знаю, что он собирается предпринять и успеваю опередить его на долю секунды. И это залог победы. Но я пока начинающий. До настоящих асов ещё далеко. Ты наверняка слышала о Манфреде фон Рихтгофене. Его называют у нас Красным Бароном. Хоть и враг, но гений. С ним пока ни кто не сравнится, разве что мой командир Рене Поль Фонк. Ты видела его несколько раз во время испытательных полётов. Его боевой стиль многие называют математическим. Он действительно готовит атаку, как шахматную партию, молниеносно просчитывая ходы противника. Сейчас он обучает меня этому методу — чтению мыслей на расстоянии, или интуиции. Говорит, в момент боя не должно быть ни прошлого, ни настоящего. Есть только миг, который решает всё. И противник, который, как и ты, хочет выжить. Рене называет это дуэлью интуиции и воли к жизни. У кого они сильнее, тот и побеждает. Ты знаешь, я никогда не верил в мистику, но в этом, похоже, чтото есть» В ответ я описывала теории Мелани, полностью совпадающие с размышлениями Рене Фонка. Какая разница, бред это или правда. Главное верить и выживать. Год промчался в карусели событий. Как то после смены главный врач пригласил меня к себе в кабинет. Припухшие глаза, одутловатые щёки и брюзгливо сложенный рот. — Как чувствуете себя, мадам Лекок? Имеются какиенибудь жалобы? Странное начало разговора. Обычно его интересуют только жалобы больных. — Спасибо, доктор. У меня всё хорошо. — А знаете, Вы превзошли мои ожидания. Не предполагал в Вас такой выносливости и исполнительности. Ну да ладно. Я позвал Вас не для комплиментов. Тут другое дело. Сядьте. пожалуйста. Я нерешительно присела на стул. Вызов к начальству никогда не предвещает приятных перемен. — Так вот. Меня переводят на фронт. Там катастрофически не хватает хирургов... и опытного младшего медперсонала тоже. Мне приказано собрать небольшую команду из надёжных, грамотных медсестёр. Что вы об этом думаете? — Вы предлагаете поехать с Вами? — А что, страшно? — Это вопрос или приказ? — В принципе, по законам военного времени, начальство не задаёт вопросов. Оно приказывает, но в данном случае, если Вас что-то удерживает в городе, я мог бы пересмотреть свой приказ. — Меня удерживает только мама. Боюсь оставлять её одну. — Вы имеете ввиду мадам Лавуа? Да она, несмотря на возраст, покрепче Вас будет. Ещё что-то? — Когда отправляемся? — У нас неделя на сборы. Я тут подготовил список необходимых инструментов, медикаментов и прочего перевязочного материала... Пригодится в полевых условиях. Закажите всё, что я написал. Придётся проявить настойчивость. Вопросов нет? Тогда принимайтесь за дело. На ходу просматривая список, я бодро зашагала к дверям, когда вдогонку опять зазвучал скрипучий голос главврача: — Кстати, не забудьте упаковать свою фотокамеру. — А это зачем? — У Вас было несколько неплохих репортажей о самолётах... и о балете тоже. Теперь будете документировать войну. Такие фильмы будут очень полезны потом, когда всё закончится. Люди обязаны знать, что такое настоящий ад. — Думаете, на это хватит времени? — А почему нет? В сутках двадцать четыре часа. Не будете спать до полудня, всё успеете. Так мы вступили во второй год войны. В полевом госпитале всем роздали военные чины и униформы. Главврач получил звание майора, а я — старшего сержанта. Рабочий цикл состоял из трёх этапов; неделя операций и перевязок на поле боя сменялась сопровождением раненых в эшелонах, увозящие их в тыл и, наконец, три дня отдыха дома, перед новым возвращением на фронт. Три дня на отмывание впитавшихся в кожу карболки и керосина — самого надёжного средства от вшей, чтения писем от Марселя, присылавшего корреспонденцию на домашний адрес, беседы с мамой и проявку десятков метров отснятой плёнки, сохраняющей для потомков свидетельства самой бесчеловечной войны. А потом... потом случилось то, о чём и вовсе не хочется вспоминать. Я, успокоенная на пару недель очередным письмом сына, отбыла обратно на фронт. На одном из перегонов наш эшелон подорвался на минах. Всё произошло в одно мгновение. Даже испугаться не успела. Помню лишь скрежет, грохот... и полёт в окно, в пылающее огнём пространство... Очнулась от невыносимой боли во всём теле. Над головой маячил серый потолок. Где я? Что от меня осталось? Попробовала шевельнуть пальцами рук. Поддавшись команде, они слегка раздвинулись, ощутив гладкую шершавость простыни. А ноги? Привязанные к чему-то твёрдому, они режущей болью сообщили, что тоже остались в строю. Глаза, ощупывая пространство, наткнулись на мамину спину... Почему-то была уверена, что это её спина... и попыталась окликнуть. Вместо слов вырвался только гортанный хрип. Через секунду она сидела у моей постели: — Доченька, милая! Очнулась наконец. Теперь все будет хорошо. Одна неделя сменяла другую, но «хорошее» так и не наступало. Я выныривала на мгновение на поверхность бессилия и боли, а потом снова тонула в сполохах огня. Просыпаясь, ощущала на себе то мамину руку, то строгий, не терпящий возражений голос Мелани: — Не спи, милая. Вот я сейчас сделаю хороший укольчик, а там твоя очередь. Включай резервы и борись. Ты обязана выжить. Едва шевеля спёкшимися губами, пыталась возражать: — Кому обязана? — Врачу, который тебя лечит, мне, но прежде всего матери и сыну. Вон какие он тебе письма шлёт о воле к жизни. Умный парень. Знает в нашем деле толк. Мама, впитав теории Мелани, как «отче наш», вторила ей в унисон: — Ты уж давай, дочка, выздоравливай. Война вот вот закончится. Наш мальчик домой вернётся. Нам без тебя нельзя. Им легко говорить, но каково мне каждый день снова и снова вылетать из окна в огонь. Позже узнала, что рухнула на перекорёженные ржавые балки, распоров себя, как тряпичную куклу, на мелкие лоскутки. Врачи мастерски сшили изуродованное тело, но раны, заражённые грязью и ржавчиной, гноились и открывались каждый раз заново. Так я и лежала в постели, бредя и заживо прогнивая, но, тревожась о близких, боролась за каждую минуту бытия. Уж не знаю, что на самом деле подействовало — «укольчики» от Мелани, отвратительно горькие отвары от мамы, или воля к жизни по Марселю, но постепенно температура начала спадать, а раны затягиваться. Впервые за много месяцев у меня хватило сил, опершись на подушки, самостоятельно вычерпать целую миску луковой похлёбки. О твёрдой пище оставалось только мечтать. Что-то непонятное происходило с лицом. Любое движение рта отзывалось режущей болью в правой щеке. Я могла только пить, вытянув губы в трубочку. Мелани, ежедневно меняя повязки, цокала языком и нахваливала врача: — Надо же. День ото дня лучше. — Дай зеркало. Я тоже хочу знать, чему ты так радуешься. — Не спеши. Ещё насмотришься. Пусть окончательно заживёт. И вот наступил день, когда она, протянув мне зеркало, трусливо отошла в сторону. На что стало похоже тело — лучше умолчу, но лицо... Два багровых, вздувшихся шрама, скрестившись кривыми, османскими саблями чуть пониже скулы, поделили правую щёку на четыре неравные части. — Боже, какой ужас! Подошедшая сзади Мелани, рванулась в атаку: — Это не ужас, а орден. И очень почётный. Недавно читала, что русские награждают солдат, особо отличившихся в бою, Георгиевскими Крестами. Ты кто по званию? — Старший сержант. — Вот то-то. Значит этот Георгиевский Крест присвоен тебе по праву. Другие носят его в петлице, а ты на лице, чтобы все видели. Я не могла отвести глаз от «почётной награды». Как с таким лицом показаться на людях? Мелани протянула руку и забрала зеркало. — Всё, на сегодня хватит. Рано было показывать. Через месяц краснота поблекнет и рубцы немного разгладятся. Врач даже не верил, что всё так аккуратно срастётся. — А как же с таким лицом на сцену? — Милая, нашла о чём беспокоится! Да вас там так размалёвывают... не то что шрамов, лиц под штукатуркой не разглядеть. Когда ты пришла, так я тебя и вовсе не узнала. Думала врут, будто сама мадам Альварес к нам на работу попросилась. Ладно пора бежать. Меня больные ждут. Ну что я могла возразить? Как объяснить, что беда не в шраме. Его действительно можно заштукатурить. Но покалеченные голосовые связки, шепелявый язык, скособоченная щека, непроизвольно дёргающаяся в сторону, вместо того, чтобы стоять на месте. Разве с этим выйдешь на сцену? Когда то Мелани сказала: «Вы, артисты, не знаете настоящей жизни, не знаете страданий, вот и живёте понарошку». Теперь я узнала их. Узнала боль, страх, похоть... Постояв на краю, узнала, как хочется жить. Мысли, картины, чувства крутятся в голове сотней мелодий в голове скрипача, которому отрубили руки... Неделями мама, держа меня за руку, требовала «воли к жизни»: «Ты не имеешь права уходить. Ты нужна нам. Нужна Марселю». Бессовестная словесная спекуляция страшащихся одиночества. Зачем я Марселю? Чтобы утешать и жалеть? Меня привезли сюда ранней весной. Последнее, что запомнилось перед прыжком, — бледно-зелёная дымка, повисшая на кустах, пролетающих за окном поезда. А сегодня... золотые купола деревьев, выстроились почётным караулом вдоль дороги, ведущей к дому. Молодая, пухленькая сестричка, опережая меня на пару шагов, выгуливала пациента в инвалидной коляске. Поравнявшись с этой трогательной парой, машинально оглянулась и ... наткнулась на удивлённый взгляд, утративших былой блеск глаз. Марк Грэм! — О! А ты что тут делаешь? — Домой отправляюсь. Отпустили. — Так мы всё это время в одном госпитале пролежали? Жаль, что не знал. — А то бы непременно навестил? Надо же. Как давно это было. Обида, злость, былые восторги... всё, как бледно-зеленая дымка прошлой весны, пронеслось в памяти, не найдя ни малейшего отклика в переплавленной войною душе. — Ладно. Выздоравливай. Мне пора. Неожиданным движением ловкой руки Марк сдвинул платок, прикрывающий мой георгиевский крест и уставился на изуродованную щёку. — Не так уж и страшно. Газеты хуже описывали... С этим жить можно. Меня война круче отделала. — А с тобой что? — Что? Да вот... на две ноги укоротился. ...И Марк скинул прикрывающее ноги одеяло. Тело заканчивалось, не доходя до колен. — Вот так то. И зачем только выжил! Я вспомнила о рабочем, потерявшем обе руки. Без них он и в правду не прожил бы. Разве, как шутил незадолго до смерти, кто-нибудь пожалеет инвалида и возьмёт на работу в цирк дрессированным медведем. Вдохновлённый сочувствием, явственно проступившем на моём лице, Марк продолжал описывать своё жалкое положение: — Как теперь работать? Разве какая-нибудь добрая душа согласится каждый день вывозить меня в этой коляске на сцену. Правда ролей пока таких нет, чтобы сидя играть. Пухлые щёчки сестрички залились краской надежды. Похоже, Грэм неплохо устроится и без ног. Подливая в сцену свежую струю оптимизма, я выступила со встречным предложением: — Ну с театром будет сложнее, а вот в кино... Крупные планы, острые психологические сюжеты... Скоро появится множество сценариев о героях войны. Так что твоя карьера не за горами. Глаза Марка, за минуту до того тусклые и потерянные, зажглись прежним блеском. — Правда? Слушай, а может ты напишешь для меня такой сценарий, где главный герой тоже без ног? Ты ведь в этом почти профессионал. Спохватившись, что допустил бестактность, напомнив о прошлом, поспешил исправить положение: — Я имею ввиду твои репортажи и интервью. Блестяще проработанные диалоги. Ну так как? Возьмёшься? — Позже обдумаю твоё предложение. А теперь пора. Мама ждёт на выходе, — уронила я уже на ходу, но в вдогонку помчался новый вопрос: — Ты ничего не спросила про Сильвию? Обернувшись, я выразила удивление: — А меня это должно интересовать? — Она бросила меня. Не захотела связывать жизнь с инвалидом. Вот так то. Я пожала плечами и побежала дальше. Хитрый пёс. Опять хочет пробраться в рай на моём загривке. Глава 19 Наконец дома, и первый вопрос: — Мам, а почту ещё не приносили? — Пока нет. Садись пить чай. Что-то в её лице и в том, как она напряжённо выпрямилась на стуле, внушало беспокойство. — Ты от меня что-то скрываешь. Говори же. Едва шевеля рукой, она приподняла скатерть, вытащила газету недельной давности и отвела глаза.... В списке пропавших без вести было красными чернилами обведено имя Марселя Лекока. Острый, тяжёлый ком, оборвавшись внутри, пригвоздил к стулу. Хотела что-то сказать, но горло, перетянутое тугой петлёй, издавало лишь судорожные хрипы. — Детка, подожди. Это ещё не всё. Позавчера пришло письмо от его командира Рене Фонка... — и мама, не дождавшись пока я приду в себя, начала пересказывать его своими словами: — Он сообщает, что в тот день они с Марселем одновременно поднялись в воздух. Планировался обычный разведывательный полёт, но... «случайно» нарвались на немецких истребителей. Командир видел, как самолёт Марселя задымился и завалился на бок, но наш мальчик успел выскочить с парашютом. Правда приземлился, скорее всего, на немецкой территории. Пока никаких сведений о нём не поступало, но все надеются, что Марселю удалось спастись. Во всяком случае в список погибших пока не заносят. Значит есть надежда. На самом деле письмо командира звучало не так оптимистично: ему лишь показалось, что Лекок успел выпрыгнуть. Был ли это он, или отвалившаяся на лету часть самолёта доподлинно не известно. В тот день немецкую эскадрилью возглавлял Красный Барон. К тому моменту на его счету числилось уже восемнадцать боевых побед. Мой сын стал девятнадцатым. Проклятье! Почему вместо Марселя не погиб этот мерзавец! Стемнело, а я всё ещё сидела за столом, перебирая в памяти картинки двадцатипятилетней давности: ...Купание в тунезийской соли: Марсель, тихонько скуля, едва перебирает в воде ножками, сморщив голубоватое личико в гримасу страдания... первый, слабый толчок, первое активное сопротивление чужой воле, а чуть позже — два огромных, сияющих голубизной глаза и счастливая, беззубая улыбка ребёнка, признавшего наконец, что мир, в который он так неохотно явился, на самом деле не так уж плох. Господи! Как недавно всё это было! Кадры памяти вьются дальше. Марселю уже пять: — А если с тобой что-нибудь случится, папа тоже приведет домой мачеху? — А почему со мной должно что-то случиться? — Тебя никогда нет дома... всё время от меня куда-то сбегаешь... А последний раз совсем убежала... надолго... думал, уже никогда не вернёшься. Сынок, я то вернулась, а ты? Зачем понадобилась тебе эта дуэль с Красным Бароном? Лента разворачивается новыми фрагментами: Стройный, красивый юноша с первым пушком над верхней губой: — Вы оба ужинаете сегодня дома? — Да. А что? — Можно я приду не один? ...На пороге изящная, остроносенькая блондинка с осиной талией: — Это Мадлен. Она заканчивает курсы машинисток. ...Съемки знаменитого старта гидросамолёта с авианосца. Я стою с камерой чуть в стороне от толпы, зачарованно взирающей на Марселя. Он, натянув на голову шлем, победоносно вскидывает руку и... посылает воздушный поцелуй барышне, пристроившей недалеко от меня. Боже, сколько же их, молодых и влюблённых, пересидело за эти годы за нашим столом! Почему ни одна из них не смогла удержать его на земле? Мама выдернула меня из полудрёмного забытья: — Хватит сидеть соляным столбом. Перекуси и иди спать. Может завтра узнаем что-нибудь новое. — Почему ты утаила от меня газету? — Мы с Мелани так решили... и врач посоветовал. Надеялись, к моменту выписки всё образуется. — А вот видишь как. Не образовалось. Уже неделю я живу от почты до почты, а потом застываю на стуле до следующего дня. Не грущу и не думаю. Просто живу в прошлом, и мне почти хорошо. Жаль, что мама потеряла терпение: — Да очнись наконец! Ты постепенно превращаешься в Лизелотту. Та тоже сидела и молчала, а потом потеряла разум. И что хорошего? Твой сын вернётся домой, а ты его не узнаёшь. Как Лотти не узнавала своего. Хочешь такого? Угроза пробила ватную стену, так заботливо охранявшую мой покой. Разум — это последнее, что мне в жизни осталось. Его нельзя терять. Иначе окажусь в психиатрической больнице, в соседней палате с подругой юности Камиллой Клодель. Пусть лучше боль, чем безумие. Я заставила себя жить по режиму, заниматься домашним хозяйством и тщательно перечитывать нелепые письма, ежедневно скапливающиеся на моём столе. Каждый закрытый конверт сулил надежду, каждый открытый возвращал в пустоту. Милые, добрые люди поздравляли с выздоровлением и желали скорейшего возвращения на сцену. Но ни кто из них ничего не знал о Марселе. Наконец пришло второе письмо от Рене Фонка. «Уважаемая мадам Альварес. Через три дня после крушения самолёта Марселя Лекока немцы отступили с оккупированной территории. У нас появилась возможность тщательно обыскать место предполагаемой аварии. Мы нашли останки сгоревшего самолёта, но никаких следов самого Марселя обнаружить пока на удалось. Опрос местных жителей тоже ничего на дал, но это ещё ничего не значит. В тот день была очень ветреная погода и парашют могло отнести далеко в сторону. Не теряйте надежду и ждите. Лекок так просто не сдастся. Я, для себя лично, пока не вношу его в список погибших. С уважением, Рене Поль Фонк.» Мы с Рене знали друг друга не по наслышке. Он был чуть младше Марселя, как, впрочем, и знаменитый Красный Барон. Инженер — авиастроитель, Фонк предпочитал первым испытывать созданные им модели. Мы встречались несколько раз на съёмках внеочередных полётов. Рене с удовольствием давал интервью, изрядно приправленные хвастовством, переходящим в высокомерие. Дома я приглаживала высокопарные фразы, конструируя для читателей образ молодого энтузиаста, фанатично влюблённого в своё дело. Как чувствовала, что дружеские отношения с этим юношей пригодятся в будущем. Что означает это письмо? Формальное утешение или его хвалёная интуиция? И почему моя в данный момент предательски молчит? Похоже, мозг, отупев от волнений, не способен больше ни соображать, ни действовать. Дни, цепляясь один за другой, выстроились в нелепо повторяющуюся шеренгу. По чётным, просыпаясь в состоянии эйфории, я жила в убеждённости, что Марселя, тяжело раненного, нашли в лесу местные жители, спрятали у себя от немцев и выходили, но он, потеряв от удара память, не может вспомнить своего имени. Потому и молчит. К вечеру я была преисполнена решимости тут же выехать на место аварии, обойти все дома и найти сына. Но утром эйфория сменялась глубочайшей апатией. Я больше не верила, что Марсель успел выскочить из самолёта, а значит его давно нет в живых. И тогда до глубокого вечера корила и проклинала себя за то, что выжила. Побарахтавшись пару недель в этом цикле, поняла, что окончательно схожу с ума, и тогда впервые появились мысли о бегстве. Сбежать от всего этого кошмара; писем доброжелателей, ежедневных сообщений о ходе войны, от самой себя и от маминых страдающих глаз, прячущихся за мужественной спиной стойкого оловянного солдатика. Но куда? Уже много лет у меня хранится подаренная Марией шкатулка с ключом от какого-то дома. Вернувшись с похорон Франчески, я запрятала странный подарок в дальний ящик орехового секретера, и забыла о нём на долгие годы. А что, если сбежать туда? Мария говорила, дом успокаивает, а море прочищает голову и помогает принимать правильные решения. Не это ли сейчас жизненно необходимо? Наутро мама застала меня за упаковкой нехитрого багажа. — Ты куда собралась? Неужели опять на фронт? — Зачем? Меня полностью демобилизовали. Я съезжу не несколько недель в Испанию. В дом, подаренный мне когда-то Марией. Нужно прийти в себя. Взгляд, брошенный из подтишка мамой, выдал её панический страх. — Не бойся. Я не собираюсь ни вешаться, ни топиться. Клянусь вернуться здоровой и живой. Мне пора поставить на место голову, пока она окончательно не съехала набекрень. В дверях меня перехватил почтальон с очередным письмом. Обратный адрес, написанный округлым женским почерком, был бесконечно далёк от местности, где мог находиться Марсель. Очередная поклонница, желающая удачи. Я сунула письмо в сумку и побежала на вокзал. Время для путешествий оказалось совершенно не подходящим. Немецкая армия, выиграв бои под Марной, продвигалась к Парижу. Измученные страхом и военными невзгодами, парижане толпами покидали город. Редкие поезда— инвалиды, предоставленные гражданскому населению, походили скорее на полу-развалившиеся сараи, едва державшиеся на ржавых, расшатавшихся колёсах. Вагон, до отказу набитый потными, давно не мывшимися людьми, обещал треснуть при первом же случайном толчке. Голова закружилась, а горло сжалось от подступающей тошноты. Но самое страшное ожидало меня впереди; сидячее место, доставшееся с невероятным трудом и за немыслимо большие деньги, оказалось занятым плотным, немолодым мужчиной. Я уже приоткрыла рот, в безнадёжной попытке отстоять справедливость, но мужчина, подняв вверх умоляющие глаза, указал на пустую штанину: — Мадам, простите, что занял Ваше место, но на одной ноге мне не устоять. Прикрывая лицо платком, я проглотила подступивший к горлу комок. — Всё хорошо. Сидите. Из-под чьей-то подмышки выскользнул обезумевший кондуктор, боровшийся с безбилетниками по законам мирного времени. — Мадам, Ваше место успели занять? Так не пойдёт. Господин, освободите незаконно занятое место! Я с трудом удержала руку, готовую вцепиться в заскорузлый воротник инвалида: — Не трогайте человека. У него всего одна нога, а у меня две. На двух легче удержаться. Раздражённо буркнув что-то себе под нос, кондуктор начал протискиваться дальше, как вдруг неожиданно обернулся и бесстыдно уставился на моё лицо: — Мадам, Альварес, это Вы?... Безбожники... что они с Вами сделали! Пойдёмте со мной. Есть пара свободных скамеек в почтовом вагоне. Он, правда, вообще едва держится, но посидеть можно. Проталкиваясь сквозь загромоздившие проход тела, кондуктор продолжал расхваливать уготованное мне место: — Я даже успел слегка подмести там пол. Уже месяц почту не вывозили. И зачем только люди так много пишут. Сплошная беда с этими мешками. Едва прислушиваясь к его ворчанью, я опять подумала о Марселе. Мы сходим с ума, а может и его письмо затерялось в одном из таких неотправленных вагонов? И от этих мыслей стало на секунду легче. Наконец, контролёру удалось дотащить меня до места назначе-ния — до узкой скамейки, спрятавшейся в нише бесконечных мешков. — Вот тут и сидите. Только закутайтесь потеплее. На ходу в каждой щели свистит ветер. Взглянул напоследок ещё раз на моё изуродованное лицо и исчез. Что ж, пора привыкать. Теперь повсюду будут смотреть на меня такими глазами. Лишь хитрая Мелани могла назвать эти шрамы почётным знаком отличия. Для всех остальные они просто уродство. В поезде, отыскивая нарисованный Марией план, наткнулась на забытое в сумке письмо и от скуки надорвала конверт. «Уважаемая мадам Альварес. Меня зовут Мария Шерр. Около полугода назад меня отправили на стажировку телефонисток в эскадрилью Рене Фонка. Там я познакомилась с Марселем Лекоком. Мы с ним... короче, все две недели мы провели с ним вместе, а потом я уехала. Спустя короткое время обнаружила, что беременна. Месяц назад меня демобилизовали. Из газет узнала, что Марсель пропал без вести. Слава богу, он ещё не числится в списках погибших, а значит есть надежда. Сейчас живу в деревне у дальних родственников. Их адрес написан на конверте. У меня к Вам очень большая просьба. Если Марсель вернётся, передайте ему это письмо. Захочет меня найти, значит напишет. С уважением Мария Шерр». Ну вот, началось. Интересно, девчонка сама до такого додумалась, или деревенские родственники подсказали? Нагуляла на фронте ребёнка, а тут такая удача. В газете имя знаменитое вычитала. Что теперь докажешь, если без вести пропал. Да и мамаша явно не без денег. Прокормит на радостях обоих. Боюсь, теперь подобные письма перезревшими яблоками посыпятся на мою голову. Негодяйка! Спекулянтка на чужом горе! Я скомкала мерзкую бумажонку в тугой комок, но, не найдя по близости мусорного ведра, засунула обратно в сумку. Отогнала неприятные мысли и сосредоточилась на плане. Эпилог Две недели назад, измученная бесконечными пересадками и ночёвками в дешёвых, придорожных гостиницах, добралась до рыбачьего посёлка, местечка не затронутого ни временем, ни войной. Низкорослые, кособокие домики, выстроившись по обеим сторонам раскалённой солнцем улицы, утомлённо прикрыли глаза деревянными ставнями. Жители справляли сиесту. С трудом преодолевая последние метры, дошагала до аккуратной, остроугольной церквушки, обозначенной на плане витиеватым крестом. Круг замкнулся. Местный пастор привёл меня в подаренный Марией дом, нахваставшись царившим порядком, растопил камин и удалился, пообещав прислать на первое время кое-что из еды. А я, раскладывая нехитрый багаж по ящикам старомодного, обитого металлическими накладками, комода, нашла сокровища, припрятанные моей прабабушкой. С этого места две недели назад я начала писать свой дневник... или ответ на оставленное Вами, графиня Елена де Альварес, письмо. Ответ на Вашу исповедь о полном и окончательном крушении. Как не вяжется слово «крушение» с последними строчками: Если мне суждено благополучно пересечь океан и добраться до Америки... значит, станцую на свадьбе сына, приму на руки новых внуков, обязательно встречусь с мистером Паркером и может быть... Именно эти слова вызвали две недели назад столь сильную вспышку гнева. Из-за них залила первые страницы своего дневника потоками яда и злости. Графиня, как можно говорить о полном и окончательном крушении, уезжая в Америку к сыну... живому и здоровому? А дочери, тосковавшие без Вас до конца жизни? А внуки? Господи! Вы потеряли только неверного мужа, а я... я потеряла всё, получив взамен изуродованное шрамами тело и перекошенное лицо, превращающее простую человеческую улыбку в скорбную маску страдания. Для Вас это было началом, а для меня... не подлежащим обжалованию концом. ...Уже третий день я стою у окна и смотрю на море. Мутное, раздраженное, явно уставшее от безнадёжной борьбы с берегом. Но почему обязательно борьба? Может, это просто ритмичная смена успехов и поражений? Или череда радостей и печалей? Или просто надежда, неминуемо следующая за утратой? Что оно пытается мне сказать? Неужели у меня ещё есть будущее? Море продолжало раскачиваться, глухо напевая тревожную, ритмичную мелодию, и она, проникая в душу, незаметно увлекала её за собой. Чему хотела научить меня прабабушка? Что нашептал ей этот дом в вечер перед отъездом? Почему она уезжала счастливой? В который раз перечитываю последние строки: Что это? Давно забытая мелодия еврейских свадеб выплывает откуда-то изнутри. Задеревеневшее, старое тело ещё не готово к движению, но мелодия уже по-хозяйски проникает под кожу, плещется в кистях рук, бурлит в ногах и затягивает в свой круговорот душу. Первые такты, первые скованные движения, а потом... как сорок лет назад... полёт рук, кружение ног, вздыбившийся парус тяжёлой шерстяной юбки... Мой оборвавшийся когда-то танец, мой конец и начало... Странно, но только сейчас до меня дошёл истинный смысл прощального танца. Графиня Елена де Альварес, оказывается Вы, как и я, были актрисой. Сорок лет простояли на сцене, убедительно и талантливо исполняя роль испанской аристократки. И всё же истории наши не идентичны. Вы оказались в театре не по своему выбору, а я... Сидя когда-то на берегу Сены, добровольно предпочла реальной жизни бесплотные фантазии: тридцать чужих судеб, чужих грехов, чужих страстей и смертей, не оставляющих на моих белых одеждах грязных пятен. По-видимому, именно за эту тридцатилетнюю ложь и получила я свою награду... или расплату — Георгиевский Крест, торжественно украшающий правую щеку. В последний вечер в этом доме Вы, навсегда опустив занавес, покинули сцену и уехали в настоящую жизнь, мудро довольствуясь короткими вспышками радуги в гребешках волн, которые мы называем мгновеньями счастья. Короткими мгновениями, которые, к сожалению, невозможно ни остановить, ни повторить. Неужели стены дома и море нашептали Вам эту простую истину? Впервые за последние недели на меня снизошёл покой. Утром я достала из сумки скомканное письмо Марии Шерр. А вдруг этот ребёнок и в самом деле мой внук? Неужели судьба, убрав из вагона мусорное ведро... давала шанс жить дальше? Обязательно отыщу эту женщину, а там... может быть... Марсель, приземлившись на вражеской территории, попал в плен. Таких пилотов не убивают. Это золотой запас. Он жив и обязательно вернётся. Ну а что потом? А потом... не всё ли равно, как выглядит моё лицо. Разве невозможно прожить без театра, если ящики стола забиты километрами плёнок о войне? Впереди захватывающая работа над фильмами, которой хватит до конца жизни. Я вернула бабушкины сокровища в потайной ящик, приложив к ним свой дневник. Когда-нибудь закажу с фотографии Рутлингера портрет-медальон размером с ладонь, и привезу сюда для Елены третьей, которая обязательно придёт после нас. И если ей будет очень плохо — пусть почитает две исповеди. Ведь главное в нашей общей сути — непотопляемость.