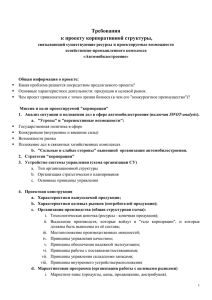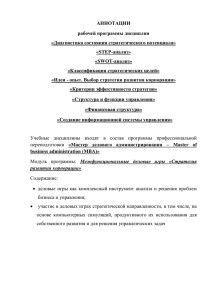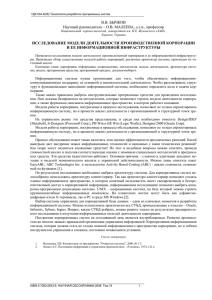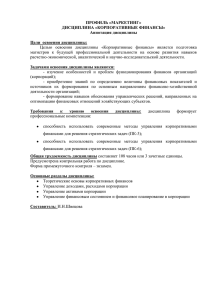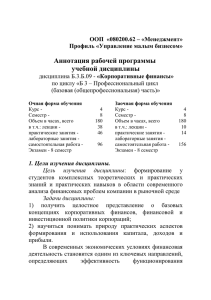Тезисы к семинару А. Верещагина
реклама

Александр Николаевич Верещагин Доктор права (Университет Эссекса, Великобритания), магистр европейского коммерческого права (Паллас Консорциум, ЕС) Тезисы для круглого стола РШЧП 29 марта 2012 г. “Пронзание корпоративной вуали” (PCV) в англо-американском праве и применимость его решений в российской правовой среде Английское право. После знаменитого дела Salomon [1897], утвердившего принцип ограниченной ответственности (limited liability) в английском праве, встал вопрос о том, возможны ли исключения из этого принципа, и если да, то при каких обстоятельствах. Процесс кристаллизации этих исключений был довольно труден и занял продолжительное время. К настоящему времени признаётся лишь два случая, которые могут привести к «проникновению за корпоративную завесу». Суд может «проткнуть» её, если: 1) компания выступает в качестве агента своего акционера или 2) если она служит «фасадом» для прикрытия его интересов. Случаи проникновения за корпоративную завесу по первому из названных оснований чрезвычайно редки. Английские суды использовали по большей части второе основание, образно определяемое как «фасад», «симуляция» (sham) или «пустая оболочка» (shell). Но и на этом основании они устраняли корпоративную завесу весьма редко и с большой неохотой. Как было сформулировано Палатой лордов, подобное возможно «только там, где существуют особые обстоятельства, указывающие на то, что это простой фасад, скрывающий истинные факты» (Woolfson v. Strathclyde Regional Council [1978]). Непосредственный триггер для проникновения сквозь корпоративную завесу – недостаточная капитализация компании, приводящая к невозможности в полной мере удовлетворить справедливые требования кредиторов. Однако британские суды, за крайне редкими исключениями, отказываются пронзать завесу лишь на этом основании: «Желательно это или нет, но право использовать корпоративную структуру подобным образом укоренено в нашем корпоративном праве», поэтому «суд не вправе пренебречь принципом Salomon v Salomon лишь потому, что этого требует справедливость», - сказал Апелляционный Суд в ключевом деле Adams v. Cape Industries Plc [1990]. Однако Верховный Суд (до 2010 г. Апелляционный комитет Палаты лордов) пока не обращался к этому вопросу. В деле Trustor AB v. Smallbone (2001) Высокий Суд сконструировал и применил тест для осуществления PCV, который представляется довольно эклектичной смесью предыдущих решений. Проникновение за корпоративную завесу было объявлено возможным при наличии следующих условий: 1) компания, которой передаются активы, является лишь «прокладкой» (sham) для реального бенефициара; 2) эта компания была вовлечена в «ненадлежащие» (improper) действия, совершаемые её акционером/бенефициаром; 3) этого требуют интересы справедливости; 4) данная корпоративная структура должна быть использована именно для того чтобы избежать ответственности за «неподобающее» поведение; 5) интересы никакого третьего лица снятием корпоративной завесы не затрагиваются. В 2005 г. в деле Kensington International Ltd v. Congo Высокий Суд добавил к нему новый элемент – бесчестность поведения ответчика. Право США. Наиболее активно PCV используется в крупнейшем штате – Калифорнии (удовлетворяется примерно 27% исков), поэтому именно его следует рассмотреть в качестве примера «либерального» подхода к пронзанию корпоративной вуали, которым вообще отличаются США. 1 Суды – как на уровне штата, так и федеральные - сформулировали общие условия, при которых возможно «проникновение за корпоративную завесу». Федеральный тест гласит, что необходимо принимать во внимание: 1) Степень, в которой акционеры уважают отдельную идентичность корпорации, 2) Степень несправедливости, причиняемой истцам (кредиторам) признанием отдельной сущности корпорации, 3) Наличие у создателей корпорации мошеннических (fraudulent) намерений. Калифорнийский тест: он требует, во-первых, чтобы корпорация не только была под влиянием акционера и им управлялась, но чтобы между ними было такое единство интереса и собственности, что индивидуальность или обособленность акционера и корпорации перестали бы существовать; во-вторых, чтобы при данных конкретных обстоятельствах приверженность фикции обособленности корпорации санкционировала бы обман или способствовала несправедливости (sanction a fraud or promote injustice). Стоит заметить, что согласно калифорнийскому тесту обман и несправедливость не обязательно должны сосуществовать, в то время как федеральный тест требует наличия обоих. В Калифорнии PCV возможно даже единственно на основании недостаточной капитализации компании, её вопиющего недофинансирования акционерами (gross undercapitalization), хотя судебная практика по этому вопросу противоречива – в некоторых случаях суды признают, что необходимо более одного фактора. Список возможных факторов, релевантных для PCV, отнюдь не короток. В нём чаще всего фигурируют: - неадекватная капитализация компании или полное отсутствие у неё активов - слияние активов компании и ее учредителей, нежелание разделять активы различных компаний и использование активов в целях, иных, нежели цели корпорации, которой они формально принадлежат - поведение учредителя, сигнализирующее о том, что он принимает на себя личную ответственность по долгам компании - несоблюдение надлежащих корпоративных процедур (ведение протоколов и т.п.) и смешение отчетности различных юридических лиц - идентичность владельческих прав в различных юрлицах; совпадение их владельцев как свидетельство контроля одной корпорации над другой; совпадение директоров и должностных лиц корпораций; принадлежность долей в корпорации лишь одному владельцу или членам одной семьи - использование одного и того же офиса; использование одних и тех же наёмных работников - использование корпорации в качестве простой оболочки или «прокладки» в её бизнесе акционера - скрытие и ложное представительство относительно реальных владельцев и менеджеров компании - пренебрежение юридическими формальностями и несоблюдение «правила вытянутой руки» в отношениях между корпорациями - использование юридического лица с целью получения товаров, работ или услуг для другого лица - попытки сконцентрировать долги бизнеса на одном лице, а активы на другом - использование корпоративной формы в качестве уловки для того, чтобы избежать личной ответственности или для совершения нелегальных операций - создание корпорации и её использование с целью возложить на нее ответственность другого лица. Нет ответа на вопрос, должна ли ответственность акционера быть устрожена в случаях, когда суд имеет дело с недобровольными кредиторами ответчика. В целом, можно сказать, что в этом разделе американского права отсутствует та степень определённости и предсказуемости, которая, согласно привычным для нас представлениям, требуется для современного бизнеса. Во многом это связано с отсутствием строгой иерархии судов и прецедентов. Тем не менее, нужно констатировать, что подобная неопределенность, хоть и вряд ли может считаться достоинством, не привела к подрыву нормального гражданского оборота. 2 Выводы для России: - Сохранение низких размеров уставного капитала для ООО и АО побуждает обратиться к технике PCV как своего рода альтернативной гарантии прав кредиторов. - Внедрение тех или иных элементов западных концепций PCV (тесты и факторы) в российское право возможно путем соответствующего толкования общих норм российского законодательства (ГК, законы об АО и ООО, закон о банкротстве) в постановлении Пленума ВАС РФ (по аналогии с тем, как это было сделано в случае с «необоснованной налоговой выгодой»). При этом централизация российской судебно-арбитражной системы в принципе позволяет добиться большей определенности, нежели удалось достичь в федерализованной судебной системе США. - Частным случаем доктрины PCV является доктрина «единой корпорации» (single entity doctrine), согласно которой суд для тех или иных целей может рассмотреть несколько аффилированных между компаний в качестве единого лица. Следует отметить, что российские суды уже начали пробовать подобный подход (см. недавние судебные решения по делу ООО «Нарьянмарнефтегаз»). - Не вполне ясно, является ли ответственность акционера по российскому праву безвиновной или нет, так как законодательство непоследовательно. Нет и ответа на вопрос, какова должна быть степень предполагаемой вины контролирующего акционера. В этом отношении можно было бы рассмотреть вариант, согласно которому лишь умышленные действия (когда компания недофинансируется акционером намеренно и в огромной степени или используется им как «маска») может повлечь ответственность во любом случае. Вина же в форме грубой неосторожности влечёт ответственность лишь перед некоторыми категориями лиц – прежде всего, недобровольными или «неискушёнными» кредиторами (unsophisticated creditors – малый бизнес, потребители и т.п.). Вина же в форме лёгкой небрежности приравнивалась бы к ошибкам в менеджменте и бизнес-планировании и никакой ответственности не влекла бы. Дополнительную и более подробную информацию по теме выступления можно почерпнуть в статье: А.Н.Верещагин. Фактор недостаточной капитализации в корпоративном праве Англии и США // Закон. 2010. № 4, которая доступна по ссылке http://zakon.ru/Publication/Publication/1238 3