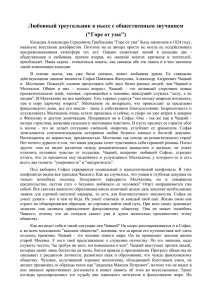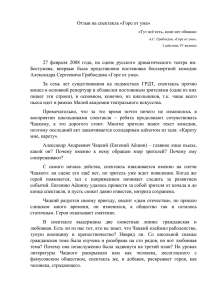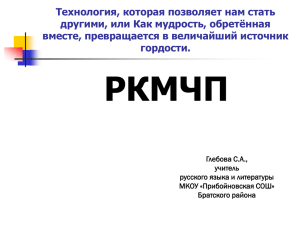Произведение «Сентиментальные похождения Чацкого
реклама
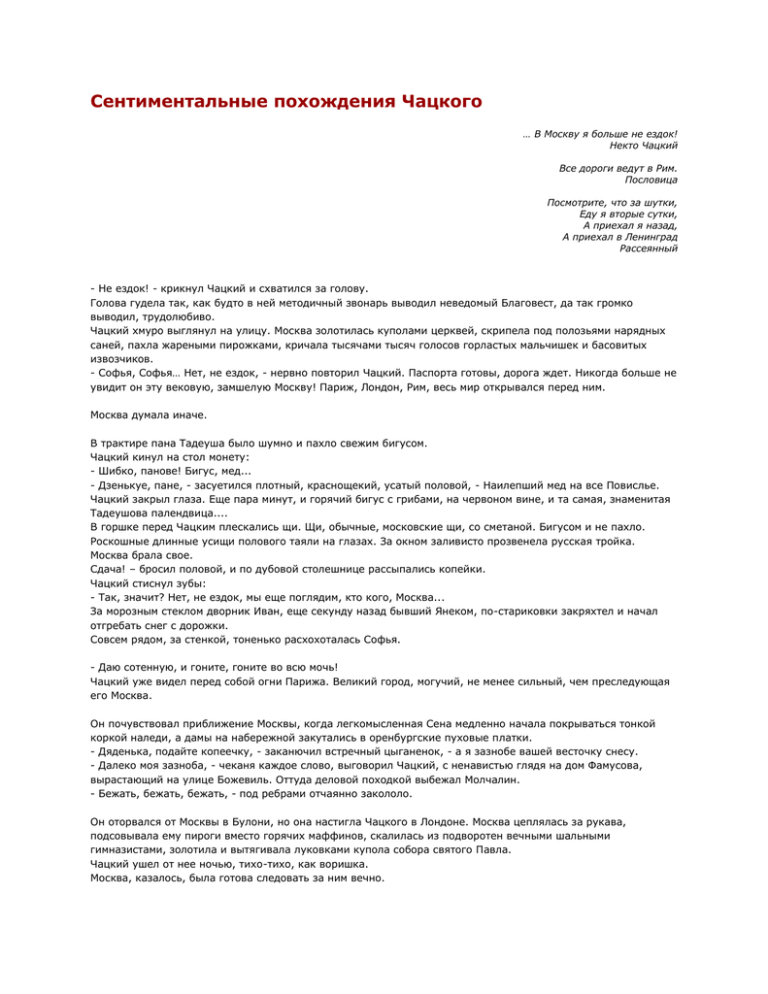
Сентиментальные похождения Чацкого … В Москву я больше не ездок! Некто Чацкий Все дороги ведут в Рим. Пословица Посмотрите, что за шутки, Еду я вторые сутки, А приехал я назад, А приехал в Ленинград Рассеянный - Не ездок! - крикнул Чацкий и схватился за голову. Голова гудела так, как будто в ней методичный звонарь выводил неведомый Благовест, да так громко выводил, трудолюбиво. Чацкий хмуро выглянул на улицу. Москва золотилась куполами церквей, скрипела под полозьями нарядных саней, пахла жареными пирожками, кричала тысячами тысяч голосов горластых мальчишек и басовитых извозчиков. - Софья, Софья… Нет, не ездок, - нервно повторил Чацкий. Паспорта готовы, дорога ждет. Никогда больше не увидит он эту вековую, замшелую Москву! Париж, Лондон, Рим, весь мир открывался перед ним. Москва думала иначе. В трактире пана Тадеуша было шумно и пахло свежим бигусом. Чацкий кинул на стол монету: - Шибко, панове! Бигус, мед... - Дзенькуе, пане, - засуетился плотный, краснощекий, усатый половой, - Наилепший мед на все Повислье. Чацкий закрыл глаза. Еще пара минут, и горячий бигус с грибами, на червоном вине, и та самая, знаменитая Тадеушова палендвица.... В горшке перед Чацким плескались щи. Щи, обычные, московские щи, со сметаной. Бигусом и не пахло. Роскошные длинные усищи полового таяли на глазах. За окном заливисто прозвенела русская тройка. Москва брала свое. Сдача! – бросил половой, и по дубовой столешнице рассыпались копейки. Чацкий стиснул зубы: - Так, значит? Нет, не ездок, мы еще поглядим, кто кого, Москва... За морозным стеклом дворник Иван, еще секунду назад бывший Янеком, по-стариковки закряхтел и начал отгребать снег с дорожки. Совсем рядом, за стенкой, тоненько расхохоталась Софья. - Даю сотенную, и гоните, гоните во всю мочь! Чацкий уже видел перед собой огни Парижа. Великий город, могучий, не менее сильный, чем преследующая его Москва. Он почувствовал приближение Москвы, когда легкомысленная Сена медленно начала покрываться тонкой коркой наледи, а дамы на набережной закутались в оренбургские пуховые платки. - Дяденька, подайте копеечку, - заканючил встречный цыганенок, - а я зазнобе вашей весточку снесу. - Далеко моя зазноба, - чеканя каждое слово, выговорил Чацкий, с ненавистью глядя на дом Фамусова, вырастающий на улице Божевиль. Оттуда деловой походкой выбежал Молчалин. - Бежать, бежать, бежать, - под ребрами отчаянно закололо. Он оторвался от Москвы в Булони, но она настигла Чацкого в Лондоне. Москва цеплялась за рукава, подсовывала ему пироги вместо горячих маффинов, скалилась из подворотен вечными шальными гимназистами, золотила и вытягивала луковками купола собора святого Павла. Чацкий ушел от нее ночью, тихо-тихо, как воришка. Москва, казалось, была готова следовать за ним вечно. Но, как ни странно, в Италии Москва начала хиреть. Сквозь привычное лицо соседа Якова в Венеции начали проступать черты типичного Джузеппе, а сквозь плавное оканье то и дело пробивалась итальянская мелодичная скороговорка. В Риме Москва сдалась. Волосы Дуньки отчаянно зачернели, взвились буйными кудрями, а могучие колокольни поблекли, попрятались среди пестроты площадей вечного города. Москва отступала, как побитая голодная собаченка, пятилась, робко озиралась и уходила, уходила, теряя силы. Когда за тонкими стеклами зазмеился по черепичным крышам золотой закат, Чацкий уже не слышал ни единого русского слова. Он победил. - Кофе, сеньоре, - почтительно протянул то ли Беппо, то ли Тоньо, - уже третий день Чацкий пытался запомнить имя своего нового лакея. - Кофе, кофе... а дал бы ты мне, Ванька, чаю, - но верткий итальянец и носом не повел на требование господина. - Не знает, подлец, чаю, - Чацкий приподнял тоненькую, с наперсток, чашку, и горький напиток ожег ему горло. Под балконом сновала чужеродная толпа. Ни тебе дворников, ни гимназистов. Как будто и не было Москвы вовсе. Чацкий хмуро крутил пуговицу на своем новеньком ломбадском жилете. Пуговица, обтянутая неведомой расписной тканью, держалась изо всех сил. - Вот что, готовь паспорта, плут. Домой еду. Пуговица с треском оторвалась. Москва встретила Чацкого хмурым дождиком. - Соскучилась, рыдает, - сентиментально подумал Чацкий, - ну, хватит уже, я ж это так, сгоряча бросил. Москва недоверчиво оглянулась и улыбнулась солнечными брызгами в вечных лужах. Пахло бубликами и весной. В окне дома Фамусовых Софья с томным и загадочным видом лузгала семечки. Все было мило и привычно. - Хорошо, - подумал Чацкий. На дне чемодана в черном, горьковатом кофе прятался Рим, мятыми кружевами стелился Париж, под скомканным шейным платком притаился Лондон, круглой чужеземной монетой на дне кошелька позванивала Варшава. Города дышали, жили, ждали. - Не уйдет, - пылко протянула Булонь, а Венеция кокетливо прищурилась в прорезях маски.