Новеллы 2 сем
advertisement
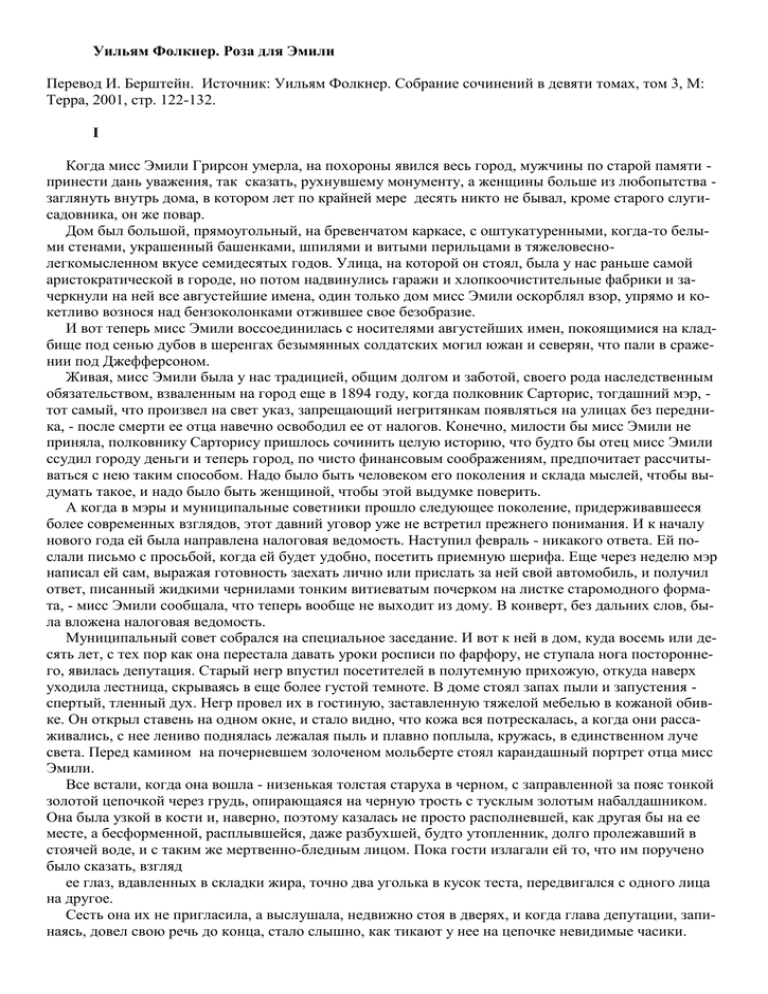
Уильям Фолкнер. Роза для Эмили
Перевод И. Берштейн. Источник: Уильям Фолкнер. Собрание сочинений в девяти томах, том 3, М:
Терра, 2001, стр. 122-132.
I
Когда мисс Эмили Грирсон умерла, на похороны явился весь город, мужчины по старой памяти принести дань уважения, так сказать, рухнувшему монументу, а женщины больше из любопытства заглянуть внутрь дома, в котором лет по крайней мере десять никто не бывал, кроме старого слугисадовника, он же повар.
Дом был большой, прямоугольный, на бревенчатом каркасе, с оштукатуренными, когда-то белыми стенами, украшенный башенками, шпилями и витыми перильцами в тяжеловеснолегкомысленном вкусе семидесятых годов. Улица, на которой он стоял, была у нас раньше самой
аристократической в городе, но потом надвинулись гаражи и хлопкоочистительные фабрики и зачеркнули на ней все августейшие имена, один только дом мисс Эмили оскорблял взор, упрямо и кокетливо вознося над бензоколонками отжившее свое безобразие.
И вот теперь мисс Эмили воссоединилась с носителями августейших имен, покоящимися на кладбище под сенью дубов в шеренгах безымянных солдатских могил южан и северян, что пали в сражении под Джефферсоном.
Живая, мисс Эмили была у нас традицией, общим долгом и заботой, своего рода наследственным
обязательством, взваленным на город еще в 1894 году, когда полковник Сарторис, тогдашний мэр, тот самый, что произвел на свет указ, запрещающий негритянкам появляться на улицах без передника, - после смерти ее отца навечно освободил ее от налогов. Конечно, милости бы мисс Эмили не
приняла, полковнику Сарторису пришлось сочинить целую историю, что будто бы отец мисс Эмили
ссудил городу деньги и теперь город, по чисто финансовым соображениям, предпочитает рассчитываться с нею таким способом. Надо было быть человеком его поколения и склада мыслей, чтобы выдумать такое, и надо было быть женщиной, чтобы этой выдумке поверить.
А когда в мэры и муниципальные советники прошло следующее поколение, придерживавшееся
более современных взглядов, этот давний уговор уже не встретил прежнего понимания. И к началу
нового года ей была направлена налоговая ведомость. Наступил февраль - никакого ответа. Ей послали письмо с просьбой, когда ей будет удобно, посетить приемную шерифа. Еще через неделю мэр
написал ей сам, выражая готовность заехать лично или прислать за ней свой автомобиль, и получил
ответ, писанный жидкими чернилами тонким витиеватым почерком на листке старомодного формата, - мисс Эмили сообщала, что теперь вообще не выходит из дому. В конверт, без дальних слов, была вложена налоговая ведомость.
Муниципальный совет собрался на специальное заседание. И вот к ней в дом, куда восемь или десять лет, с тех пор как она перестала давать уроки росписи по фарфору, не ступала нога постороннего, явилась депутация. Старый негр впустил посетителей в полутемную прихожую, откуда наверх
уходила лестница, скрываясь в еще более густой темноте. В доме стоял запах пыли и запустения спертый, тленный дух. Негр провел их в гостиную, заставленную тяжелой мебелью в кожаной обивке. Он открыл ставень на одном окне, и стало видно, что кожа вся потрескалась, а когда они рассаживались, с нее лениво поднялась лежалая пыль и плавно поплыла, кружась, в единственном луче
света. Перед камином на почерневшем золоченом мольберте стоял карандашный портрет отца мисс
Эмили.
Все встали, когда она вошла - низенькая толстая старуха в черном, с заправленной за пояс тонкой
золотой цепочкой через грудь, опирающаяся на черную трость с тусклым золотым набалдашником.
Она была узкой в кости и, наверно, поэтому казалась не просто располневшей, как другая бы на ее
месте, а бесформенной, расплывшейся, даже разбухшей, будто утопленник, долго пролежавший в
стоячей воде, и с таким же мертвенно-бледным лицом. Пока гости излагали ей то, что им поручено
было сказать, взгляд
ее глаз, вдавленных в складки жира, точно два уголька в кусок теста, передвигался с одного лица
на другое.
Сесть она их не пригласила, а выслушала, недвижно стоя в дверях, и когда глава депутации, запинаясь, довел свою речь до конца, стало слышно, как тикают у нее на цепочке невидимые часики.
Она ответила сухо и холодно:
- Я не плачу в Джефферсоне налоги. Мне разъяснил полковник Сарторис . Кто-нибудь из вас мог
бы посмотреть в городском архиве и удостовериться.
- Архивы мы подняли, мисс Эмили. Мы - представители муниципалитета. Разве вы не получили
уведомления за подписью шерифа?
- Да, я получила какую-то бумагу. Возможно, что он считает себя шерифом, не знаю... Я не плачу
в Джефферсоне налоги.
- Но, видите ли, документы этого не подтверждают. А мы обязаны руководствоваться...
- Обратитесь к полковнику Сарторису. Я не плачу налоги.
- Но, мисс Эмили...
- Обратитесь к полковнику Сарторису. (Полковника Сарториса тогда уже лет десять как не было
в живых.) Я не плачу налоги. Тоб! - Появился негр. - Проводи этих джентльменов.
II
Так она одержала над ними полную и сокрушительную победу, подобно тому как за тридцать лет
до того одержала победу над их отцами, когда случилась эта история с запахом. Она произошла через два года после смерти ее отца и в недолгом времени после того, как ее бросил ее кавалер - за кого, мы все считали, она выйдет замуж. После смерти отца она стала реже бывать на людях, а когда
скрылся ее любезный, и вовсе превратилась в затворницу. Кое-кто из дам сунулись было ней с визитами, но приняты не были, и единственным признаком жизни в доме остался негр-слуга, тогда еще
молодой, выходивший и входивший с базарной корзиной в руках.
- Как будто мужчина вообще способен путно хозяйничать на кухне, - негодовали дамы; и потому,
когда появился запах, это никого не удивило: просто лишнее свидетельство, что и над великими
Грирсонами имеет власть грубый, плодущий мир плоти.
Одна соседка обратилась с жалобой к мэру, судье Стивенсу, восьмидесяти лет.
- Но чего бы вы хотели от меня, мадам? - спросил он.
- Как чего? Пошлите ей сказать, чтоб убрала. Разве нет такого закона?
- Уверен, что это не понадобится, - сказал судья Стивенс {2}. – Должно быть, просто ее негр убил
змею или крысу во дворе. Я с ним поговорю.
На следующий день явились с жалобами еще двое.
- Надо что-то с этим делать, судья, - смущенно разводя руками, сказал один. - Я бы нипочем не
стал беспокоить мисс Эмили, а только какие-то меры принимать придется.
В тот же вечер собрался муниципальный совет - трое старцев и один помоложе, представитель
нового поколения.
По-моему, проще простого, - сказал он. - Направим ей бумагу, чтобы к такому-то сроку навела
порядок. А если не выполнит, то...
- Черт возьми, сэр, - перебил его судья Стивенс, - вы что же предлагаете сказать в лицо даме, что
от нее дурно пахнет?
И назавтра ночью, уже за полночь, во двор к мисс Эмили забрались четверо мужчин и крадучись,
как воры, обошли вокруг дома, обнюхивая кирпичный фундамент и подвальные отдушины, а один,
точно сеятель, рассыпал что-то из мешка у себя на плече. Они взломали дверь в подвал, натрусили
туда известки и подобным же образом обработали все дворовые постройки. А когда шли через двор
обратно, одно из темных окон дома зажглось, и в нем они увидели обведенную светом сидящую фигуру мисс Эмили, прямую и неподвижную, как идол. На цыпочках прокрались они торопливо по газону, ища убежища в тени акаций на улице. А еще через пару недель запах прекратился.
Только тогда в городе начали по-настоящему жалеть мисс Эмили. У нас помнили ее двоюродную
бабку, старую мисс Уайэт, которая под конец жизни совсем рехнулась, и всегда считали, что Грирсоны как-то уж слишком заносятся. Для мисс Эмили, видите ли, все женихи были нехороши. Нам так
и представлялось долгие годы: в распахнутых освещенных дверях стоит в раскоряку грозный папаша
с хлыстом в руке, а у него за спиной-мисс Эмили, тоненькая фигурка в белом. И когда ей сравнялось
тридцать, а она по-прежнему сидела в девицах, мы не то чтобы злорадствовали, но чувствовали себя
вроде как отомщенными: пусть у них психическая болезнь в роду, все-таки не такая же мисс Эмили
сумасшедшая, чтобы отвергнуть все надежды на замужество, похоже, просто никто особенно не домогался.
Потом умер ее отец, и выяснилось, что, помимо дома, он ей ничего не оставил. У нас даже вроде
как обрадовались: наконец-то можно посочувствовать гордой мисс Эмили. Она словно бы очеловечилась, оставшись одинокой и нищей. Научится теперь не хуже других убиваться и радоваться из-за
каждого жалкого цента.
Назавтра после того, как отец ее умер, наши дамы отправились к ней в дом выразить соболезнование и предложить помощь, как у нас заведено. Но мисс Эмили встретила их на пороге в обычном
платье и без следов горя на лице. Она сказала, что ее отец вовсе не умирал, и повторяла это в течение
трех дней - и священникам, которые к ней наведывались, и врачам, приходившим уговаривать ее,
чтобы она позволила похоронить покойника. Только когда в городе уже были готовы прибегнуть к
закону и силе, она вдруг сломилась, и его быстро предали земле.
Тогда у нас не говорили, что она помешанная. Мы ее понимали. Ведь отец отпугнул от нее всех
женихов, и ясно, что, оставшись ни с чем, она будет, как это свойственно людям, цепляться за руку,
которая ее обездолила.
III
Она потом долго болела. Когда мы снова ее увидели, она была острижена, как девочка, и чем-то
немного напоминала ангелов на церковных витражах, каким-то умиротворенным трагизмом, что ли.
Как раз тогда городские власти сдали подряд на прокладку тротуаров, и в то же лето, когда умер
ее отец, начались работы. Прибыла строительная бригада, негры, мулы, машины и десятник по имени Гомер Бэррон – расторопный здоровяк янки с зычным голосом и светлыми глазами на смуглом
лице. За ним толпами ходили мальчишки, слушали, как он честит на все корки своих негров и как
негры ритмично поют, в такт взмахивая и ударяя кирками. Скоро он уже перезнакомился со всеми в
городе, и если где-нибудь на площади раздавался хохот, значит, там, окруженный людьми, находился Гомер Бэррон. А потом он стал по воскресеньям появляться с мисс Эмили - катать ее в наемной
двуколке с желтыми спицами, запряженной парой гнедых в масть.
Сначала мы радовались, что мисс Эмили немного хоть развеется, дамы-то все считали, что уж конечно дочь Грирсонов не может относиться всерьез к северянину, да еще рабочему. Хотя были и такие, среди старшего поколения, которые и тогда уже говорили: настоящая леди и в горе не должна
забывать, что noblesse oblige {положение обязывает - фр.} - не прибегая, понятное дело, к таким поражениям, а просто вздыхая: "Бедная Эмили. Надо, чтобы приехали ее родные". У нее были какие-то
родственники в Алабаме, правда, ее папаша давным-давно переругался с ними из-за наследства покойной мисс Уайэт, той, что сошла с ума, и семьи не поддерживали никаких отношений от них даже
на похороны никто не приезжал.
Стоило только старым людям произнести эти слова: "Бедная Эмили", и сразу же в городе пошли
разговоры: "Как вы думаете, это правда? – Ну конечно, а иначе разве бы... - шептали друг дружке,
прикрывая ладонью рот, шелестя шелковыми атласными кринолинами и из-за штор, спущенных от
закатного солнца, выглядывая на улицу, по которой, часто цокая копытами, трусила гнедая пара. Бедная Эмили".
А она все же держала голову довольно высоко - даже когда мы не сомневались в ее падении. Она
еще настойчивее требовала к себе уважения как к последней из Грирсонов, будто этого земного
штриха только и не хватало, чтобы вознести ее на вовсе уж недоступные вершины. Как, например,
тогда, когда она покупала крысиный яд, мышьяк. Это было примерно через год после того, как в городе стали говорить: "Бедная Эмили"; у нее тогда гостили две кузины.
- Мне нужно яду, - сказала она аптекарю. Ей шел четвертый десяток, она была все еще стройной,
может, чуть худее, чем прежде, а лицо, на котором холодно и надменно чернели глаза, чуть прихмурено у висков и вокруг глазниц, как, наверно, бывают лица у смотрителей маяков. - Мне нужно яду, сказала она.
- Конечно, мисс Эмили. А какого именно вам яду? От крыс и прочих вредителей? Я бы порекомендовал...
- Самого лучшего, какой у вас есть. Какой именно, неважно.
Аптекарь перечислил несколько названий.
- Хоть слона могут убить. Но вам, я думаю, нужен...
- Мышьяк, - сказала мисс Эмили. - Это хороший яд?
- Мышьяк-то? А как же, мисс Эмили. Только я думаю, вам нужен...
- Мышьяк.
Аптекарь наклонился и заглянул ей в лицо. Она встретила его взгляд держа голову прямо, как
флаг на ветру.
- Пожалуйста, как вам угодно, - сказал аптекарь. - Требуется только, согласно закону, указать, для
каких целей.
Но мисс Эмили, запрокинув голову, смотрела ему прямо в глаза, и в конце концов он отвел взгляд
и ушел завернуть ей покупку. Но обратно не вышел, пакет ей вручил черный мальчик-посыльный. А
когда она развернула его дома, на коробке, под черепом с костями, оказалась надпись: "От крыс".
IV
"Отравится", - решили мы назавтра же; мы считали, что с ее стороны это будет правильно. Сначала, когда ее стали видеть с Гомером Бэрроном, у нас говорили: "Она выйдет за него". Позже: "Она
еще его уломает", - потому что сам Гомер за стойкой (он любил мужскую компанию и, как мы знали,
бражничал с молодежью в Клубе Лосей), хвастался, что он убежденный холостяк. А уж потом мы
только вздыхали: "Бедная Эмили", следя по воскресеньям из-за штор, как они проезжают мимо в лакированной двуколке, мисс Эмили с высоко поднятой головой, а Гомер Бэррон сдвинув шляпу набекрень, зажав сигару в зубах и держа одной рукой в желтой перчатке и вожжи и кнут.
Среди дам пошли разговоры, что это позор на весь город и дурной пример для молодежи. Мужчины были не склонны вмешиваться, но в конце концов дамы вынудили баптистского пастора - Грирсоны отродясь принадлежали к англиканской церкви - пойти к ней. Что там между ними произошло
во время этого визита, он никому не рассказывал и второй раз идти отказался наотрез. Но наступило
воскресенье, и опять они катались по городу. И на следующий же день жена пастора написала родственникам мисс Эмили в Алабаму.
Теперь у мисс Эмили были покровители, и мы приготовились ждать, что будет дальше. Сначала
ничего вроде не изменилось. Но потом стало похоже, что дело решительно идет к свадьбе. Мы узнали, что мисс Эмили побывала у ювелира и заказала мужской туалетный прибор из серебра с вензелем
"Г.Б." на каждом предмете. Еще через два дня стало известно, что она купила полный комплект мужской одежды, вплоть до ночной рубашки, и тогда мы сказали: "Они поженились". Мы и вправду обрадовались. Слава богу, теперь уедут ее кузины, которые оказались такими Грирсонами, что где там
до них самой мисс Эмили.
И когда Гомер Бэррон пропал из города - работы па улицах уже были завершены, - мы не удивились. Обидно, конечно, что обошлось без публичного торжества, но мы считали, что он поехал вперед, чтобы сделать приготовления к приезду мисс Эмили - а она чтобы тем временем выпроводила
кузин. (Мы все были на стороне мисс Эмили в этом заговоре против них.) Так оно и вышло: через
неделю обе укатили. А спустя еще три дня, оправдав наши ожидания, вернулся Гомер Бэррон. Соседка заметила, как негр мисс Эмили впустил его на закате в дом через черную дверь.
Но больше у нас с тех пор никто Гомера Бэррона не видел. И саму мисс Эмили поначалу тоже.
Слуга-негр выходил и входил с базарной корзинкой через черную дверь, а парадная дверь оставалась
на запоре. Целые полгода мисс Эмили не появлялась на улицах, иногда только мелькнет в окне, как в
ту ночь, когда к ней приходили посыпать двор известкой. И это мы тоже считали что в порядке вещей: слишком живучей оказалась в ней зловредная отцовская спесь, и прежде столько раз становившаяся ей поперек ее женской судьбы.
Пока мы ее не видели, она растолстела и начала седеть. Потом с каждым годом седины у нее в волосах все прибавлялось, покуда они не сделались ровного серо-стального цвета и такими уже остались. До самой смерти в семьдесят четыре года волосы у нее, как у пожилого дельца, отливали энергичным металлическим блеском.
С той поры парадная дверь ее дома так и стояла запертая, - не считая тех шести или семи лет, что
она, уже за сорок, давала уроки росписи по фарфору. Устроила мастерскую в одной из комнат на
первом этаже, и туда к ней полагалось являться дочерям и внучкам ровесников полковника Сарториса неукоснительно и благочестиво, как по воскресным дням в церковь, и с теми же двадцатью пятью
центами, чтобы положить на тарелку для пожертвований. Тогда ее как раз и освободили от налогов.
А потом определять лицо и дух города стало новое поколение, ученицы ее выросли, и постепенно
перестали заниматься, и уже не присылали к ней, в свою очередь, дочек с красками в ящичках, скучными кисточками и картинками, вырезанными из дамского журнала. Парадная дверь закрылась за
последней ученицей, закрылась насовсем. Когда в городе учредили бесплатную доставку почты,
мисс Эмили, единственная, не позволила прибить у себя жестяной номер и почтовый ящик на дверь.
И ничего не пожелала слушать.
Проходили дни, месяцы, годы, мы видели, как седеет и горбится слуга-негр с базарной корзинкой
в руках. Ежегодно в исходе декабря ей отсылали налоговую ведомость, которая неделю спустя неизменно возвращалась с почты как невостребованная. По временам, точно толстый каменный идол в
нише, она показывалась в каком-нибудь из окон нижнего этажа - верхний этаж она, по-видимому,
заколотила - и то ли смотрела на нас, то ли нет, не разберешь. И так она переходила от поколения к
поколению, словно драгоценное, неотвязное, недоступное, изломанное наше наследие.
И в конце концов умерла. Заболела в этом доме, полном теней и пыли, где некому было за ней
ходить, кроме одного дряхлого негра. Мы даже не знали, что она болеет, от ее негра путного слова
нельзя было добиться, мы уже давно махнули рукой. Он все равно ни с кем не разговаривал, наверно,
и с ней тоже, потому что голос у него сделался хриплый, скрипучий, будто заржавел без употребления.
Она умерла в одной из комнат нижнего этажа на массивной деревянной кровати с пологом, откинув седую голову на подушку, желтую от старости и замшелую от недостатка солнечного света.
V
Негр впустил первых посетительниц через парадную дверь и, пока они набивались в прихожую,
переговариваясь шипящими шепотами и шныряя по углам любопытными глазами, прошел дом
насквозь, выскользнул с черного хода - и был таков.
Обе алабамские кузины приехали сразу же. Через два дня были устроены похороны, и явился весь
город, чтобы увидеть мисс Эмили, заваленную грудой покупных цветов. Сверху на гроб глубокомысленно взирал карандашный портрет ее отца, дамы зловеще шелестели, а на веранде и на газоне
перед домом самые старые старики города говорили о мисс Эмили так, словно она была их ровесницей, словно они когда-то танцевали с ней и, может быть, за ней ухаживали, - путая строгую последовательность времени, как это свойственно старым людям, для которых прошлое - не сужающаяся
вдали дорога, а широкий луг, недоступный дыханию зимы, отделенный от них, какие они теперь,
тесной горловиной последнего десятилетия.
Все уже знали, что наверху есть комната, куда сорок лет никто не заглядывал, и ключ неизвестно
где. Но дверь взломали только тогда, когда тело мисс Эмили было уже честь по чести предано земле.
Дверь затрещала и распахнулась, и, наверно от удара, воздух наполнился мельчайшей пылью, которая тонким могильным покровом лежала на всем в этой комнате, убранной как брачный покой:
выцветшие нежно-розовые шторы с оборками, телесного цвета абажуры, на трельяже - изящно расставленный хрусталь и мужские туалетные принадлежности, оправленные почерневшим серебром,
до того почерневшим, что нельзя было разобрать монограммы. Здесь же валялся воротничок с галстуком, будто только что отстегнутый, но когда его подняли, в пыли на полированной поверхности
остался темный полумесяц. На спинке стула, аккуратно сложенный, висел костюм, на полу два безмолвных ботинка и снятые носки.
А сам мужчина лежал в кровати.
Мы долго стояли и смотрели на зияющую, бесплотную улыбку. Тело когда-то лежало в любовной
позе, но сон, который долговечнее, чем любовь, и необоримее, чем даже ее гримасы, вырвал новобрачную из этих объятий. Что осталось от жениха, сгнило в том, что осталось от ночной рубашки,
смешалось нерасторжимо с прахом простыней, и поверх всего, на одеяле и на второй подушке, лежал
ровный слой многотерпеливой, упорной пыли.
А потом мы заметили, что вторая подушка промята. Один из нас нагнулся и что-то снял с нее, и
мы, столпившись вокруг, стараясь не дышать мельчайшей сухой и едкой пылью, увидели длинную
прядь седых волос.
Уильям Фолкнер. Уош
Сатпен стоял у топчана, на котором лежали мать с младенцем. От стены сквозь рассохшиеся доски
тянулись серые штрихи раннего утреннего света, преломляясь на его расставленных ногах и на руко-
яти опущенного хлыста, и ложились поперек плотно укрытого тела матери, глядевшей на него снизу
вверх неподвижным, загадочным, хмурым взглядом, и на младенца рядом с нею, запеленутого в чисто выстиранные тряпки. За спиной у него, перед еле теплившимся очагом сидела на корточках старуха-негритянка.
- Жаль, Милли, - сказал Сатпен, - что ты не кобыла. Я поставил бы тебя в хорошее стойло у себя на
конюшне.
Женщина на топчане не шелохнулась. Она все так же без выражения глядела на него снизу вверх, и
ее молодое, хмурое, непроницаемое лицо было бледным от только что перенесенных родовых мук.
Сатпен отвернулся, подставив расщепленному свету утра лицо шестидесятилетнего мужчины. И негромко сказал сидевшей на корточках негритянке:
- Гризельда нынче утром ожеребилась.
- Кобылка или жеребчик? - спросила негритянка.
- Жеребчик. Красавец конек... А тут? - он указал на топчан рукоятью хлыста.
- Тут кобылка.
- Красавец конек. Вылитый Роб Рой будет. Помнишь его, когда я в шестьдесят первом уезжал на
нем на Север?
- Помню, хозяин.
- Да-а. - Он оглянулся на топчан. Теперь непонятно было, смотрит она на него или нет. Он еще раз
ткнул хлыстом в ее сторону. - Посмотришь, что там у нас найдется, и устроишь им что нужно.
И вышел, спустившись с шаткого крыльца в высокий, густой бурьян (там, прислоненная к стене,
ржавела коса, которую Уош одолжил у него три месяца назад, чтобы выкосить всю эту растительность), - туда, где стоял его конь, где ждал Уош с поводьями в руке.
Когда полковник Сатпен уходил воевать с северянами, Уош с ним не поехал.
- Я тут без полковника приглядываю за его хозяйством и за неграми, - объяснял он всем, кто спрашивал, да кто и не спрашивал тоже, - высокий, тощий, изможденный малярией человек со светлыми
недоуменными глазами, по виду лет тридцати пяти, хотя известно было, что у него взрослая дочь, да
еще и восьмилетняя внучка. То, что он говорил, было выдумкой, и почти все, к кому он лез со своими объяснениями - немногие оставшиеся дома мужчины между восемнадцатью и пятьюдесятью, это знали, хотя кое-кто считал, что сам он считает это правдой, хотя даже и они думали, что у него
хватит все же ума не соваться всерьез со своим покровительством к миссис Сатпен или сатпеновским рабам. Хватит ума или просто недостанет усердия, да и где ему, говорили люди, ведь он никакого отношения к сатпеновской плантации не имеет, просто много лет назад полковник Сатпен позволил ему поселиться на своей земле в рыбачьем домике, который он построил в болотистой низине
у реки, когда еще был холост, и который с тех пор, заброшенный, совсем обветшал и стал похож на
дряхлое животное, из последних сил притащившееся к воде, чтобы, напившись, издохнуть.
Но сатпеновские рабы все же прослышали об его самозванстве. И посмеялись. Они не в первый раз
над ним смеялись и называли его за глаза белой голытьбой. Встречая его на неторной тропе, ведущей
от бывшего рыбачьего становья, они тоже спрашивали его: "Белый человек, ты почему не на войне?"
Он останавливался, обводил взглядом круг черных лиц и белых глаз и зубов, за которыми крылась
издевка. "Мне надо семью кормить, вот почему, - отвечал он. - Убирайтесь-ка с дороги, черномазые".
- Черномазые? - повторяли они. - Черномазые? - теперь они открыто смеялись. - Это он-то зовет их
черномазыми?
- Ну да, - говорил он. - У меня ведь нет своих черномазых, чтоб заботились об моей семье, пока меня не будет.
- Да и ничего у тебя нет, одна только развалюха у реки, в ней полковник даже никого из нас жить
не пустил.
Тут он начинал ругаться, иной раз, подхватив с земли палку, набрасывался на них, а они разбегались от него, и он оставался один на тропе, тяжело дыша и кипя бессильной злобой, но все так же
окружало его кольцо их черного смеха, издевательского, ускользающего, беспощадного. Один раз
это произошло прямо на заднем дворе господского дома. Дело было уже после получения горькой
вести с Теннессийских гор и из-под Виксберга [речь идет о поражениях армии южан осенью 1862 г. в
Теннесси и сдаче ими форта Виксберга], и Шерман уже прошел через плантацию, и с ним ушли почти все негры. С федеральными частями ушло и остальное, и миссис Сатпен велела передать Уошу,
что он может прийти и обобрать виноград, поспевший в беседке за домом. В тот раз его упрекнула
служанка, одна из немногих негров, которые еще остались на плантации; и не убежала, а лишь поднялась по ступеням заднего крыльца, обернулась и оттуда сказала ему:
- Стой, белый человек. Остановись, где стоишь. Ты при полковнике не переступал этого порога и
сейчас не переступишь.
Это была правда. Но имелась одна тонкость, важная для его самолюбия: он и не пытался никогда
войти в этот дом, даже веря про себя, что Сатпен принял бы его, допустил бы к себе. "Да я не стану
соваться, чтобы кто-нибудь из черномазых дал мне от ворот поворот, - так говорил он себе. - И чтобы полковник учил из-за меня ихнего брата". А ведь они с Сатпеном обычно проводили время вместе
в те редкие воскресенья, когда в доме не было гостей. Вероятно, в глубине души он знал, что для
Сатпена это просто лучше, чем ничего, поскольку полковник был из тех, кто не умеет оставаться
наедине с самим собой. Но как бы то ни было, они иной раз целые дни просиживали в беседке вдвоем, Сатпен в гамаке, Уош на корточках, опираясь спиной о столб, а между ними ведро с дождевой
водой и в нем бутылка, и они попивали из нее по очереди до самого заката. Зато в будние дни он видел, как полковник (они с Сатпеном были одних лет, но ни тот, ни другой, - вероятно, потому, что
Уош уже был дедушкой, а у Сатпена сын еще учился в школе - не ощущал этого ровесничества) на
кровном жеребце объезжал плантацию плавным галопом. И тогда сердце его на мгновение замирало
от гордости. И представлялось ему, что мир, в котором негры, обреченные богом, как он знал из
Библии, на службу и подчинение всякому человеку с белой кожей, живут лучше, сытее, и даже одеваются чище, чем он и его семья, что мир, в котором он постоянно ощущает вокруг себя отзвук черного смеха, - лишь морок, обман чувств, а настоящий мир - этот, где его кумир в ореоле славы одиноко мчится на кровном вороном скакуне, ведь все люди, как тоже сказано в Писании, созданы по
образу и подобию божьему, и потому все люди имеют одинаковый образ, по крайней мере, в глазах
бога; так что он может сказать словно о самом себе: "Человек! Краса и гордость! Если бы господь
наш самолично спустился с небес на матушку-землю, вот какой образ он бы себе избрал!"
В шестьдесят пятом Сатпен на вороном жеребце вернулся домой. Он постарел лет на десять. Его
сын пал в сражении той же осенью, когда умерла его жена. Он вернулся, имея при себе благодарность в приказе за собственноручной подписью генерала Ли, на разоренную плантацию, где вот уже
год его дочь существовала на скудные щедроты того, кому он пятнадцать лет назад даровал милостивое разрешение поселиться в полуразвалившемся рыбачьем домике, о существовании которого
сам уже успел позабыть. Уош встретил его нисколько не изменившийся, - все такой же долговязый и
тощий и лишенный возрастных примет, с тем же вечным вопросом в блеклом взоре. "Ну, что, полковник, - сказал он, смущаясь, тоном слегка подобострастным и одновременно панибратским, - нас
побили, да не сломили, верно я говорю?"
К этому сводились все их разговоры в последовавшие пять лет. Виски, которое они пили теперь по
очереди из глиняного кувшина, было дрянное, и сидели они не в увитой виноградом беседке, а позади жалкой лавчонки, которую Сатпен открыл у самой дороги, - просто сарай с полками вдоль дощатых стен, где, с Уошем в качестве приказчика и сторожа, он сбывал керосин, и насущные продукты
питания, и лежалые леденцы, и дешевые бусы, и ленты неграм и белым беднякам, вроде самого Уоша, приходившим пешком или приезжавшим на тощих мулах, чтобы нудно торговаться из-за каждого медяка с человеком, который когда-то мог десять миль скакать галопом по своей плодородной
земле (вороной был еще жив; конюшни, в которых помещалось его ретивое потомство, содержались
в лучшем состоянии, чем дом, в котором жил сам хозяин) и который доблестно вел солдат в битву; и
кончалось тем, что Сатпен в бешенстве выставлял всех за дверь, запирал лавку и укрывался с Уошем
на задворках, запасшись глиняным кувшином. Но беседа их теперь текла не плавно, как в те годы,
когда Сатпен лежал в гамаке и произносил надменные монологи, а Уош сидел на корточках, прислонясь спиной к столбу, и только поддакивал. Теперь они оба сидели, правда, Сатпен на единственном
стуле, а Уош на подвернувшемся под руку ящике или бочонке, да и то не долго, потому что Сатпен
скоро впадал в то состояние бессильной и свирепой непобежденности, когда он вставал, покачиваясь
и порываясь вперед, и начинал грозиться, что сейчас возьмет пистолеты и вороного жеребца, поскачет в Вашингтон и убьет Линкольна [президент США Авраам Линкольн был убит 15 апреля 1865 г.
актером Дж.Бутом], который уже был к этому времени мертв, и Шермана, давно сменившего генеральский мундир на партикулярное платье. "Бей их всех! - кричал он. - Перестрелять их, как бешеных псов!"
- А как же, полковник, а как же, - говорил Уош, подхватывая падающего Сатпена. После этого он
реквизировал первую же проезжую телегу или, если таковой не случалось, шел целую милю пешком
на ближайшую ферму и брал там фургон и в нем доставлял Сатпена домой. Теперь он и в дом входил, уже давно, всякий раз, как привозил Сатпена в чужом фургоне, а потом вел по дорожке к дому,
понукая и уговаривая, точно лошадь, точно норовистого жеребца. Дочь встречала их на крыльце и
молча придерживала перед ними распахнутые двери. И он втаскивал свою ношу через некогда белые, высокие парадные двери, венчанные полукруглым окном разноцветного стекла, бережно вывезенным в свое время по стеклышку из Европы, а ныне забитым в одном месте доской, волок по
плюшевому ковру с облезлым ворсом и вверх по ступеням бывшей парадной лестницы - по голым,
стертым доскам с остатками коричневой краски на концах, и так добирался до спальни. К этому времени уже смеркалось, и он укладывал полковника плашмя на кровать, стаскивал с него одежду и тихо садился рядом на стул. Немного погодя к дверям подходила дочь. "У нас все в порядке, - говорил
он ей. - Вы ни о чем не беспокойтесь, мисс Джудит".
Потом становилось темно, и через некоторое время он укладывался на полу перед кроватью, хотя
спать особенно не приходилось, потому что вскоре - иногда еще до полуночи - распростертый
Сатпен начинал шевелиться, стонал и негромко окликал его: "Уош!"
- Я здесь, полковник. Спите спокойно. Нас ведь не сломили, верно? Мы с вами еще повоюем.
А ведь он уже тогда видел ленту на талии своей внучки. Ей пошел шестнадцатый год, и у нее, как
это нередко случается у таких, как она, уже были зрелые формы взрослой девушки. Откуда взялась
эта лента, он прекрасно знал (недаром три года подряд каждый божий день видел такие в лавке), даже если бы она соврала ему, но она не пыталась врать и глядела на него дерзко, хмуро и боязливо.
- Ну, что ж, - только и сказал он. - Ежели полковник пожелал тебе ее подарить, ты хоть спасибо-то
сказать не забыла?
Душа его была спокойна, даже когда он увидал новое платье и встретил ее скрытный, наглый, испуганный взгляд, услышал, что платье помогала сшить мисс Джудит, дочь. Но в тот вечер, заперев
лавку и выйдя вслед за Сатпеном через заднюю дверь, он обернулся к нему, и лицо его было серьезно.
- Неси кувшин, - распорядился Сатпен.
- Сейчас, - сказал Уош. - Постойте.
Сатпен тоже не отпирался насчет платья.
- Что из того? - только спросил он.
Но Уош не отвел глаз перед его надменным и твердым взглядом, он негромко ответил:
- Я вас знаю вот уже поди двадцать лет. И что бы вы мне ни наказали, я всегда исполнял. А ведь
мне уже под шестьдесят, и я мужчина. А она девчонка, и ей всего только пятнадцать.
- То есть, по-твоему, я могу обидеть девчонку? Я, старый человек, одних лет с тобой?
- Будь вы не такой, я б согласился, что вы старый человек, одних лет со мною. И, старый ли, молодой ли, я б не позволил ей брать у вас ни это платье и ничего другое из ваших рук. Но вы особенный.
- Чем - особенный? - Но Уош только смотрел на него своими блеклыми вопрошающими глазами. Так вот почему ты меня боишься?
Взгляд Уоша больше не вопрошал. Он был тих и ясен.
- Я не боюсь. Потому что вы герой, не когда-то были героем, один день или одну минуту в своей
жизни, и получили об этом бумажку от генерала Ли. Нет, вы герой, и это всегда при вас, как, к примеру, то, что вы живы и дышите воздухом. Вот чем вы особенный. И я это знаю безо всяких там бумаг. Знаю, что чего и кого бы вы ни коснулись, чем бы ни распоряжались, будь то полк солдат или
глупая девчонка, или даже пес приблудный, вы все сделаете так, как надо.
Сатпен глаза отвел, он резко отвернулся и буркнул: "Неси кувшин".
- Несу, полковник, - ответил Уош.
И в то раннее воскресное утро два года спустя, когда за негритянкой-повитухой, которую он привел из деревни за три мили, затворилась старая, рассохшаяся дверь, приглушив доносившиеся изнутри крики его внучки, душа его оставалась все так же спокойна, хотя и озабочена. Он знал все, что
они о нем говорили, и эти негры в хижинах, разбросанных окрест, и белые, из тех, что целыми днями
сшивались в лавке и глазели на них троих: на Сатпена, его самого и его внучку, которая держалась
все наглее и боязливее, по мере того как становилось очевидным ее положение, - точно на трех актеров, выступающих на театральных подмостках. "Я знаю, что они говорят между собой, - думал он, - я
так и слышу их. _Уош Джонс все-таки обратил старого Сатпена. Двадцать лет
ухлопал, а все-таки обратал_".
Было уже недалеко до рассвета, но еще не развиднелось. Из-за двери, в щели которой сочился
тусклый свет лампы, размеренно, как по часам, доносились крики его внучки, а мысль его продвигалась ощупью, медленно и грозно, и почему-то под стук копыт, покуда вдруг на простор из тьмы не
вырвался прекрасный гордый всадник на гордом скакуне, и тогда мысль его, продвигавшаяся ощупью, тоже вырвалась на простор, ослепительно ясная и простая, - и это было не оправдание и даже не
объяснение, а как бы подобие божие, одинокое, понятное, недоступное грязнящему человеческому
прикосновению: "Он выше, чем все эти янки, что убили его сына и жену и отняли негров и разорили
его землю; выше чем эта страна, за которую он проливал кровь, а она в награду низвела его в мелкие
лавочники; выше этой неблагодарности, которую ему дали испить, словно горькую чашу из Писания. Разве я мог прожить с ним бок о бок почитай что двадцать лет и не испытать это на себе, не
преобразиться? Пусть я ниже его и не скачу на гордом коне. Все же и я тянулся за ним. Мы с ним на
пару все можем! Пусть он только распорядится, что мне надо сделать".
Потом развиднелось. Вдруг оказалось, что он видит дом и старую негритянку на пороге. И не слышит больше из дома криков внучки. "Девочка, - объявила негритянка. - Можете пойти сказать ему".
Она снова ушла в дом.
- Девочка, - повторил он, - девочка, - с изумлением, снова слыша стремительный конский скок,
снова видя перед глазами гордого всадника. Он стоял и словно видел, как тот скачет через годы и
воплощения к той вершине времени, когда с обнаженной саблей над головой он пронесся под изодранным шрапнелью флагом на фоне серого, грозового неба; и ему впервые пришло в голову, что
ведь Сатпен-то старик, в одних годах с ним. "Девочку родил, а?" - сказал он себе все так же с изумлением; а потом по-детски восхищенно подумал: "Надо же, дожил. Вот черт! Ведь я теперь прадедушка!"
Он вошел в дом. Он ступал неуклюже, на цыпочках, словно не жил здесь больше, словно младенец,
только что издавший свой первый крик при свете зачинающегося дня, вытеснил его отсюда, хотя
был и его плотью и кровью. Но там, на топчане, он ничего не увидел, кроме смутно белеющего обескровленного лица внучки. Негритянка, сидевшая на корточках у очага, негромко сказала: "Пошли бы
сказали ему. Уж рассвело".
Но идти не понадобилось. Он только успел обогнуть крыльцо, где стояла прислоненная коса, которую он одолжил три месяца назад, чтобы выкосить бурьян перед домом, и в это время подъехал
Сатпен на старом жеребце. Он не удивился, откуда Сатпен мог узнать. Он посчитал, что именно это,
а не что другое, подняло его в такую рань воскресным утром, и стоял, смотрел, как Сатпен слезает с
коня, потом принял у него из рук поводья, а у самого лицо было почти идиотским от нечаянного
усталого торжества.
- Девочка, полковник! - бормотал он. - Провалиться мне, ведь вы же в одних годах со мной... - Но
Сатпен прошел мимо и скрылся в доме. Он остался стоять, где стоял, и слышал, как Сатпен прошагал
по ветхим половицам к топчану. Он слышал слова Сатпена, и что-то замерло в нем, а потом медлительно возобновило свой ход.
Солнце уже взошло, скорое солнце южных широт, и ему показалось, будто он стоит под чужими
небесами на чужой земле и все вокруг знакомо лишь так, как бывает знакомо во сне, когда тому, кто
никогда не забирался на высоту, снится, что он падает вниз. "Не мог я ничего такого слышать, - думал он спокойно. - Послышалось, и все". И однако голос, знакомый голос, произнесший те слова,
продолжал говорить, он рассказывал теперь повитухе о родившемся в то утро жеребенке. "Так вот
из-за чего он встал спозаранку, - подумал Уош. - Из-за этого. А вовсе не из-за меня и плоти и крови
моей. Или даже своей. Вот что подняло его с постели".
Сатпен вышел. Он спустился с крыльца и зашагал через бурьян с той грузной целеустремленностью, что пришла на смену стремительности его молодых лет. В глаза Уошу он до сих пор не взглянул. На ходу он сказал: "Дайси с ней побудет и сделает, что нужно. А ты бы лучше... - он все-таки
заметил стоящего перед ним Уоша и остановился. - Что такое?"
- Вы сказали... - голос Уоша на его собственный слух звучал плоско, по-утиному, словно у глухого.
- Вы сказали, что, если б она была кобылой, вы бы поставили ее в хорошее стойло у себя на конюшне.
- Ну и что? - глаза Сатпена расширились и тут же сузились, точно два поднятых сжавшихся кулака;
Уош, горбясь, на подогнутых ногах шел ему навстречу. Изумление на минуту сковало Сатпена - за
двадцать лет у него на виду этот человек пальцем не шевельнул иначе чем по команде, послушный
его воле, как черный жеребец у него под седлом. Глаза его снова сузились и расширились; он не
двинулся с места, только словно вдруг вскинулся на дыбы. "Назад, - резко скомандовал он. - Не подходи!"
- Я подойду, полковник, - ответил Уош все тем же тихим, плоским, почти ласковым голосом, делая
шаг вперед.
Сатпен поднял руку, держащую хлыст; из-за покосившейся двери негритянка-повитуха осторожно
высунула свое черное лицо престарелого гнома. "Назад, Уош", - раздельно произнес Сатпен. Потом
он ударил. Негритянка-повитуха соскочила в бурьян и прыснула прочь, словно коза. Сатпен еще раз
хлестнул Уоша поперек лица и сшиб его на колени. Когда Уош поднялся на ноги и опять пошел на
него, в руке у него была коса, которую он одолжил у Сатпена три месяца назад и которая Сатпену
больше уже никогда не понадобится.
Заслышав его шаги в доме, внучка пошевелилась на топчане и хмурым голосом окликнула его.
- Что это было? - спросила она.
- Ты о чем, голубка?
- Да шум какой-то у крыльца.
- Это ничего, пустяки, - ласково сказал он. Он опустился на колени и неловкой ладонью пощупал
ее пылающий лоб. - Ты, может, хочешь чего?
- Воды хочу глоток, - ответила она жалобно. - Уж сколько тут лежу, пить хочу, да никому до меня
дела нет.
- Сейчас, сейчас, а как же, - сказал он примирительно, тяжело встал с колен, зачерпнул в ковш воды
и, приподняв ей голову, дал напиться. Потом уложил ее обратно и увидел, как она с каменным лицом
повернулась к младенцу. Но в следующее мгновение оказалось, что она беззвучно плачет. "Ну, ну, не
надо, - сказал он. - С чего это ты? Старая Дайси говорит, девочка хорошая. Все уже прошло. Теперь и
плакать нечего".
Она продолжала плакать, беззвучно, обиженно, и он снова встал над ее постелью, растерянно думая, как думал когда-то над вот так же распростертой женой, а потом дочерью: "Женщины. Не поймешь их. Кажется, как хотят детей, а родят, и потом плачут. Не пойму я их. И ни один мужчина их не
поймет". Он тихо отошел, придвинул к окну стул и сел.
Все то долгое солнечное утро до самого полудня он сидел у окна и ждал. Время от времени он
поднимался и на цыпочках подходил к топчану. Но внучка его теперь спала все с тем же хмурым выражением обиды на неподвижном, усталом лице, и младенец покоился в сгибе ее руки. Он опять возвращался к окну, садился и продолжал ждать, недоумевая, почему они так медлят, пока не вспомнил,
что сегодня воскресенье. Перевалило за полдень, а он все так же сидел у окна, когда из-за угла дома
вышел белый мальчик-подросток, сдавленно вскрикнул, наткнувшись на тело, мгновение, как зачарованный, смотрел в окно на Уоша, потом повернулся и стремглав бросился наутек. И тогда Уош
встал и снова на цыпочках подошел к топчану.
Внучка не спала, разбуженная, быть может, сама того не зная, вскриком мальчишки. "Милли, - сказал он, - ты наверно есть хочешь?" Она не ответила, только отвернула лицо к стене. Он развел огонь
в очаге и приготовил еду: солонину и черствые кукурузные лепешки; он все это привез накануне: в
невыполосканный кофейник плеснул воды и вскипятил. Но она отказалась от поднесенной пищи, и
тогда он поел сам, не спеша, и, не убрав со стола, снова подсел к окну.
Теперь он словно чувствовал, слышал, как собираются люди, на лошадях, с ружьями и собаками, люди, движимые любопытством и жаждущие мести; люди одного круга с Сатпеном, которые сиживали за его столом, когда самому Уошу еще предстояло преодолеть расстояние, отделяющее беседку
от хозяйского дома; которые тоже показывали малым сим пример доблести в сражениях и, может
быть, тоже имели от генералов письменные свидетельства о безупречной храбрости; которые в
прежние времена тоже гордо и надменно скакали на кровных конях по своим широким плантациям и
были такими же символами надежды и преклонения; такими же орудиями отчаяния и беды.
И от этих-то людей, они думают, он захочет убежать. Нет, не от кого ему убегать, не от кого и не к
кому. Обратись он в бегство, и кажется, что он просто спасается от одной толпы хвастливых и злых
теней, чтобы очутиться в гуще другой, точно такой же, ведь в этом мире, который он знал, они всюду
на один лад, а он уже стар, и далеко ему все равно не убежать, даже если б и захотел. Не уйти от них,
как далеко и долго ни беги; а когда человеку под шестьдесят, тут уж далеко и не убежишь. Так далеко, чтобы очутиться за пределами мира, где живут такие вот люди, где они устанавливают порядки и
правят жизнью. Сейчас, впервые за пять лет, ему показалось, что он понимает, как могли янки или
вообще кто-либо на свете победить их, этих бесстрашных, гордых героев, признанных избранников и
носителей доблести, гордости, чести. Если бы он был с ними на войне, он, может быть, и раньше разгадал бы этих людей. Но если б он разгадал их раньше, как бы жил он все эти годы? Как мог бы он
целых пять лет влачить память о том, чем была его жизнь прежде?
Солнце уже клонилось к закату. Младенец просыпался и плакал; когда Уош подошел к топчану,
внучка кормила ребенка, но лицо ее было все так же задумчиво, хмуро, непроницаемо. "Не проголодалась?" - спросил он.
- Не надо мне ничего.
- Поела бы.
Она не ответила и склонила лицо над младенцем. Он возвратился к своему стулу и увидел, что
солнце уже зашло. "Теперь недолго", - подумал он. Он чувствовал, что они уже близко, и движимые
любопытством, и жаждущие мести. Казалось, он даже слышит, что они говорят между собою о нем,
с яростью, но и с пониманием: "Старый Уош Джонс все-таки дал маху. Думал, что обратал Сатпена,
да Сатпен его с носом оставил. Он-то думал, что полковнику теперь либо жениться, либо раскошелиться, а полковник-то ему шиш". - "Но я ничего такого и не думал, полковник!" - выкрикнул Уош и
тут же спохватился при звуке собственного голоса, быстро оглянулся и встретил вопросительный
взгляд внучки.
- С кем это ты? - спросила она.
- Ничего, это я так. Задумался просто и сам не заметил, что вслух говорю.
Лицо ее опять становилось плохо различимо - неясное, хмурое пятно в сумраке дома.
- Небось, - сказала она. - Небось, погромче бы крикнуть пришлось бы, чтоб он там у себя в доме
услышал. Да и кричи не кричи, его все равно не дозовешься.
- А ты ладно, ладно, - сказал он. - Не думай ни о чем.
Но сам он уже не мог остановить свои бегущие мысли: "Да никогда в жизни. Вы же знаете, я ни от
кого не ждал большего, чем от вас. И я никогда не просил об этом. Думал, не будет нужды. Ну что за
нужда такому, как я, сомневаться в человеке, о котором сам генерал Ли собственноручно написал в
бумаге, что он герой? Герой, - думал он. - Уж лучше бы ни один из этих героев не вернулся домой в
шестьдесят пятом году. - И еще. – Лучше бы таким, как он, да и таким, как я, вообще не родиться на
свет. Лучше всем, кто останется после нас, сгинуть с лица земли, чем еще одному Уошу Джонсу видеть, как вся его жизнь корежится и рассыпается в прах, словно сухая лузга, выброшенная в огонь".
Тут мысли прервались; он замер. Внезапно и отчетливо он услышал лошадей; вот блеснул фонарь,
и в его движущемся свете мелькнули людские тени, сверкнула сталь ружейных стволов. Но он не
пошевелился. Было уже совсем темно, и он вслушивался в голоса и шорохи в кустах, пока окружали
дом. Снова появился фонарь; его луч упал на неподвижное тело в бурьяне и остановился; вокруг качались высокие тени лошадей. С одного коня сошел человек и в свете фонаря склонился над телом. В
руке он держал пистолет; вот он выпрямился и обернулся к дому. "Джонс!" - позвал он.
- Тут я, - негромко ответил Уош. - Это вы, майор?
- Выходи!
- Сейчас, - негромко сказал он. - Только вот о внучке позабочусь.
- Мы сами о ней позаботимся. Ты выходи сюда.
- Сейчас, сейчас, майор. Обождите минуту.
- Света дай. Зажги лампу.
- Сейчас я. Только одну минуту. - Им было слышно, как его голос удаляется от окна в глубину дома, но они не видели, как он быстро подошел к печке, где у него в щели между кирпичами хранился
большой кухонный нож - единственный предмет его гордости во всем неряшливом укладе его жизни
и быта, всегда наточенный и острый, как бритва. Он шел к топчану, на голос внучки, спрашивающей:
- Кто это там? Засвети лампу, дед.
- На что нам свет, голубка? Ведь дело-то минутное, - пробормотал он в ответ, опускаясь на колени
и нашаривая по голосу ее лицо. - Ну, где ты?
- Да здесь же, - раздраженно отозвалась она. - Где мне быть. Ты что... - Рука его коснулась ее лица.
- Что... Дед. Деду...
- Джонс! - позвал шериф. - Выходи оттуда.
- Еще только одну минуту, майор, - ответил он. Теперь он встал с колен и действовал быстро. Он
знал, где стоит в темноте канистра с керосином, знал и то, что она полна, так как всего два дня назад
наполнял ее в лавке и держал там, пока не подвернулась попутная телега, так как пять галлонов
нести тяжело. В очаге еще теплились угли; да и шаткий домишко был сам как трут; угли, очаг, стены
дружно вспыхнули голубым пламенем. На одно безумное мгновение те, кто ждали его снаружи,
вдруг увидели, как он ринулся к ним из огня с косой в поднятой руке, но тут лошади взвились на дыбы и рванулись прочь. Лошадей, натянув поводья, снова повернули к огню, но по-прежнему черным
высоким силуэтом он устремлялся на них из света с косой в поднятой руке.
- Джонс! - крикнул шериф. - Стой! Остановись, или я стреляю. Джонс! Джонс!
Но длинный, худой и неистовый, он все так же виделся им в ослепительном ревущем пламени. С
высоко поднятой косой он немо, беззвучно устремлялся прямо на них, туда, где огонь плясал в бешеных глазах лошадей и качался отблесками на ружейных стволах.
Ф.Скотт Фицджеральд.
Три часа между самолетами
Пер. - А.Чапковский. Авт.сб. "Последний магнат. Рассказы. Эссе". М, "Правда", 1990.
Дональд понимал, что шансов у него мало, но настроение было подходящее, сил полно, делать все
равно нечего, а вся докучливая работа осталась позади. Сейчас он вознаградит себя. Если удастся.
Самолет приземлился, Дональд ступил на землю, летняя ночь прерий поглотила его, и он пошел к
глинобитному домику на краю аэропорта, выстроенному в духе старых железнодорожных вокзалов.
Он не знал, жива она или нет, по-прежнему ли в этом городе и какую носит фамилию. Он волновался
все сильнее, когда листал телефонную книгу, отыскивая номер ее отца, который за эти двадцать
лет вполне мог умереть.
Нет. Судья Хармон Холмс - Хиллсайд, 3194.
Он попросил позвать мисс Нэнси Холмс. Женский чуть насмешливый голос ответил:
- Нэнси теперь миссис Уолтер Гиффорд. А кто ее спрашивает?
Но Дональд повесил трубку. Он выяснил, что хотел, а времени у него было всего три часа. Он не
помнил никакого Уолтера Гиффорда - и когда листал телефонную книгу, снова встревожился. Она
ведь могла, выйдя замуж, переехать в другой город.
Нет. Уолтер Гиффорд - Хиллсайд, 1191. Он облегченно вздохнул.
- Я слушаю!
- Здравствуйте. Можно попросить миссис Гиффорд? Это говорит ее старый знакомый.
- Я вас слушаю.
Он сразу узнал - или это только почудилась ему? – своеобразное очарование ее голоса.
- Это говорит Дональд Плант. Мы с вами виделись в последний раз, когда мне было двенадцать
лет.
- Да? - с вежливым удивлением спросила она; но он так и не понял, рада ли она и узнала ли его.
- Дональд! - повторила она. Теперь в ее голосе слышалось нечто большее, чем просто попытка
вспомнить. - ...Когда ты возвратился? - Потом теплее: - Где ты?
- На аэродроме. Через несколько часов улетаю.
- Так приезжай.
- А не поздновато ли?
- Господи, нет, конечно! - воскликнула она. - Я сижу дома одна, тяну виски с содовой. Скажи шоферу...
По дороге Дональд перебирал в памяти их разговор. Его слова "на аэродроме" доказывали, что он
по-прежнему богат и респектабелен. Нэнси одна - и это могло означать, что она теперь не очень привлекательная особа и у нее нет друзей. Муж, возможно, в отъезде или уже спит. И может быть, оттого, что мысленно он всегда видел ее десятилетней девочкой, упоминание о виски покоробило его. Но
он тут же с улыбкой подумал, что ведь ей уже около тридцати.
Дорога свернула к дому, и в дверях освещенной комнаты возникла прелестная темноволосая женщина со стаканом в руке. Он наконец воочию увидел ее, вздрогнул и, выходя из такси, спросил:
- Миссис Гиффорд?
Она включила свет над подъездом и не отрываясь глядела на него широко открытыми, испытующими глазами. Потом сквозь недоумение проступила улыбка.
- Дональд, это и правда ты! Как мы все меняемся. Вот это встреча!
Они вошли, перебрасываясь ничего не значащими фразами, повторяя: "Сколько лет, сколько зим", и у Дональда екнуло сердце. Отчасти оттого, что ему представилась их последняя встреча, - когда
она, задрав нос, проехала мимо на велосипеде, - а отчасти из страха, что говорить будет не о чем.
Как на сборе бывших однокашников: чувствуешь, что прошлого не вернуть, и изо всех сил скрываешь это в суете шумного веселья. Он с ужасом
понял, что эта встреча может оказаться тягостной и пустой. И очертя голову начал:
- Ты всегда была хорошенькая. Но я не ожидал, что ты стала такая красавица.
Это подействовало. Он вовремя сообразил, что к чему, сделал смелый комплимент, и из скучающих друзей детства они превратились в малознакомых людей, которые нравятся друг другу.
- Хочешь виски? - спросила она. - Нет? Не подумай, ради бога, что я пью втихомолку, просто сегодня меня заела хандра. Я ждала мужа, а он дал телеграмму, что задерживается на два дня. Он очень
милый, Дональд, и очень красивый. Вроде тебя, и волосы такие же, - она запнулась, - по-моему, он
увлекся кем-то в Нью-Йорке, не знаю...
- Глядя на тебя, этому не поверишь, - сказал он. - Я был женат шесть лет и, было время, точно так
же мучил себя. Но в один прекрасный день раз и навсегда покончил с ревностью. Когда моя жена
умерла, я понял, что это было правильно. Теперь в памяти осталось только хорошее - ничто не испорчено, не запачкано, не за что корить себя.
Она внимательно смотрела на него, участливо слушала.
- Сочувствую, - сказала она. И, выждав сколько положено, продолжала: - Ты очень изменился. Нука, повернись. Я помню, отец говорил: "У этого парня есть голова на плечах".
- И ты не поверила?
- Нет, я задумалась. До тех пор я считала, что у всех есть голова на плечах. Мне это запомнилось.
- А что еще тебе запомнилось? - спросил он улыбаясь.
Нэнси вдруг встала и быстро отошла на несколько шагов.
- Ну, это уже нечестно! - с упреком сказала она. - Наверное, я была испорченной девчонкой.
- Вот уж нет, - твердо сказал он. - Знаешь, пожалуй, я все-таки выпью.
Нэнси наливала виски с содовой, все еще отвернувшись, и он сказал:
- Ты что думаешь, другие девчонки никогда не целуются?
- А ты о чем-нибудь другом можешь говорить? - спросила она. Но тотчас, смягчившись, добавила: А чего, там! Все равно было хорошо. Как в песне поется.
- А помнишь, как катались на санях?
- Еще бы! А пикник у этой, у Труди Джеймс? И еще в Фронтенаке в то... ну, в общем, летом.
Сани он помнил лучше всего - как он целовал ее холодные щеки на соломе в углу саней, а она смеялась, запрокинув голову к белым, холодным звездам. Другая парочка сидела к ним спиной, и он целовал ее тонкую шею и уши, но ни разу - губы.
- И еще вечеринка у Маков, где играли в почту, а я не пошел, потому что болел свинкой, - сказал
он.
- Я не помню.
- Ну как же, ты была там. И тебя целовали, а я с ума сходил от ревности... С тех пор я никогда так
не ревновал.
- Странно, не помню. Может быть, я старалась забыть.
- Но почему? - удивился он. - Мы были совсем невинные дети. Знаешь, Нэнси, когда я рассказывал
жене о своем детстве, я всякий раз говорил ей, что любил тебя почти так же, как ее. Но, наверное, не
почти, а так же. Когда мы отсюда уехали, ты у меня застряла в сердце, как заноза.
- Тебя это так... так глубоко задело?
- Еще бы! Я... - Он вдруг сообразил, что они стоят в двух шагах друг от друга и он говорит так,
словно и сейчас влюблен в нее, а она смотрит на него - и ее губа полураскрыты, а глаза затуманены.
- Говори, - сказала она. - Стыдно признаться, но мне приятно тебя слушать. Я не знала, что ты тогда так страдал. Мне казалось, что страдала только я.
- Ты! - вскричал он. - Неужели ты не помнишь, как бросила меня возле аптеки. - Он рассмеялся. - И
еще показала мне язык!
- Совершенно не помню. Мне казалось, что это ты бросил меня. - Ее рука легко, словно в утешение,
опустилась на его руку. - У меня наверху альбом с фотографиями, я его не открывала целую вечность. Пойду разыщу.
Минут на пять Дональд остался один и думал, как безнадежно по-разному люди помнят одно и то
же событие и еще, что взрослая Нэнси столь же пугающе влечет его к себе, как влекла девочкой. За
полчаса у него в душе появилось чувство, которого он не испытывал с тех пор, как умерла жена, и не
надеялся, что еще испытает когда-нибудь.
Сидя рядом на кушетке, они открыли альбом. Нэнси поглядывала на него и счастливо улыбалась.
- Это все-таки так приятно, - сказала она. - Так приятно, что ты такой милый и так красиво вспоминаешь обо мне. Знаешь что?.. Знала бы я это тогда! Когда ты уехал, я ненавидела тебя!
- Как жаль, - мягко сказал он.
- Теперь - нет, - успокоила она его и добавила внезапно: - Поцелуй меня, и давай помиримся... Вот
так верная я жена, нечего сказать, - заметила она через минуту. - А ведь я, как вышла замуж, целовалась раза два, не больше.
Он был взволнован, но еще больше смущен. Кого он целовал? Нэнси? Или только память о ней?
Или эту милую робкую незнакомку, которая тут же отвернулась от него и перевернула страницу альбома?
- Погоди, - сказал он. - Я не успеваю разглядеть фотографии.
- Больше не надо. Я и сама не каменная.
Дональд произнес одну из тех банальностей, которые могут значить и очень много, и ничего.
- Правда, ужасно будет, если мы влюбимся друг в друга снова?
- Перестань! - Она рассмеялась, часто дыша. - Все прошло. Это была минута. Минута, которую мне
надо забыть.
- Не рассказывай мужу.
- Отчего же? Я рассказываю ему все.
- Ему будет неприятно. Никогда такое не рассказывай мужчине.
- Хорошо, не буду.
- Поцелуй меня еще, - вырвалось у него, но Нэнси перевернула страницу и радостно показывала
ему фотографию.
- Вот ты, - воскликнула она. - Смотри!
Он поглядел. Маленький мальчик в коротких штанишках стоит на пристани, позади него видна парусная лодка.
- Я помню тот день, когда тебя снимали. - Она с торжеством рассмеялась. - Снимала Китти, а я потом стащила у нее карточку.
Первую минуту Дональд не узнавал себя на фотографии, потом пригляделся и окончательно убедился, что это не он.
- Это не я, - сказал он.
- Нет, ты. Мы ездили в Фронтенак, вспомни, в то самое лето, когда мы... ну, когда мы лазили в пещеру.
- Какую пещеру? Я был в Фронтенаке всего три дня. - Он склонился к слегка пожелтевшей фотографии. - Нет, это не я. Это Дональд Бауэрс. Мы были немного похожи.
Теперь она глядела на него во все глаза, откинувшись назад, как-то сразу отдалившись.
- Но ты и есть Дональд Бауэрс! - воскликнула она. Ее голос звучал громче. - Хотя нет. Ты Дональд
Плант.
- Я так и сказал, когда звонил.
Она вскочила, ее лицо исказилось.
- Плант! Бауэрс! Что я, с ума сошла? Или это виски? Я немного выпила перед тем, как ты приехал.
Стойка! Что я тебе наговорила?
Он переворачивал страницу альбома, стараясь сохранить невозмутимость индейца.
- Ничего особенного, - сказал он. Перед его глазами снова и снова мелькали картины, в которых не
было его: Фронтенак - пещера - Дональд Бауэрс. - Все-таки это ты меня бросила!
Нэнси говорила с другого конца комнаты.
- Никому об этом не рассказывай, - сказала она. - Пойдут слухи.
- А рассказывать-то и не о чем, - неуверенно ответил он. И подумал: "А ведь она и правда была испорченная девчонка".
Его вдруг охватила жгучая бешеная ревность к маленькому Дональду Бауэрсу - его, который навсегда покончил с ревностью. В пять шагов он оказался рядом с ней, и словно не было ни этих двадцати
лет, ни Уолтера Гиффорда.
- Поцелуй меня еще, Нэнси, - сказал он и встал на одно колено возле ее кресла, положив ей руку на
плечо. Но Нэнси отпрянула.
- Вы опоздаете на самолет.
- Ерунда. Я могу полететь на другом. Какая разница!
- Пожалуйста, уходите, - холодно сказала она. - И постарайтесь понять, каково мне сейчас.
- Неужели вы совсем меня не помните, - вскричал он, - неужели забыли Дональда Планта!
- Помню. Вас я тоже помню... Но все это было так давно. - У нее снова стал чужой голос. - Такси
вызовите по номеру Крествуд, восемьдесят четыре восемьдесят четыре.
На пути в аэропорт Дональд все время покачивал головой. Он уже пришел в себя, но не мог до
конца понять, что произошло. Только когда самолет, взревев, устремился в черное небо и они, оторвавшись от земли, сами стали маленькой планетой, отрезанной от остального мира, он подумал, что
этот случай чем-то напоминает их полет Пять ослепительных минут он жил, как безумный, сразу в
двух мирах. Неразделимо и безнадежно смешались в нем двенадцатилетний мальчик и тридцатидвухлетний мужчина.
А еще он многое потерял за эти часы между рейсами, но вторую половину жизни человек постоянно что-то теряет, а потому, вероятно, это было не так уж важно.
1941
Ф.Скотт Фицджеральд. Трудный больной
Пер. - О.Сорока. Авт.сб. "Последний магнат. Рассказы. Эссе". М, "Правда", 1990.
1
- Пустите бут... о го-осподи! Отдайте сию минуту! Не смейте опять напиваться! Да ну же - отдайте
бутылку. Я ведь вам сказала: ночь продежурю и буду давать понемногу. Отдайте. Если будете так
продолжать, в каком же виде вы поедете. Ну дайте - пусть у меня будет - я половину в ней оставлю.
Пу-сти-те. Вы слышали, что доктор Картер говорил. Ночью я буду дежурить, давать из нее понемногу, наливать из нее порциями... Да ну же... Я сказала ведь вам... Я устала, не могу драться с вами весь
вечер... Что ж, пейте и упейтесь до смерти, как идиот.
- Пива хотите? - спросил он.
- Не хочу я никакого пива. О господи, опять мне любоваться на вас пьяного.
- А ночью я кока-колу буду пить, - сообщил он.
Девушка присела на кровать, тяжело перевела дух.
- Но какими-то доводами вас можно пронять?
- Только не вашими. Не мешайте - пролиться может.
"Не мое, совсем не мое это дело вытрезвлять его", - подумала она. И снова борьба за бутылку, но на
этот раз он уступил, посидел отвернувшись, уронив голову в ладони, - опять дернулся к спиртному.
- Только дотроньтесь, я ее брошу и разобью - быстро проговорила медсестра. - Вот увидите - в
ванной, об кафельный пол.
- И я наступлю на осколок, или сами наступите.
- Так не рвите из рук - о-ох, вы ж обещали...
Она вдруг разжала пальцы, и бутылка скользнула из руки гладкой торпедой, мелькнув красным и
черным и надписью: "СЭР ГАЛАХАД, ОЧИЩЕННЫЙ ЛУИСВИЛЛСКИЙ ДЖИН". Перехватив за
горлышко, он швырнул бутылку в открытую дверь ванной. Она разбилась вдребезги, и на время
наступила тишина, и девушка раскрыла "Унесенные ветром", где обо всем таком красивом и давно
ушедшем. Но ее тревожило, а вдруг он пойдет босой в ванную и порежет ногу, и она то и дело отрывалась от книги, поднимала на него глаза. Спать очень хочется... Теперь он заплакал и сделался похож на того старого еврея, за которым она ходила тогда в Калифорнии; тому часто надо было в ванную. А с этим, с алкоголиком, сплошная мука. Но, видно, что-то мне в нем нравится, подумала она.
Подстегнув себя: "Работай!" - она встала, заставила дверь в ванную стулом. Ко сну клонило потому, что больной поднял ее рано, послал за газетой с отчетом о матче Йель - Дармут, и за весь день не
удалось отлучиться домой. Перед вечером к нему приехала родственница, пришлось пережидать визит в холле, сидеть на сквозняке в одном форменном платье, без свитера.
Кое-как она приготовила больного ко сну, накинула халат ему на спину, понуро сгорбленную над
письменным столом, другим халатом укрыла колени. Сама села в кресло-качалку, но сонливость уже
прошла; надо было заполнить графы листка, поднакопилось за день, и, неслышно ступая, она взяла
со стола карандаш, стала записывать:
Пульс 120
Дыхание 25
Температура 98 - 98,4 - 98,2
Замечания - их у нее хоть отбавляй:
"Пытался завладеть бутылкой, с джином. Бросил на пол, разбил".
Нет, лучше так записать: "В последовавшей борьбе бутылка упала и разбилась. Вообще, больной
проявил себя как трудный". Хотела добавить: "В жизни больше не возьму алкоголика", но это как-то
не шло к служебному тону замечаний. В семь надо будет проснуться (она умела поднимать себя в
назначенное время) и прибрать все до прихода его племянницы. Раз уж взялась - не жалуйся. Но,
взглянув ему в лицо, изможденное, бескровно-белое, и снова проверив частоту дыхания, она подумала недоуменно: "Что это на него нашло?" Днем больной был такой милый, нарисовал ей целую комическую серию - просто для забавы - и подарил на память. Она непременно вставит в рамку, повесит у себя в комнате. Девушка живо ощутила снова, как он своими тощими руками рвал у нее из рук
бутылку. И с какими безобразными словами... И вспомнилось, что сказал ему вчера врач: "Такой человек, и так себя в могилу гнать".
Она устала, ей не хотелось подбирать сейчас битое стекло, - вот только дыхание у больного станет
ровным, и она уложит его в кровать. Но все же надо убрать прежде в ванной; разыскивая на полу последние осколки, она подумала: "Зачем мне это? И зачем он безобразничает?"
Сердито она поднялась с колен, посмотрела на спящего. Тонкий, точеный профиль и слабый храп,
словно вздохи - тихие, дальние, безутешные. Вчера доктор как-то странно покачал головой, и она по
сути поняла, что ей не справиться с этим пациентом. Да и на ее учетной карточке в агентстве есть
пометка, сделанная по совету старших: "Алкоголиков не берет".
Что требует долг, она выполнила; но из всей возни с бутылкой ей припомнилось только, как она
ударилась локтем о дверь, и он спросил, не больно ли ей, и она укорила его: "Вы так высоко себя
цените, а знали бы, что про вас говорят..." - но тут же поняла, что ему давно уж это все равно.
Теперь стекло все подобрано, разве что щеткой пройтись для верности; сквозь это разбитое стекло, подумалось ей, они только мелькнули друг другу, как сквозь растреснутое окошко. Он не знает ни про ее сестер, ни про Билла Марксу, за которого она чуть-чуть не вышла замуж, а она не
знает, из-за чего он так опустился. Ведь на комоде у него фотография: молодая жена и два сына, и
он сам - подтянутый, красивый, каким, верно, и был еще пять лет назад. Такая все это бессмыслица,
- и, бинтуя порезанный при уборке палец, она твердо решила никогда больше не брать алкоголиков.
2
Следующий вечер был празднично-озорной - канун Дня всех святых. Боковые стекла автобуса покрывала сетка трещин - какой-то шутник уже постарался, - и, опасаясь, как бы расколотое стекло не
вылетело, она прошла в конец автобуса, на места для негров. Пациент дал ей чек, но в этот предвечерний час негде уже было получить по нему, а в кошельке у нее оставалось две монетки: четвертак
и цент.
В агентстве миссис Хиксон она встретила двух знакомых медсестер, ожидавших в холле.
- Кто у тебя сейчас?
- Алкоголик, - сказала она.
- Ах, да, Грета Хокс мне говорила - тот художник, что в отеле "Лесопарк".
- Да.
- Я слышала, он из нахальных.
- Со мной он все время вел себя сносно, - солгала она. - Нельзя же с ними обращаться, как будто
они на принудительном лечении.
- Ты не сердись - просто я слышала, эти господа... ну, ты понимаешь... в постель не прочь затащить...
- Ах, замолчи, - сказала она с досадой, неожиданной для нее самой.
Через минуту к ним вышла миссис Хиксон и, попросив остальных подождать, кивком пригласила
ее в кабинет.
- Я недаром не люблю направлять молоденьких девушек к этого рода пациентам, - начала миссис Хиксон. - Мне передали, вы звонили из отеля.
- Да нет, ничего страшного не было, миссис Хиксон. Он ведь был не в себе, а плохого ничего он
мне не сделал. Я больше тревожилась за свою служебную репутацию. А утром и днем вчера он был
прямо милый. Нарисовал мне...
- Я не хотела посылать вас туда. - Миссис Хиксон полистала учетные карточки. - Туберкулезных
вы берете, помнится? Да, я вижу, берете. У меня есть одна...
Настойчиво звенел телефон. Девушка слушала, как миссис Хиксон нижет четкие слова:
- Я сделаю, что могу, - просто в данном случае решает врач... Это не входит в мою компетенцию... А, здравствуй, Хэтти. Нет, не могу сейчас. Слушай-ка, нет ли у тебя под рукой сестры - специалистки по алкоголикам? Тут требуется одному в отеле "Лесопарк". Проверь и позвони мне
сейчас, ладно?
Она положила трубку.
- Вы посидите пока в холле. А все же, что он за фрукт, этот художник? Позволял себе что-нибудь
с вами?
- Не давал сделать укол, хватал за руку, - сказала девушка.
- Ясно, Мужчина в Когтях Недуга, - проворчала миссис Хиксон. - Пусть в лечебницу ложится. Я
тут сейчас оформлю пациентку, отдохнете при ней немного. Пожилая...
Опять зазвонил телефон.
- Я слушаю, Хэтти... Ну, а Свенсен? Уж этой здоровенной девке, кажется, никакой алкоголик не
страшен... А Джозефина Маркхэм? Она вроде бы в вашем доме живет?.. Позови ее к телефону. (Минутная пауза). Джо, ты не взяла бы известного рисовальщика комиксов, художника-юмориста или
как они себя там именуют. Он в отеле "Лесопарк"... Нет, не знаю, но лечит доктор Картер и часов в
десять вечера заедет туда. (Затем длинные паузы, перемежаемые репликами миссис Хиксон). Так,
так... Конечно, я могу тебя понять. Да, но этот не то чтобы из опасных, просто немножко трудный. Я
вообще не люблю посылать девушек в гостиницы - знаю, с какими подонками там сталкиваешься...
Да нет, найду кого-нибудь. Даже и вечером, сейчас. Не тревожься, спасибо. Скажи Хэтти - я надеюсь, шляпа будет платью в тон...
Миссис Хиксон положила трубку, сделала пометки в блокноте. Она была женщина энергичная,
деловая, сама начинала сестрой и прошла сквозь все мытарства; еще будучи сестрой-стажеркой, перегруженной, переутомленной, гордой идеалисткой, - она испытала на себе нагловатость молодых
врачей и беспардонность первых пациентов, хотевших тут же взнуздать ее и впрячь в безропотное
услужение старости. Она резко повернулась от стола: - Так вы каких предпочли бы? Я уже сказала, у меня есть славная старушка...
В карих глазах медсестры зажглось воспоминание о недавнем фильме про Пастера, о книге про
Флоренс Найтингейл, которую они читали в училище. Зажглось то чувство, с каким они студентками
порхали через морозную улицу из корпуса в корпус Филадельфийских клиник, гордясь новыми сестринскими накидками не меньше, чем гордятся меховыми палантинами светские девицы, входящие
в "Гранд-отель" на свой первый бал.
- Я... я, пожалуй, все-таки опять попробую, - сказала она сквозь верещанье телефона. - Раз нельзя
никого сейчас найти, я вернусь к больному.
- Ну вот - то наотрез отказываетесь иметь дело с алкоголиками, то сами хотите вернуться.
- Я, пожалуй, преувеличила трудности. По-моему, я все же смогу помочь ему.
- Дело ваше. Но ведь он за руки хватает.
- А я сильнее, - сказала девушка. - Взгляните, какие у меня запястья: в Уинсборо я два года играла в
баскетбольной команде старшеклассниц. Я с ним справлюсь.
Миссис Хиксон целую минуту глядела на нее.
- Что ж, ладно, - сказала она. - Но не забывайте: все их пьяные слова абсолютно безответственны. Я
через все это прошла; условьтесь с коридорным, чтобы вызвать, если надо, поскольку тут ни за что
нельзя ручаться, - есть алкоголики приятные и есть неприятные, но на гадости способны они все.
- Я не забуду, - сказала девушка.
Она вышла на улицу - вечер был странно светлый, косо сеялась мелкая изморось, забеливая черно-синее небо. Автобус был тот самый, которым она ехала в город, но разбитых стекол стало, кажется, больше, и раздраженный водитель грозил изуродовать этих мальчишек, пусть только попадутся в руки. Она понимала, в нем просто накопилась глухая досада на все, как в ней - досада на
алкоголиков. А сейчас, когда она войдет в номер к своему пациенту и увидит, какой он потерянный, несчастный, она почувствует к нему презрение и жалость.
Она вышла из автобуса, спустилась по длинной лестнице к отелю; холодный воздух взбодрил ее.
Она потому будет ходить за ним, что никто другой не хочет, - ведь лучших людей ее профессии
всегда влекли больные, от которых все отказывались.
Она постучалась в дверь, зная теперь, с какими словами к нему обратиться.
Он открыл ей сам. Он был одет парадно, в смокинге, даже в котелке уже, но без галстука и без запонок.
- А, привет, - сказал он рассеянно. - Рад, что вы вернулись. А я проснулся вот и решил выйти.
Ну как, раздобыли ночную сиделку?
- Я сама справлюсь, - сказала она. - Я решила дежурить круглосуточно.
Он улыбнулся радушно-безразличной улыбкой.
- Вижу, вас нет, а откуда-то уверенность - вернетесь. Пожалуйста, найдите мои запонки. Они
либо в черепаховой шкатулке, либо...
Он встряхнулся, оправляя смокинг, убрал манжеты в рукава.
- Я ведь подумал, вы совсем ушли, - сказал он небрежно.
- Я тоже думала, что ухожу совсем.
- Там на столе, - сказал он, - увидите целый комикс, для вас нарисовал.
- Вы собираетесь куда-то в гости? - спросила она.
- К секретарю президента, - сказал он. - Ужасно утомило это одевание. Хотел уже махнуть рукой,
но тут вы пришли. Закажите мне хересу.
- Одну рюмку, - устало согласилась она.
Вскоре он окликнул ее из ванной:
- О сестра, сестра, Свет Моей Жизни, а где другая запонка?
- Я вдену вам.
В ванной она отметила ознобную бледность его лица, ощутила идущий от него смешанный запах
мятной и джина.
- Но вы ненадолго? - спросила она. - В десять заедет доктор Картер.
- Да что доктор! Я и вас с собой беру.
- Меня? - воскликнула она. - В свитере и юбке? Тоже скажете!
- Без вас я никуда.
- И не надо, и ложитесь. У вас постельный режим. Как будто нельзя отложить до завтра.
- Разумеется, нельзя.
- Так уж и "разумеется".
Она дотянулась, повязала ему галстук; он измял пластрон, вдевая запонки, и она предложила:
- Вы наденьте другую, немятую, раз у вас такая неотложная и приятная встреча.
- Хорошо, но только сам надену.
- А почему - сам? - возмутилась она. - Почему вы не хотите, чтобы я помогла? Зачем тогда вам
сиделка - какая от меня тут польза?
Он вдруг покорно сел на крышку унитаза.
- Ладно, одевайте.
- Да не хватайте за руку, - сказала она и вслед за тем; - Виновата.
- Ничего, ничего. Мне не больно. Сами сейчас убедитесь.
Она сняла с него смокинг, жилет, крахмальную сорочку и хотела стянуть нижнюю рубашку через
голову, но он, придержав ее руку, затянулся напоследок сигаретой.
- Теперь глядите, - сказал он. - Раз, два, три.
Она стянула рубашку, и тут же он ткнул себя в грудь рдяно-серым концом сигареты, точно кинжалом в сердце - загасил, вдавил окурок в нехороший бурый струп слева на ребре, размером с долларовую монету; случайная искра слетела при этом на живот, и он слегка охнул.
Теперь мне надо проявить закалку, подумала Девушка. Она видела у него в шкатулке три фронтовые медали, но и сама она не раз встречала опасности лицом к лицу, в том числе туберкулез, а однажды что-то похуже; а что именно, врач не сказал, и она так до сих пор и не простила ему утайки.
- Вам от этой штуки, конечно, мало радости, - сказала она бодро, обтирая его губкой. - Так и не хочет заживать?
- Она не заживет. Она злокачественная.
- Все равно это не оправдание тому, что вы над собой творите.
Он взглянул на нее большими темно-карими глазами - остро, отчужденно, потерянно. И в этом
секундном взгляде-сигнале она прочла волю не к жизни, а к смерти, и поняла, что тут не помогут ни
выучка ее, ни опыт. Он встал на ноги, держась за умывальник и устремив взгляд куда-то перед собой. - Ну нет, уж если я остаюсь при вас, то напиваться не дам, - сказала она.
И внезапно поняла, что не спиртное он ищет. Он смотрел в угол, куда швырнул бутылку вчера
вечером. Сестра не отрывала глаз от красивого его лица, немощного и непокорного, боясь хотя бы
слегка повернуть голову в тот угол, потому что знала - там, куда он смотрит, стоит смерть. Смерть
была ей знакома - смертный хрип и характерный запах, но никогда не доводилось ей видеть смерть,
еще не вошедшую в тело, - а он видит ее сейчас в углу ванной, смерть стоит там, следит, как он
кашлянул, плюнул, растер по галуну брюк. Плевок блеснул, пузырясь, - последний слабый вызов
смерти...
Назавтра она пыталась рассказать об этом миссис Хиксон:
- Все напрасно, как ни старайся. Пусть бы он мне вовсе вывернул запястья - и то б не так больно. А
тут видишь, что ничем ты не поможешь, и просто руки опускаются.
1937
Э. Хемингуэй. Новелла из сборника «В наше время»
Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом,
молился: "Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай,
чтобы меня не убили, и я буду жить, как ты велишь. Я верю в тебя, я всем буду говорить, что только в тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе". Огонь передвинулся дальше по линии.
Мы стали исправлять окоп, а наутро взошло солнце, и день был жаркий, и тихий, и радостный, и
спокойный. На следующий вечер, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той
девушке, с которой ушел наверх в "Вилла-Росса". И никому никогда не говорил.
ДОМА
Кребс ушел на фронт из методистского колледжа в Канзасе. Есть фотография, на которой он
стоит среди студентов-однокурсников, и все они в воротничках совершенно одинакового фасона и
высоты. В 1917 году он записался во флот и вернулся в Штаты только после того, как вторая дивизия
была отозвана с Рейна летом 1919 года.
Есть фотография, на которой он и еще один капрал сняты где-то на Рейне с двумя немецкими девушками. Мундиры на Кребсе и его приятеле кажутся слишком узкими. Девушки некрасивы. Рейна
на фотографии не видно.
К тому времени, когда Кребс вернулся в свой родной город в штате Оклахома, героев уже перестали чествовать. Он вернулся слишком поздно. Всем жителям города, которые побывали на войне,
устраивали торжественную встречу. В этом было немало военной истерии. А теперь наступила реакция. Всем как будто казалось, что смешно возвращаться так поздно, через несколько лет после окончания войны.
Сначала Кребсу, побывавшему под Белло Суассоном, в Шампани, Сен-Мигеле и в Аргоннском лесу, совсем не хотелось разговаривать о войне. Потом у него возникла потребность говорить, но никому уже не хотелось слушать. В городе до того наслушались рассказов о немецких зверствах, что
действительные события уже не производили впечатления. Кребс понял, что нужно врать, для того
чтобы тебя слушали. И, соврав дважды, почувствовал отвращение к войне и к разговорам о ней. Отвращение ко всему, которое он часто испытывал на фронте, снова овладело им оттого, что ему пришлось врать. То время, вспоминая о котором он чувствовал внутреннее спокойствие и ясность, то
далекое время, когда он делал единственное, что подобает делать мужчине, делал легко и без принуждения, сначала утратило все, что было в нем ценного, а потом и само позабылось.
Врал он безобидно, приписывая себе то, что делали, видели и слышали другие, и выдавая за правду
фантастические слухи, ходившие в солдатской среде. Но в бильярдной эти выдумки не имели успеха.
Его знакомые, которые слыхали обстоятельные рассказы о немецких женщинах, прикованных к пу-
леметам в Арденнском лесу, как патриоты не интересовались неприкованными немецкими пулеметчиками и были равнодушны к его рассказам.
Кребсу стало противно преувеличивать и выдумывать, и когда он встречался с настоящим фронтовиком, то, поговорив с ним несколько минут в курительной на танцевальном вечере, он впадал в
привычный тон бывалого солдата среди других солдат: на фронте он, мол, все время чувствовал
только одно - непрестанный, тошнотворный страх. Так он потерял и последнее.
Лето шло к концу, и все это время он вставал поздно, ходил в библиотеку менять книги, завтракал
дома, читал, сидя на крыльце, пока не надоест, а потом отправлялся в город провести самые жаркие
часы в прохладной темноте бильярдной. Он любил играть на бильярде.
По вечерам он упражнялся на кларнете, гулял по городу, читал и ложился спать. Для двух младших
сестер он все еще был героем. Мать стала бы подавать ему завтрак в постель, если бы он этого потребовал. Она часто входила к нему, когда он лежал в постели, и просила рассказать ей о войне, но
слушала невнимательно. Отец его был неразговорчив.
До того как Кребс ушел на фронт, ему никогда не позволяли брать отцовский автомобиль. Отец его
был агент по продаже недвижимости, и ему каждую минуту могла понадобиться машина, чтобы везти клиентов за город для осмотра земельных участков. Машина всегда стояла перед зданием Первого национального банка, где на втором этаже помещалась контора его отца. И теперь, после войны,
машина была все та же.
В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком
сложном мире давно установившейся дружбы и мимолетных ссор, что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир. Но смотреть на них он любил. Так много было красивых девушек! Почти все они были стриженые. Когда он уезжал, стрижеными ходили только маленькие девочки, а из девушек только самые бойкие. Все они носили джемперы и блузки с круглыми воротниками. Такова была мода. Он любил смотреть с крыльца, как они прохаживаются по другой стороне
улицы. Он любил смотреть, как они гуляют в тени деревьев. Ему нравились круглые воротнички,
выпущенные из-под джемперов. Ему нравились шелковые чулки и туфли без каблуков. Нравились
стриженые волосы, нравилась их походка.
Когда он видел их в центре города, они не казались ему такими привлекательными. В греческой
кондитерской они просто не нравились ему. В сущности, он в них не нуждался. Они были слишком
сложны для него. Было тут и другое. Он смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была
женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел
больше врать. Дело того не стоило.
Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя
ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято
делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда.
Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастался тем, что
женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом
он хвастался, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не
может уснуть без женщины.
Все это было вранье. И то и другое было вранье. Женщина вовсе не нужна, пока не начнешь о ней
думать. Он научился этому в армии. А тогда ее находишь, рано или поздно. Когда приходит время,
женщина всегда найдется. И заботиться не надо. Рано или поздно оно само придет. Он научился этому в армии.
Теперь он был бы не прочь иметь женщину, но только так, чтоб она пришла к нему сама и чтоб не
нужно было разговаривать. Но здесь все это было слишком сложно. Он знал, что не сможет проделывать все, что полагается. Дело того не стоило. Вот чем были хороши француженки и немки. Никаких этих разговоров. Много разговаривать было трудно, да оно и ни к чему. Все было очень просто и
не мешало им оставаться друзьями. Он думал о Франции, а потом начал думать о Германии. В общем, Германия ему понравилась больше. Ему не хотелось уезжать из Германии. Не хотелось возвращаться домой. И все-таки он вернулся. И сидел на парадном крыльце.
Ему нравились девушки, которые прохаживались по другой стороне улицы. По внешности они
нравились ему гораздо больше, чем француженки и немки, - но мир, в котором они жили, был не тот
мир, в котором жил он. Ему хотелось бы, чтоб с ним была одна из них. Но дело того не стоило. Они
были так привлекательны. Ему нравился этот тип. Он волновал его. Но ему не хотелось тратить вре-
мя на разговоры. Не так уж была ему нужна женщина. Дело того не стоило. Во всяком случае - не
теперь, когда жизнь только начинала налаживаться.
Он сидел на ступеньках, читая книгу. Это была история войны, и он читал обо всех боях, в которых
ему пришлось участвовать. До сих пор ему не попадалось книги интереснее этой. Он жалел, что в
ней мало карт, и предвкушал то удовольствие, с каким прочтет все действительно хорошие книги о
войне, когда они будут изданы с хорошими, подробными картами. Только теперь он узнавал о войне
по-настоящему. Оказывается, он был хорошим солдатом. Это совсем другое дело.
Однажды утром, после того как он пробыл дома около месяца, мать вошла к нему в спальню и присела на кровать. Разгладив складки на переднике, она сказала:
- Вчера вечером я говорила с отцом, Гарольд. Он разрешил тебе брать машину по вечерам.
- Да? - сказал Кребс, еще не совсем проснувшись. - Брать машину?
- Отец давно предлагает, чтоб ты брал машину по вечерам, когда захочешь, но мы только вчера об
этом уговорились.
- Верно, это ты его заставила, - сказал Кребс.
- Нет. Отец сам об этом заговорил.
- Да? Как же! Верно, это ты его заставила.
Кребс сел в постели.
- Ты сойдешь вниз к завтраку, Гарольд? - спросила мать.
- Как только оденусь, - ответил Кребс.
Мать вышла из комнаты, и ему было слышно, как что-то жарилось внизу, пока он умывался, брился и одевался, готовясь сойти в столовую. Пока он завтракал, сестра принесла почту.
- Здравствуй, Гарри! - сказала она. - Соня ты этакий! Ты бы уж совсем не вставал.
Кребс посмотрел на сестру. Он ее любил. Это была его любимица.
- Газета есть? - спросил он.
Она протянула ему "Канзас-Сити стар", и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку
спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей,
чтобы можно было читать во время еды.
- Гарольд, - мать стояла в дверях кухни, - Гарольд, не изомни, пожалуйста, газету. Отец не станет
читать измятую.
- Я не изомну, - сказал Кребс.
Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.
- Сегодня в школе мы играем в бейсбол, - сказала она. - Я буду подавать.
- Это хорошо, - сказал Кребс. - Ну, как там у вас в команде?
- Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня учил. Другие девочки играют
неважно.
- Да? - сказал Кребс.
- Я всем говорю, что ты - мой поклонник. Ведь ты мой поклонник, Гарри?
- Ну, еще бы.
- Разве брат не может ухаживать за сестрой, только потому, что он брат?
- Не знаю.
- Как же ты не знаешь? Ведь ты мог бы ухаживать за мной, если бы я была взрослая?
- Ну да. Я и теперь твой поклонник.
- Правда, Гарри?
- Ну да.
- Ты меня любишь?
- Угу.
- И всегда будешь любить?
- Ну да.
- Ты пойдешь смотреть, как я играю?
- Может быть.
- Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю.
Из кухни пришла мать Кребса. Она несла тарелку с яичницей и поджаренным салом и другую тарелку с гречневыми блинчиками.
- Поди к себе, Эллен, - сказала она. - Мне нужно поговорить с Гарольдом.
Она поставила перед Гарольдом яичницу с салом и принесла кувшин с кленовой патокой к блинчикам. Потом села за стол против Кребса.
- Может быть, ты оставишь газету на минутку, Гарольд? - сказала она.
Кребс положил газету на стол и разгладил ее.
- Ты еще не решил, что будешь делать, Гарольд? - спросила мать, снимая очки.
- Нет еще, - сказал Кребс.
- Тебе не кажется, что пора об этом подумать?
Мать не хотела его уколоть. Она казалась озабоченной.
- Я еще не думал, - сказал Кребс.
- Бог всем велит работать, - сказала мать. - В царстве божием не должно быть лентяев.
- Я не в царстве божием, - ответил Кребс.
- Все мы в царстве божием.
Как всегда, Кребс чувствовал себя неловко и злился.
- Я так беспокоюсь за тебя, Гарольд, - продолжала мать. - Я знаю, каким ты подвергался искушениям. Я знаю, что мужчины слабы. Я еще не забыла, что рассказывал твой покойный дедушка, а мой
отец, о Гражданской войне, и всегда молилась за тебя. Я и сейчас целыми днями молюсь за тебя.
Кребс смотрел, как застывает свиное сало у него на тарелке.
- Отец тоже беспокоится, - продолжала она. - Ему кажется, что у тебя нет честолюбия, нет определенной цели в жизни. Чарли Симмонс тебе ровесник, а уже на хорошем месте и собирается жениться. Все молодые люди устраиваются, все хотят чего-нибудь добиться. Ты сам видишь, что такие, как
Чарли Симмонс, уже вышли на дорогу, и общество может гордиться ими.
Кребс молчал.
- Не гляди так, Гарольд, - сказала мать. - Ты знаешь, мы любим тебя, и я для твоей же пользы хочу
поговорить с тобой. Отец не хочет стеснять твоей свободы. Он разрешает тебе брать машину. Если
тебе захочется покатать какую-нибудь девушку из хорошей семьи, мы будем только рады. Тебе следует развлечься. Но нужно же искать работу, Гарольд. Отцу все равно, за какое бы дело ты ни взялся.
Всякий труд почетен, говорит он. Но с чего-нибудь надо же начинать. Он просил меня поговорить с
тобой сегодня. Может быть, ты зашел бы к нему в контору?
- Это все? - спросил Кребс.
- Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?
- Да, не люблю, - сказал Кребс.
Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.
- Я никого не люблю, - сказал Кребс.
Безнадежное дело. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить
так. Он только огорчил мать. Он подошел к ней и взял ее за руку. Она плакала, закрыв лицо руками.
- Я не то хотел сказать. Я просто был раздражен, - сказал Кребс. - Я не хотел сказать, что я не люблю тебя...
Мать все плакала. Кребс обнял ее за плечи.
- Ты не веришь мне, мама?
Мать покачала головой.
- Ну, прошу тебя, мама. Прошу тебя, поверь мне.
- Хорошо, - сказала мать, всхлипывая, и взглянула на него. - Я верю тебе, Гарольд.
Кребс поцеловал ее в голову. Она прижалась к нему лицом.
- Я тебе мать, - сказала она. - Я носила тебя на руках, когда ты был совсем крошкой.
Кребс почувствовал тошноту и смутное отвращение.
- Я знаю, мамочка, - сказал он. - Я постараюсь быть тебе хорошим сыном.
- Может быть, ты станешь на колени и помолишься вместе со мной, Гарольд? - спросила мать.
Они стали на колени перед обеденным столом, и мать Кребса прочла молитву.
- А теперь помолись ты, Гарольд, - сказала она.
- Не могу, - ответил Кребс.
- Постарайся, Гарольд.
- Не могу.
- Хочешь, я помолюсь за тебя?
- Хорошо.
Мать помолилась за него, а потом они встали, и Кребс поцеловал мать и ушел из дому. Он так старался не осложнять свою жизнь. Однако все это нисколько его не тронуло. Ему стало жаль мать, и
поэтому он солгал. Он поедет в Канзас-Сити, найдет себе работу, и тогда она успокоится. Перед отъездом придется, может быть, выдержать еще одну сцену. К отцу в контору он не пойдет. Избавится
хоть от этого. Ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно. Без этого просто нельзя. Во всяком случае,
теперь с этим покончено. Он пойдет на школьный двор смотреть, как Эллен играет в бейсбол.
Белого коня хлестали по ногам, пока он не поднялся на колени. Пикадор расправил стремена,
подтянул подпругу и вскочил в седло. Внутренности коня висели голубым клубком и болтались взад
и вперед, когда он пустился галопом, подгоняемый моно[1], которые хлестали его сзади прутьями по
ногам. Судорожным галопом он проскакал вдоль барьера. Потом сразу остановился, и один из моно
взял его под уздцы и повел вперед. Пикадор вонзил шпоры, пригнулся и погрозил быку пикой. Кровь
била струей из раны между передними ногами коня. Он дрожал и шатался. Бык никак не мог решить,
стоит ли ему нападать.
Э. Хемингуэй. Из сборника «В наше время» Кошка под дождем
В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на
лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже, из окон было видно море.
Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие
пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и сад. Итальянцы
приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел
под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и
снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни
одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь.
Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым
столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не
попадали капли.
– Я пойду вниз и принесу киску, – сказала американка.
– Давай я пойду, – отозвался с кровати ее муж.
– Нет, я сама. Бедная киска! Прячется от дождя под столом.
Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки.
– Смотри не промокни, – сказал он.
Американка спустилась по лестнице, и, когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля
встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий
старик.
– Il piove[2], – сказала американка. Ей нравился хозяин отеля.
– Si, si, signora, brutto tempo[3]. Сегодня очень плохая погода.
Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный
вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки.
Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще
сильнее. По пустой площади, направляясь к кафе, шел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна
1 прислужники на арене
2 дождь идет (итал.)
3 да, да, синьора, ужасная погода (итал.)
быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом. Когда она стояла на пороге, над
ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату.
– Чтобы вы не промокли, – улыбаясь, сказала она по-итальянски. Конечно, это хозяин послал
ее.
Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей
комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула не нее.
– Ha perduta qualque cosa, signora?[4]
– Здесь была кошка, – сказала молодая американка.
– Кошка?
– Si, il gatto[5].
– Кошка? – служанка засмеялась. – Кошка под дождем?
– Да, – сказала она, – здесь, под столиком. – И потом: – А мне так хотелось ее, так хотелось
киску…
Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным.
– Пойдемте, синьора, – сказала она, – лучше вернемся. Вы промокнете.
– Ну что же, пойдем, – сказала американка.
Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у
входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, padrone[ 6] поклонился
ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии padrone она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя
необычайно значительной. Она поднялась по лестнице. Открыла дверь в комнату. Джордж лежал на
кровати и читал.
– Ну, принесла кошку? – спросил он, опуская книгу.
– Ее уже нет.
– Куда же она девалась? – сказал он, на секунду отрываясь от книги.
Она села на край кровати.
– Мне так хотелось ее, – сказала она. – Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем.
Джордж уже снова читал.
Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя
разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею.
– Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы? – спросила она, снова глядя на свой профиль.
Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко остриженными, как у мальчика, волосами.
– Мне нравится так, как сейчас.
– Мне надоело, – сказала она. – Мне так надоело быть похожей на мальчика.
Джордж переменил позу. С тех пор как она заговорила, он не сводил с нее глаз.
– Ты сегодня очень хорошенькая, – сказал он.
Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно.
– Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать, – сказала она. – Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на
коленях и мурлыкала, когда я ее глажу.
– Мм, – сказал Джордж с кровати.
– И хочу есть за своим столом, и чтоб были свои ножи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И
хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье…
– Замолчи. Возьми почитай книжку, – сказал Джордж. Он уже снова читал.
Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь.
4 Вы что-нибудь потеряли, синьора? (итал.)
5 да, кошка (итал.)
6 хозяин (итал.)
– А все-таки я хочу кошку, – сказала она. – Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные
волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?
Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни.
В дверь постучали.
– Avanti[7], – сказал Джордж. Он поднял глаза от книги.
В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая
тяжело свешивалась у нее на руках.
– Простите, – сказала она. – Padrone посылает это синьоре.
Габриэль Гарсиа Маркес. Очень старый человек с огромными крыльями
Дождь лил третий день подряд, и они едва успевали справляться с крабами, заползающими в дом;
вдвоем они били их палками, а потом Пелайо тащил их через залитый водой двор и выбрасывал в
море. Минувшей ночью у новорожденного был жар; видимо, это было вызвано сыростью и зловонием. Мир со вторника погрузился в уныние: небо и море смешались в какую-то пепельно-серую массу; пляж, сверкавший в марте искрами песчинок, превратился в жидкую кашицу из грязи и гниющих
моллюсков. Даже в полдень свет был такой неверный, что Пелайо никак не мог разглядеть, что это
там шевелится и жалобно стонет в дальнем углу патио. Лишь подойдя совсем близко, он обнаружил,
что это был старый, очень старый человек, который упал ничком в грязь и все пытался подняться, но
не мог, потому что ему мешали огромные крылья.
Напуганный привидением, Пелайо побежал за женой Элисендой, которая в это время прикладывала компрессы больному ребенку. Вдвоем они смотрели в молчаливом оцепенении на лежащее в
грязи существо. На нем было нищенское одеяние. Несколько прядей бесцветных волос прилипло к
голому черепу, во рту почти не осталось зубов, и во всем его облике не было никакого величия.
Огромные ястребиные крылья, наполовину ощипанные, увязли в непролазной грязи двора. Пелайо и
Элисенда так долго и так внимательно его рассматривали, что наконец привыкли к его странному
виду, он им показался чуть ли не знакомым. Тогда, осмелев, они заговорили с ним, и он ответил на
каком-то непонятном диалекте хриплым голосом мореплавателя. Без долгих размышлений, тотчас
забыв о его странных крыльях, они решили, что это матрос с какого-нибудь иностранного судна, потерпевшего крушение во время бури. И все-таки они позвали на всякий случай соседку, которая знала все о том и об этом свете, и ей хватило одного взгляда, чтобы опровергнуть их предположения.
-- Это ангел,-- сказала она им.-- Наверняка его прислали за ребенком, но бедняга так стар, что не
выдержал такого ливня да и свалился на землю.
Вскоре все уже знали, что Пелайо поймал настоящего ангела. Ни у кого не поднялась рука убить
его, хотя всезнающая соседка утверждала, что современные ангелы не кто иные, как участники давнего заговора против Бога, которым удалось избежать небесной кары и укрыться на земле. Остаток
дня Пелайо присматривал за ним из окна кухни, держа на всякий случай в руке веревку, а вечером
вытащил ангела из грязи и запер в курятнике вместе с курами. В полночь, когда дождь кончился, Пелайо и Элисенда все еще продолжали бороться с крабами. Чуть погодя проснулся ребенок и попросил есть -- жар совсем прошел. Тогда они почувствовали прилив великодушия и решили между собой, что сколотят для ангела плот, дадут ему пресной воды и продуктов на три дня и отпустят на волю волн. Но когда на рассвете они вышли в патио, то увидели там почти всех жителей поселка: столпившись перед курятником, они глазели на ангела без всякого душевного трепета и просовывали в
отверстия проволочной сетки кусочки хлеба, словно это было животное из зоопарка, а не небесное
создание.
К семи часам пришел падре Гонсага, встревоженный необычной новостью. В это время у курятника появилась более почтенная публика -- теперь все толковали о том, какое будущее ожидает
пленника. Простаки считали, что его назначат алькальдом мира. Более рассудительные предполагали, что ему выпало счастье стать генералом, который выиграет все войны. Некоторые фантазеры советовали оставить его как производителя, чтобы вывести новую породу крылатых и мудрых людей,
которые навели бы порядок во вселенной. Падре Гонсага, прежде чем стать священником, был дровосеком. Подойдя к проволочной сетке, он поспешно припомнил все, что знал из катехизиса, и затем
7 войдите (итал.)
попросил открыть дверцу курятника, чтобы разглядеть вблизи этого тщедушного самца, который в
окружении остолбеневших кур и сам походил на огромную беспомощную птицу. Он сидел в углу,
подставив солнцу раскинутые крылья, среди помета и остатков завтрака, которым его угощали на
рассвете. Безразличный к происходящему, он едва поднял свои глаза, словно покрытые паутиной, и
пробормотал что-то на своем диалекте, когда падре Гонсага вошел в курятник и приветствовал его
по-латыни. Приходский священник заподозрил неладное, увидев, что эта тварь не понимает язык
Господа Бога и не обучена чтить его слуг. Приглядевшись внимательно, он обнаружил, что уж слишком похож на человека этот мнимый ангел: от него исходил невыносимый запах бродяжничества, в
крыльях его кишели паразиты, крупные перья были истрепаны земными ветрами, и вообще ничто в
его нищенском облике не соответствовало высокому ангельскому сану. Падре Гонсага покинул курятник и обратился к прихожанам с краткой проповедью об опасностях, которые таит в себе легковерие. Он напоминал им, что дьявол имеет дурной обычай надевать маски, чтобы попутать простодушных. В заключение падре справедливо заметил, что если крылья не являются существенным элементом для определения разницы между ястребом и самолетом, тем в меньшей степени они могут
служить для распознания ангелов. И все же он пообещал написать письмо епископу, чтобы тот
написал письмо примасу, а тот в свою очередь -- папе римскому, дабы окончательный вердикт поступил из самой высокой инстанции.
Его призыв к осторожности пал на бесплодную почву. Новость о пленном ангеле распространилась с такой быстротой, что через несколько часов патио превратился в рыночную площадь, и пришлось вызвать войска, чтобы штыками разогнать толпу, которая каждую минуту могла разнести
дом. У Элисенды заболела спина от бесконечной уборки мусора, и ей пришла в голову хорошая
мысль: огородить патио забором и за вход брать пять сентаво с каждого, кто хочет посмотреть на ангела.
Люди приходили аж с самой Мартиники. Приехал как-то бродячий цирк с летающим акробатом,
который несколько раз пролетал, жужжа, над толпой, но на него никто не обратил внимания, потому
что у него были крылья звездной летучей мыши, а не ангела. Отчаявшиеся больные прибывали со
всего Карибского побережья в поисках исцеления: несчастная женщина, с детства считавшая удары
своего сердца и уже сбившаяся со счета; мученик с Ямайки, который никак не мог заснуть, потому
что его мучил шум звезд; лунатик, каждую ночь встававший, чтобы разрушить то, что делал днем, и
другие с менее опасными болезнями. Посреди этого столпотворения, от которого дрожала земля, Пелайо и Элисенда хотя и бесконечно устали, но были счастливы -- меньше чем за неделю они набили
деньгами матрасы, а вереница паломников, ожидавшая своей очереди посмотреть на ангела, все тянулась, пропадая за горизонтом.
Ангел был всем этим очень недоволен. Доведенный до отчаяния адским жаром лампадок и свечей, что оставляли паломники у входа в его пристанище, он только тем и занимался, что искал в курятнике места, где бы устроиться поудобнее. Сначала его пытались кормить кристаллами камфары,
которые, если верить ученой соседке, были основной пищей ангелов. Но он от них отказался, как отказывался и впредь от аппетитных завтраков, что приносили ему паломники,-- никто не знал, то ли
потому, что действительно был ангел, то ли просто от старости. Ел он только баклажанную икру. Казалось, единственным его сверхъестественным качеством было терпение, особенно в первые дни, когда его клевали куры, охотясь за звездными паразитами, расплодившимися в его крыльях, и когда
калеки выдергивали его перья, чтобы приложить их к ранам, а менее благочестивые бросали в него
камни, чтобы он поднялся и можно было бы получше его разглядеть. Один только раз его вывели из
себя -- прижгли ему бок каленой железякой, которой клеймят телят; он так долго лежал неподвижно,
что люди решили проверить, не умер ли. Он встрепенулся, вскочил, крича что-то на своем непонятном языке, с глазами, полными слез, несколько раз ударил крыльями, подняв тучи куриного помета и
лунной пыли, и внезапный холодящий душу порыв ветра показался дыханием того света. Хотя многие считали, что была то обычная реакция боли, а не гнева, после этого случая, старались его не волновать, ибо все поняли, что его спокойствие было спокойствием затихшего урагана, а не пассивностью серафима на пенсии. В ожидании высочайшего истолкования природы пленника падре Гонсага
безуспешно пытался на месте вразумить свою ветреную паству. Но, по-видимому, в Риме понятия не
имеют о том, что значит срочность. Время уходило на то, чтобы установить, имеется ли у пришельца
пуп, обнаружилось ли в его языке что-либо сходное с арамейским, сколько таких, как он, могут поместиться на острие булавки и не есть ли это просто-напросто норвежец с крыльями. Обстоятельные
письма так и шли бы, наверно, взад и вперед до скончания века, если бы однажды провидение не положило конец терзаниям приходского священника.
Случилось так, что в те дни в местечко прибыл один из многих ярмарочных аттракционов, блуждающих по Карибскому побережью. Грустное зрелище -- женщина, превращенная в паука за то, что
однажды ослушалась родителей. Посмотреть женщину-паука стоило дешевле, чем посмотреть ангела, кроме того, разрешалось задавать ей любые вопросы о ее странном обличье, рассматривать ее и
так и эдак, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в отношении истинности свершившейся
священной кары. Это был отвратительный тарантул размером с барашка и с головой печальной девы.
Люди поражались не столько внешнему виду этого исчадия ада, сколько той скорбной правдивости,
с которой женщина-паук рассказывала подробности своего несчастья. Девчонкой она сбежала однажды из дому на танцы вопреки воле родителей, и когда, протанцевав всю ночь, она возвращалась
домой по лесной тропе, страшный удар грома расколол небо надвое, в открывшуюся расщелину метнулась из бездны ослепительная молния и превратила девушку в паука. Ее единственной пищей были комочки мясного фарша, что добрые люди бросали иногда ей в рот. Подобное чудо -- воплощение
земной правды и суда Божьего, -- естественно, должно было затмить высокомерного ангела, который
почти не удостаивал взглядом простых смертных. Кроме того, те несколько чудес, что приписывала
ему людская молва, выдавали его некоторую умственную неполноценность: слепой старик, пришедший издалека в поисках исцеления, зрения не обрел, зато у него выросли три новых зуба, паралитик
так и не встал на ноги, но чуть было не выиграл в лотерею, а у прокаженного проросли из язв подсолнухи. Все это скорее выглядело насмешками, нежели святыми деяниями, и основательно подмочило репутацию ангела, а женщина-паук своим появлением и вовсе зачеркнула ее. Вот тогда-то падре Гонсага навсегда избавился от мучившей его бессонницы и в патио у Пелайо снова стало так же
пустынно, как в те времена, когда три дня подряд шел дождь и крабы разгуливали по комнатам.
Хозяева дома на судьбу не жаловались. На вырученные деньги они построили просторный двухэтажный дом с балконом и садом, на высоком цоколе, чтобы зимой не заползали крабы, и с железными решетками на окнах, чтобы не залетали ангелы. Неподалеку от городка Пелайо завел кроличий
питомник и навсегда отказался от должности альгвасила, а Элисенда купила себе лаковые туфли на
высоком каблуке и много платьев из переливающегося на солнце шелка, которые в те времена носили по воскресеньям самые знатные сеньоры. Курятник был единственным местом в хозяйстве, которому не уделяли внимания. Если его иной раз и мыли или жгли внутри мирру, то делалось это отнюдь не в угоду ангелу, а чтобы как-то бороться с исходившей оттуда вонью, которая, как злой дух,
проникала во все уголки нового дома. Вначале, когда ребенок научился ходить, они следили, чтобы
он не подходил слишком близко к курятнику. Но постепенно они привыкли к этому запаху, и все их
страхи прошли. Так что еще до того, как у мальчика начали выпадать молочные зубы, он стал беспрепятственно забираться в курятник через дыры в прохудившейся проволочной сетке. Ангел был с
ним так же неприветлив, как и с другими смертными, но переносил с собачьей покорностью все жестокие ребячьи проделки. Ветрянкой они заболели одновременно. Врач, лечивший ребенка, не устоял перед соблазном осмотреть ангела и обнаружил, что у него совсем плохое сердце, да и почки никуда не годятся -- удивительно, как он еще был жив. Однако больше всего врача поразило строение
его крыльев. Они так естественно воспринимались в этом абсолютно человеческом организме, что
оставалось загадкой, почему у других людей не было таких же крыльев.
К тому времени, как мальчик пошел в школу, солнце и дождь окончательно разрушили курятник.
Освобожденный ангел бродил взад-вперед, как обессилевший лунатик. Не успевали его веником выгнать из спальни, как он уже путался под ногами в кухне. Казалось, он мог одновременно находиться
в нескольких местах, хозяева подозревали, что он раздваивается, повторяя самого себя в разных
уголках дома, и отчаявшаяся Элисенда кричала, что это настоящая пытка -- жить в этом аду, набитом
ангелами. Ангел так ослаб, что есть почти не мог. Глаза, затянутые патиной, уже ничего не различали, и он еле ковылял, натыкаясь на предметы; на его крыльях оставалось всего несколько куцых перьев. Пелайо, жалея его, закутал в одеяло и отнес спать под навес, и только тогда они заметили, что
по ночам у него был жар и он бредил, как тот старый норвежец, которого когда-то подобрали на берегу моря местные рыбаки. Пелайо и Элисенда не на шутку встревожились -- ведь даже мудрая соседка не могла сказать им, что следует делать с мертвыми ангелами.
Но ангел и не думал умирать: он пережил эту самую свою тяжелую зиму и с первым солнцем стал
поправляться. Несколько дней он просидел неподвижно в патио, скрываясь от посторонних глаз, и в
начале декабря глаза его посветлели, обретая былую стеклянную прозрачность. На крыльях стали
вырастать большие упругие перья -- перья старой птицы, которая словно бы задумала надеть новый
саван. Сам-то ангел, видно, знал причину всех этих перемен, но тщательно скрывал их от посторонних. Иной раз, думая, что его никто не слышит, он тихонько напевал под звездами песни моряков.
Однажды утром Элисенда резала лук для завтрака, и вдруг в кухню ворвался ветер, какой дует с
моря. Женщина выглянула в окно и застала последние минуты ангела на земле. Он готовился к полету как-то неловко, неумело: передвигаясь неуклюжими прыжками, он острыми своими когтями перепахал весь огород и едва не развалил навес ударами крыльев, тускло блестевших на солнце. Наконец ему удалось набрать высоту. Элисенда вздохнула с облегчением за себя и за него, увидев, как он
пролетел над последними домами поселка, едва не задевая крыши и рьяно размахивая своими огромными, как у старого ястреба, крыльями. Элисенда следила за ним, пока не закончила резать лук и пока ангел совсем не скрылся из виду, и он был уже не помехой в ее жизни, а просто воображаемой
точкой над морским горизонтом.
Габриэль Гарсия Маркес. Другая сторона смерти
Неизвестно почему он вдруг проснулся, словно от толчка. Терпкий запах фиалок и формальдегида
шел из соседней комнаты широкой волной, смешиваясь с ароматом только что раскрывшихся цветов, который посылал утренний сад. Он попытался успокоиться и обрести присутствие духа, которого сон лишил его. Должно быть, было уже раннее утро, потому что было слышно, как поливают
грядки огорода, а в открытое окно смотрело синее небо. Он оглядел полутемную комнату, пытаясь
как-то объяснить это резкое, тревожное пробуждение. У него было ощущение, физическая уверенность, что кто-то вошел в комнату, пока он спал. Однако он был один, и дверь, запертая изнутри, не
была взломана. Сквозь окно пролилось сияние. Какое-то время он лежал неподвижно, стараясь унять
нервное напряжение, которое возвращало его к пережитому во сне, и, закрыв глаза, лежа на спине,
пытался восстановить прерванную нить спокойных размышлений. Ток крови резкими толчками отзывался в горле, а дальше, в груди, отчаянно и сильно колотилось сердце, все отмеряя и отмеряя отрывистые и короткие удары, как после изнурительного бега. Он заново мысленно пережил прошедшие несколько минут. Возможно, ему приснился какой-то странный сон. Должно быть, кошмар. Да
нет, ничего особенного не было, никакого повода для такого состояни.
Они ехали на поезде (сейчас я это помню) по какой-то местности (я это часто вижу во сне) среди
мертвой природы, среди искусственных, ненастоящих деревьев, обвешанных бритвенными лезвиями, ножницами и прочими острыми предметами вместо плодов (я вспоминаю: мне надо было причесаться) - в общем, парикмахерскими принадлежностями. Он часто видел этот сон, но никогда не просыпался от него так резко, как сегодня. За одним из деревьев стоял его брат-близнец, тот, которого
недавно похоронили, и знаками показывал ему - однажды такое было в реальной жизни, - чтобы он
остановил поезд. Убедившись в бесполезности своих жестов, брат побежал за поездом и бежал до
тех пор, пока, задыхаясь, не упал с пеной у рта. Конечно, это было нелепое, ирреальное видение, но в
нем не было ничего, что могло бы вызвать такое беспокойство. Он снова прикрыл глаза - в прожилках его век застучала кровь, и удары ее становились все жестче, словно удары кулака. Поезд пересекал
скучный, унылый, бесплодный пейзаж, и тут боль, которую он почувствовал в левой ноге, отвлекла
его внимание от пейзажа. Он осмотрел ногу и увидел – не надо надевать тесные ботинки - опухоль на
среднем пальце. Самым естественным образом, как будто всю жизнь только это и делал, он достал из
кармана отвертку и вывинтил головку фурункула. Потом аккуратно убрал отвертку в синюю шкатулку - ведь сон был цветной, верно? - и увидел, что из опухоли торчит конец грязной желтоватой
веревки. Не испытывая никакого удивления, будто ничего странного в этой веревке не было, он
осторожно и ловко потянул за ее конец. Это был длинный шнур, длиннющий, который все тянулся и
тянулся, не причиняя неудобства или боли. Через секунду он поднял взгляд и увидел, что в вагоне
никого нет, только в одном из купе едет его брат, переодетый женщиной, и, стоя перед зеркалом, пытается ножницами вытащить свой левый глаз.
Конечно, этот сон был неприятный, но он не мог объяснить, почему у него поднялось давление,
ведь в предыдущие ночи, когда он видел тяжелейшие кошмары, ему удавалось сохранять спокойствие. Он почувствовал, что у него холодные руки. Запах фиалок и формальдегида стал сильнее и
был неприятен, почти невыносим. Закрыв глаза и пытаясь выровнять дыхание, он попытался подумать о чем-нибудь привычном, чтобы снова погрузиться в сон, прервавшийся несколькими минутами раньше. Можно было, например, подумать: через несколько часов мне надо идти в похоронное
бюро платить по счетам. В углу запел неугомонный сверчок и наполнил комнату сухим отрывистым
стрекотанием. Нервное напряжение начало ослабевать понемногу, но ощутимо, и он почувствовал,
как его отпустило, мускулы расслабились; он откинулся на мягкую подушку, тело его, легкое и невесомое, испытывало благостную усталость и теряло ощущение своей материальности, земной субстанции, имеющей вес, которая определяла и устанавливала его в присущем ему на лестнице зоологических видов месте, которое заключало в своей сложной архитектуре всю сумму систем и геометрию органов, поднимало его на высшую ступень в иерархии разумных животных. Веки послушно
опустились на радужную оболочку так же естественно, как соединяются члены, составляющие руки
и ноги, которые постепенно, впрочем, теряли свободу действий; как будто весь организм превратился в единый большой, отдельный орган и он - человек - перестал быть смертным и обрел другую
судьбу, более глубокую и прочную: вечный сон, нерушимый и окончательный. Он слышал, как снаружи, на другом конце света, стрекотание сверчка становится все тише, пока совсем не смолкло; как
время и расстояние входят внутрь его существа, вырастая в нем в новые и простые понятия, вычеркивая из сознания материальный мир, физический и мучительный, заполненный насекомыми и терпким запахом фиалок и формальдегида.
Спокойно, обласканный теплом каждодневного покоя, он почувствовал, как легка его выдуманная
дневная смерть. Он погрузился в мир отрадных путешествий, в призрачный идеальный мир - мир,
будто нарисованный ребенком, без алгебраических уравнений, любовных прощаний и силы притяжения.
Он не мог сказать, сколько времени провел так, на зыбкой грани сна и реальности, но вспомнил,
что рывком, будто ему ножом полоснули по горлу, подскочил на кровати и почувствовал: братблизнец, его умерший брат, сидит в ногах кровати.
Снова, как раньше, сердце сжалось в кулак и ударило его в горло так
сильно, что он подскочил. Нарождающийся свет, сверчок, который нарушал тишину своим расстроенным органчиком, прохладный ветерок, долетавший из мира цветов в саду, - все это вместе вернуло
его к реальной жизни; но в этот раз он понимал, отчего вздрогнул. В короткие минуты бессонницы и
- сейчас я отдаю себе в этом отчет - в течение всей ночи, когда он думал, что видит спокойный, мирный сон без мыслей, его сознание занимал только один образ, постоянный, неизменный,- образ, существующий отдельно от всего, утвердившийся в мозгу помимо его воли и несмотря на сопротивление его сознания. Да. Некая мысль - так, что он почти не заметил этого – овладела им, заполнила,
охватила все его существо, будто появился занавес, представляющий неподвижный фон для всех
остальных мыслей; она составляла опору и главный позвонок мысленной драмы его дней и ночей.
Мысль о мертвом теле брата-близнеца гвоздем застряла в мозгу и стала центром жизни. И сейчас,
когда его оставили там, на крохотном клочке земли, и веки его вздрагивают от дождевых капель,
сейчас он боялся его.
Он никогда не думал, что удар будет таким сильным. В открытое окно снова проник аромат, смешанный теперь с запахом влажной земли, погребенных костей; его обоняние обострилось, и его
охватила ужасающая животная радость. Уже много часов прошло с тех пор, когда он видел, как тот
корчится под простынями, словно раненый пес, и стонет, и этот задавленный последний крик заполняет его пересохшее горло; как пытается ногтями разодрать боль, которая ползет по его спине, забираясь в самую сердцевину опухоли. Он не мог забыть, как тот бился, будто агонизирующее животное, восстав против правды, которая была перед ним, во власти которой находилось его тело, с
непреодолимым постоянством, окончательным, как сама смерть. Он видел его в последние минуты
ужасной агонии. Когда он обломал ногти о стену, раздирая последнюю крупицу жизни, что уходила
у него между пальцев и обагрилась его кровью, а в это время гангрена сжирала его плоть, как ненасытно-жестокая женщина. Потом он увидел, как он откинулся на смятую постель, даже не успев
устать, покрытый испариной и смирившийся, и его губы, увлажненные пеной, сложились в жуткую
улыбку, и смерть потекла по его телу, будто поток пепла.
Так было, когда я вспомнил об опухоли в животе, которая его мучила. Я представлял себе ее
круглой - теперь у него было то же самое ощущение,- разбухающей внутри, будто маленькое солнце,
невыносимой, будто желтое насекомое, которое протягивает свою вредоносную нить до самой глубины внутренностей. (Он почувствовал, что в организме у него все разладилось, словно уже от фи-
лософского понимания необходимости неизбежного.) Возможно, и у меня будет такая же опухоль,
какая была у него. Сначала это будет маленькое вздутие, которое будет расти, разветвляясь, увеличиваясь у меня внутри, будто плод. Возможно, я почувствую опухоль, когда она начнет двигаться,
перемещаться внутри меня с неистовством ребенка-лунатика, переходя по моим внутренностям, как
слепая,- он прижал руки к животу, чтобы унять острую боль, затем с тревогой вытянул их в темноту,
в поисках матки, гостеприимного теплого убежища, которое ему не суждено найти; и сотни лапок
этого фантастического существа, перепутавшись, станут длинной желтоватой пуповиной. Да. Возможно, и у меня в желудке - как у брата, который только что умер, - будет опухоль. Запах из сада
стал очень сильным, неприятным, превращаясь в тошнотворную вонь. Время, казалось, застыло на
пороге рассвета. Через окно сияние утра было похоже на свернувшееся молоко, и казалось, что
именно поэтому из соседней комнаты, там, где всю прошлую ночь пролежало тело, так несло формальдегидом. Это, разумеется, был не тот запах, что шел из сада. Это был тревожный, особенный
запах, не похожий на аромат цветов. Запах, который навсегда, стоило только узнать его, казался
трупным. Запах, леденящий и неотвязный, - так пахло формальдегидом в анатомическом театре. Он
вспомнил лабораторию. Заспиртованные внутренности, чучела птиц. У кролика, пропитанного формалином, мясо становится жестким, обезвоживается, теряет мягкую эластичность, и он превращается
в бессмертного, вечного кролика. Формальдегидного. Откуда этот запах? Единственный способ
остановить разложение. Если вены человека заполнить формалином, мы станем заспиртованными
анатомическими образчиками.
Он услышал, как снаружи усиливается дождь и барабанит, будто молоточками, по стеклу приоткрытого окна. Свежий воздух, бодрящий и обновленный, ворвался в комнату, неся с собой влажную
прохладу. Руки его совсем застыли, наводя на мысль о том, что по артериям течет формалин, - будто
холод из патио проник до самых костей. Влажность. Там очень влажно. С горечью он подумал о
зимних ночах, когда дождь будет заливать траву и влажность примостится под боком его брата, и
вода будет циркулировать в его теле, как токи крови. Он подумал, что у мертвецов должна быть другая система кровообращения, которая быстро ведет их к другой ступени смерти – последней и
невозвратной. В этот момент ему захотелось, чтобы дождь перестал и лето стало бы единственным,
вытеснившим все остальные временем года. И поскольку он об этом думал, настойчивый и влажный
шум за окном его раздражал. Ему хотелось, чтобы глина на кладбищах была сухой, всегда сухой, поскольку его беспокоила мысль: там, под землей, две недели - влажность уже проникла в костный
мозг - лежит человек, уже совсем не похожий на него.
Да. Они были близнецами, похожими как две капли воды, близнецами, которых с первого взгляда
никто не мог различить. Раньше, когда они были братьями и жили каждый своей жизнью, они были
просто братьями-близнецами, живущими как два отдельных человека. В духовном смысле у них не
было ничего общего. Но сейчас, когда жестокая, ужасная реальность, будто беспозвоночное животное, холодом заскользила по спине, что-то нарушилось в едином целом, появилось нечто похожее на
пустоту, словно в теле у него открылась рана, глубокая, как бездна, или как будто резким ударом топора ему отсекли половину туловища: не от этого тела с конкретным анатомическим устройством и
совершенным геометрическим рисунком, не от физического тела, которое сейчас чувствовало страх,
- от другого, которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа;
которое было вместе с ним в крови четырех пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения
мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию.
Возможно, в его жилах течет кровь Исаака и Ревекки, возможно, он мог быть другим братом, тем,
который родился на свет уцепившись за его пятку и который пришел в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в
сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери. Сейчас, когда
равновесие нарушено и уравнение окончательно решено, таинственный генеалогический маршрут
виделся ему реально и мучительно. Он знал, что в гармонии его личности чего-то недостает, как
недостает этого в его обычной, видимой глазу целостности: "Лотом вышел Иаков, держась за пяту
Исава ".
Пока брат его болел, у него не было такого ощущения, потому что изменившееся лицо, искаженное лихорадкой и болью, с отросшей бородой, было непохоже на его собственное.
Сразу же, как только брат вытянулся и затих, побежденный окончательной смертью, он позвал
брадобрея "привести тело в порядок". Сам он был тут же и стоял вжавшись в стену, когда пришел
человек, одетый в белое, и принес сверкающие инструменты для работы... Ловким движением мастер
покрыл мыльной пеной бороду покойника - рот тоже был в пене. Таким я видел брата перед смертью
- медленно, будто стараясь вызнать какой-то ужасный секрет, парикмахер начал его брить. Вот тогда-то и пришла эта жуткая мысль, которая заставила его вздрогнуть. По мере того как с помощью
бритвенного лезвия все более проступали бледные, искаженные ужасом черты брата-близнеца, он
все более чувствовал, что это мертвое тело не есть что-то чуждое ему - это нечто составляющее единый с ним земной организм, и все, что происходит, - это просто репетиция его собственной... У него
было странное чувство, что родители вынули из зеркала его отражение, то, которое он видел, когда
брился. Ему казалось сейчас, что это изображение, повторявшее каждое его движение, стало независимым от него. Он видел свое отражение множество раз, когда брился, - каждое утро. Сейчас он присутствовал при драматическом событии, когда другой человек бреет его отражение в зеркале невзирая на его собственное физическое присутствие. Он был уверен, убежден, что если сейчас подойдет к
зеркалу, то не увидит там ничего, хотя законы физики и не смогут объяснить это явление. Это было
раздвоение сознания! Его двойником был покойник! В полном отчаянии, пытаясь овладеть собой, он
ощупал пальцами прочную стену, которую ощутил как застывший поток. Брадобрей закончил работу
и кончиками ножниц закрыл глаза покойному. Мрак дрожал внутри него, в непоправимом одиночестве ушедшей из мира плоти. Теперь они были одинаковыми. Неотличимые друг от друга братья, без
устали повторяющие друг друга.
И тогда он пришел к выводу: если эти две природные сущности так тесно связаны между собой,
то должно произойти нечто необычайное и неожиданное. Он вообразил, что разделение двух тел в
пространстве - не более чем видимость, на самом же деле у них единая, общая природа. Так что когда мертвец станет разлагаться, он, живой, тоже начнет гнить внутри себя.
Он услышал, как дождь застучал по стеклу с новой силой и сверчок принялся щипать свою струну. Руки его стали совершенно ледяными, скованные холодом долгой неодушевленности. Острый
запах формальдегида заставлял думать, что гниение, которому подвергался его брат, проникает, как
послание, оттуда, из ледяной земляной ямы. Это было нелепо! Возможно, все перевернуто с ног на
голову: влияние должен оказывать он, тот, кто продолжает жить, - своей энергией, своими живыми
клетками! И тогда - если так - его брат останется таким, какой он есть, и равновесие между жизнью и
смертью защитит его от разложения. Но кто убедит его в этом? Разве невозможно и то, что погребенный брат сохранится нетронутым, а гниение своими синеватыми щупальцами заполонит живого?
Он подумал, что последнее предположение наиболее вероятно, и, смирившись, стал ждать своего
смертного часа. Плоть его стала мягкой, разбухшей, и ему показалось, что какая-то голубая жидкость
покрыла все его тело целиком. Он почувствовал - один за другим - все запахи своего тела, однако
только запах формалина из соседней комнаты вызвал знакомую холодную дрожь. Потом его уже ничто не волновало. Сверчок в углу снова затянул свою песенку, большая круглая капля свисала с чистых небес прямо посреди комнаты. Он услышал: вот она упала - и не удивился, потому что знал –
старая деревянная крыша здесь прохудилась, но представил себе эту каплю прохладной, бескрайней,
как небеса, воды, добрую и ласковую, которая пришла с небес, из лучшей жизни, где нет таких идиотских вещей, как любовь, пищеварение или жизнь близнецов. Может быть, эта капля заполнит всю
комнату через час или через тысячу лет и растворит это бренное сооружение, эту никому не нужную
субстанцию, которая, возможно, - почему бы и нет? - превратится через несколько мгновений в вязкое месиво из белковины и сукровицы. Теперь уже все равно. Между ним и его могилой - только его
собственная смерть. Смирившись, он услышал, как большая круглая тяжелая капля упала, произошло это где-то в другом мире, в мире нелепостей и заблуждений, в мире разумных существ.
Габриэль Гарсия Маркес. Ева внутри своей кошки Перевод: А.Борисова
Она вдруг заметила, что красота разрушает ее, что красота вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно даже раковая. Она ни на миг не забывала всю тяжесть своего совершенства, которая обрушилась на нее еще в отрочестве и от которой она теперь готова была упасть
без сил - кто знает куда, - в усталом смирении дернувшись всем телом, словно загнанное животное.
Невозможно было дальше тащить такой груз. Надо было избавиться от этого бесполезного признака
личности, от части, которая была ее именем и которая так сильно выделялась, что стала лишней. Да,
надо сбросить свою красоту где-нибудь за углом или в отдаленном закоулке предместья. Или забыть
в гардеробе какого-нибудь второсортного ресторана, как старое ненужное пальто. Она устала везде
быть в центре внимания, осаждаемой долгими взглядами мужчин. По ночам, когда бессонница втыкала иголки в веки, ей хотелось быть обычной, ничем не привлекательной женщиной. Ей, заключенной в четырех стенах комнаты, все казалось враждебным. В отчаянии она чувствовала, как бессонница проникает под кожу, в мозг, подталкивает лихорадку к корням волос. Будто в ее артериях поселились крошечные теплокровные насекомые, которые с приближением утра просыпаются и перебирают подвижными лапками, бегая у нее под кожей туда-сюда, - вот что такое был этот кусок плодоносной глины, принявшей обличье прекрасного плода, вот какой была ее природная красота.
Напрасно она боролась, пытаясь прогнать этих мерзких тварей. Ей это не удавалось. Они были частью ее собственного организма. Они жили в ней задолго до ее физического существования. Они перешли к ней из сердца ее отца, который, мучась, кормил их ночами безутешного одиночества. А может быть, они попали в ее артерии через пуповину, связывавшую ее с матерью со дня основания мира. Несомненно, эти насекомые не могли зародиться только в ее теле. Она знала: они пришли из далекого прошлого и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть и так же, как она, страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее
предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизни, со старинных портретов, с выражением одинаково мучительной тоски. Она вспоминала беспокойное выражение лица своей прабабки, которая, глядя со старого холста, просила минуту покоя, покоя от этих
насекомых, которые сновали в ее кровеносных сосудах, немилосердно муча и создавая ее красоту.
Нет, это были насекомые, что зародились не в ней. Они переходили из поколения в поколение, поддерживая своей микроскопической конструкцией избранную касту, обреченную на мучения. Эти
насекомые родились во чреве первой из матерей, которая родила красавицу дочь. Однако надо было
срочно разрушить такой порядок наследования. Кто-то должен был отказаться передавать эту искусственную красоту. Грош цена женщинам ее рода, которые восхищались собой, глядя в зеркало, если
по ночам твари, населяющие их кровеносные сосуды, продолжали свою медленную и вредоносную
работу – без устали, на протяжении веков. Это была не красота, а болезнь, которую надо было остановить, оборвать этот процесс решительно и по существу.
Она вспоминала нескончаемые часы, проведенные в постели, будто усеянной горячими иголками.
Ночи, когда она старалась торопить время, чтобы с наступлением дня эти твари оставили ее в покое
и боль утихла. Зачем нужна такая красота? Ночь за ночью, охваченная отчаянием, она думала: лучше
бы родиться обыкновенной женщиной или родиться мужчиной, чтобы не было этого бесполезного
преимущества, что приносят насекомые из рода в род, насекомые, которые только ускоряют приход
неминуемой смерти. Возможно, она была бы счастливей, если бы была уродиной, непоправимо некрасивой, как ее чешская подруга, у которой было какое-то собачье имя. Лучше уж быть некрасивой
и спокойно спать, как все добропорядочные христиане.
Она проклинала своих предков. Они виноваты в ее бессоннице. Они передали ей эту застывшую
совершенную красоту, как будто, умерев, матери подновляли и подправляли свои лица и прилаживали их к туловищам дочерей. Казалось, одна и та же голова, всего одна, переходит из одного поколения в другое и у всех женщин, которые должны неотвратимо принять ее как наследственный признак
красоты, - одинаковые уши, нос, рот. И так, переходя от лица к лицу, был создан этот вечный микроорганизм, который с течением времени усилил свое воздействие, приобрел свои особенности, мощь
и превратился в непобедимое существо, в неизлечимую болезнь, которая, пройдя сложный процесс
отбора, добралась до нее, и нет больше сил терпеть – такой острой и мучительной она стала!.. И в
самом деле, будто опухоль, будто раковая опухоль.
Именно в часы бессонницы вспоминала она о таких неприятных для тонко чувствующего человека вещах. О том, что заполняло мир ее чувств, где выращивались, как в пробирке, эти ужасные насекомые. В такие ночи, глядя в темноту широко открытыми изумленными глазами, она чувствовала
тяжесть мрака, опустившегося на виски, словно расплавленный свинец. Вокруг нее все спало. Лежа в
углу, она пыталась разглядеть окружающие предметы, чтобы отвлечь себя от мыслей о сне и своих
детских воспоминаниях.
Но это всегда кончалось ужасом перед неизвестностью. Каждый раз ее мысль, бродя по темным
закоулкам дома, наталкивалась на страх. И тогда начиналась борьба. Настоящая борьба с тремя неподвижными врагами. Она не могла - нет, никогда, не могла - выкинуть из головы этот страх. Горло
ее сжималось, а надо было терпеть его, этот страх. И все для того, чтобы жить в огромном старом
доме и спать одной, отделенной от остального мира, в своем углу.
Мысль ее бродила по затхлым темным коридорам, стряхивая пыль со старых, покрытых паутиной
портретов. Эта ужасная, потревоженная ее мыслью пыль оседала на них сверху, оттуда, где превращался в ничто прах ее предков. Она всегда вспоминала о малыше. Представляла себе, как он, уснувший, лежит под корнями травы, в патио, рядом с апельсиновым деревом, с комком влажной земли во
рту. Ей казалось, она видит его на глинистом дне, как он царапает землю ногтями и зубами, пытаясь
уйти от холода, проникающего в него; как он ищет выход наверх в этом узком туннеле, куда его положили и обсыпали ракушками. Зимой она слышала, как он тоненько плачет, перепачканный глиной,
и его плач прорывается сквозь шум дождя. Ей казалось, он должен был сохраниться в этой яме, полной воды, таким, каким его оставили там пять лет назад. Она не могла представить себе, что плоть
его сгнила. Напротив, он, наверное, очень красивый, когда плавает в той густой воде, из которой нет
выхода. Или она видела его живым, но испуганным, ему страшно быть там одному, погребенному в
темном патио. Она сама не хотела, чтобы его оставляли там, под апельсиновым деревом, так близко
от дома. Ей было страшно... Она знала: он догадается, что по ночам ее неотступно преследует бессонница. И придет по широким коридорам просить ее, чтобы она пошла с ним и защитила бы его от
других тварей, пожирающих корни его фиалок. Он вернется, чтобы уснуть рядом с ней, как делал
это, когда был жив. Она боялась почувствовать его рядом с собой снова - после того, как ему удастся
разрушить стену смерти. Боялась прикосновения этих рук, малыш всегда будет держать их крепко
сцепленными, чтобы отогреть кусочек льда, который принесет с собой. После того как его превратили в цемент, наводящее страх надгробие, она хотела, чтобы его увезли далеко, потому что боялась
вспоминать его по ночам. Однако его оставили там, окоченелого, в глине, и дождевые черви теперь
пьют его кровь. И приходится смириться с тем, что он является ей из глубины мрака, ибо всякий раз,
неизменно, когда она не могла заснуть, она думала о малыше, который зовет ее из земли и просит,
чтобы она помогла ему освободиться от этой нелепой смерти.
Но сейчас, по-новому ощутив пространство и время, она немного успокоилась. Она знала, что
там, за пределами ее мира, все идет своим чередом, как и раньше; что ее комната еще погружена в
предрассветный сумрак и что предметы, мебель, тринадцать любимых книг - все остается на своих
местах. И что запах живой женщины, заполняющий пустоту ее чрева, который исходит от ее одинокой постели, начинает исчезать. Но как это могло произойти? Как она, красивая женщина, в крови
которой обитают насекомые, преследуемая страхом многие ночи, оставила свои бессонные кошмары
и оказалась в странном, неведомом мире, где вообще нет измерений? Она вспомнила. В ту ночь ночь перехода в этот мир - было холоднее, чем всегда, и она была дома одна, измученная бессонницей. Никто не нарушал тишины, и запах из сада был запахом страха. Обильный пот покрывал все ее
тело, будто вся кровь из вен разлилась внутри нее, вытесненная насекомыми. Ей хотелось, чтобы
хоть кто-нибудь прошел мимо дома по улице или кто-нибудь крикнул, чтобы расколоть эту застывшую тишину. Пусть что-нибудь в природе произойдет, и Земля снова завертится вокруг Солнца. Но
все было бесполезно. Эти глупые люди даже не проснутся и будут и дальше спать, зарывшись в подушки. Она тоже сохраняла неподвижность. От стен несло свежей краской, запах был такой густой и
навязчивый, что чувствовался не обонянием, а скорее желудком. Единственными, кто разбивал тишину своим неизменным тиканьем, были часы на столике. "Время... о, время!.." - вздохнула она,
вспомнив о смерти. А там, в патио, под апельсиновым деревом, тоненько плакал малыш, и плач его
доносился из другого мира.
Она призвала на помощь всю свою веру. Почему никак не рассветет, почему ей сейчас не умереть? Она никогда не думала, что красота может стоить таких жертв. В тот момент, как обычно, кроме страха она почувствовала физическую боль. Даже сквозь страх мучили ее эти жестокие насекомые. Смерть схватила ее жизнь, как паук, который злобно кусал ее, намереваясь уничтожить. Но оттягивал последнее мгновение. Ее руки, те самые, что глупцы мужчины сжимали, не скрывая животной страсти, были неподвижны, парализованы страхом, необъяснимым ужасом, шедшим изнутри, не
имеющим причины, кроме той, что она покинута всеми в этом старом доме. Она хотела собраться с
силами и не смогла. Страх поглотил ее целиком и только возрастал, неотступный, напряженный, почти ощутимый, будто в комнате был кто-то невидимый, кто не хотел уходить. И больше всего ее тревожило: у этого страха не было никакого объяснения, это был страх как таковой, без всяких причин,
просто страх.
Она почувствовала густую слюну во рту. Было мучительно ощущать эту жесткую резину, которая
прилипала к нёбу и текла неудержимым потоком. Это не было похоже на жажду. Это было какое-то
желание, преобладавшее над всеми прочими, которое она испытывала впервые в жизни. На какой-то
миг она забыла о своей красоте, бессоннице и необъяснимом страхе. Она не узнавала себя самое. Ей
вдруг показалось - из ее организма вышли микробы. Она чувствовала их в слюне. Да, и это было
очень хорошо. Хорошо, что насекомых больше нет и что она сможет теперь спать, но нужно было
найти какое-то средство, чтобы избавиться от резины, обмотавшей язык. Вот бы дойти до кладовой
и... Но о чем она думает? Она вдруг удивилась. Она никогда не чувствовала такого желания. Неожиданный терпкий привкус лишал ее сил и делал бессмысленным тот обет, которому она была верна с
того дня, как похоронила малыша. Глупость, но она не могла побороть отвращения и съесть апельсин. Она знала: малыш добирается весной до цветов на дереве и плоды осенью будут напитаны его
плотью, освеженные жуткой прохладой смерти. Нет. Она не могла их есть. Она знала, что под каждым апельсиновым деревом, во всем мире, похоронен ребенок, который насыщает плоды сладостью
из кальция своих костей. Однако сейчас ей хотелось съесть апельсин. Это было единственным средством от тягучей резины, которая душила ее. Глупо было думать, что малыш был в каждом апельсине. Надо воспользоваться тем, что боль, какую причиняла ей красота, наконец оставила ее, надо
дойти до кладовой. Но... не странно ли это? Впервые в жизни ей хотелось съесть апельсин. Она
улыбнулась - да, улыбнулась. Ах, какое наслаждение! Съесть апельсин. Она не знала почему, но никогда у нее не было желания более сильного. Вот бы встать, счастливой от сознания, что ты обыкновенная женщина, и, весело напевая, дойти до кладовой, - весело, как обновленная женщина, которая
только что родилась. Обязательно пойти в патио и...
Вдруг мысли ее прервались. Она вспомнила, что уже попыталась подняться и что она уже не в
своей постели, что тело ее исчезло, что нет тринадцати любимых книг и что она - уже не она. Она
стала бестелесной и парила в свободном полете в абсолютной пустоте, летела неизвестно куда, превратившись в нечто аморфное, в нечто мельчайшее. Она не могла с точностью сказать, что происходит. Все перепуталось. У нее было ощущение, что кто-то толкнул ее в пустоту с невероятно высокого обрыва. Ей казалось, она превратилась в нечто абстрактное, воображаемое. Она чувствовала себя
бестелесной женщиной – как если бы вдруг вошла в высший, непознанный мир невинных душ.
Ей снова стало страшно. Но не так, как раньше. Теперь она не боялась, что заплачет малыш. Она
боялась этого чуждого, таинственного и незнакомого нового мира. Подумать только - все произошло
так естественно, при полном ее неведении! Что скажет ее мать, когда придет домой и поймет, что
произошло? Она представила, как встревожатся соседи, когда откроют дверь в ее комнату и увидят,
что кровать пуста, замки целы и что никто не мог ни выйти, ни войти, но, несмотря на это, ее в комнате нет. Представила отчаяние на лице матери, которая ищет ее повсюду, теряясь в догадках и
спрашивая себя, что случилось с ее девочкой. Дальнейшее виделось ясно. Все соберутся и начнут
строить предположения - разумеется, зловещие - об ее исчезновении. Каждый на свой лад. Выискивая объяснение наиболее логичное, по крайней мере наиболее приемлемое: и дело кончится тем, что
мать бросится бежать по коридорам дома, в отчаянии звать ее по имени.
А она будет там. Она будет смотреть на происходящее, тщательно разглядывая все вокруг, глядя
из угла, с потолка, из щелей в стенах, отовсюду - из самого удобного местечка, под прикрытием своей бестелесности, своей неузнаваемости. Ей стало тревожно, когда она подумала об этом. Только
теперь она поняла свою ошибку. Она ничего не сможет объяснить, рассказать и никого не сможет
утешить. Ни одно живое существо не узнает о ее превращении. Теперь - единственный раз, когда все
это ей нужно - у нее нет ни рта, ни рук для того, чтобы все поняли, что она здесь, в своем углу, отделенная от трехмерного мира непреодолимым расстоянием. В этой своей новой жизни она совсем
одинока и ощущения ей совершенно неподвластны. Но каждую секунду что-то вибрировало в ней,
по ней пробегала дрожь, заполняя ее всю и заставляя помнить, что есть другой, физический мир, который движется вокруг ее собственного мира. Она не слышала, не видела, но знала, что можно слышать и видеть. И там, на вершине высшего мира, она поняла, что ее окружает аура мучительной тоски.
Секунды не прошло - в соответствии с нашими представлениями о времени, - как она совершила
этот переход, а она уже стала понемногу понимать законы и размеры нового мира. Вокруг нее кружился абсолютный и окончательный мрак. До каких же пор будет длиться эта мгла? И привыкнет ли
она к ней в конце концов? Тревожное чувство усилилось, когда она поняла, что утонула в густом,
непроницаемом мраке: она - в преддверии рая? Она вздрогнула.
Вспомнила все, что когда-либо слышала о лимбе. Если она и вправду там, рядом с ней должны
парить другие невинные души, души детей, умерших некрещеными, которые жили и умирали на
протяжении тысяч лет. Она попыталась отыскать во мраке эти существа, которые, вероятно, еще бо-
лее невинны и простодушны, чем она. Полностью отделенные от физического мира, обреченные на
сомнамбулическую и вечную жизнь. Может быть, малыш здесь, ищет выход, чтобы вернуться в свою
телесную оболочку.
Но нет. Почему она должна оказаться в преддверии рая? Разве она умерла? Нет. Произошло изменение состояния, обыкновенный переход из физического мира в мир более легкий, более удобный,
где стираются все измерения.
Здесь не надо страдать от подкожных насекомых. Ее красота растворилась. Теперь, когда все так
просто, она может быть счастлива. Хотя... о! не вполне, потому что сейчас ее самое большое желание
- съесть апельсин – стало невыполнимым. Это была единственная причина, по которой она хотела
вернуться в прежнюю жизнь. Чтобы избавиться от терпкого привкуса, который продолжал преследовать ее после перехода. Она попыталась сориентироваться и сообразить, где кладовая, и хотя бы почувствовать прохладный и терпкий аромат апельсинов. И тогда она открыла новую закономерность
своего мира: она была в каждом уголке дома, в патио, на потолке и даже в апельсине малыша. Она
заполняла весь физический мир и мир потусторонний. И в то же время ее не было нигде. Она снова
встревожилась. Она потеряла контроль над собой. Теперь она подчинялась высшей воле, стала бесполезным, нелепым, ненужным существом. Непонятно почему, ей стало грустно. Она почти скучала
по своей красоте - красоте, которую по глупости не ценила.
Внезапно она оживилась. Разве она не слышала, что невинные души могут по своей воле проникать в чужую телесную оболочку? В конце концов, что она потеряет, если попытается? Она стала
вспоминать, кто из обитателей дома более всего подошел бы для этого опыта. Если ей удастся осуществить свое намерение, она будет удовлетворена: она сможет съесть апельсин. Она перебирала в
памяти всех. В этот час слуг в доме не бывает. Мать еще не пришла. Но непреодолимое желание
съесть апельсин вместе с любопытством, которое вызывал в ней опыт реинкарнации, вынуждали ее
действовать как можно скорее. Но не было никого, в кого можно было бы воплотиться. Причина была нешуточной: дом был пуст. Значит, она вынуждена вечно жить отделенной от внешнего мира, в своем мире, где нет никаких измерений, где нельзя съесть апельсин. И все - по глупости. Уж лучше
было бы еще несколько лет потерпеть эту жестокую красоту, чем исчезнуть навсегда, стать бесполезной, как поверженное животное. Но было уже поздно.
Разочарованная, она хотела где-то укрыться, где-нибудь вне вселенной, там, где она могла бы забыть все свои прошлые земные желания. Но что-то властно не позволяло ей сделать это. В неизведанном ею пространстве открылось обещание лучшего будущего. Да, в доме есть некто, в кого можно воплотиться: кошка! Какое-то время она колебалась. Трудно было представить себе, как это можно - стать животным. У нее будет мягкая белая шерстка, и она всегда будет готова к прыжку. Она будет знать, что по ночам глаза ее светятся, как раскаленные зеленые угли. У нее будут белые острые
зубы, и она будет улыбаться матери от всего своего дочернего сердца широкой и доброй улыбкой
зверя. Но нет!.. Этого не может быть. Она вдруг представила: она - кошка, и бежит по коридорам дома на четырех еще непривычных лапах, легко и непроизвольно помахивая хвостом. Каким видится
мир, если смотреть на него зелеными сверкающими глазами? По ночам она будет мурлыкать, подняв
голову к небу, и просить, чтобы люди не заливали цементом из лунного света глаза малыша, который
лежит лицом кверху и пьет росу. Возможно, если она будет кошкой, ей все равно будет страшно. И
возможно, в довершение всего она не сможет съесть апельсин своим хищным ртом. Вселенский холод, родившийся у самых истоков души, заставил ее задрожать при этой мысли. Нет. Перевоплотиться в кошку невозможно. Ей стало страшно оттого, что однажды она почувствует на нёбе, в горле, во всем своем четвероногом теле непреодолимое желание съесть мышь. Наверное, когда ее душа
поселится в кошачьем теле, ей уже не захочется апельсина, ее будет мучить отвратительное и сильное желание съесть мышь. Ее затрясло, стоило ей представить, как она держит ее, поймав, в зубах.
Она почувствовала, как та бьется, пытаясь вырваться и убежать в нору. Нет. Только не это. Уж лучше жить так, в далеком и таинственном мире невинных душ.
Однако тяжело было смириться с тем, что она навсегда покинула жизнь. Почему ей должно будет
хотеться есть мышей? Кто будет главенствовать в этом соединении женщины и кошки? Будет ли
главным животный инстинкт, примитивный, низменный, или его заглушит независимая воля женщины? Ответ был прозрачно ясен. Зря она боялась. Она воплотится в кошку и съест апельсин. К тому же она станет необычным существом - кошкой, обладающей разумом красивой женщины. Она
будет привлекать всеобщее внимание... И тут она впервые поняла, что самой главной ее добродетелью было тщеславие женщины, полной предрассудков.
Подобно насекомому, которое шевелит усиками-антеннами, она направила свою энергию на поиски кошки, которая была где-то в доме. В этот час она, должно быть, дремлет на каминной полке и
мечтает проснуться со стебельком валерианы в зубах. Но там ее не было. Она снова поискала ее, но
вновь не нашла на камине. Кухня была какая-то странная. Углы ее были не такие, как раньше, не те
темные углы, затянутые паутиной. Кошки нигде не было. Она искала ее на крыше, на деревьях, в канавах, под кроватью, в чулане. Все показалось ей изменившимся. Там, где она ожидала увидеть, как
обычно, портреты своих предков, был только флакон с мышьяком. И потом она постоянно находила
мышьяк по всему дому, но кошка исчезла. Дом был не похож на прежний. Что случилось со всеми
предметами? Почему ее тринадцать любимых книг покрыты теперь толстым слоем мышьяка? Она
вспомнила об апельсиновом дереве в патио. Отправилась на поиски, предполагая найти его около
малыша, в его яме, полной воды. Но апельсинового дерева на месте не было, и малыша тоже не было
- только горсть мышьяка и пепла под тяжелой могильной плитой. Она, несомненно, спала. Все было
другим. Дом был полон запаха мышьяка, который ударял в ноздри, как будто она находилась в аптеке.
Только тут она поняла, что прошло уже три тысячи лет с того дня, когда ей захотелось съесть
апельсин.
Хорхе Луис Борхес
Дом Астерия.
Марии Москера Истмен
И царица произвела на свет сына,
которого назвали Астерием.
Аполлодор. Библиотека, III. 1
Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии.
Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из
дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно) открыты днем и ночью для людей и
для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те,
кто утверждает, что похожий дом есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме
нет никакой мебели. Другая нелепость - будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной
закрытой двери, ни одного запора? Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу; и если вернулся еще до наступления ночи, то потому, что меня испугали лица простонародья - бесцветные и плоские, как ладонь. Солнце уже зашло, но безутешный плач ребенка и молящие вопли толпы
означали, что я был узнан. Люди молились, убегали, падали на колени, некоторые карабкались к
подножию храма Двойной секиры, другие хватали камни. Кто-то, кажется, кинулся в море. Недаром
моя мать была царицей, я не могу смешаться с чернью, даже если бы по скромности хотел этого.
Дело в том, что я неповторим. Мне не интересно, что один человек может сообщить другим; как
философ, я полагаю, что с помощью письма ничто не может быть передано. Эти раздражающие и
пошлые мелочи претят моему духу, который предназначен для великого; я никогда не мог удержать
в памяти отличий одной буквы от другой. Некое благородное нетерпение мешает мне выучиться читать. Иногда я жалею об этом - дни и ночи такие долгие.
Разумеется, развлечений у меня достаточно. Как баран, готовый биться, я ношусь по каменным
галереям, пока не упаду без сил на землю. Я прячусь в тени у водоема или за поворотом коридора и
делаю вид, что меня ищут. С некоторых крыш я прыгал и разбивался в кровь. Иногда я прикидываюсь спящим, лежа с закрытыми глазами и глубоко дыша (порой я и в самом деле засыпаю, а когда
открою глаза, то вижу, как изменился цвет дня). Но больше всех игр мне нравится игра в другого
Астерия. Я делаю вид, что он пришел ко мне в гости, а я показываю ему дом.
Чрезвычайно почтительно я говорю ему: "Давай вернемся к тому углу", или: "Теперь пойдем в
другой двор", или: "Я так и думал, что тебе понравится этот карниз", или: "Вот это чан, наполненный песком", или: "Сейчас увидишь, как подземный ход раздваивается". Временами я ошибаюсь, и
тогда мы оба с радостью смеемся.
Я не только придумываю эти игры, я еще размышляю о доме. Все части дома повторяются много
раз, одна часть совсем как другая. Нет одного водоема, двора, водопоя, кормушки, а есть четырна-
дцать (бесконечное число) кормушек, водопоев, дворов, водоемов. Дом подобен миру, вернее сказать, он и есть мир. Однако, когда надоедают дворы с водоемом и пыльные галереи из серого камня,
я выхожу на улицу и смотрю на храм Двойной секиры и на море. Я не мог этого понять, пока однажды ночью мне не привиделось, что существует четырнадцать (бесконечное число) морей и храмов.
Все повторяется много раз, четырнадцать раз, но две вещи в мире неповторимы: наверху - непонятное солнце; внизу - я, Астерий. Возможно, звезды, и солнце, и этот огромный дом созданы мной, но я
не уверен в этом.
Каждые девять лет в доме появляются девять человек чтобы я избавил их от зла. Я слышу их шаги
или голоса в глубине каменных галерей и с радостью бегу навстречу Вся процедура занимает лишь
несколько минут. Они падают один за другим, и я даже не успеваю запачкаться кровью. Где они падают, там и остаются, и их тела помогают мне отличить эту галерею от других. Мне неизвестно, кто
они, но один из них в свой смертный час предсказал мне, что когда-нибудь придет и мой освободитель.
С тех пор меня не тяготит одиночество, я знаю, что мой избавитель существует и в конце концов
он ступит на пыльный пол. Если бы моего слуха достигали все звуки на свете, я различил бы его шаги. Хорошо бы он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и меньше дверей. Каков будет мой
избавитель? - спрашиваю я себя. Будет ли он быком или человеком? А может, быком с головой человека? Или таким, как я?
Утреннее солнце играло на бронзовом мече. На нем уже не осталось крови.
- Поверишь ли, Ариадна? - сказал Тесей. - Минотавр почти не сопротивлялся.
Хорхе Луис Борхес
Книга песка
...thy rope of sands...
George Herbert[1]
Линия состоит из множества точек; плоскость - из бесконечного множества линий; книга из бесконечного множества плоскостей; сверхкнига – из бесконечного множества книг. Нет, решительно не так. Не таким more geometrico должен начинаться рассказ. Сейчас любой вымысел сопровождается заверениями в его истинности, но мой рассказ и в самом деле - чистая правда.
Я живу один на четвертом этаже на улице Бельгарно. Несколько месяцев назад, в сумерках,
в дверь постучали. Я открыл, и в дверь вошел незнакомец. Это был высокий человек с бесцветными
чертами, что, возможно, объяснялось моей близорукостью. Облик его выражал пристойную бедность. Он сам был серый, и саквояж в его руке тоже был серый. В нем чувствовался иностранец.
Сначала он показался мне старым, потом я понял, что его светлые, почти белые - как у северян - волосы сбили меня с толку. За время нашего разговора, продолжавшегося не более часа, я узнал, что он
с Оркнейских островов.
Я указал ему стул. Незнакомец не торопился начать. Он был печален, как теперь я.
- Я продаю библии, - сказал он.
С некоторым самодовольством я отвечал: - в этом доме несколько английских библий, в
том числе первая - Джона Уиклифа. Есть также библия Сиприано де Валеры и Лютерова, в литературном отношении она хуже других, и экземпляр Вульгаты. Как видите, библий хватает.
Он помолчал и ответил:
- У меня есть не только библии. Я покажу Вам одну священную книгу, которая может заинтересовать Вас. Я приобрел ее в Биканере.
Он открыл саквояж и положил книгу на стол. Это был небольшой том в полотняном переплете. Видно было, что он побывал во многих руках. Я взял книгу. Ее тяжесть была поразительна. На
корешке стояло: "Holy Writ"[2] и ниже: "Bombay".
- Должно быть, девятнадцатый век, - заметил я.
- Не знаю. Этого никогда не знаешь, - был ответ.
Я наугад раскрыл страницу. Очертания букв были незнакомы.
Страницы показались мне истрепанными, печать была бледная, текст шел в два столбца,
как в Библии. Шрифт убористый, текст разбит на абзацы. Я обратил внимание, что на четной странице стояло число, скажем, 40 514, а на следующей, нечетной - 999. Я перевернул ее - число было
восьмизначным. На этой странице была маленькая, как в словарях, картинка: якорь, нарисованный
пером, словно неловкой детской рукою.
И тогда незнакомец сказал:
- Рассмотрите хорошенько, Вам больше ее никогда не увидеть.
В словах, а не в тоне звучало предупреждение. Я заметил страницу и захлопнул книгу. И
тут же открыл ее. Напрасно я искал, страница за страницей, изображение якоря.
Скрывая растерянность, я спросил:
- Это священные тексты на одном из языков Индостана, правда?
- Да, - ответил он. Потом понизив голос, будто доверяя тайну: - она досталась мне в одном
равнинном селении в обмен на несколько рупий и Библию. Ее владелец не умел читать, и думаю,
что эту Книгу Книг он считал талисманом. Он принадлежал к самой низшей касте, из тех, кто не
смеет наступить на свою тень, дабы не оскорбить ее. Он объяснил мне, что его книга называется
Книгой песка, потому что она, как и песок, без начала и конца.
Он попросил меня найти первую страницу. Я положил левую руку на титульный лист и
плотно сомкнутыми пальцами попытался раскрыть книгу. Ничего не выходило, между рукой и титульным листом всякий раз оказывалось несколько страниц. Казалось, они вырастали из Книги.
- Теперь найдите конец.
Опять неудача; я едва смог пробормотать:
- Этого не может быть.
Обычным, тихим голосом продавец библий сказал:
- Не может быть, но так есть. Число страниц в этой книге бесконечно. Первой страницы
нет, нет и последней. Не знаю, почему они пронумерованы так произвольно. Возможно, чтобы дать
представление о том, что члены бесконечного ряда могут иметь любой номер. - Потом мечтательно,
высоким голосом: - Если пространство бесконечно, мы пребываем в какой-то точке пространства.
Если время бесконечно, мы пребываем в какой-то точке времени.
Его попытки философствовать раздражали. Я спросил:
- Вы верующий?
- Да, я пресвитерианец. Совесть моя чиста. Я уверен, что не обманул туземца, дав ему
Слово Божие взамен этой дьявольской книги.
Я заверил его, что раскаиваться не в чем, и спросил, надолго ли он в наших краях. Он ответил, что через несколько дней собирается возвращаться на родину. Тогда-то я и узнал, что он шотландец с Оркнейских островов. Я признался в своей любви к Шотландии - из-за Стивенсона и Юма.
- И Роба Бернса, - добавил он.
Пока мы разговаривали, я все рассматривал бесконечную книгу. И с деланным безразличием задал вопрос:
- Собираетесь предложить эту диковинку Британскому музею?
- Нет, я предлагаю ее Вам, - ответил он и назвал довольно высокую цену.
В соответствии с истиной я ответил, что эта сумма для меня неприемлема, и задумался. За
несколько минут у меня сложился план.
- Предлагаю Вам обмен, - сказал я ему. - Вы получили этот том за несколько рупий и
Священное Писание; предлагаю Вам пенсию, которую только что получил, и Библию Уиклифа с готическим шрифтом. Она досталась мне от родителей.
- Готическую Уиклифа! - прошептал он.
Я вынес из спальни и отдал ему деньги и книгу. Он принялся листать страницы и ощупывать переплет с жаром библиофила.
- По рукам.
Странно было, что он не торговался. И только потом я понял, что он появился у меня,
намереваясь расстаться с Книгой.
Деньги он спрятал не считая. Мы поговорили об Индии, об Оркнейских островах и о норвежских ярлах, которые когда-то правили ими. Когда он ушел, был вечер. Я не узнал имени человека
и больше не видел его.
Я собирался поставить Книгу песка на место уиклифовской Библии, потом передумал и
спрятал ее за разрозненными томами "Тысяча и одной ночи".
Я лег, но не заснул. Часа в четыре рассвело. Я взял мою невероятную книгу и стал листать
страницы. На одной была выгравирована маска. В верхнем углу стояло число, не помню какое, в девятой степени.
Я никому не показывал свое сокровище. К радости обладания Книгой примешивался страх,
что ее украдут, и опасение, что она все-таки не бесконечна. Эти волнения усилили мою всегдашнюю
мизантропию. У меня еще оставались друзья - я перестал видеться с ними. Пленник Книги, я почти
не появлялся на улице. Я рассматривал в лупу потертый корешок и переплет и отгонял мысли о возможной мистификации. Я заметил, что маленькие картинки попадаются страниц через двести. Они
никогда не повторялись. Я стал отмечать их в записной книжке, и она тут же заполнилась. Ночью, в
редкие часы, когда не мучила бессонница, я засыпал с Книгой.
Лето шло к концу, и я понял, что Книга чудовищна. То, что я, не отводивший от нее глаз и
не выпускавший ее из рук, не менее чудовищен, ничего не меняло. Я чувствовал, что эта Книга - порождение кошмара, невыносимая вещь, которая бесчестит и отрицает действительность.
Явилась мысль о костре, но было страшно, что горение бесконечной книги может длиться
бесконечно и задушить дымом всю планету.
Вспомнилось прочитанное где-то: лист лучше всего прятать в лесу. До ухода на пенсию я
работал в Национальной библиотеке, в которой хранится девятьсот тысяч книг. Я знал справа от вестибюля крутую лестницу в подвал, где сложены газеты и карты; воспользовавшись невнимательностью сотрудников, я оставил там Книгу песка и постарался забыть, как далеко от двери и на какой
высоте.
Стало немного легче, но о том, чтобы появиться на улице Мехико, не хочется и думать.