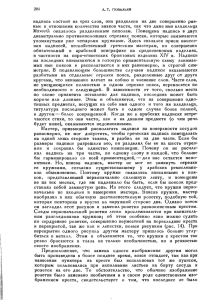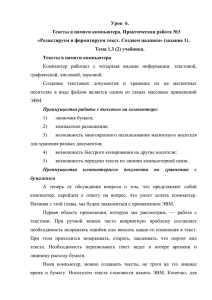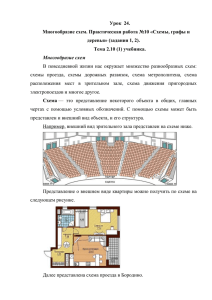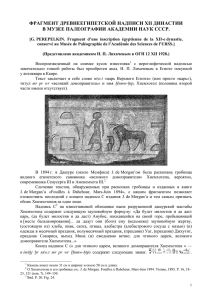Надпись и изображение в греческой вазописи
реклама

Ушедшие Н.В.Брагинская Надпись и изображение в греческой вазописи[1] По-видимому, не будет большим преувеличением, если сказать, что произведения изобразительного искусства, предназначенные исключительно для самоценного созерцания, – примета нового времени и европейской культуры. Мы имеем в виду художественные объекты, которые с самого начала предназначены для музеев и галерей, и исключаем художественные предметы культа и быта, а также все то, что служит украшению города, храма, жилища. В мировой истории искусство, вобравшее внутрь свои «прикладные» возможности, – явление весьма узкое и едва ли не исключительное; даже и в европейской культуре оно, конечно, никогда не вытесняло совершенно прочих форм существования художественных объектов. И все-таки именно картина или скульптура из музея, и даже «из альбома», представляется обычно образцом Произведения Искусства. Посредством музейной экспозиции древнее или экзотическое искусство приспосабливается к тому же новоевропейскому образцу. Для современности характерно и превращение предметов быта в Произведения-Искусства-для-созерцания: скажем, скульптура «Чайник» бесконечно далеко отстоит от «красивого чайника» и даже от декоративного чайника. Произведения Искусства, а не художественные вещи (так сказать музейную экспозицию), как правило, и исследует наука об искусстве. Применительно к греческим вазам это выражается в том, что сосуд, предмет быта, ставится под стекло на отдельном постаменте, получает инвентарный номер и табличку и все прочие атрибуты неприкосновенного Произведения Искусства, предназначенного для того, чтобы на него смотрели с известной дистанции, и, тем самым, неизбежно оказывается в одном ряду со станковой картиной, а категория древности незаметно подменяет критерий качества. Попытаемся мысленно изъять греческие сосуды из музейной экспозиции; для этого назовем их вещами и постараемся рассматривать с этнографической, а не искусствоведческой точки зрения, т.е. in vivo, а не in vitro. Конечно, попытки увидеть древнее искусство живым напоминают поверхностную модернизацию популярных книжек о том, «как жили древние греки». От такого родства мы не отрекаемся, полагая, что всякая серьезная история также отвечает, прежде всего, на этот вопрос: «как жили?» Оксфордский археолог Джон Бордмен, предпочитая археологическое исследование реального бытования керамики манипуляциями с классификациями и атрибуциями, пишет: «Было время, когда Амасис и Эксекий, – люди, а не типологические шифры – сидели на своих скамеечках в Афинах неподалеку друг от друга и, несомненно, ежедневно проходили друг мимо друга, в то время как денди, политиканы, поэты и солдаты Афин прогуливались вдоль лотков, кивали на яркие, только что из печи, вазы, роняли пару слов в похвалу модного изящества одной из ваз, усмехались, замечая в других намеки на современные бытовые или политические события (намеки, которые ускользают от нас сегодня) – и наслаждались первым действительно народным изобразительным искусством античности»[2]. Этнографический подход к расписной керамике оправдан потому, что это массовая, тиражированная, хотя и вручную, продукция, и анализ ее в категориях, выработанных на материале индивидуальных и уникальных Произведений Искусства, видимо, недостаточен. Надо сказать, что о мастерах расписной керамики ничего не известно по литературным источникам[3]. Горшечник не входит в разряд истинных художников, творения которых уважали, хотя презирали профессию. И сами мастера не придавали большого значения авторству: их подписи имеют факультативный характер (см. прим. 66). Не парадоксально ли, что многолетний труд крупнейшего знатока и бесспорного авторитета в области греческой керамики Дж. Д.Бизли – это списки аттических ваз, классифицированных по мастерам (!). Мы хотели бы указать только на одну характерную черту этого авторитетного издания: к продукции, близкой к изобразительному фольклору, в принципе безымянному, исследователь подходит с меркой нового искусства и задается, прежде всего, вопросом авторства. Итак, в качестве обиходных вещей греческие сосуды служили для обиходных нужд – хранения вина, масла, зерна и воды; в качестве Произведений Искусства предназначались для созерцания. Первой функцией служат их утилитарные свойства, второй – эстетические. Но для чего предназначены вазы в качестве художественных вещей? – Для общения, и эту функцию они выполняют с помощью надписей. *** Надписи испокон веку сопровождают изображения. Вероятно, что с того времени, как появляется письменность, первоначально слитая с изображением. Изображение, в принципе противопоставленное письменному тексту, может быть такое же исключение в практике мирового искусства, как и чисто эстетическая функция художественного объекта. И одно связано с другим: именно в новоевропейской станковой картине надпись постепенно сводится к подписи художника, а название выносится на отдельную табличку. Симбиоз надписи и изображения изучался главным образом для тех традиций, которые высоко чтили письмо и придавали большое значение внешней красоте письменного текста. Например, многие древнегреческие надписи таковы, что уместнее считать изображение включенным в надпись, а не наоборот. Иероглифическая надпись как бы не забыла свое родство с изображением и подчиняется поэтому требованиям пластической красоты. Внимание исследователей привлекал китайский обычай вписывать в живописный свиток стихотворение, корреспондирующее с картиной, причем каллиграфия почиталась родом живописи[4]. Как историко-культурный феномен надпись изучалась в связи с изображением в применении к византийской и древнерусской культурам, ибо здесь письмо значимо как представитель Писания. Изображению вменяется раскрывать слово, и святые на иконах раскрывают перед зрителем книги. В связи с этим и говорят о пропитанности иконы и книжной миниатюры христианского востока словесным смыслом, который как бы кристаллизуется в надписях[5]. В таких и подобных случаях надпись в изображении делается предметом историко-культурного анализа. Что же касается греческих надписей на изображениях, то за редким исключением они изучаются на общих основаниях с другими надписями в исследованиях эпиграфистов, лингвистов и историков. Если искусствоведы обращают внимание на надпись, то главным образом с утилитарной целью (сведения о мастере, сюжет росписи, время создания вещи, ее владелец и т.д.). Это и понятно. В отличие от древневосточных или китайских греческие надписи вообще, и на вазах в частности, небрежны и нехудожественны. Изящные надписи Эксекия, например, – исключение, лишь подтверждающее правило. Надписи составляют удивительный контраст по своей беспорядочности и грубости с изяществом и экономичностью композиции чернофигурных и краснофигурных сосудов старого стиля. Но когда наступает упадок вазописи, исчезают и надписи. Зрительный облик надписи настолько несущественен, что мастер может и оборвать ее, если не уместилась, и, начав писать в неудобном месте, оставить слово недописанным, а рядом написать его полностью[6]. Но если внешний облик надписи мало заботит вазописцев и владельцев сосудов, то этого нельзя сказать об их звуковой организации. Стихотворная форма надписей, даже такого прозаического содержания, как владельческие[7], столь распространена, что можно утверждать: греческие надписи гораздо чаще метрические, нежели симметрические. Как писал по другому поводу С.С.Аверинцев, «классическая греческая литература не столько «написана», сколько «записана». Она условно зафиксирована в письменном тексте, но требует реализации в изустном исполнении, ей необходимо вернуться из отчужденного мира букв и строк в мир человеческого голоса и человеческого жеста... Вероятно, греки тех времен примерно так же относились к записанному слову, как мы относимся к записанной музыке, к нотному письму; как бы ни была важна утилитарная роль музыкальной нотации, реальна музыка лишь как звучание»[8]. Греческую надпись вообще и, в частности на вазах, хочется назвать устной. Это – vox rei – голос вещи. Так и у Эсхила о девизах на щитах героев говорится, что «в сложеньи букв кричит» изображенный на щите персонаж, или что «через золотые буквы [факелоносец] возглашает: «сожгу город»[9]. Важно, что значительная часть надписей на вещах делается от лица самой вещи, т.е. вещи говорят через надпись. В период архаики и ранней классики на сосудах надписи делаютсяот лица всего сосуда, а в период классики надписи – это реплики от лица персонажей росписи на сосуде. Надпись звучит, а не созерцается, ее произносят и слушают, а не смотрят, потому-то она и выпадает из живописной композиции, располагаясь не в пространстве изображения, а "на пустых местах". Надписи представляют не изобразительную, но какую-то другую ценность, иначе неграмотные художники не пытались бы имитировать их бессмысленными сочетаниями букв "for their snob value", как выразился Бордмен[10]. Нам предстоит выяснить здесь, что это за ценность. *** Наиболее распространенные надписи на сосудах – сигнатуры мастеров, владельческие, посвятительные и дарственные надписи. Чем древнее сосуд, тем больше вероятности, что надпись на нем (если она есть) будет в перволичной форме. Самые архаичные надписи на сосудах, представляющие собою вообще наиболее ранние памятники греческой письменности, – это владельческая надпись на черном килике с Родоса: "Я – килик Корака" и знаменитая: "Я – Нестора благопитейный кубок". Обе датируются VIII веком до н.э.[11]Древнейшая известная нам наследственная гончарная мастерская также составила подпись от первого лица вазы: "Пирр (сын) Агасилея меня сделал"[12]. К началу VII века относится дарственная надпись, в которой сосуд говорит от своего лица[13], и самоопределение вазы – "Я – хой" (хой – мера объема)[14]. На древнейшей Панафинейской амфоре (конец 560-х гг.) стандартная впоследствии надпись – "Приз (за победу) в Афинах" имеет еще форму "Я – приз (за победу) в Афинах[15] и т.д. Дошедшие до нас надписи в первом лице, относящиеся к VII и VI векам до н.э., довольно многочисленны и разнообразны. Например: "Я – лекиф Татеи: кто меня похитит, ослепнет" или: "Я принадлежу Мелантию, кто скажет иначе, солжет", "Я – пестрый килик прекрасной Фильто", "Симонид посвятил меня", "Эксекий сделал меня отлично", "Здравствуй и купи меня" и т.д.[16] С течением времени уже в первой половине V века до н.э. в этих надписях первое лицо глагола "быть" отпадает (то есть то, что в нашем переводе передается местоимением "я"), и надписи получают "обыкновенный" вид: "килик имярека", "имярек" подарил имяреку", "Аполлонов сосуд" и т.п. То же самое происходит и с формулой приветствия от лица сосуда ко второму лицу, т.е. к "ты" участника пиршества, к собеседнику. В формуле "Радуйся (здравствуй) и выпей меня" и ее вариантах[17] "меня" отмирает, хотя формула сохраняется. Забегая вперед, скажем, что она вкладывается теперь в уста изображения на вазе. *** Говорящая вещь и ее умолкание буквально на глазах историка взывают к интерпретации. Некоторые исследователи полагают, что в эпоху греческой архаики: "древнее отношение к расписному сосуду как одухотворенному созданию, к вещи, оживленной магией творчества, уходит в прошлое. Вряд ли большим, чем традицией, можно считать надписи на вазе, которые делаются как бы от ее лица"[18]. Другие предполагают, что для греков сосуды – это живые существа, которые говорят, видят, слышат[19], имея для этого и уста, и глаза, и уши[20]. Для этих исследователей вазы стоят в ряду живых колонн (кариатиды и т.п.), вещей в форме живых существ и всевозможных неодушевленных с нашей точки зрения предметов, снабженных надписями от первого лица[21]. Действительно, в VII – VI вв. до н.э. говорящие надписи встречаются на статуях богов и людей[22], на могилах[23], на изображениях животных, как скульптурных, также и на монетах и геммах[24] и т.д. Как правило, это явление становится в контекст пантеистической одушевленности мира. Вернее, самый факт существования говорящих надписей служит одним из доказательств такой одушевленности. Между тем, вот как решает данный вопрос Марио Бурцакеки, автор единственной известной нам работы, целиком посвященной говорящим вещам: "От веры в то, что в статуе обитает дух божества, до того, чтобы заставить говорить само изображение – один шаг. Если изображение представляет собой божество, которое способно говорить, то этим объясняется и эпиграфическая формула в первом лице"[25]. Это было бы справедливо для кумиров богов, но почему тогда говорят сосуды, меры веса или металлический диск? Согласно Бурцакеки происходит простой перенос на "неодушевленные" предметы обычая, оправданного только по отношению к изображениям, вмещающим божество, т.е. кумирам. Значит самые древние и исконные надписи от первого лица вещи – это надписи на изваяниях богов. Так ли это на самом деле? Нельзя не согласиться с Бурцакеки в том, что изображение бога мыслилось одушевленным. Об этом красноречиво говорят источники. Изображения, обладающие магической силой, именовались ἔμψυχοι – т.е. "наделенные душой"[26]. Павсаний рассказывает о душе Актеона, блуждавшей и чинившей опустошения в земле орхоменцев, пока жители не поставили Актеону бронзовую статую, в которой душа могла поселиться[27]. У этого же автора содержится множество рассказов о чудесах, производимых статуями[28]. По поверьям древних статуи могли разгуливать, и, чтобы божество не покинуло город, его изображение приковывали к постаменту или алтарю[29]. Движения статуй понимались как изъявление воли божества. Не принимая молитв, изваяние качает головой[30] или "смежает вежды"[31]; наклоны кумира, который жрецы несут в процессии, истолковываются как оракул[32]. Вот как высказывает свой гнев Афина, т.е. Палладий, кумир, оскверненный данайцами: В лагерь едва был образ внесен – в очах засверкало Яркое пламя, и пот проступил на теле соленый; И, как была, со щитом и копьем колеблемым дева – Страшно об этом сказать – на месте подпрыгнула трижды[33]. Однако на говорящие, а не только подвижные изваяния, указания в литературных источниках редки и встречаются преимущественно в комическом или пародийном контексте[34]. Получается таким образом, что хотя статуи мыслились наделенными божественной силой, одушевленными, о голосе и речи статуй сообщают в основном надписи. Но это не так. Вопреки выводам Бурцакеки первое лицо принадлежит здесь как раз не божеству. В самом деле образцы, которые приводит Бурцакеки в подтверждение своей гипотезы, лучше всего эту гипотезу опровергают. Во-первых, начиная с самой древней из известных надписей от лица изображения, в тексте надписи совершенно определенно противопоставлено изображение, говорящее от своего лица, и божество, которому оно посвящено и к которому обращается с просьбой и приветствием. Вот эта древнейшая надпись в оригинале метрическая: "Мантикл посвятил меня далекоразящему, сребролукому (т.е. Аполлону) за десятину (от своего имущества или прибыли); ты же, Феб, пошли благое воздаяние"[35]. Такое же различение бога и изваяния выражено и в других пятнадцати надписях, исследованных Бурцакеки[36]. Во-вторых, вполне достоверно статуей бога, а не человека, среди примеров итальянского ученого является только одна статуя (вернее постамент) с данной формулой: "Я – статуя (ἄγαλμα) Феба, прекрасного сына Латоны..."[37]. Множество посвятительных ἀγάλματα с данной формулой найдено на Афинском акрополе, однако определить, бога или человека изображали изваяния, невозможно[38]. А вот на статуях, о которых определенно известно, что это статуи людей, на таких статуях первое лицо изображения и изображаемого как раз совпадает. Так, к середине VI века, относится сидящая статуя, на кресле которой: "Я – Харес Клесийский, правитель Тихиусы, приношение (ἄγαλμα) Аполлону"[39]. Известны и другие «портретные» статуи этого периода, говорящие от первого лица изображенного человека, и лишь одна из них определенно не относится к надгробному памятнику[40] (а это особая группа надписей; см. ниже). Вывод Бурцакеки нуждается, таким образом, в существенных уточнениях. Во-первых, говорящие статуи богов не являются древнейшими говорящими вещами, килик Корака, например, древнее самой ранней «говорящей» статуи. Конечно, можно сказать, что более древние статуи были деревянными и не сохранились. И все же наличное положение вещей не дает нам права предполагать перенос данной эпиграфической формулы с кумиров богов на неодушевленные предметы. Во-вторых, то, что Бурцакеки считает изображениями богов, является таковым только предположительно. В-третьих, говорит в надписи не дух божества, обитающий в изваянии и наделяющий его даром речи, а сама статуя, которая прекрасно «знает», что она изображение, а не божество. Наконец, антропоморфная статуя бога не более заслуживает ранга одушевленности, нежели любой другой предмет, ведь для мифотворческого сознания категории живого и неживого отличаются по содержанию от современных. «Мертвецами», например, считаются юноши, проходящие инициацию, чужаки и рабы воплощают смерть, а светила, скалы или амулеты – живые. Есть всего несколько надписей, в которых божество говорит от своего имени. Но эти надписи начертаны не на антропоморфных, а на неиконических кумирах богов: на каменном конусе, в образе которого почитался Аполлон Агиевс[41]; на стеле, которая изображала Зевса Мейлихия[42] (ср. упоминания Павсания о Зевсе Мейлихии, почитавшемся в виде пирамиды)[43], на грубом, необработанном камне, который именовал себя Терпоном, божеством из свиты Афродиты[44]. Если бог может быть представлен пирамидой или бесформенным камнем, а именно таковы были наиболее почитаемые в Греции древние кумиры (кстати, именовавшиеся ἔμψυχοι)[45], то и другие, с нашей точки зрения неодушевленные предметы и неиконические идолы, одушевлены для мифотворческого сознания, будь то драхма[46], металлический диск[47] или сосуд. Хотелось бы отметить одно немаловажное обстоятельство применительно специально к греческим сосудам интересующей нас эпохи. Апотропейные глаза нередко размещают на тулове так, что получается лицо с носом и ушами[48] (ручки сосуда). Самое же замечательное то, что глаза бывают «женской» (миндалевидной) формы. Иными словами, правила, принятые для изображения глаз у человеческих фигур на вазах, действительны и для апотропейных глаз, принадлежащих самому сосуду[49]. Эта дифференциация представляется немыслимой, если сосуд не считается живым существом, которое, следовательно, должно быть того или другого пола. Сосуд – это ясно и интуиции современного человека – едва ли не самая подходящая вещь для одушевления. Известно, например, что женщины из южноамериканского индейского племени провозглашали посуду «живой», живым существом. Стук по посуде – разговор; в печь рядом с изделиями ставят пищу, звук трескающихся в печи горшков – крик удирающего прочь «существа» (треснувший сосуд больше не звучал, если по нему постукивать, отсюда делается вывод: «существо» ушло) и т.д.[50] Когда Гефест создает Пандору, замешивая землю с водою и помещая внутрь человеческий голос и силу, он словно действует по рецепту индейских женщин[51]. Гончарное производство в примитивных обществах – женское производство[52], потому что сосуд – это образ женщины, и женщина мыслится сосудом, а женские божества почитаются в виде сосудов[53] (ср. выше миндалевидный глаза – обереги). Знаменитая женщина – город, Вавилонская блудница – это, по образу Иеремии, «золотая чаша в руках Яхве, опьяняющая всю землю»[54]. Дело не только в том, что сосуды, начиная с неолита, изготавливают в виде животных, человеческих и звериных голов или делают целиком антропоморфными, как погребальные урны. Это даже как бы «излишество». Ведь части сосуда – вазы, кувшины, чаши – на разных языках согласно именуются туловом, ножкой, горлом, шейкой, плечами, ушком, устьем («устами») и т.д. И это не кальки, не традиция, в которой все заимствуют из одного источника, а действительно естественный способ наименования. И если по отдельности «ручки» и «ножки» приписываются в языке многим предметам утвари и домашнего обихода, то такой богатый анатомический комплекс только у сосуда. *** Итак, нам остается присоединиться к тем, кто видит в надписях от лица вещи свидетельство веры в одушевленности природы, а рукотворных вещей – тем более? Тогда исчезновение подобных надписей говорит о каком-то серьезном изменении в мировоззрении, прошедшем по Элладе, как эпидемия, и за какойнибудь век упразднившем древние верования. Ведь, как было сказано выше, в первой половине V века до н.э. перволичная форма в надписях на сосудах постепенно исчезает, а во второй – едва ли найдутся единичные образцы и те за пределами Аттики, наиболее развитой в культурном отношении[55]. Но можем ли мы датировать подобное изменение, не вдаваясь покуда в его природу, по одним только вазам? Ведь сигнатуры скульпторов типа «меня сделал такой-то» редки уже во второй половине VI века, а рубеж V-ого в Афинах не переступила ни одна статуя, сообщающая о творце от своего лица[56]. В то время перволичная формула на могильных памятниках известна для самой Эллады до III века н.э., а если говорить обо всем эллинистическом мире, то она никогда там не исчезала и перешла в Рим, Византию, средневековую Европу[57]. Говорящие эпитафии количественно составляют главный корпус надписей в перволичной форме с богатым разнообразием вариантов высказываний, обращений, диалогов (обращения и беседы с путником, прохожим, покинутыми родственниками, друзьями, богами и т.д.). Первое лицо – это лицо или самого умершего (возможно изображенного на стеле) или иконического надгробного памятника – сфинги, льва, орла, сатира, или, наконец, «лицо» неиконической стелы, могильного холма. Памятник или стела обращаются к зрителю с речью[58], приветствуют его и требует от него приветствия: «скажи мне: радуйся...»[59], просит посмотреть на него[60], задать вопрос и выслушать (!) ответ[61]. В эпитафиях особенно ясно, что надпись мыслится звучащей (прочитываемой вслух): Надпись надгробная скажет, чей камень, и кто здесь положен: Главке могильным холмом я знаменитой служу[62]. Такая эпитафия может считаться элементарной, образцовой. Выражения типа αὐδήσει τὸ γράμμα – «надпись скажет» не имеют того стертого смысла, как наше "закон гласит". Вот несколько примеров: (нумерация по Пеку): 1619: стела говорит вот что – στήλη λέγει τόδε; 1618: говорит камень... – φησίν ὁ πέτρος; 1621: возвещает надпись... – ἀγγελεῖ γραφή/; 1625: стела тебе скажет... – στήλη σοι λέξει; 162: камень возвещает... – πέτρος ἀγγελεῖ; 1628: имярека представляет вот такой голос, идущий от стелы... – τόσσον ἀπὸ στήλης φθεγγόμενον; 1634: буквы говорят... – γράμματα φράζει; 1635: стела кричит всем проходящим мимо... – ἡ στήλη βοάᾳ πᾶσι παρερχομένοις[63]. Само разнообразие выражения идеи говорящей могилы, памятника, стелы свидетельствует против стертой метафоры в этом случае. Не заключить ли отсюда, что вера в магическое, живое изображение, в одушевленность камня так и не исчезала никогда? Что же происходит? *** Было бы, конечно, неоправданной смелостью судить о таких одновременно и грандиозных и неуловимых вещах, как мировоззрение целой культуры, на основании некоторых эпиграфических формул. Наше исследование – не более чем аргументированная иллюстрация тех характеристик развития греческой цивилизации, которые выработаны совместным трудом поколений филологов, историков, археологов, исследователей древней философии и искусства. Одни превозносят, а другие порицают эллинскую цивилизацию, но за одно и то же – за изживание мифического мышления, за появление альтернативных форм интерпретации мироздания – философской, научной; за рождение художественности, независимой от чисто культовых или чисто прикладных нужд и т.п. Эпоха архаики, VII – VI вв. в жизни Греции – эпоха великих рождений: первые философы, первые драматурги, первые известные по именам живописцы, первые летописцы, первые филологи и т.д. Однако не следует думать, что развитие культуры однонаправлено, что все ее области, как по команде, переходят из одной эпохи в другую. Дело не только в том, что, как известно, существуют «пережитки» и новое не вытесняет старого не только сразу же, но вообще не вытесняет, а существует рядом. Дело в том, что не одно коллективное, но и индивидуальное сознание гетерогенно, содержит пласты разного культурного возраста, а в этой разности – начало движению; и чем больше «разного», тем развитие быстрее, чем однороднее сознание, тем развитие медленней и тяготеет к статике. Применительно к нашему материалу надо сказать, что, начиная с той поры, с какой мы вообще можем о чем-то судить, опираясь на факты, начиная с VII века до н.э., перволичная форма в надписях не была обязательной. Например, сигнатура Аристонота на кратере, датируемом первой половиной VII века до н.э., выглядит так: «Аристонот сделал»[64]. Известно, что одни и те же мастера, как, например, Софил, Гермоген, Тимонид и другие, то пользовались формулой меня сделал (расписал) имярек», то – «сделал (расписал) имярек»[65]. И это так же факультативно, как наличие или отсутствие сигнатуры[66]. Абсурдно говорить о том времени, когда письменности не существовало: какую форму надписи предпочитало бы бесписьменное общество? Ясно между тем, что в самом раннем доступном исследованию эпиграфическом материале обе возможности – дать говорить самой вещи и сказать «о» ней – конкурируют друг с другом. А это означает, что существовал выбор и, следовательно, и в VII и VI веках нет абсолютной гомогенности мировоззрений, характерной для примитивных обществ, нет культурного единообразия, но зато есть движение, также неравномерное. Мы не можем на нашем материале указать момент, когда завершилась эпоха тоталитарного мифологизма и началась новая эпоха, когда возможны «точки зрения», свои собственные варианты космогоний, как у первых философов, свои собственные вымышленные мифы, как у Платона. Если такой рубеж вообще существует, он находится вне хронологических пределов нашего материала. В том, что мы наблюдаем, с самого начала мифологизм соседствует с «иным» взглядом на вещи. С другой же стороны, мы вынуждены признать, что одушевление неодушевленного, вера в магические свойства предметов и особенно изображений не знает хронологических границ и уж во всяком случае сохраняется в течение всей истории античного мира. Неслучайно во II веке н.э. Лукиан в своем «Филопсевде» издевался над рассказами об истуканах, которые бродят по ночам и плещутся в фонтане[67]. Лукиан рассказывал и о медном Гиппократе с локоть величиной, который по ночам с шумом обходит дом, переворачивает утварь, раскрывает двери и сливает вместе лекарства, особенно он бесчинствует, если не принести ему жертвы[68]. Более того в поздней античности почитание идолов из простонародного суеверия сделалось религией философов. Порфирий, Ямвлих, Юлиан, Прокл, Максим Тирский обращались к народной эллинской вере, создавая свою философскую мистику «иконопочитания»[69]. В эту позднюю эпоху появляется осознание внутреннего духовного содержания произведения искусства, однако вырабатывается понятие о таковом благодаря спиритуализации древней веры в духа, живущего в идоле. А ведь в VI – V веках до н.э. философы были «иконоборцами». Еще Гераклит смеялся над теми, кто в изваяниях видит богов и обращается с молитвами к статуям; для Гераклита это то же, что вести беседы с домами[70]. Высмеивал поклонение кумирам и Антисфен[71], и Зенон[72], и Хрисипп[73], а Диагор Мелосский, по преданию, сварил суп, бросив в огонь деревянного Геракла[74]. Так же или почти так относились к кумирам и другие античные «интеллектуалы»[75]. Все это поучительно не только потому, что лишний раз доказывает, сколь малого стоят наши периодизации. Хронологический разнобой в исчезновении говорящих надписей дает основания выделить в культуре, в культурном сознании пласты с различными скоростями и различным характером движения. Самой «прогрессивной» оказывается скульптура и притом культовая. Развитие ваяния в сторону антропоморфизма, в сторону жизнеподобия и даже иллюзионистичности оказывается сопряженным не с усилием, а с ослаблением веры в одушевленность изображения. В классической греческой скульптуре слишком много отдано эстетическому, пластической красоте и гармонии. Происходит поворот от мастера-творца – ποιητής к художнику-подражателю – μιμητής – [76], и от истукана – κολοσσός – магически тождественного оригиналу «заместителя» – к εἰκών – образу[77]; слово εἰκών, выражающее идею уподобления, а, следовательно, вводящее дистанцию между объектом изображения и изображаемым, появляется как название в надписях на статуях именно в начале V века до н.э.[78] Благочестие же по-прежнему находило себе пищу в почитании древних грубых ксоанов, пирамидальных Зевсов. И вот ваятель классической поры во всеоружии своего собственного осознанного мастерства сообщает о своем имени: «Пракситель сделал». А могилы – это царство традиции. Быт – едва ли не самая косная область культуры, и все, что связано с параферналиями похорон, пожалуй, самая косная область быта. Ибо здесь действует правило: поступай, как поступали предки, ни в чем не отступая от правил, и не ошибешься. Тысячи дошедших до нас эпитафий из века в век используют одни и те же формулы; формульность охватывает при этом не только первое лицо высказывания: эпитафии насквозь формульны, ибо вопреки школьным определениям, и фольклор может быть письменным и литература – устной. И как всякий фольклор, эпитафии хранят и варьируют древнюю формулу. Те же самые люди, которые считали перволичной форму уместной и необходимой в эпитафии, в остальных сферах могут разделять убеждения, например, Диагора Мелосского. Итак, в мире равного себе мифологизма вещи – живые и говорящие. Этому нет альтернативы. Эпиграфический материал Древней Греции демонстрирует следующий этап: мифологизм разбавлен «обычным», «рациональным», «позитивистским», как бы его ни называть, взглядом на мир. Время безраздельного господства мифа для Греции нужно относить к эпохе, по крайней мере, дописьменной. Это ничуть не противоречит тому, что мифологическое отношение к вещи, а особенно к изображению, как к живому и говорящему, продолжает существовать преимущественно в традиционных, резистентных к рационализму сферах жизни, как, например, погребальный обряд. Сказанное не означает, однако, что положение дел оставалось неизменным в VII веке до н.э. и в течение всей последующей истории античного мира. Простой и очевидный факт исчезновения во второй половине VI века целых разрядов надписей от лица вещи показывает, что именно в это время происходит существенный, хотя и локальный сдвиг в художественном мышлении. Этого и следовало ожидать: все дисциплины согласно указывают на этот рубеж – конец VI – начало V века – выход к классике. Посмотрим теперь, как отреагировали надписи на вазах на перемены, произошедшие в «большом искусстве» Эллады и в самом художественном мышлении. *** Как мы уже сказали, в европейском мире Произведений Искусства надписи постепенно изолировались от изображений. А эпоха Произведений Искусства предваряется в поздней античности, когда появляются первые не храмовые художественные галереи, частные художественные собрания и мусейоны. И вот именно тогда древний обычай писать на изображении становится сам по себе непонятен, и Элиан прибегает к такому объяснению: «Когда искусство живописи начало развиваться и было еще в пеленках, художники рисовали так неискусно, что принуждены были писать над соответствующими изображениями: «это бык», «это лошадь», «это дерево»[79]. Конечно, это объяснение очень наивно. И в эпоху греческой архаики, и в эпоху классики, а иногда и позже надписи сопровождали монументальную роспись, пинаки, метопы, чеканку, вазопись такого качества, что говорить о «непонятности» изображения не приходится. И когда Аристотель также сообщает, что картины древних художников нельзя понять без надписей, то по точному смыслу текста он говорит лишь о том, что без подписей собственных имен персонажей нельзя понять, какой мифический герой изображен древним мастером[80]. Действительно, имя изображаемого персонажа – это самая частая надпись в росписи ваз. Сосуд замолкает в середине V века, говорить начинает изображение на сосуде, оно называет себя по имени, как прежде это делал сам сосуд. Одна из древнейших надписей такого рода относится еще к эпохе архаики: «Я – Энета», – говорит голова на коринфском арибалле; ниже приписано еще много мужских имен, как полагают, имена дарителей сосуда с драгоценной парфюмерией и поклонников Энеты[81]. Однако надо сказать, что «Я» (εἰμί) от имени персонажа росписи большая редкость, Дж. Бордмен даже назвал автора другой подобной надписи «оригиналом»[82]. «Я – Гермес Киллений», – заявляет один из персонажей на архаической амфоре; остальные персонажи подписаны просто именами[83]. И все же мы предполагаем, что имя на вазе, даже без «я», допустимо понимать как представление зрителю от собственного лица изображения. Чтобы подтвердить это наше предположение, следовало бы привести большой иллюстрированный материал или статистическую обработку достаточно представительного корпуса ваз. Поскольку это здесь сделать невозможно, изложим результаты своих наблюдений, предоставляя читателю самому убедиться в нашей правоте или нас опровергнуть, используя любые достаточно полные издания вазовой живописи. Известно, что когда на вазе изображается в виде надписи речь персонажа, вазописец пользуется очень простым приемом: строка надписи исходит из уст говорящего, причем начало слова или фразы находится у рта. Часто при этом говорящий поднимает к лицу согнутую в локте руку; это тоже жест «говорения», с которым может сочетаться текст речи, написанный в связи с особенностями композиции не возле уст персонажа; таким образом два приема: поднятая рука и расположение надписи-речи у головы (уст) фигуры дополняют друг друга, и если нет места для «правильного» расположения надписи, поднятая особым образом рука показывает, что надпись сбоку или снизу – это речь персонажа. Так, в частности, изображен Гермес Киллений, слова которого помещаются у него за спиной (см. выше). Наряду с этой закономерностью нам удалось заметить закономерность расположения имени персонажа. Вообще говоря, имя персонажа может располагаться, где угодно: сверху, снизу, сбоку от фигуры. Это зависит от общей композиции. Но если композиция позволяет и художник может выбирать место для имени, он расположит его так, как если бы это была речь персонажа, т.е. возле головы или рта, так что начало имени – у уст. Если профиль смотрит вправо – надпись расположена слева направо, если профиль обращен влево – надпись ретроградная, т.е. справа налево, но начало имени непременно у рта (головы) говорящего. Если учесть, что направление письма в это время может быть любым, и греки равно умели писать и слева направо и справа налево, то такая закономерность много стоит. Конечно, предположение, что персонаж росписи сам себя объявляет, как актер в фарсовом народном театре, нельзя доказать с полной надежностью, но бóльшая «озвученность» вазовой росписи в целом делает такое предположение по крайней мере не невероятным. Если наше предположение верно, и имена богов, людей и героев на вазах архаического периода следует считать речью этих персонажей, то выходит, что вопреки нашему утверждению в ранней классике не происходит передачи голоса от сосуда к изображению. И обе формы существуют одновременно. В свое оправдание скажем: мы заостренно формулируем тенденцию, представленную исторически достаточно размыто. Тенденция эта держится на тех исторических фактах, что речи сосудов исчезают к началу классического периода и что речи изображений множатся и делаются все разнообразнее с его началом. Причем это уже не гипотетические, как в случае с именами, а достаточно бесспорные речи изображенных персонажей – их реплики. *** Чаще всего речи персонажей – это довольно многочисленные сцены с репликами. Обычно это краткие фразы или восклицания, исходящие из уст. Вот некоторые примеры. Старик Финей у алтаря воздевает руки и призывает богов: θεοί[84]. Гиппомедонт возлагает цветы на жертвенник, восклицая: ὤναξ, «владыка!»[85]. Две колдуньи призывают луну (кружок с женским профилем): «О, владычица Селена» (σέλα)[86]. Бытовая сцена: фонтан, водоносицы с сосудами ждут очереди, одна говорит: «Возьми его, полон»[87]. Юноша зовет за собой собаку: Κελιταῖε[88]. Мы узнаем из росписи, как понукали греки своих лошадей: ἔλα, ἔλα[89]. Юноша едет на коне, за ним слуга несет треножник – приз за победу; впереди глашатай: «Диникета (лошадь) побеждает!» Текст из-за недостатка места (края расписного поля) от уст спускается к ногам говорящего, рука поднята в характерном жесте[90]. Возможны речи персонажей и в мифологических сценах. Одиссей, привязанный к мачте, плывет мимо сирен и просит спутников: «Отвяжи»[91]. Один из первых мастеров краснофигурной росписи Финтий изобразил сцену похищения Латоны Титием. Дети Латоны, Аполлон и Артемида, приходят на помощь матери, и Артемида восклицает: αἰδώς. Эти слова можно передать так: «Какой позор!» (αἰδώς как восклицание известно, начиная с Гомера)[92]. Восклицание Артемиды написано не у уст, здесь нет места, но рука поднята, как «положено» говорящей фигуре. Примеры можно умножить. Реплики нескольких персонажей образуют диалоги. Диалогические сценки встречаются реже, чем отдельные высказывания, но число их все-таки достаточно велико. Знаменита эрмитажная пелика Евфрония с такой сценкой-диалогом трех персонажей: «Смотри[те], вот ласточка! – Да, клянусь Гераклом! – Вот она! – Уже весна» (кому принадлежат последние слова, неясно, так как в отличие от других реплик они написаны снизу, а не от уст персонажей, и могут претендовать на редкое в надписях на вазах обобщающее название картинки)[93]. Не менее знаменита более ранняя ваза работы Эксекия, на которой Ахилл и Аякс играют в «пессы» (игра, сочетающая игру в шашки и кости). Ахилл говорит: «Четыре», – Аякс: «Три»[94]. Диалоги, подобные этим, встречаются и на пинаках. Так, на пинаке с афинского акрополя изображена процессия, участники которой несут корзины и сосуды с вином и виноградным суслом. Надписи сохранились не все и не полностью; вот примерное содержание беседы идущих: «Он уже выпил». – «И я тоже (буду пить)». – «И я ...» – «Пей еще немного». – «Я унес…» Надпись обрывается[95]. На вазах встречаются сцены из комедий вместе с написанными тут же репликами действующих лиц. Принадлежность к драме выдает метрическая организация этих реплик, а дорический диалект указывает, по мнению исследователей, на дорические и сицилийские фарсы, из которых заимствованы эти сцены.[96] На Ватиканской пелике сцены с речью персонажей украшают обе стороны сосуда и связаны между собой так, что, поворачивая сосуд, зритель как бы меняет «кадры». На одной стороне торговец оливковым маслом цедит через воронку масло и говорит: «Зевс-отец, вот бы мне разбогатеть!» Сценка на другой стороне: Торговец стоит, а клиент сидит напротив, считая на пальцах. Торговец: «Уже ведь, уже полон, вышло через край». Эту сценку некоторые исследователи также относят к сценкам из комедии или из мима[97]. Другой разряд звучащих надписей: речь персонажей не замыкается в пространстве изображения, но обращена вовне – к зрителю, собеседнику, чаще всего к участнику пира. Как правило, это приветствие: «Радуйся (здравствуй) и пей на благо», которое прежде исходило от лица сосуда. Теперь же слова принадлежат изображению. Стандартным является сочетание такой надписи с женским профилем на внешней стороне килика (группа «Маленьких мастеров»), причем других изображений на этой поверхности нет. Женский профиль принято толковать как голову гетеры-сотрапезницы. Наряду с типовыми сюжетами встречаются и более индивидуальные. Так, на ойнохое конца VI века Дионис в венке протягивает скифос с вином и произносит ту же формулу: χαῖρε καί πίνει[98]. В уста юноши, бегущего со всех ног и несущего, прижавши к себе амфору, вложены слова: «Зови меня, чтобы вам выпить» (изображение на дне килика)[99]. Но на некоторых вазах приветствия от лица персонажа имеют конкретного адресата. Так, знаменитого красавца Леагра называет одна из гетер на эрмитажном псиктере Евфрония[100]. Это приветствие особого рода, которое можно назвать «любовным тостом». Играя в коттаб одна из поименованных в надписях гетер, Смикра (Малютка) говорит: «Тебе (т.е. в твою честь) посылаю эту (каплю вина), Леагр!» Она выбрасывает из крутящегося на пальце за ушко скифоса остаток вина, произнося имя избранника; По попаданию в цель (металлическая пластина, зеркало, сосуд) и по звуку судили о надеждах на взаимность. И на другом сосуде гетера аналогично приветствует Евфимида. Известны подобные обращения и без конкретного имени, его можно было поставить в зависимости от ситуации.[101] Приветствия, в том числе формульные, персонажи росписи обращают и друг к другу. Бородатый муж стоит перед сидящим человеком со скипетром в руках и говорит: «Привет тебе»[102]; такими же словами приветствует Тезей Ариадну[103]; наливая вино воину по имени Менандр, уходящему на войну, женщина говорит: «Лью во благо» (или: «Да будет благим мое возлияние»)[104]; одна из гетер протягивает другой сосуд с вином и просит: «Выпей и ты!»[105] и т.д. Не стоило бы выделять этот тип надписи из разряда сценок с репликами и диалогами, но мы надеемся показать в дальнейшем, что такие надписи не замкнуты в изображении, они так же, как и приветствия от лица изображения, являются средством особого праздничного общения, служат своего рода костюмированной передачей привета, и за Гермесом и Ариадной стоят такие же реальные лица, как Леагр, Евтимид или Смикра. Далее, не только сосуд обращается к зрителю, но и к изображению обращены приветствия от зрителя, например, к Гермесу[106] или игрецу на лире: χαῖρε Ὀρφεῦ – «Радуйся (здравствуй), Орфей!»[107]; к сфингам обращены приветствия на килике работы Главкита и Архикла[108]. На сосуде со сценой похищения Латоны трижды повторено приветствие χαῖρε (возможно тройное приветствие имеет в виду трех богов, здесь изображенных, и «исключает» отрицательный четвертый персонаж – Тития[109]) и т.д. *** Таким образом, мировоззренческая и художественная эволюция приводит к тому, что голос вещей замолкает, но не совсем: от служения магии и «буквальной» вере в живую статую, сосуд, картину, уводящей в дали мифологического одушевления всего на свете, надпись переходит на службу художественной игре в как бы живое, в почти настоящее и – в отличие от сосуда – вполне антропоморфное изображение. Вазы с надписями от лица вещи по происхождению связаны с архаическими представлениями о живой и говорящей природе и служат, подобно молитвам и заговорам, общению в сфере магико-религиозной, с силами вне- и надчеловеческими. Наука признает, во всяком случае, родство греческих эпиграмм и обрядовой поэзии. Мы уже говорили, что адресатом перволичной надписи от лица сосуда часто бывает божество (например, в посвящениях). И сама посуда с такими надписями нередко ритуальная и посвятительная. Сосуды с речью изображений несколько «сдвинуты» в сторону светского. Пиршественная посуда с говорящими сценками, о которой шла речь выше, часто использует мифологические сюжеты, но это ничего не меняет. Мифологические сюжеты ведь приобретают даже большую популярность уже в эллинистическую эпоху, когда мифологическая картина мира делается более галантною, нежели достоверной. Переработка мифологического в художественное и игровое происходит и в связи с надписями на статуях. Если мы не знаем реальных надписей, которые бы говорили от лица бога, по выражению Плутарха «вмурованного» в статую, то мы имеем сколько угодно«фиктивных» надписей, литературных посвятительных эпиграмм, использующих речь изображений среди своих художественных средств. Например: На статую Ниобы. Боги живую меня превратили в безжизненный камень, Снова из камня живой сделал Пракситель меня[110]. Конечно, ни о какой магии в связи с этими литературными вещицами говорить не приходится. Надписи от первого лица в посвятительных и описательных эпиграммах имеют отношение к художественной игре, а форма этой игры подсказана «навсегда» тем содержанием верований, которое начало таять уже в VI веке. Несколько слов о том, как обыгрывались эти верования. В античности любили, восхищаясь произведением искусства, говорить, что оно «как живое», подчеркивая его иллюзионистичность. Это тема бесконечных эпиграмм и описаний картин и статуй, не только тема анекдотов, наподобие рассказа о лошади, заржавшей при виде нарисованной лошади, или птиц, прилетавших клевать виноград на картине, но и «научных» сочинений; так, и в характеристиках, которые дает Плиний в своих книгах о скульптуре и живописи, неизменно присутствует мотив «искусственное, как настоящее». По словам В.Татаркевича, «Греки и римляне чуть ли не до тошноты восхищались теми скульптурами, которые выглядели, как "живые", как "настоящие"[111]. Многие исследователи принимают такие свидетельства за истинную характеристику античного искусства, называя его «реалистическим», «натуралистическим» или «иллюзионистическим». Есть, однако, одно обстоятельство, которое сводит на нет историческую достоверность всех этих свидетельств. А именно: подобием жизни одинаково восхищаются в течение всей истории античного искусства. Искусство современное Гомеру было геометрическим, а в его описаниях изображений, например, в знаменитом описании щита Ахилла, нельзя найти и намека на геометризм. Здесь такая же пышная, выпуклая «словно живая» жизнь, как и в описаниях, синхронных эпохам ранней классики, эллинизма, римского владычества. Более того, даже в произведениях византийского искусства современники, а часто и потомки видят все ту же иллюзию жизни. До конца своего существования византийская словесность удерживает литературный топос восхищения изображением, которое «вот-вот оживет», «словно дышит», «кажется, сейчас заговорит» и т.д., и это в отношении к росписи византийских храмов, для которых иллюзионистичность вовсе не характерна[112]. Действительно, как выразился Шраде: «открытость границы "действительность-искусство" принадлежит не стилю искусства, а стилю его восприятия»[113]. Мотив «как живое», генетически восходящий к религиозным представлениям, делается формой литературного этикета – топосом, а сама тема отношения к статуе как к живой оказывается источником веселых анекдотов, слегка соприкасающихся со сферой чудесного. Таковы рассказы о любви к изваяниям. Но если в мифотворческую эпоху – это миф о Пигмалионе и Галатее, в котором еще очень сильна струя чистого мифизма, и Пигмалион недалеко отстоит от демиурга, лепящего из глины людей и вдыхающего в них жизнь, то люди, для которых быль и небыль играют друг в дружку, рассказывают историю о юноше, который влюбился в Афродиту Книдскую и сочетался с нею любовью[114]; о безумце, который делал статуе свадебные подарки, собирался на ней жениться[115]; об афинянине, который не в силах побороть страсти к статуе Благой Судьбы явился к городским властям с просьбой продать ему изваяние, а, получив отказ, украсил Благую Судьбу венками и драгоценностями и, совершив жертвоприношение, покончил с собой[116]. Во все эти басни не надо верить, но в них можно поиграть. Скульптор Аполлодор, например, отзываясь о чертеже храма, созданном императором Адрианом, заметил, что статуи богов следовало бы сделать ниже, а не выше мегарона, не то боги, пожелав встать с кресел и выйти, не смогут этого сделать. Впрочем, игра с венценосным дилетантом стоила Аполлодору жизни[117]. С точки зрения игрового отношения к произведению искусства мы и рассматриваем беседу со статуей. Известен рисунок на краснофигурной ойнохое, изображающий такую беседу: человек стоит перед статуей Афины на колонне и обращается к ней с характерным жестом: рука поднята, как бы с просьбой или вопросом. Афина, опираясь на копье, «смотрит» на человека[118]. Обращение к статуе – уже не молитва, а игровая беседа. Программа такой беседы закреплена в диалогических эпиграммах. Те из них, которые помещены на самой статуе, прочитываются зрителем вслух, поскольку античность вообще не знала чтения «про себя»[119]. Вот образец диалогической эпиграммы: – Кто здесь, за что и кому воздвиг тебя, статуя, молви. – В память победы в борьбе Мирону город воздвиг[120]. «Беседа» может быть и гораздо более длинной и сложной, как, например, эпиграмма Посидиппа на Случай работы Левкиппа[121]. Аллегорическое изображение дает повод для пространного истолкования смысла изваяния и многочисленных вопросов зрителя. Акт созерцания статуи озвучивается подобно тому, как дети озвучивают свою игру с куклами, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что говорят и за себя и за игрушку. Цицерон сохранил любопытное свидетельство о том, как в говорящее изображение «играл» стоик Клеанф[122]. Клеанф описывал содержание аллегорической картины, на которой Добродетели прислуживали Наслаждению, восседающему на троне. Не вполне ясно, была ли перед глазами Клеанфа и его учеников реальная картина, но, во всяком случае, Клеанф произносил от имени Добродетели слова, которые Цицерон приводит как прямую речь: «Ведь мы, добродетели для того и рождены, чтобы служить тебе (Наслаждению), а другого дела у нас нет вовсе». Беседа со статуей или картиной делается как темой религиозной поэзии, так и темой игры и шутки, и, подобно мотиву «как живое», входит в репертуар литературных топосов. Сакральный характер имеет беседа путника со статуей Аполлона Делосского в «Причинах» Каллимаха. Стоя у входа в святилище, путник задает вопросы: кто ты? зачем твой стан пересекает пояс? почему у тебя в левой руке лук, а в правой Хариты? И бог отвечает, объясняя смысл всех этих особенностей[123]. Аналогична по формальной структуре, но окрашена комизмом, беседа с Гермесом Итифаллом в Каллимаховых «Ямбах»[124]. Беседы с Гермесом дошли во фрагментах древней и средней комедии. «О, дорогой Гермес», говорит участник пирушки пьяной (!) статуе, – «смотри, не упади, не расшибись, не дай повода для клеветы...» (здесь содержится намек на знаменитый процесс об обезображивании Герм в Афинах). И Гермес, т.е. его статуя отвечает: «Я поостерегусь, не хочу, чтобы мерзавец Тевкр, получил награду за донос»[125]. Другая беседа совершенно в духе эпиграммы: «Эй, кто ты такой, говори скорей, что молчишь, не говоришь?! – Я – деревянный Дедалов Гермес, имеющий голос пришел, идя сам собой»[126] (возможно, эта сцена явления Гермы свидетелем на суд, разбирающий все то же дело об осквернении статуй). *** В отличие от беседы со статуей, которая дает такое культурное образование, как литературный прием, топос, даже особый вид эпиграмм, беседа сосуда с участниками пира не дает никакого «культурного образования», она целиком погружена в быт, принадлежит быту и остается в быту. Игра в говорящее изображение прикреплена к эфемерному мгновению, для «истории» смысл ее, как правило, потерян. И все-таки с помощью надписей можно пытаться реконструировать хотя бы что-то, отдавая, конечно, себе отчет о том, что мы имеем дело только с более или менее вероятными предположениями. Чтобы понять манеру обращаться к росписи сосуда и «выслушивать» ее речи, надо вспомнить обстановку, в которой функционирует праздничная утварь, соотнести предметы быта с общением людей в быту, причем в быту художественно организованным, а таковым мы называем пир. Пир, совместная трапеза свободных граждан, в эпоху «поздней» архаики и ранней классики – регулярная форма общения, подобная участию в общественных празднествах, в управлении государством, в судопроизводстве. Пир – это и своего рода домашнее богослужение с возлияниями богам и венкам, непременно украшающим головы симпосиастов; это и «ассамблеи» – концентрированное выражение социальной жизни. Ведь хозяином частых и богатых пиров бывает, как правило, влиятельное и состоятельное лицо, или же пир устраивается в честь победы на мусических, драматических или гимнастических состязаниях, что также имеет отношение к важнейшим социальным ценностям. Пиршественные собрания служили и образованию политических партий и групп и рождению философских концепций, здесь произносятся речи и распевают стихи. Находят себе место на пиру выступления фокусников, кукольников, пантомимистов, танцоров и акробатов; играют небольшие оркестры, поют певцы и рапсоды, а под руководством симпосиарха пирующие принимают участие в поочередном импровизированном пении (сколии), загадывании загадок и состязаниях в остроумии. Одним словом, это праздничный обиход со своей программой и ритуалом. Особенности античного пира известны, прежде всего, по литературному жанру симпосия, среди представителей которого Платон, Ксенофонт, Плутарх, Лукиан, Афиней, Петроний и Макробий. Конечно, не надо представлять себе всякий греческий симпосий списком с Платонова или Ксенофонтова «Пира». Но, во всяком случае, перед нами общение людей, художественно организованное, с распорядком, закрепленным в формах бытового ритуала или скорее этикета. Недаром герой Петрония на пиру у Тримальхиона принужден все время обращаться к соседу за объяснениями «номеров» пиршественной программы; наконец, он решает не спрашивать больше, чтобы не показать, будто бы никогда не обедал в порядочном обществе[127]. (Надо сказать, что пир Тримальхиона отличает и многообразное обыгрывание утвари). Группа сосудов с изображениями пира и комоса – одна из самых многочисленных[128], хотя, конечно, на пиру пользовались посудой и с другой по тематике росписью. Вазы со сценами пира интересны постольку, поскольку отнесенность к конкретной бытовой ситуации засвидетельствована тут подписанными рядом с изображениями собственными именами. Отнесенность росписи к конкретному, уникальному событию известна и для других ваз. Например, колесничий, правящий лошадьми (на колеснице – Афина) – это Алкмеон, историческое лицо, первый афинянин, победивший в 592 году в Олимпии в состязаниях на колесницах[129]. Многие вазы посвящены прославлению побед в драматических и лирических состязаниях[130]. На одной из таких ваз, называемой кратером Пронома, поименован состав исполнителей сатировой драмы: поэт Деметерий, музыкант с лирой – Харин, весь хор сатиров, флейтист Проном и менады[131]. Актеры и были участниками пира в честь драматической победы, для которой заказан этот сосуд (так труппа участвует на пиру Агафона у Платона). Для празднования победы, возможно, изготовлялся целый тематический сервиз. Например, ваз в честь «Андромеды» Софокла известно несколько[132]; найдены три вазы в честь одной постановки «Фамирида»[133]. Известны вазы в честь постановки дифирамба и других мусических представлений, в честь личных побед и побед филы, поставившей хор[134]. Иногда тема песни на мифический сюжет изображается на одной стороне сосуда, тогда как на другой музыкант поднимается на помост, а рядом слушатели или просто изображен флейтист, причем и исполнитель и слушатели носят имена конкретных людей[135]. Указываются имена и в сценах жертвенных возлияний, которые, как известно, служили началом пира[136]. Но особенно богаты собственными именами сцены пиршественные. Любопытно, что художники-керамисты изображали самих себя в обществе своих друзей. Так мастер Смикр (сосуд подписной) поместил на сосуде свой «автопортрет» с подписью «Смикр», а также «портрет» сотрапезника Фидиада и еще какого-то юношу вместе с гетерами Геликой, Хоро и Родой. На другой стороне стамноса еще два участника – Антий и Евакид – наполняют кратер[137]. Это только один пример посуды для конкретного пира с участием конкретных людей[138]. В случае, когда имена указаны не у всех фигур в сцене пира, Вебстер предполагает, что несколько именованных решили устроить совместную трапезу и заказали мастеру сосуды прежде, чем были известны остальные приглашенные[139]. Надо думать, что симпосиастов имеет в виду и разговор, записанный между пальметками на чернофигурной ойнохое из Вульчи: «Красавец Николай, Дорофей красавец! – И мне кажется, ей-богу! – И другой мальчик красавец – Мемнон! – И у меня дружок – красавец!»[140] Здесь, по мнению Вебстера, два друга объединились, заказывая кувшин для пирушки, на которую были приглашены трое юношей[141]. Мы уже упоминали сосуд, на котором гетера произносит любовный тост в честь Евфимида (мастера вазовой росписи?). Гетеры – на плечиках вазы, а на тулове ее – сам Евфимид в окружении друзей занимается музыкой; друзья Евфимида также поименованы[142]. На трех вазах конца VI века отразилось участие в афинских симпосиях, приехавшего в Афины Анакреонта[143]. На лекифе Галена и кратере Клеофрада Анакреонт исполняет танец в одежде менады. Со временем это изображение стало по выражению Вебстера stock subject вазовых живописцев,[144] тем более что, как свидетельствует Аристофан, этот танец помнили в Афинах и в конце V века[145]. Но не следует думать, что изображение Евфимида или Смикра действительно портретны. Так, лирический поэт Кидий изображен как участник пира и комоса на двух вазах[146], но без надписи отождествить эти два изображения было бы невозможно, так как внешне они совершенно не похожи. Только надпись превращает вазу с более или менее тиражированным сюжетом росписи в вазу на случай. Возможно, по заказу покупателя мастер брал вазу уже готовую для обжига и вписывал нужные имена. Нетрудно теперь представить себе, как ведут себя гости, узнавая себя и своих друзей. На роспись показывают пальцами, сосуд вертят, передают друг другу, называют вслух имена, здесь повод для всевозможной игра и шуток. А если сосуд служит предметом дарения (об этом говорят дарственные надписи), то и тут подбирается подходящий сюжет. Вебстер, исследовав так называемые καλός-Inschriften или Lieblingsinschriften, пришел к мысли о довольно тесных контактах в конце VI века некоторых представителе аристократии и заказчиков крупных партий посуды с мастерами Керамика[147]. Ведь то, что по вазам, на которых изображен знаменитый красавец и аристократ Леагр с подписью Λέαγρος καλός, можно проследить, как юноша делается старше (ваз с Леагром дошло более 60!), позволяет предположить, что имя или более пространную надпись не добавляли к уже готовому изображению, но заказывали или подбирали к ситуации, а индивидуальная картинка может стать исходной для нового «тиража»[148]. Что же делали с таким сервизом для однократного употребления? Как показывают археологические находки, многие лучшие аттические вазы, связанные с известными афинянами и уникальными афинскими событиями, оказывались затем в Апулии, Этрурии, Кампании, Сицилии и в других местах за пределами не только Аттики, но и Греции. Достаточно сказать, что аттических ваз найденных в Вульчи значительно больше, чем найденных в Афинах[149]. Для италийских греков эта подержанная посуда была все-таки «столичной вещью», а для самих афинян вазы, коль скоро они использовались всего один раз, представляли, конечно, в гораздо большей степени игровую, нежели утилитарную или декоративную ценность. Так мало ценить расписной сосуд можно, если сосудов много и они дешевы. По-видимому, расписную керамику будет уместно называть массовой художественной продукцией. У нас нет точных данных о количестве ваз, производимых ежегодно в Керамике, но некоторые косвенные данные могут дать представление о масштабах этого производства. Так вазы были дешевы, а мастера или владельцы мастерских – богаты[150]. Одних только Панафинейских амфор, выдаваемых в качестве приза на атлетических состязаниях, регулярно проводившихся в Афинах, изготовлялось 1300 штук и т.д. Еще более красноречиво то обстоятельство, что в литературных источниках отсутствуют упоминания о мастерах вазовой живописи. Надо сказать, что художника ценили ниже гончара[151]. Массовая, эфемерная продукция и ее исполнители никак не могли стать предметом внимания древних писателей и историков, слишком сиюминутные интересы руководили заказчиками и художниками; это быт, который слишком естественен, чтобы быть замеченным. Вернемся к программе пира; она отражается не только в составе поименованных участников, но и в песнях, исполняемых под аккомпанемент, поэзии, стихах, которые поют нарисованные симпосиасты. Так, юноша возлежит на ложе, закинув голову (поза характерная для исполнения застольной песни), и от уст его строка сколия: «Тебя, о, Аполлон и блаженн(ую Лето пою)»[152]. Элегию Феогнида поет пирующий на другом сосуде: «О, прекраснейший из юношей!»[153]. Кифарист исполняет что-то из эолийской любовной поэзии на третьем: «Я стражду и томлюсь»[154] и т.д. На основании пения, изображенного на вазе, иногда даже исправляют стих из Феогнидова корпуса, который отличается в этом «живом» исполнении от рукописной традиции[155]. Интересно, что известная по сосудам приветственная формула: χαῖρε πώ˙- «Здравствуй, пей!» (πώ – неаттический императив) сохранена древними лексикографами как полустишие: χαῖρε καὶ πώ τάνδε, которое приписывается Алкею[156]. Между вазовыми надписями и застольным пением есть какая-то связь: мастеру, например, известно и кто будет присутствовать, и что будет исполняться[157]: Пиндар, эпиникий которого, как предполагают, исполняет юноша на килике Онесима[158], или эпическая поэзия, как на сосуде Клеофрада[159], а поэты, подобно Алкею, заимствуют формулы вазовых надписей. Сосуд играл роль запевалы, симпосиарха, и, подобно тому, как ритуальные приветствия «радуйся и пей себе на благо» считывались с росписи, так и начало стиха подсказывал симпосиаст на «картинке». Часто стих пишется на свитке, который держит либо один из пирующих, либо сам автор, например Сафо[160]. Вазы, служа общению, предоставляют возможность своего рода публикации, ибо, существуя в единственном экземпляре, изображение и надпись в то же время становится достоянием некоторого сообщества. «Имярек кажется прекрасным имеряку» – таков один из видов «публикации» с помощью вазы. «Пантоксена прекрасна для Коринфа» – надпись на краснофигурной вазе с мифологическими сценами[161]; или: «Ей-богу, Лисей тебе нравится!»[162] Такие «заявления» делаются как независимо от содержания изображения, так и в виде обращения одного персонажа к другому[163]. К сосудам, включенным в пиршественный быт афинской золотой молодежи, относятся вазы с καλός-надписями. Καλός собственно значит «красивый», «хороший», «молодец», «красавец»; καλός означает не только оценку внешности, но общее «одобрение»[164]. Надписи с καλός появляются несколько ранее середины VI века, к концу V века они исчезают. Всего известно около 200 имен с определением καλός и во много раз больше надписей καλός, которые никакого имени не сопровождают[165]. Взаимоотношения этой надписи с сюжетом росписи и с именами персонажей настолько разнообразны и часто загадочны, что исследователи нередко предпочитают вообще отказаться от поисков каких-либо закономерностей для καλός -надписей. В них видят моду на прославление афинской молодежи из знатных семейств и только, никакого личного знакомства мастера и названного по имени красавца при этом не предполагается. Считается, что надписи – это традиционное украшение, которое ни для кого ничего не значит. Между тем больше всего надписей с καλός-именами дошло от последней четверти VI века. Появившись лишь в середине века, манера писать καλός на вазах (и не только на вазах) не могла так скоро стать пустой формальностью[166]. Функции καλός-надписей, видимо, многообразны и поэтому не всегда однозначно интерпретируются, но это еще не значит, что надпись лишена смысла. В одном случае художник приветствует своих друзей и подружек, и надпись не соотнесена с изображением, а только «опубликована»; в другом – надпись определенно относится к изображению, и часто изображения эти подписаны именами конкретных людей[167]. Такая ваза может служить подарком и быть заказной, может выполнять свою роль в общении друзей, влюбленных и возлюбленных на пирах. Вебстер понимает καλός -надписи уже. Для него это обращение мастера к покупателю[168]. В некоторых случаях действительно надпись предполагает какие-то отношения керамиста и заказчика: «Гермоген – καλός, если он включит меня» (в число участников пира?)[169]. Καλός – это и оценка одним персонажем другого, и слова одного персонажа, обращенные к другому[170]. Καλός может фигурировать в эротических сценах, когда отнесенность надписи к изображению представляется несомненной[171]. Особого внимания заслуживает καλός в сценах на мифологические сюжеты. Изображен Дионис, Аполлон, Парис или Геракл, и надпись: «прекрасен», «прекрасный юноша» или «ты – прекрасен», причем указывается и имя мифического героя: «Гектор, ты прекрасен»[172]. Итак, надписи в некоторых, по крайней мере, случаях делались мастером по указанию заказчика, который дарил сосуд или выставлял его для пиршества. Заказчик имел кого-то в виду, но не хотел называть его по имени, или хотел, чтобы изображение служило загадкой, и рядил его в мифологические одежды (вспомним приветствия передаваемые персонажами вазописи друг другу). Реальные люди, например, сотрапезники, предстают в виде мифологических богов и героев, к которым обращены слова «ты прекрасен». Это какая-то игра в мифологию, аналогичная игре в говорящее изображение, которое по мифу и в самом деле было живым и говорящим. Игра эта связана с конкретными ситуациями и без них плохо понятна. Сопоставление планов реальных жизненных событий и мифа – особенность, характеризующая все античную литературу. И вазовая живопись видимо не просто воспроизводит сцены мифа, но и с помощью этих образов и сюжетов осмысливает, оценивает и передает события частной и городской жизни. Бытовые сцены с одной стороны сосуда часто имеют на другой мифологическую парадигму данного бытового события или действия[173]. Свадебные сосуды, как правило, предлагают в своей росписи мифологический образцовый брак, сцену свадьбы каких-нибудь богов или героев[174]. Тезеевы подвиги – образец для афинских юношей, поэтому на вазах со сценами гимнастических и атлетических упражнений изображена и какая-нибудь сцена из истории Тезея[175]. Мифологические персонификации, например, Гигиэйя (Здоровье), Пандайсия (Пышное пиршество), Эвдаймония (Счастье) окружают реального юношу, названного в росписи Поликлом. Юноша сообщает тем самым гетере, которой дарит сосуд для умащений с таким сюжетом, какие блага ждут ее в союзе с ним[176]. Бытовые сцены в гинекеях подписаны именами мифических героинь: Ифигения, Даная, Елена, Клитемнестра, Кассандра...[177] Все это говорит об облачении быта в костюм мифа. А в сцене рождения Эрихтония, где присутствуют в величественных позах боги, узнаваемые по атрибутам, но без подписей, находится одна персона, не имеющая по мифу никакого отношения к делу; она стоит, небрежно опершись на плечо Зевса, и зовется «прекрасная Энанфа». Это имя подходит для прозвища гетеры (как впрочем, и для нимфы), а сама Энанфа выглядит вторгшейся в миф легкомысленной горожанкой[178]. Давно было замечено, что мифологические сюжеты на вазах иногда отличаются какими-то странностями. Скажем, Геракл (с палицей и львиной шкурой) одет в полосатый костюм афинского полицейского; он спешит в таком виде на помощь Гере, которую преследуют силены и пытается защитить Гермес. Ни у одного мифографа или поэта нельзя найти ничего подобного! Для примера обыгрывания мифа мы рассмотрим подробнее амфору работы Евфимида. Изображения на двух сторонах сосуда связаны между собою. Тезей (подписан, как и другие персонажи) уносит, подняв на руки девушку по имени Корона; рядом Елена, ее подруга, она бежит следом, протягивая вперед руки. За спиной Елены – Перифой, он оглядывается назад на то, что «происходит» на другой стороне вазы. Там – бородатый старик и две девушки. Две фигуры подняли руки в жесте «говорения». Слова старика: «Привет тебе, Тезей»; девушка, бегущая впереди, кричит: «Я увидела, бежим». Рядом с другой девушкой написано «Антиопея», может быть, она называет свое имя[179]. По мифу известно, что Тезей похитил амазонку Антиопу, ни о какой Короне миф ничего не сообщает. Корона («Ворона») – это реальное, а не мифическое лицо, гетера, известная как по письменным источникам, так и по изображению на порнографическом килике, современном данной амфоре[180]. Вероятно, мы имеем здесь дело с какими-то частными отношениями афинян, которые представлены в формах искаженного и пародийного мифа. И совпадения, и несовпадения с мифом дают при этом повод к веселию. Допустим, «Антиопа» осталась неукраденной и кричит: «Я – Антиопа», чтобы объяснить «новому Тезею» его ошибку; старик приветствует похитителя, вопреки здравому смыслу и т.д. Обыгрывают с помощью надписи и эротические отношения. Например, в приглашении особого рода оставлено место для вписывания имени желательного партнера[181]. В этом и в других подобных случаях надпись появляется на сосуде уже после его изготовления, процарапывается по лаку, когда сосуд уже функционирует в праздничном, пиршественном обиходе. Так на крышке сосуда один беотиец написал: «Радуйся и не женись!», а другой (или другая приписал рядом: «Да что ты говоришь?!»[182] *** В самых общих чертах развитие греческой культуры характеризуют как (1) движение от сравнительно гомогенного мифологического этапа ко все большему нарастанию в этой культуре элементов духовной жизни, отличных от мифа – как бы их не называть; (2) при этом демифологизация, разумеется, не есть чистое отрицание мифа, освобождение от него, его изживание. Не мифологические формы духовной культуры, так или иначе, имеют своим материалом тот же миф, изменяется отношение к мифу. А именно: к нему относятся как к материалу, и, становясь материалом для чего-то иного, миф теряет то, что делает его самим собой. И если в мифах видят «басни», «игру», «красоту», то перед нами художественная культура. Иллюстрацией этим двум достаточно общим и достаточно общеизвестным положениям может послужить в частности наше конкретное исследование надписей на вазах. В самом деле, мы показали, что художник-вазописец в архаической Греции свободен в выборе «мифологической» надписи от лица вещи и «понятийной» формы высказывания «о» вещи в третьем лице. А это свидетельствует в пользу так сказать внутреннего плюрализма, который постепенно разрушает мифологическое сознание и – применительно к нашему материалу – приводит к исчезновению надписей от лица сосуда. Далее мы показали, что новые надписи эпохи ранней классики от лица изображений на сосудах – это те же, порой verbatim, надписи от лица сосуда, но перерожденные. Изменилось отношение к вещи, а вместе с нею и функция надписи: надписи уже не «мифологические», и функции их не магические; они стали «художественными», а функции игровыми. Иначе говоря, новое не просто вытеснило старое. Соседство старого и нового отношения к вещи в условиях внутреннего плюрализма приводит к перерождению старого. Вера в одушевленные сосуды принимает форму игры в как бы живое, иллюзорный дубликат истинного; в соседстве с новым (понятийным, рациональным, научным) старая вера делается игрой, никогда не говорящей ни да, ни нет, игрой, которая допускает чудо, но не путает его с бытом. Понятна и перемена субъекта речи (не сосуд, а изображение). Живые сосуды – это трехмерные существа, обитающие в одном с человеком пространстве, а роспись на плоскости – это рассказ «о» живых существах: тождества здесь на одно измерение меньше. Древние идолы и фетиши примитивных культов, как правило, объемны, их кормят, обряжают, топят и сжигают. Пластика для архаического сознания тяготеет к тождеству с оригиналом, живописное же изображение более повествовательно, в нем отчетливей дистанция между изображенным и изображением, а, следовательно – иллюзорность уподобления, подражание, игра, искусство. *** Итак, функция надписей от лица изображений на сосуде – общение в сфере художественно организованного быта. Напрашивается параллель с русскими лубочными листами. Отличия вазописи греков от русского лубка столь очевидны, что мы не рискуем быть понятыми буквально, говоря об «античном лубке». И лубок, и роспись праздничных сосудов объединяет все то, что отличает эти формы изобразительного искусства от Произведений Искусства, предназначенных для созерцания. В работах А. Г. Сакович и Ю. М. Лотмана[183]показывается, что лубок – это маленький настенный театр и что по сравнению с лубком, созерцание станковой картины – пассивный акт. В лубок играют, он включен в праздничный быт ярмарки и разделяет с ярмаркой особые «веселые», нормы поведения. Лубок – дешевая, массовая продукция, реагирующая, на злободневные события. А главное, подписи на лубочных листах – это речь персонажей гравюры, и эти подписи разыгрывают, вернее подписи заставляют разыгрывать изображение, воспринимая его не статично, а как действо. «Трое нас с тобою!» – это надпись, обращенная к зрителю, под изображением двух «дураков» на лубочном листе[184]. Включены в действие, общение, беседу, игру изображения и надписи на греческих вазах архаического и классического периода. И поэтому любая, даже самая лучшая музейная экспозиция оказывается не пригодной для демонстрации ваз. Желательна здесь, вероятно, кинетическая экспозиция, в которой сосуды вращаются, поднимаются и опускаются: ведь чтобы рассмотреть роспись и понять ее, сосуд нужно поворачивать, на это он и рассчитан. За исключением некоторых поздних декоративных ваз у сосуда нет фасада, нет такой точки зрения, с которой его можно было бы единственно правильно видеть. Надписи на вазах не крупные, не слишком разборчивые, читать их можно, только держа сосуд в руках и поворачивая. В такое активное, игровое, действительное функционирование сосуда естественно вписывается и его «озвучивание»: обращение персонажей росписи друг к другу и к человеку, и человека к росписи; разыгрывание сценок на вазах, общение через вазопись и посредством вазописи – говорящих картинок. Примечания: Список сокращений, принятых здесь; общепринятые сокращения не указываются: Board. - J.Boardman. Athenian Black-Figure Vases. N-Y, Oxf. 1974. ABV - J.D.Beazley. Attic Black-Figure Vase-Painters. Oxf. 1956. ARV2 - J.D.Beazley. Attic Red-Figure Vase-Painters. V. I - III, Oxf. 1963. Ger. - E.Gerhard. Auserlesene griehische Vasenbilder. B. I - II, Berlin, 1840. K. - P.Kretschmer. Die griechischen untersucht. Gütersloh, 1894. Vaseninschriften, ihrer Sprache nach Beaz. - J.D.Beazley. The Development of Attic Black-Figure. London - Berkeley - Los Angeles, 1951. Beaz. P - J.D.Beazley. Potter and Painter in Ancient Athens. London, 1946. Beaz. L. - J.D.Beazley. Little - Master Cups. - "Journal of Hellenic Studies", 1932, v. 52. B. - M.Burzachechi. Oggetti parlanti nelle epigrafi greche. "Epigraphica. Rivista italiana di epigrafia", 1962, fasc.4. J. - L.H.Jeffery. The Local Scripts of Archaic Greece. Oxf. 1961. W. - T.B.L.Webster. Pottery and Patron in Classical Athens. London, 1972. Web. - T.B.L.Webster. Greek Theories of Art and Literature down to 400 B.C. "Classical Quarterly", 33, 1939. Pf. - E.Pfuhl. Meisterwerke griechischer Zeichung und Malerei. München, 1924. G. - J.Geffcken. Griechische Epigramme. Heidelberg, 1916. Gef. - J.Geffcken. Der Bilderstreit des heidnischen Altertums. - "Archiv für Religionswissenschaft", B.XIX, 1916/19. Fr. - P.Friedländer, H.B.Hoffleit. Epigrammata: Greek Inscriptions in Verse. Berkeley-Los Angeles, 1948. L. - E.Loewy. Inschriften griechischer Bildhauer mit facsimiles. Leipzig, 1885. P. - W.Peek. Die griechische Vers-Inschriften. B.I. Grab-Epigramme. Berlin, 1955. Ben. - E.Benveniste. Le sens du mot κολοσσός et les noms grecs de la statue. "Revue de philologie, de literature et l'histoire anciennes". v. VI (59), 1932. Busch. - E.Buschor. Altsamishe Standbilder. B.II, 1934; 1960; B.V, 1961. R. - A.B.Raubitschek. Dedications from the Athenian Akropolis. Cambridge, 1949. Rein. - S.Reinach. Répertoire des vases peints. v. I - II, Paris, 1899 - 1900. T. - Tausend Jahre griechische Vasenkunst, hrsg. P.E.Arias, M.Kirmer. München, 1960. Klein. - W.Klein. Die griechischen Vasen mit Lieblingsinschriften. Leipzig, 1898. BGV - Bilder griechischer Vasen, hrsg. v. J.D.Beazley und P.Jacobstahl. Heft 1 12, Berlin, 1930 - 1938. [1] Настоящая работа продолжает начатое нами в статье Театр изображений. О неклассических зрелищных формах в античности, в кн.: Театральное пространство. Материалы научной конференции ГМИИ имени А.С.Пушкина, 1978 г. М., 1979, исследование действенных форм функционирования изобразительного искусства в античности. [2] Board. 13. [3] Beaz. P. I sq. [4] Е.В.Завадская, автор статьи Изображение и слово (стихи о живописи – особый жанр китайской поэзии), в кн.: Жанры и стили литератур Китая и Кореи. М., 1969, 96 - 103, указывает, что ее работа – лишь первая в научной литературе попытка анализировать жанр описания картин (тиба); ср. П. Миклош, Двойное сообщение в одной картине, в кн.: Семиотика и художественное творчество. М., 1977. 243 и сл. [5] См., например, Д.С.Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л., 19712, 28 - 32; он же. Развитие русской литературы X - XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973, 62 - 64; С.С.Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, гл. Слово и книга. [6] CY. ARV² 33/8; 88/10; Ger. Taf. 272 etc. [7] Beaz. L. Not. 16; ABV 85. [8] С.С. Аверинцев. Поэтика...,196 [9] Aesch. Sept. 434 sq., 468 sq. [10] E.g.: ABV 253 New York, Bastis; ABV 251/29; 39 etc., cp. Board. 36, Beaz. L. 194 - 195. Сочетания вроде "лилислис" или "лолослос", "этотот" вряд ли следует считать просто бессмысленными. Надписи со звуковыми повторами нередко сопровождаются изображениями с песнями, плясками, являясь, вероятно, звукоподражательными. Звучащими возможно являются и бессмысленные "пьяные" речи пирующих, см. Board. 200. [11] B.28; J.347,67,I. Надпись на "кубке Нестора". М. Гвардучи читает таким образом, что она из числа "говорящих" исключается: M. Guarducci in: Rend Lincei, 1961, 3 - 7. Джеффери, однако, снова возвращает ее в этот разряд: J.235. [12] Предполагается, что Агесилай - тоже гончар; B.31; J.83 sq. p. 62, 2. [13] B. 29; J. 291 sq. p. 55, 4. [14] B. 30; C.W. Blegen. Prosymna: Remains of Post-Mycenean Date. - AJA, 43, 1939, 425, f. 13; ср. ABV 446/I (Louvre F 339 ἡμιχοῦν εἴ(μι) – "я вмещаю полхуса"). [15] Board. 168, f. 296, I; K.82. [16] См. надписи такого рода, относящиеся к VIII - VII вв., и некоторые надписи VI - V вв. у Бурцакеки (В.). Данные надписи см. К. 3 Anm. 6; 4, Anm. 3, 5; ABV 146/2; Beaz. L. 182. [17] K. 195 (§ 175). [18] В.М. Полевой. Искусство Греции. Древний мир. М., 1970, 181. [19] Web. 178. [20] Pf. F. 121. [21] Cм. Index: ἐγώ, ἐμέ, με, εἰμί, ἐμί..., etc. У Джеффери (J.7, а также: R. Herzog. Die Wunderheilungen von Epidauros. Lipsiae, 1931, 101 ff.; ср. T. Leslie Shear. The Campaigne of 1938. - "Hesperia" VIII, 1939; его же. The Campaigne of 1939. - "Hesperia" IX, 1940, 2666; G. №№ 21, 22; B.41; Fr. № 56; ср. особый случай, когда надпись сообщает от своего, надписи, имени, кто ее написал (B.42). [22] B. 4 - 22; ср. G. №№ 9,10,11,20,31,36 и др,; статуя обращается к богу или прохожему: G. №№ 9,12,19,29,37,44 и др.; ср. сигнатуры скульпторов, говорящие от лица изваяния: L. №№ 3,11,12,16, ср. 33,40. [23] P. passim; B. 37 - 39 (надписи не метрические). [24] B. 23 - 25, 40; E. Babelon in: Ch.V. Daremberg, Ed. Saglio. Dictionnaire des antiquités grecques et romains. P. 1877 - 1919, v. II, 2. 1472, fig. 3501, 3502, s.v. Gemmae; J. 330. [25] B.50; указанием на эту работу, а также возможностью познакомиться мы обязаны любезности Ю.Виноградова. с нею [26] E.g. Diod. IV, 76, 2; Philo Bibl. FHG III, 568 etc. См. о живых статуях, например, Gef. 286 - 287; O. Gruppe. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, München, 1906, Band. II, 980 ff.; O. Weinreich. Antike Heilungswunder. - "Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten" VIII, I, 1909, 137 ff. Среди названий для статуй и кумиров Бенвенист (Ben.133) выделяет "жанр" изображений inanimé – βρέτας, ξόανον, ἄγαλμα, ἕδος - и animé – κολοσσός - дублер умершего, ἀνδριάς - диминуитив от ἀνήρ - муж, т.е. "человечек", εἰκών - живой образ, одушевленное подобие. Впрочем, в источниках, сообщающих о живых изображениях, речь идет и о ἕδος и ἄγαλμα - e.g. Schol. Pind. O. VII, 95a; Eur. fr. 372 N². [27] Paus. XI, 38, 5. [28] Paus. VII, 5, 3; X, 32, 4 etc. [29] Pind. O.VII, 52; Schol. Pind.O. VII 95a; Diod. XVII, 418; Curt. R. IV, 3, 21; Macr. Sat. I, 8. [30] Hom. II. VI, 311 sqq.; Verg. Aen. I, 482. [31] Eur. Iph.T. 1137. [32] Diod. XVII, 50; Curt.R. IV, 7, 24. [33] Verg. Aen. II, 172 - 175, пер. С. Ошерова. [34] Eur. fr. 372 №2 (фрагмент сатировой драмы: "Видно, все Дедаловы изваяния двигаются и говорят. - Вот как мудр этот муж"); Phryn. fr. 58 Kock Plat. fr. 188 Kock; ср. Schol. Eur. Hec. 821; Luc. Philops. 38 [35] B.4; J. 90, p. 7, I; статуя Аполлона из Фив., ок. 700 г. или I-ая пол. VII в. [36] 1) B.5; J.291. p.55, 2; 2) B.5; J. Marcadé. Recueil des signatures de sculpteurs grecs. Paris. 1957 v.II, n. 45; 3) B.6; J. 292; 4) B.7; J.328 sq., p. 63, 4; 5) B.8; Busch. IV, 67, Figg. 262 - 263; 6) B.8; Busch. V, 83 - 84, Figg. 341 344; 7) B.9; IG VII 2731; 8) B.10; Fr. 21 n.14b; J. 292, p.55, II; 9) B.10; J. 348, p. 67, 10; 10) B.11; R. N 22; Fr. n. 38a; 12) B.12; J. 355, p.70, 49; 13) B.12; J.355, p. 70, 50; 14) B.12; J. 355; 15) B.7; Busch. II, 25, Figg. 86 - 89; J. 328, sq. p. 63, 4. [37] Около 550 г.; B. 8 - 9; Fr. 167. [38] R. NN 3, 35, 54, 58, 89, 178, 202, 217, 220, 233, 234, 253, 258, 261, 283, 298, etc.; ср. 1) B.15; Busch. II, 26, Figg. 90 - 101; 2) B. 16; J 332 n. 24; 3) B.21; Fr. 18; J. 551, p. 68, 31; 4) B.21; Fr. 45; J. 107; 5) B.21; J. 349; 6) B.22; J. 273. [39] B. 17; J.p. 64, 29. [40] 1) B.18; J. 314, p. 60, 20; 2) B.18; 3) B. 18 - 19. [41] B. 13; IG IX I, 704. [42] B.14; K. Forbes. Some Cyrenian Dedications. - "Philologus", B.100, 1956, 242 – 245. [43] Paus. II, 9, 6. [44] B.14; подпись относится к VI - V вв. до н.э. [45] Philo Bibl. Fr.H.Gr.III, 568. [46] Надпись на мраморной драхме – едва ли не первая известная греческая надпись на камне; ее датируют периодом от 750 до 650 г.; см. Fr. 10; B. 26; ср., однако, J. 124; B.27 n. I. [47] G. N 24. [48] Board. f. 104, 173, 176. Впрочем, уже к середине VI в. магические глаза иногда превращаются в орнаментальные треугольники и их смысл забывается. [49] Board, 198. [50] См. Д. Томсон. Исследования по истории древнегреческого общества, т.II. Первые философы. М., 1959, 46 - 47 (материал из R.Karsten. The Civilisations of The South American Indians. London, 1926, 34 - 35, 240 - 241, 251 - 252; R. Briffault. The Mothers. A Study of the Origins of Sentiments and Institutions. London, 1927, 466 - 477. [51] Hes. Ergg. 61 - 62. [52] C. гл. Pottery in: Briffault, Op. cit. [53] Briffault. The Mothers..., 474 sq. [54] Иеремия, гл. 51. [55] RE Suppl. XV (1978), s.v. Vasen (I.Scheibler), col. 670. [56] B.53, n. I. [57] Ср. AP VII 591, 609. Первые памятники латинской письменности – это такие надписи от лица вещей (в том числе на могилах). Их происхождение нет необходимости связывать с влиянием Греции. "Перенесены" из Греции в Рим эпитафии определенной формы (элегический дистих). [58] P. NN 1209 – 1249. [59] P. NN 1342 - 1352. [60] P. NN 1250 - 1283. [61] P. NN 1284 - 1341. [62] Theocr. AP VII, 262, пер. М.Е. Грабарь-Пассек; P. N 1617. [63] Ср. P. N 1632: μανύσει ἀκουήν, а также I NN 1622, 1624, 1629, 1630. [64] E. Bethe. Die griechische Dichtung. Wildpark-Potsdam. 1924, 37, F. 31. [65] Beaz. 18 - 19. [66] Известно, что одни мастера почти все свои произведения подписывали, другие вообще не ставили подписей; те, кто ставил подпись, отнюдь не выбирал для этого лучшие свои вазы. Художник мог быть и гончаром и подписываться то в одном, то в другом качестве, а то и в обоих. Нередко подпись указывает на владельца мастерской, у которого работают разные художники; см. W. 11 sq. [67] Luc. Philops. 18 - 19. [68] Luc. Philops. 21; ср. Philostr. Her. III, 21. [69] Gef. 305 - 315; Ямвлих, например, писал о божественности идолов, в особенности низвергнутых с неба на землю, о богонаполненности изображений, созданных человеческими руками; свои рассуждения он подкреплял многочисленными историями о чудесах, связанных с изображениями. См. также: Ch. Clerc. Les theories relatives aux cultes des images chez les auteurs grecs du II-me siècle après J-C. Paris, 1915, passim. [70] Heracl. B 5 Diels. [71] Clem. Protr.VII, 75, 3; Strom.V, 14, 108 Protr.VI, 71, 2. [72] Fr. 264 Arnim. [73] Fr. 1076, 17 sq. Arnim. [74] Schol. Arph. Nub. 830; Clem. Protr. II, 24, 4. [75] Ср. Herodot. II, 172; Plat. Phaedr. 275a; Democr. B 195 Diels; Ps-Hippocr. De vict. Heracl. C I, 21; Plut. De tranq. an. 20, 477 c-f; De superst. 167d; Cic. De nat. deor. II, 17, 75; Strado XVI, 35; Lucill. V, 484 sq. etc. [76] Web. 166. [77] Ben 118. [78] L. 23. [79] Ael. V.H.X, 10, пер. С.В. Поляковой. [80] Arist. Top. VI, 2, 140a, 20 sq. [81] B. 19 - 21; K. 18, anm. 8; J. 126, p. 19, 9; M. Milne. Three Names on a Corinthian Jar. - AJA, 46, 1942, 217 sqq. f. I - 2. [82] Board. 37, f. 62. [83] K. 102 (§157). [84] Rein. I, 436. [85] ABV 693, add. pp. 320 - I. [86] Rein. II, 319. [87] K. 89 (§ 61). [88] K. 88 (§ 60). [89] K. 91. [90] K. 88 (§ 58); Board. f. 145, 2. [91] Board. f. 286. [92] T. 91. [93] K. 91 (§ 66). [94] ABV 145/13. [95] K. 89 (§ 63). [96] A.D. Trendall, T.B. Webster, Illustrations of Greek Drama. London, 1971, 130, IV, 13. [97] K. 80. Вторую надпись читают и иначе: "Уже, уже, больше половины прошло (миновало)", считая ее не связанной с изображением сентенцией по поводу скоротечности жизни, W. 61; Board. f. 212. [98] W.53; ABV 176/2; Ger. 316. I, 4. Вебстер считает, что "Дионис" - имя человека, однако, в классическую эпоху имена богов не давались людям. [99] J.D. Beazley. Some Inscriptions on Vases IV. - AJA 45, N 4, 1941. 595 (надпись возможно стихотворная). [100] ARV² 16/15 Leningrad 644; Pf. F. 394; K. 87. [101] ARV² 23/7: Καλοί σοι τένδι Εὐθυμίδει - "Тебе, прекрасному Евтимиду, [посылаю] эту [каплю]!"; ср. ARV² 317/16. [102] Rein. I, 74/75. [103] Rein. I, 532; Brit. Mus. Cat. II E 41. [104] J.D. Bearley. Some..., 599 (№ 15). [105] Klein. 82, F. 19. [106] ARV² 33/8. [107] Rein. I, 451; Board. f. 116; T 50. [108] Ger. 235, 6; ABV 163/2. [109] K. 197; ARV² 23/I (Louvre G 42); T. 91; Rein. II, 26. [110] AP XVI, 129, пер. Л.Блуменау. [111] Влад. Татаркевич. Античная эстетика. М., 1977, с. 275. [112] См. H. Maguire. Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art. - "Dumberton Oaks Papers", vol. 28, 1974, 141 - 196. [113] H. Schrade. Götter und Menschen Homers. Stuttgart, 1952, 79. [114] Luc. Imagg. 4. [115] Philostr. V. Ap. VI, 40. [116] Ael. V.H. IX, 39. [117] Cass. Dio LXIX, 4. [118] W. pl. XIV, p. 131 (Berlin 2415). [119] О назойливых периэгетах в Дельфийском святилище, которые прочитывают посетителям вслух все посвятительные эпиграммы см. Plut. De Pyth.or. 395A. [120] AP XVI, 55. [121] AP XVI, 275. [122] Cic. De fin. II, 21 (69). [123] Callimachus, Fragmenta, ed. R. Pfeiffer. Oxf. 1949 v. I, fr. 114; ср. Addenda ad fr. 114 in vol. I and II (1953) + Prolegomena vol. II p. XIII, XIX. Подробный анализ этого фрагмента см. в статье R. Pfeiffer. The Image of Delian Apollo and Apolline Ethics. - "Journal of Warburg and Courtauld Instituts", 1952, vol. XV, 20 32. [124] Callimachus, op. cit.fr. 119; adnot. p. 196. [125] Phryn. fr. 58 Kock. [126] Plat. fr. 188 Kock. [127] Petr. Sat. 41. [128] W. 110 - 113 (список пиршественных сцен). С этой группой соперничает группа с изображениями танцев и комоса, 114 - 125. [129] ABV 401/6. [130] W. 82 - 97. [131] W. 46; ARV² 1336/I. [132] W. 47; ARV² 1017/53; 1062 (London LI69); 1684 (add. p. 1147, 67 bis). [133] W. 47; ARVІ 1020/92; 93; 1061/152. [134] По кратеру с предоставлением дифрамба, ARV2 1145/35, известны по именам Фриних автор (?) Фриних, флейтист Амфилох, певец Феомед, Хремет, Плейстий, Эпиник; ср. ARV² 1172/8; W. 48-49; K. Friis Johansen. Eine Dithyrambos Auffurung. Copenhagen, 1959, 20, p. 1 - 6. [135] Так, на Эвфрониевом кратере с одной стороны Геракл и Аянт, с другой "концерт", ARV2 1045/8; музыканта с двойной флейтой зовут Поликл, слушателей Леагр, Мелант, Кефисодор; ср. ABV 311/2; 4; 319/10; 375/21; 393/14; ARV² 3/2; 274/39; 574/2; 589/I; 3 etc. ср. W. 49 - 50, 158 - 171. [136] ARV2 1149/9; здесь Аресий - один из тридцати тиранов, Каллий, преследовавшийся в процессе об осквернении Герм, и др.; ср. ARV2 1028/9; 1051/17 etc., W. 50 - 51. [137] Beaz. P. 19; W. 42; T. 106 -107. [138] См. e.g. ARV² 1619/3 bis.; 1705 (add. II p. 1619, Euphronios no. 3 bis) etc. [139] W. 53. [140] ABV 425 Münich 2447. [141] W. 46. [142] ARV² 23/7. [143] ARV² 63/86; 36/I; 185/32; W. 54 - 55. [144] W. 110. [145] Arph. Thesm 161; fr. 223 Kock. [146] ARV2 31/6; 173/2. [147] W. 172 - 178, 297 - 300. [148] W. 62. [149] Ср. ABV индекс ваз из Афин, 717 и из Вульчи, 721 - 722; W. 12, 52. [150] Beaz. P. 21 - 25. [151] Beaz. P. 34. Мастер, бывший одновременно и гончаром и вазописцем, предпочитал подписываться как гончар: ἐποίησε, а не ἔγραψε. Даже такой первоклассный живописец, как Евфроний, на 4 своих вазах подписался как художник, и на 10 подписанных им сосудах - только как гончар. [152] ARV² 85 Eleusis 4267; ср. 372/26. [153] K. 83. [154] K. 83. [155] Theogn. 939 - 942; G. Richter. Attic Red-Figured Vases. New-Haven London - Oxford, 1946, 167 n. 25; ARV² 185/32; ср. 1567/15; 872/26; 1619/3 bis. [156] J.D. Beazley. Two Inscriptions on Attic Vases. - Cl. Rev. 57, 1943, Io2 103; E. Lobel - D.L. Page. Poetarum Lesbiorum Fragmenta. Oxford, 1955, Alc. fr. 401a. [157] W. 55. [158] ARV² 317/16, ср. Pind. O. IX, 47. [159] ARV² 183/15; BGV H. 6, 1933, 24 n. 13; K. 90 (§ 64). [160] ARV² 1060/145; K. 93 (§ 72); ср. ARV² 326/93; 452/infra; 1670; 923/24; 781/4; 431/48 (ср. K. 104 (§ 87)); 923/28; 611/36; 1287/I; 1208/38; 1199/25; 1212/4; 1190/21; 1171/I etc. [161] ARV² 1050/I-2. [162] ARV² 308/3; ср. ABV 174/7; 426/9; ARV² 306 London E 718; 351 Athens Agor. P 1386; 1584 adnot. Louvre F 283. [163] Klein. 98; Rein. I, 382. [164] W. 43. [165] См. καλός -names в индексе Бизли ADV 664 sq., ARV ² 1559 sq. [166] Καλός -имена распределяются во времени следующим образом: 530 – 500 гг. - 66 случаев, 500 - 475 гг. - 51, 475 - 450 гг. - 33, 450 - 425 гг. - 22, 425 - 400 гг. - 1. По преданию, Фидий написал на пальце своего Зевса в Олимпии: Παντάρκης καλός, Beaz. 91. [167] ARV2 371/24 - типичная пиршественная ваза с καλός –именами участников. Бизли считает такие καλός -names, которые относятся к персонажам росписи tagκαλός "не настоящими"; в сценах порнографического характера также указываются собственные имена, см. Board. 210 - 211, f. 61. [168] W. 45. [169] ARV ² 434/74; ср. ABV 267/I. [170] I.A. Dickson. A New καλός -Vase. - JHS, 19, 1899, 202 - 204. [171] R.M. Cook. Greek Painted Pottery. London, 1960, 258. [172] Указания на изображения, подписных мифологических персонажей с καλός собраны в статье К. Шауенбурга, K. Schauenburg, AINEA KA O. "Gymnasium", 76, 1969, 49 - 52; ср. Rein. I, 74/75, 41; ABV 263/61 (καλός, по мнению Бизли, относится к Гераклу), ср. BGV, H.6, 1933, 23 n. II; 25 n. 28, 29; 26 n. 44, 48; 27 n. 51 ср. n. 58 etc. [173] См. e.g. ARV² 246/8; W. 61. [174] ABV 261/37; 260/31; 40/20; W. 106. [175] W. 80 - 81. [176] ARV² 1316/9; ср. 1324/47. [177] ARV² 805/89; W. 243. [178] ARV² 580/2 London E 182; Ger. 151. [179] T.II; Ger. 168 B; Rein II, 85/86, 2; K. 192. [180] ARVІ 113/7; гетеры, занимающиеся своим ремеслом, в росписи этого килика поименованы: Талия, Корона, Смика (Смикра?); один из мужчин назван - Евником. [181] Ср. Board. 210 - 211; Beaz. P. 20 etc. [182] K. 5. [183] А.Г. Сакович. Русский настенный лубочный театр XVIII – XIX вв., в кн.: Театральное пространство..., 351 - 376; Ю.М. Лотман. Художественная природа русских народных картинок. Народная гравюра и фольклор в России XVII - XIX вв. Материалы научной конференции ГМИИ им. А.С.Пушкина 1975, М., 1976, 247 - 267. [184] Д. Ровинский. Русские народные картинки. СПб., 1903, т. II, 426, N 296. © 1996-2010 Институт высших гуманитарных исследований