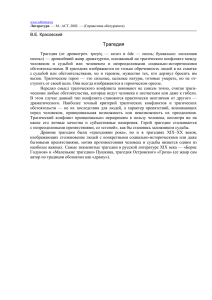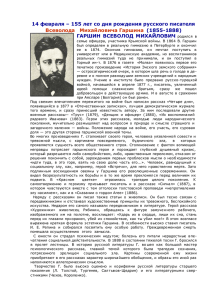Повторение трагедии духом музыки
реклама
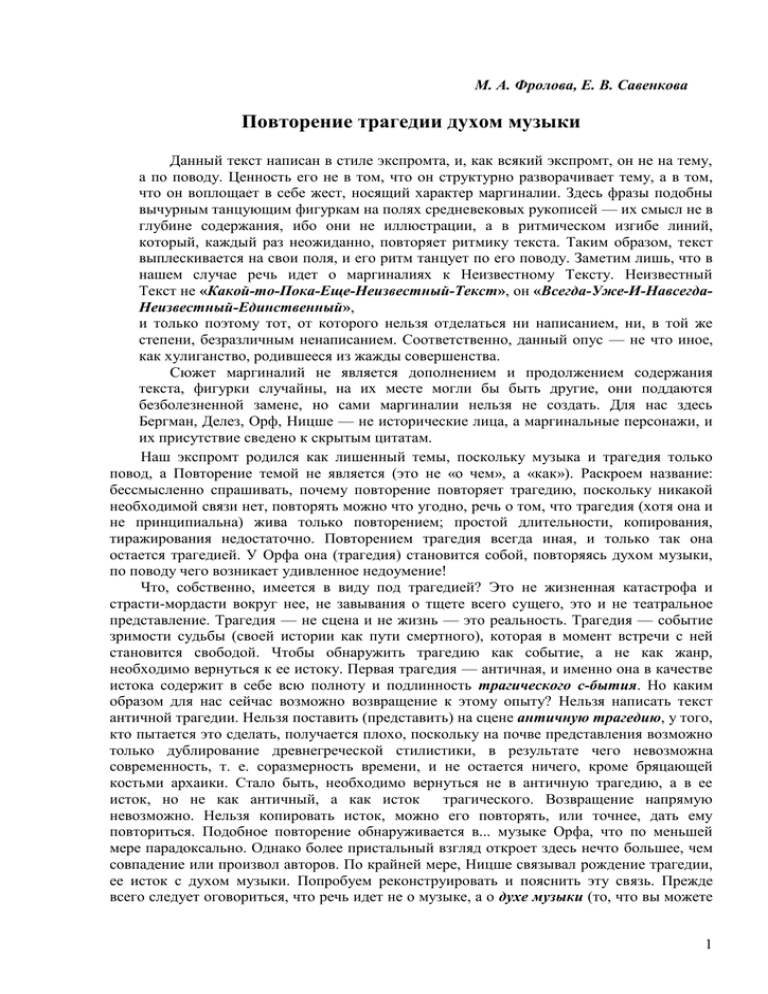
М. А. Фролова, Е. В. Савенкова Повторение трагедии духом музыки Данный текст написан в стиле экспромта, и, как всякий экспромт, он не на тему, а по поводу. Ценность его не в том, что он структурно разворачивает тему, а в том, что он воплощает в себе жест, носящий характер маргиналии. Здесь фразы подобны вычурным танцующим фигуркам на полях средневековых рукописей — их смысл не в глубине содержания, ибо они не иллюстрации, а в ритмическом изгибе линий, который, каждый раз неожиданно, повторяет ритмику текста. Таким образом, текст выплескивается на свои поля, и его ритм танцует по его поводу. Заметим лишь, что в нашем случае речь идет о маргиналиях к Неизвестному Тексту. Неизвестный Текст не «Какой-то-Пока-Еще-Неизвестный-Текст», он «Всегда-Уже-И-НавсегдаНеизвестный-Единственный», и только поэтому тот, от которого нельзя отделаться ни написанием, ни, в той же степени, безразличным ненаписанием. Соответственно, данный опус — не что иное, как хулиганство, родившееся из жажды совершенства. Сюжет маргиналий не является дополнением и продолжением содержания текста, фигурки случайны, на их месте могли бы быть другие, они поддаются безболезненной замене, но сами маргиналии нельзя не создать. Для нас здесь Бергман, Делез, Орф, Ницше — не исторические лица, а маргинальные персонажи, и их присутствие сведено к скрытым цитатам. Наш экспромт родился как лишенный темы, поскольку музыка и трагедия только повод, а Повторение темой не является (это не «о чем», а «как»). Раскроем название: бессмысленно спрашивать, почему повторение повторяет трагедию, поскольку никакой необходимой связи нет, повторять можно что угодно, речь о том, что трагедия (хотя она и не принципиальна) жива только повторением; простой длительности, копирования, тиражирования недостаточно. Повторением трагедия всегда иная, и только так она остается трагедией. У Орфа она (трагедия) становится собой, повторяясь духом музыки, по поводу чего возникает удивленное недоумение! Что, собственно, имеется в виду под трагедией? Это не жизненная катастрофа и страсти-мордасти вокруг нее, не завывания о тщете всего сущего, это и не театральное представление. Трагедия — не сцена и не жизнь — это реальность. Трагедия — событие зримости судьбы (своей истории как пути смертного), которая в момент встречи с ней становится свободой. Чтобы обнаружить трагедию как событие, а не как жанр, необходимо вернуться к ее истоку. Первая трагедия — античная, и именно она в качестве истока содержит в себе всю полноту и подлинность трагического с-бытия. Но каким образом для нас сейчас возможно возвращение к этому опыту? Нельзя написать текст античной трагедии. Нельзя поставить (представить) на сцене античную трагедию, у того, кто пытается это сделать, получается плохо, поскольку на почве представления возможно только дублирование древнегреческой стилистики, в результате чего невозможна современность, т. е. соразмерность времени, и не остается ничего, кроме бряцающей костьми архаики. Стало быть, необходимо вернуться не в античную трагедию, а в ее исток, но не как античный, а как исток трагического. Возвращение напрямую невозможно. Нельзя копировать исток, можно его повторять, или точнее, дать ему повториться. Подобное повторение обнаруживается в... музыке Орфа, что по меньшей мере парадоксально. Однако более пристальный взгляд откроет здесь нечто большее, чем совпадение или произвол авторов. По крайней мере, Ницше связывал рождение трагедии, ее исток с духом музыки. Попробуем реконструировать и пояснить эту связь. Прежде всего следует оговориться, что речь идет не о музыке, а о духе музыки (то, что вы можете 1 услышать у Орфа, не является музыкой в привычном смысле с ее гармонией, мелодичностью, музыкальными темами и возможностью их петь). Дух музыки музыкой не является, он является в музыке. Дух есть мистическое присутствие, но не присутствие чего-то, а присутствие раскрытия корней (бездны) разрывом естественной поверхности. Подобно тому, как молния есть лишь сияющий разрыв темного неба, благодаря чему небо становится небом. Если музыка — это мелодическая гармония, то дух музыки есть разрыв молчания, т. е. абсолютной тишины, и только благодаря разрыву молчания становится возможной гармония и ее обратная сторона — дисгармония. Лик так понятого духа музыки это праритм как абсолютный перебой молчания и разрыва, перебой первого и последнего ударов сердца живого смертного человека, вторым шагом разрешающийся в ритмический пульс. Перебои сердца, праритм, чистое повторение как единственная возможность быть, поскольку первый удар повторяет все другие. Каждый удар уникален временем жизни. Этот праритм есть гул бытия, сквозящий по ту сторону всех возможных голосов и мелодий. Ритм человеческого существования — это перебои жизни и смерти: раскачивающийся маятник, качающаяся люлька (гроб?!). Это ритм шагов на краю могилы, превращающийся в точность, изящество танца, т. е. в шествие смертных по нити своей истории, которое движется из абсолютного недостатка жестом невозможности. Духом музыки с шествия судьбы снимается покрывало, и впервые видно, что судьба не где-то там далеко, а она здесь, танцует, увлекая своим ритмом. Когда впервые видно шествие судьбы, это и есть трагедия как зрелище того, чего нельзя увидеть. Естественным образом судьба не видима. Знаки судьбы даны Эдипу либо слишком близко, либо слишком далеко, он не может узнать их как знаки, т. е. не видит за ними судьбы. Поэтому нужна трагедия как обустроенное (искусственное, созданное искусством) поле видения, дающее шанс встречи с судьбой. Почему же трагедия не ритм танца, а ритм музыки? Трагедия как зрелище судьбы требует разговора с судьбой. Судьбу надо назвать, дать ей имя. Трагедия своей структурой инсценирует (выводит на сцену в освещенное пространство перед зрителем-свидетелем) дух музыки, т. е. делает буквально зримым абсолютный разрыв, роковое несовпадение человека со своей судьбой. Изначально античная трагедия разыгрывалась как разговор героя с хором, где хор исполняет роль судьбы. Судьба посредством хора являлась герою в различных масках: народ, старцы, воины и т. п. Хор безличен сам по себе — это таинственное «оне», это не сумма персонажей, а колышущаяся и гудящая поверхность, за которой бездна. То, что творится под этой поверхностью, лишено человеческой логики и лица. Хор знает все с самого начала, но темнит, сообщает герою оракулы и тут же вносит двусмысленность. Хор увлекает героя ясностью, завлекая его все глубже в бездны, т. е. втягивая его в действие, провоцируя. Вся активность хора состоит в перемещении по сцене, задающем ритм (строфа-антистрофа), таким образом хор задает темп действию, хотя и не вмешивается в него непосредственно. Герой же действует потому, что попадается на удочку «ясной» иллюзорности. Эдип говорит с хором как со старцами, хотя это всего лишь личина сиюминутной прихоти судьбы. Судьба играет в старцев, а герой играет с судьбой, причем вслепую. Таким образом, в трагедии ситуация изначально не соразмерна, герой и хор принципиально не совпадают в регистрах, они находятся в разных сферах, хотя движутся в одном сценическом пространстве. Трагедия — это дух музыки, ставший невозможным разговором. Разговор здесь — это борьба героя с судьбой, агон (агония!). Внутренняя структура этого разговора есть разрыв, перебой, так сказывается дух музыки. Трагедия — это шепоты и крики, и никакого «пения». Агон с судьбой идет по нарастающей невозможного крика и разрешается кульминацией, т. е. «пнигосом» (буквально — горловым спазмом 2 предсмертного хрипа-шепота героя). Именно в этот момент дух музыки обнаруживает себя полностью, он единственное, что есть на сцене. Таким образом, момент чистого события духа музыки разрешается двояко: совпадением кульминации пнигоса героя и катарсиса зрителя. Кульминация же трагедии не описывается в количественных и качественных характеристиках (типа многострадальности или невыносимости страдания), она предполагает не суммирование, а радикальный срыв (он же подъем), переключение человеческого режима в сверхчеловеческий, в котором только и возможно собирание следов своей истории, т. е. смертной, человеческой жизни в единый путь. Это и есть момент божественной очевидности и ясности, позволяющий соединить изгибы линий, выпуклости и впадины, провалы — игру плоскостей и разрывов, как следов-печатей страданий, в единое целое, в лик судьбы как маску свободы. В этом и состоит катарсис как очищение всякий раз ситуативной боли от случайностей, которые не давали видеть целостность судьбы. Для того чтобы увидеть судьбу, необходима одна единственная дистанция, одна из всех возможных. Эдип видит знаки судьбы либо слишком близко, либо слишком далеко. Единственно возможная дистанция обустроена не только маской, в собственном смысле слова, но и одеянием героя, в котором актер предстает зрителю как невозможный бог. Он облачен в «балахон» и стоит на катурнах, указывающих на его сверхчеловечность. В некотором смысле все пространство действа можно назвать маской, маску же надо не срывать (под ней лишь другая маска) и не принимать за лицо. К маске нужно относиться как к условной поверхности того, что поверхности не имеет. Только тогда трагедия станет зрелищем судьбы как поверхности свободы. Пока это событие случается, трагедия остается собой. Но когда со всей тщательностью пытаются создать маску страдания, раскрасив ее в индивидуальные обстоятельства, маска непостижимым образом стягивается в гримасу, идиотскую в своей аккуратной гипертрофированности. Так родилась комическая маска, как неудавшаяся агония трагической. Так маска судьбы превращается в гримасу нелепости, и это смешно до истерики или истерично до смеха. Это и есть смерть трагедии комедией, о которой писал Ницше. В то время как маска стягивается в гримасу, трагическая речь-ритм (агон) оборачивается перебранкой глупых и глухих, пнигос — завыванием героя на разные лады: «О роковая ночь, о ужас, ужас!», дух же музыки исчезает, оставляя после себя фривольные песенки. Но комедия не меняет искусственное поле события, и в комедии и в трагедии им остается судьба, с одной только разницей: в трагедии герой принимает судьбу, а в комедии судьба принимает героя. Комический «герой» — герой лишь по недоразумению, на самом деле это лишь то, что приключается, чистая оказия. Главные действующие лица — это бог, судьба, которая дергает за веревочки, а персонажи думают, что они действуют самостоятельно и свободны в своих действиях, в то время как у них одна маниакальная страсть — попадать не на свое место. Только к концу все открывается одним движением руки, все узнают, что их жесты, казавшиеся трагическими, патетическими и героическими, суть лишь комические жесты. Комический персонаж существует как игрок-обманщик, поскольку постоянно надеется, что сам прячется под маской, и при этом срывает маски с других в поисках истинного лица. Маска же в это время играет с героем злую шутку, загоняя героя в абсурдные ситуации, в которых невозможно извлечение смысла. И только в финале маска становится собой упраздняя все обстоятельства, оставляя героя ни с чем. Но когда герой, будучи не на своем месте, вдруг узнает в нем свое, комедия необъяснимым образом трансформируется, создавая иное пространство, иные законы действия, в которых дух музыки возвращается целиком и полностью. Так, Данте узнает ад в себе, находясь в нем, а не смотрит на него со стороны из-под маски. Данте, как и трагический герой, совершает невозможное — вмещает в себя ад, выдерживает 3 несоразмерность происходящего события, ибо он живым должен попасть в рай, помня о всех кругах ада. Абсурдность этого деяния могла бы сделать Данте смешным (в роли онтологического выскочки), но поскольку эта абсурдность видна лишь из божественной ложи, глазами Бога, вся эта комедия вызывает не гомерический хохот, а печальную «улыбку Богородицы». Это и есть Божественная комедия — история того, как перед божественным взглядом распадаются все случайные обстоятельства, время скручивается, как свиток. Божественная комедия — это комедия конца времен, вызывающая трагическое веселье, ибо человек стал Богом по ту сторону отчаяния. Здесь неравный разговор человека с судьбой впервые явно становится Последним судом, кульминация которого (пнигос, катарсис) выкрикивается и вышептывается в один-единственный вопрос-приговор «ti astiv to telos». Так трагедия повторяется Духом музыки (шепоты и крики) в Божественной комедии конца времени, которая есть не что иное, как Судьба. 4