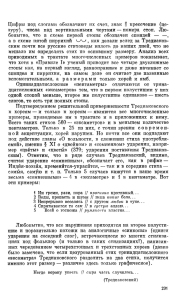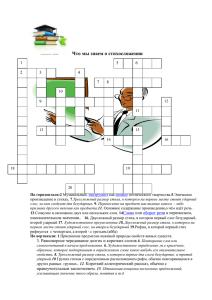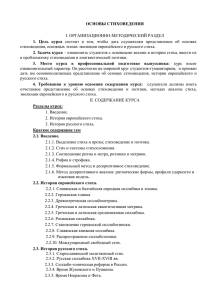К проблеме смысловой выразительности стиха Б. П. Гончаров
реклама
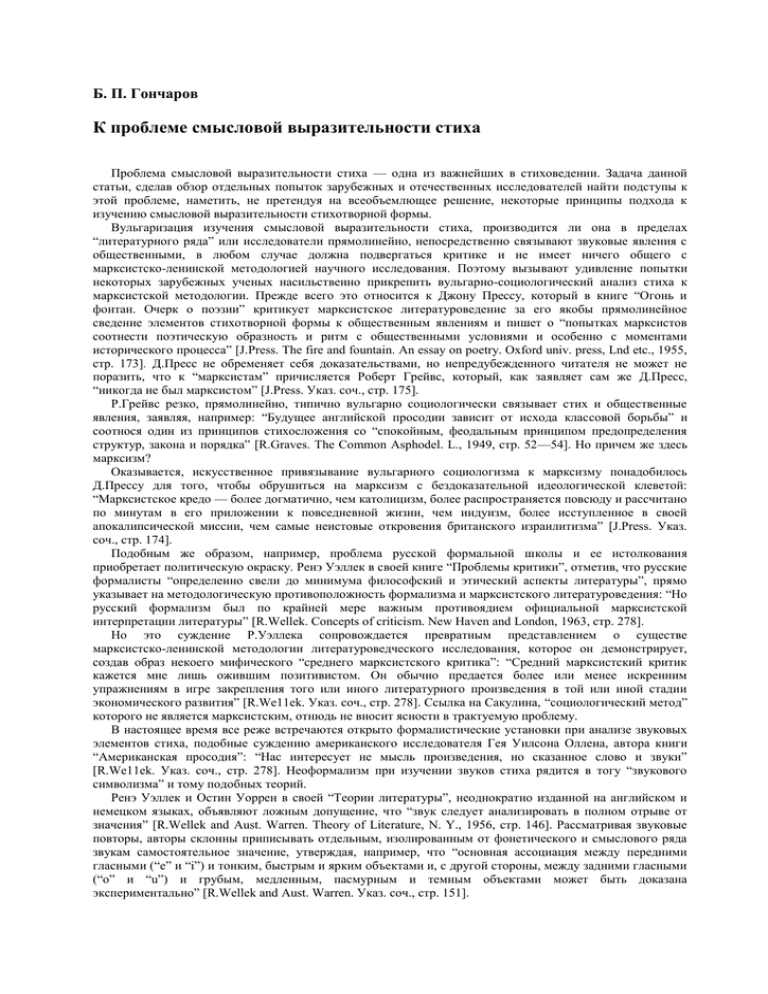
Б. П. Гончаров К проблеме смысловой выразительности стиха Проблема смысловой выразительности стиха — одна из важнейших в стиховедении. Задача данной статьи, сделав обзор отдельных попыток зарубежных и отечественных исследователей найти подступы к этой проблеме, наметить, не претендуя на всеобъемлющее решение, некоторые принципы подхода к изучению смысловой выразительности стихотворной формы. Вульгаризация изучения смысловой выразительности стиха, производится ли она в пределах “литературного ряда” или исследователи прямолинейно, непосредственно связывают звуковые явления с общественными, в любом случае должна подвергаться критике и не имеет ничего общего с марксистско-ленинской методологией научного исследования. Поэтому вызывают удивление попытки некоторых зарубежных ученых насильственно прикрепить вульгарно-социологический анализ стиха к марксистской методологии. Прежде всего это относится к Джону Прессу, который в книге “Огонь и фонтан. Очерк о поэзии” критикует марксистское литературоведение за его якобы прямолинейное сведение элементов стихотворной формы к общественным явлениям и пишет о “попытках марксистов соотнести поэтическую образность и ритм с общественными условиями и особенно с моментами исторического процесса” [J.Press. The fire and fountain. An essay on poetry. Oxford univ. press, Lnd etc., 1955, стр. 173]. Д.Пресс не обременяет себя доказательствами, но непредубежденного читателя не может не поразить, что к “марксистам” причисляется Роберт Грейвс, который, как заявляет сам же Д.Пресс, “никогда не был марксистом” [J.Press. Указ. соч., стр. 175]. Р.Грейвс резко, прямолинейно, типично вульгарно социологически связывает стих и общественные явления, заявляя, например: “Будущее английской просодии зависит от исхода классовой борьбы” и соотнося один из принципов стихосложения со “спокойным, феодальным принципом предопределения структур, закона и порядка” [R.Graves. The Common Asphodel. L., 1949, стр. 52—54]. Но причем же здесь марксизм? Оказывается, искусственное привязывание вульгарного социологизма к марксизму понадобилось Д.Прессу для того, чтобы обрушиться на марксизм с бездоказательной идеологической клеветой: “Марксистское кредо — более догматично, чем католицизм, более распространяется повсюду и рассчитано по минутам в его приложении к повседневной жизни, чем индуизм, более исступленное в своей апокалипсической миссии, чем самые неистовые откровения британского израилитизма” [J.Press. Указ. соч., стр. 174]. Подобным же образом, например, проблема русской формальной школы и ее истолкования приобретает политическую окраску. Ренэ Уэллек в своей книге “Проблемы критики”, отметив, что русские формалисты “определенно свели до минимума философский и этический аспекты литературы”, прямо указывает на методологическую противоположность формализма и марксистского литературоведения: “Но русский формализм был по крайней мере важным противоядием официальной марксистской интерпретации литературы” [R.Wellek. Concepts of criticism. New Haven and London, 1963, стр. 278]. Но это суждение Р.Уэллека сопровождается превратным представлением о существе марксистско-ленинской методологии литературоведческого исследования, которое он демонстрирует, создав образ некоего мифического “среднего марксистского критика”: “Средний марксистский критик кажется мне лишь ожившим позитивистом. Он обычно предается более или менее искренним упражнениям в игре закрепления того или иного литературного произведения в той или иной стадии экономического развития” [R.We11ek. Указ. соч., стр. 278]. Ссылка на Сакулина, “социологический метод” которого не является марксистским, отнюдь не вносит ясности в трактуемую проблему. В настоящее время все реже встречаются открыто формалистические установки при анализе звуковых элементов стиха, подобные суждению американского исследователя Гея Уилсона Оллена, автора книги “Американская просодия”: “Нас интересует не мысль произведения, но сказанное слово и звуки” [R.We11ek. Указ. соч., стр. 278]. Неоформализм при изучении звуков стиха рядится в тогу “звукового символизма” и тому подобных теорий. Ренэ Уэллек и Остин Уоррен в своей “Теории литературы”, неоднократно изданной на английском и немецком языках, объявляют ложным допущение, что “звук следует анализировать в полном отрыве от значения” [R.Wellek and Aust. Warren. Theory of Literature, N. Y., 1956, стр. 146]. Рассматривая звуковые повторы, авторы склонны приписывать отдельным, изолированным от фонетического и смыслового ряда звукам самостоятельное значение, утверждая, например, что “основная ассоциация между передними гласными (“e” и “i”) и тонким, быстрым и ярким объектами и, с другой стороны, между задними гласными (“o” и “u”) и грубым, медленным, пасмурным и темным объектами может быть доказана экспериментально” [R.Wellek and Aust. Warren. Указ. соч., стр. 151]. Как видим, отдельная фонема, изобразительное значение которой пытаются обосновать даже весьма спорными экспериментальными данными, изымается из звуко-смысловой системы, в которой она функционирует. Взаимодействуя прежде всего со своим окружением, фонема только через словесный ряд, отражающий определенную ситуацию (а в поэзии — это контекст), передает смысловые отношения. Здесь, выражаясь фигурально, не одно зеркальце значения, а целая система взаимоотражающих зеркал, проецирующих совместное изображение [В “Очерках теории и истории русского стиха” Л.Тимофеева (М., Гослитиздат, 1958) содержится убедительная критика теорий о воспроизведении поэтом явлений действительности при помощи прямого использования звукового состава слова (стр. 5-10)]. В современной американской стиховедческой литературе можно проследить две тенденции неверного подхода к анализу смысловой выразительности стиха: во-первых, принцип “звуковой автономии”, во-вторых, принцип так называемого семантического взаимодействия. В.Хэмм, автор статьи “Метр и значение”, характерной для первой из тенденций, считает. что в крупных поэтических произведениях звуковая структура существует изолированно от смысловой; в поэме “именно метрическая форма имеет сущность, фонемическая структура которой почти независима от смысловой структуры” [V.Hamm. Meter and meaning. “Publications of Modern Language Association of America”, 1954, sept., vol. 69, No. 4, стр. 697]. В.Хэмм даже находит возможным сравнить метр с “узором холста” [V.Нamm. Указ. соч., стр. 696], хотя эта аналогия, по существу, неблагоприятна для его рассуждений: чтобы разглядеть утόк холста, мы должны или смыть краску, или встать настолько близко к картине, что изображение расплывется, т. е. пожертвовать смыслом произведения. Другая тенденция (так называемое семантическое взаимодействие) заключается в прямолинейном связывании элементов стиха (ударений, отдельных звуков, “размеров”) со смыслом. Переживания и чувства поэта выражаются якобы не совокупным восприятием речи, а только стиховой структурой: “Чувство поэта соответствует его тональным структурам”, “контролируемый метр выражает и моделирует эмоции”, — пишет В.Хэмм. По поводу одного из стихотворений Чосера он замечает: “Метрономическое ударение свидетельствует об иронии” [Там же, стр. 704—706]. В. Хэмму вторит У.Саттон, который связывает долгие гласные с выражением меланхолии [W.Sutton. The Analysis of Free Verse form... “Journal of Aesthetics and Art criticism”, 1959, vol. XVIII, No. 2, стр. 253]. В работе Р.Якобсона “Лингвистика и поэтика” каждый звук действует сам по себе, “поверх” первичного смысла слова: звуковое оформление слова не только не подчиняется семантике — наоборот, оно превалирует над первичным смыслом. Так возникает отнюдь не новая теория (об этом уже писали Р.Уэллек и Ост.Уоррен [R.We11ek and Aust. Warren. Указ. соч., стр. 151]) о звуковом символизме: “В поэзии любое заметное сходство звука оценивается по отношению к сходству и (или) различию в значении... Заповедь Эдгара По поэтам — “звук должен казаться эхом смысла” — имеет широкое применение. В передающем языке связь между обозначающим и обозначенным по преимуществу основывается на их кодифицированном соприкосновении, которое часто нечетко именуется как “произвольность словесного знака”. Совместность звука и значения — это простой результат наложения сходства на смежность. Звуковой символизм, несомненно, является объективным отношением, основанным на необыкновенной связи между различными чувственными формами, в особенности между визуальным и слуховым опытом” [R.Jakоbson. Linguistics and poetics. N. Y., 1959, стр. 38. Эта работа вошла в сборник “Стиль в языке” (Style in language, N. Y., 1960)]. Прямолинейность анализа проявляется, например, в трактовке звукового оформления русских слов “день” и “ночь”, которые, по мнению Р. Якобсона, должны служить примерами проявления звукового символизма: “В двух словах, противоположных по значению, звуковые отношения могут быть в соответствии с семантической противоположностью, как в русских словах “день” и “ночь” с высокой гласной и звонкими согласными в существительном, обозначающем день, и соответствующей низкой согласной в существительном, обозначающем ночь. Подкрепление этого контраста путем окружения первого слова высокой и звонкими фонемами, в противоположность низкому фонемному соседству второго слова, превращает звук в полное эхо смысла” [Там же, стр. 39]. Не учитывая, что первичный смысл возникает при совокупном восприятии всех фонем, образующих слово, автор допускает возможность автономного анализа фонем, выхваченных из связи с другими, анализа, при котором фонемы действуют изолированно от смыслового ряда и каждая из них произвольно прикрепляется к определенному значению. Но вот Р.Якобсон встречает французские слова “jour” (день) и “nuit” (ночь), которые не подтверждают его вывода о соотнесенности изолированных из контекста фонем с зафиксированным значением. Вместо того, чтобы признать несостоятельность своих прежних рассуждений о звуковом символизме, в частности, о роли “высоты” гласной фонемы, автор заявляет, что язык “обращается к семантической перестановке, и образность дня и ночи замещает образность светлого и темного другими синестетическими коррелятами фонемной противоположности низких/высоких и, например, ставит тяжелый, жаркий день в контраст с легкой, прохладной ночью...” [R.Jakоbson. Указ. соч., стр. 40]. Читателя не может не удивить крайняя произвольность и полная неубедительность анализа, при котором возводится в принцип вкусовое восприятие. Снова возрождается весьма старая неплодотворная традиция, и когда мы читаем рассуждения о “звуковом символизме”, вспоминаются высказывания Бальмонта, Князькова и Туфанова [А.Туфанов, например, провозглашал: “Не воскрешение слов, а воскрешение функций фонем — вот моя задача...” (К зауми. Фоническая музыка и функции согласных фонем. Пг., 1924, стр. 8.)], а также молодого Р.Якобсона, который писал в свое время о “фоническом слове” [Р.Якобсон. Новейшая русская поэзия. Прага, 1921, стр. 68]. Р.Якобсон совершенно не учитывает “жизни” слова, в частности, влияния интонации, под воздействием которой “умная голова” превращается в глупую (в известной басне Крылова), а “день” может превратиться в “ночь”. Представим, что ночью слепой спрашивает зрячего собеседника: “Сейчас день?”. Собеседник может сказать: “Нет, ночь”, но может ответить и по-другому: “Ну да, де-е-нь”. Произнесенное с издевательской интонацией (замедление темпа, сильное понижение голоса к концу фразы), слово “день” принимает противоположное значение. Этот пример показывает бесплодность автономного анализа фонем, не учитывающего всего комплекса звуко-смысловых отношений речи. К.Тарановский, югославский ученый, ныне работающий в США, в статье “О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики” механистически-прямолинейно связывает поэтические мотивы пути, дороги с хореическим размером. Понятие пути рассматривается внеисторично, без учета конкретного содержания анализируемых стихотворений; прямое и переносное использование значения слова не учитывается. Автор пишет о произведениях В.Маяковского “Киев”, “Юбилейное”, некоторых частях поэмы “Владимир Ильич Ленин”: “Во всех этих произведениях поэт вслушивается в “поступь истории” и передает ее в хореическом ритме” [Kiril Taranovskii (Кирилл Тарановский). О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики. American contributions to the Fifth International Congress of Slavists. Vol. I, The Hague, 1963, стр. 313]. Исследователь делает такое примечание: “Было бы интересно показать, как, например, в поэме о Ленине разработаны мотивы пути (путь международного пролетариата, путь русской революции, жизненный путь Ленина, его похороны)...” [Там же]. Таким образом, акцентная основа стиха (трактуемая к тому же односторонне) соотносится с содержанием помимо семантики слова и интонационно-синтаксической системы. К.Тарановский допускает предположение о связи между ритмическим движением хорея и ритмом человеческого шага [К.Тарановский. Указ. соч., стр. 320]. Рассматривая строку Лермонтова “Выхожу один я на дорогу...”, он заявляет: “В плане динамической темы пути такая ритмическая поступь стиха действительно соответствует неровной человеческой походке: как будто человек сделал один шаг (или три шага) и на какую-то долю секунды остановился” [Там же, стр. 321]. От таких утверждений недалеко до трактовки стихотворения как либретто балета; но — самое главное — подобное “либретто” весьма зыбко, ибо основано на недоказанном предположении. К сожалению, прямолинейность при анализе смысловой выразительности стиха можно встретить и в отдельных работах советских исследователей. Это происходит всякий раз, когда забывают о целостности художественной формы. Примером прямолинейной, вне словесного ряда, трактовки звуковых отношений стиха является давнее высказывание И.Сельвинского: “В “7-й короне сонетов” дается в ритме ощущение спазма в горле: Что комиссар, глотая спазм, немел. Здесь стечение двух согласных плавных создает призвук, приближающийся к самостоятельному слогу (“спазму”!); но слог этот в пятистопной строке может пройти только при быстром произнесении, скрадывающем его самостоятельность. Этот ритмический тромб, этот бугорок слога и создает ощущение спазма” [И.Сельвинский. Кодекс конструктивизма. “Звезда”, 1930, № 9—10, стр. 262]. А.Слонимский, автор книги “Мастерство Пушкина”, декларируя, что “попытки прикрепить звук раз навсегда к определенным смысловым соответствиям (цветовым и т.д.) заранее обречены на неудачу”, при конкретном анализе отступает от сформулированного принципа: “В “Послании в Сибирь” (первая строфа) это “р” в сочетании с мрачным “у” (которое само по себе употребляется как междометие скорби, боли и т.д.) и в связи с рифмовкой (“руд — труд”) звучит сосредоточенно мрачно” [А.Слонимский. Мастерство Пушкина. М., Гослитиздат, 1959, стр. 179]. Так возникает изолированное рассмотрение “сосредоточенно мрачного ‘р’”; видимо, в качестве антипода должен быть какой-то “невнимательно-светлый” звук? [Между прочим, В.Брюсов считал звуки “л”, “ль”, “нь” “мягкими”, а “р”, “гр”, “тр” — “суровыми” (В.Брюсов. Звукопись Пушкина. Избранные сочинения в двух томах, т. 2, М., 1955, стр. 480)]. Анализируя строку из стихотворения Пушкина “К морю” И блеск, и тень, и говор волн, А.Слонимский пишет: “Комбинация “р” с “л”, “н”, гласными “у”, “ы”, дифтонговыми “ая”, “ое”, “ой” и т.д. укрепилась в русской поэзии при изображении морских и речных волн” [А.Слонимский. Указ. соч., стр. 181]. Дань автономной изобразительности звуковых элементов стиха принес и М.П.Штокмар, который писал “... в стихе из поэмы “Человек” “Кузни времен вздыхают меха” звуками “ха”, проходящими через два последних слова, несомненно, изображается работа кузнечных мехов” [М.Штокмар. Рифма Маяковского. М., “Советский писатель”, 1958, стр. 57]. Определенную прямолинейность в анализе звуковых элементов стиха мы находим в “Практикуме по древней русской литературе” А.Позднеева. Автор пишет: “... зловещие звуки ночи и в час затмения живописуются скоплениями согласных с, з, ц ,ч, ш с доминирующим гласным “у”: “Солнце ему тьмою путь заступаше; нощь стонущи ему грозою птичь убуди”” [А.Позднеев. Практикум по древней русской литературе. М., Учпедгиз, 1959, стр. 10]. В чем же именно “зловещность” этих звуков? Подобным же образом А.Позднеев, ссылаясь на мнение В.Ржиги, считает, что “картина чуткого сна Ольгова гнезда нарисована с помощью звукового повтора на “о”, а строки, характеризующие Всеволода, даны с помощью аллитерации на “п” [Там же, стр. 15 и 20]. Как же именно “о”, извлеченное из контекста, изображает чуткий сон? Что касается звука “п”, в приведенном исследователем отрывке он повторяется шесть раз в пяти словах из семнадцати. Ю.Буртин, анализируя стих А. Твардовского, также приписывает отдельным, изолированно взятым звуковым элементам стиха смысловое значение; критик, по справедливому замечанию Л.Тимофеева, “устанавливает “прямое звуковое соответствие” между мыслью и звуком, минуя слово” [Л.Тимофеев. Звук и стих. “Литература и жизнь” от 26 августа 1959 г., стр. 3]. Так, Ю.Буртин пишет: “В стихе “У перевоза стук колес, / сбой, гомон, топот ног”, — удачно использовано сверхсхемное ударение. Сильное ударение на первом слоге ямбического стиха “утяжеляет” вторую строку, вызывает необычную “тесноту” ударных слогов и тем самым создает звуковой образ тесноты и шума у парома” [Ю.Буртин. Из наблюдений над стихом Твардовского. “Вопросы литературы”, 1960, № 6, стр. 181]. Абсолютно бездоказательно замечание автора о стихе “широкого дыхания”, который “уже сам по себе вызывает в сознании читателя звуковой образ необозримых просторов нашей страны” [Там же, стр. 187] (разрядка моя. — Б. Г.).. Л.Зивельчинская утверждает: “В мелодических амфибрахиях лермонтовских “Трех пальм” явственно слышен неторопливый шаг верблюдов, а также зримо мерное колыхание их всадников и разноцветных шатров между горбами верблюда. Изобразительность здесь рождается, может быть, прежде всего из музыкального ритма, а затем уже — из описания” [Л.Зивельчинская. Ритм. “Вопросы литературы”, 1963, № 3, стр. 177]. Это наглядный пример того, к чему может привести позиция автономного изучения звуковых элементов стиха (в данном случае — ритма). И.Роднянская, анализируя пушкинские строки: Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая, — соотносит звукопись и содержание, минуя семантику слова: “Затрудненные для произношения сочетания согласных “б”, “в”, “р” напоминают о разбрасываемом по обе стороны борозды снега, который “взрывают” санные полозья, а контрастная плавность необремененной согласными звуками второй строки создает впечатление беспрепятственной стремительности движения...” [И.Б.Роднянская. Слово и “музыка” в лирическом стихотворении. Слово и образ. Сборник статей. М., “Просвещение”, 1964, стр. 228]. Анализируя стихотворение Фета “Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...”. М.Гиршман наделяет категорию школьной метрики пиррихий интонационной функцией: “Каждый составной элемент стиха выступает прежде всего в своей интонационно настраивающей функции, например пиррихий в строке “Как только веровать в рыдающие звуки” делает необходимым интонационно-мелодический акцент на торжественном ‘веровать’” [М.М.Гиршман. Три чудных мгновения. “Русская речь”, 1969, № 1, стр. 15]. Меньше всего пиррихий повинен в интонационной настройке. Только совокупное осмысление всего стихового материала (в частности лексики), контекст определяют направленность интонации. Исследователь звукописи А.Гербстман, отрывая ее анализ от интонации, полагает, например, что в “Бородино” Лермонтова “каждая из сражающихся сторон имеет свою звуковую характеристику: французы — гласную гамму на “у”, однозвучно низкую; звуковая характеристика русских образуется гаммой, в которую входят многие гласные. С одной стороны: построили редУт. У наших Ушки на макУшке! ЧУть Утро осветило пУшки И леса синие верхУшки — Французы тУт как тУт. Забил заряд я в пУшкУ тУго И дУмал: УгощУ я дрУга! ... Сквозь дым летУчий Французы двинулись, как тУчи, И все на наш редУт... С другой: Да, бЫли лЮди в нАше врЕмя, Не то, что нЫнешнее плЕмя: БогатЫри, не вЫ!”. [А.Гербстман. Звукопись и вопросы художественного перевода. В кн.: “Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы всесоюзного симпозиума”, т. II, М., 1967, стр. 281] Что можно сказать о таких суждениях? Во-первых, звуки в интонационной системе стиха приглушены (хотя и неравноценны), а нам предлагается особый способ гласной скандовки с искусственным выделением фонем. Во-вторых, в “Бородине” наиболее существенно художественное воспроизведение разговорной речи русского солдата с выражениями “тут как тут”, “ушки на макушке” и др. К тому же “построили редут” отнюдь не французы, а “наши”. Почему же эта строка, как и строка “У наших ушки на макушке”, зачисляется по ведомству “французов”? Или взять строку “Кусая длинный ус”, не процитированную А.Гербстманом. Ведь солдат кусал свой Ус, а не французский. Есть и другие примеры, в частности, в первой строфе ответа “дяди”, где широко представлена фонема “у”. А самое главное, здесь на фоне семантического восприятия особенно большое значение имеет ироническая интонация, под влиянием которой “друг” (“И думал: угощу я друга”) превращается в “недруга”, а к “брату мусью” испытываются отнюдь не братские чувства. Этот интонационный ход значительно важнее (особенно для переводчиков, к которым обращается автор), чем недостаточно обоснованные упражнения над “гаммой гласных”. Исследуя звукопись Тютчева, В.И.Касаткина вполне серьезно воспринимает суждения Ломоносова о прямолинейном соответствии фонем какому-либо смыслу (например, “е” обозначает нежность, а “о”, “у”, “ы” — гнев, зависть, боязнь и печаль). Эту прямолинейность анализа В.И.Касаткина и переносит на исследование звукописи Тютчева. От звучания отдельной фонемы делается неопосредованный ход к содержанию: “В стихотворении “Арфа скальда” раскрывается содержание музыкального звука, издаваемого арфой, и в то же время Тютчев заставляет звучать свои стихи подобно арфе. Тютчев использует пятистопный длинный стих, протяжный, как звук арфы: О арфа скальда! Долго ты спала... Он все стихотворение озвучает согласным “л”, передающим как бы пение арфы...”. Оказывается, что фонема “у” несет “музыкальную тему былого” [В.И.Касаткина. Музыка и живопись в стихах Тютчева. В кн. “Мастерство русских классиков. Сборник”. М., “Советский писатель”, 1969, стр. 222, 227]. Методика подобного анализа крайне непритязательна: воздействие целого переносится на мельчайшую деталь, которая только и существует в организме целого. А. Федоров справедливо заметил, что “отдельная деталь, вне ее художественно-смысловой роли в системе целого, невесома” [А.Федоров. О художественном переводе. Л., Гослитиздат, 1941, стр. 6]. При методике, которую использует В.И.Касаткина (а в этом, как мы убедились, она не одинока), очень просто сделать “тематическую” подстановку: если бы речь шла об оргáне, сообщалось бы, что передаются звуки оргáна, о тромбоне, — что передаются звуки тромбона, об альт-саксофоне, — что передаются звуки этого инструмента и т.п. При подобном анализе многое зависит от направленности и богатства авторской фантазии, ибо такие суждения, как правило, никак не мотивированы. Во всех приведенных примерах нарушалась диалектика взаимодействия содержания и формы в стихе, нарушалась целостность стихотворной формы, компоненты которой взаимосвязаны, взаимоподчинены и выражают содержание не прямо, а через цепь опосредований. В нашей научной литературе существуют попытки обосновать правомерность, так сказать, микросемантического анализа. Например, отдельные структуралисты (к ним принадлежит Ю.Лотман) утверждают, что “стихотворение — сложно построенный смысл. Все его элементы суть смысловые” [Ю.М.Лотман. Лекции по структуральной поэтике, вып. 1. Введение, теория стиха. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 160, Тарту, 1964, стр. 64]. Это суждение не учитывает, что стихотворное произведение — это сложная иерархическая система, компоненты которой неравноценны по отношению к его целостному семантическому восприятию. Таким образом, кроме формализма, который преодолен советским литературоведением [Критикуя раннюю опоязовскую доктрину за замкнутость “в пределах эстетического ряда”, В.М.Жирмунский говорил о роли “чувства жизни”, “психологического фона эпохи” в изменении художественных вкусов (В.Жирмунский. Вопросы теории литературы, Л., 1928, стр. 11—12). В его книге “Рифма, ее история и теория” (Пг., “Academia”, 1923) есть раздел “Рифма и смысл” — о связи рифмы и лексики] (хотя порой и встречаются его рецидивы в работах представителей “математической” поэтики) опасен микросемантический анализ — стремление придать каждому изолированно взятому элементу смысловое значение. При таком подходе упускается из виду, что художественное произведение — это сложная иерархическая система. Член иерархии извлекается из системы и с ним производятся всяческие манипуляции. Последним примером попытки обосновать микросемантический анализ является статья Е.В.Невзглядовой “О звукосмысловых связях в поэзии”. Ее автор убежден, что “фонетические представления, выделяемые сознанием, ассоциируются с семантическими представлениями... кстати же в этой естественной связи навсегда гибнет формализм: звук без смысла, как смысл без звука, в поэзии не может существовать” [“Филологические науки”, 1968, № 4, стр. 34]. Но весь вопрос в том и состоит, как анализировать смысл. Пытаясь обосновать “звукосмысловое подобие”, Е.Невзглядова пишет: “Например, четырежды повторенное, дважды ударенное и потому протяженное в произнесении “и” в строке Тютчева и солнце нити золотит ассоциируется с протяженностью дождевых нитей” [Там же, стр. 31]. Оказывается, перед нами перелицованная разновидность все того же “звукового символизма”, когда анализ ведется помимо семантики слова и интонационно-синтаксической системы. Не спасают положения декларации такого рода: “Значение звука, как и слова, определяется контекстом” [Там же], поскольку они не отражаются на существе анализа. Понять смысловую выразительность стиховой структуры можно только в том случае, если рассмотреть ее роль в системе поэтической речи, которая является необходимой формой выражения стоящего за ней поэтического чувства. В работах Л.И.Тимофеева широко развито положение о стихе как системе речи [См. Очерки теории и истории русского стиха. М., Гослитиздат, 1958; Стих—слово—образ. “Вопросы литературы”, 1962, № 6; “Советская литература. Метод. Стиль. Поэтика”. М., “Советский писатель”, 1964, гл. IV—VI], которое В.В.Виноградов считал “справедливым” [В.В.Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 66]. Чешский исследователь Йозеф Грабак в монографии о чешском стихе, ссылаясь на “Очерки теории и истории русского стиха”, также заявляет, что “стих — типизированная эмоциональная речь” [J.Hrabak. Studie о ceskem versi. Praha, 1959, стр. 9]. На наш взгляд, точнее следовало бы говорить о поэтической речи как системе, рассматривая поэтическую речь как разновидность художественной, а не однозначную последней [Акад. В.В.Виноградов употреблял термин “поэтическая речь” по существу в широком смысле слова как однозначную художественной, хотя указывал на необходимость различения понятий “художественный” и “поэтический” и на необходимость “освободиться от той неопределенности, множественной расплывчатости значений, которая характеризует употребление слова “поэтический” вообще и в применении к речи в частности” (В.В.Виноградов. Указ. соч., стр. 161)]. В то же время вне полемики вопрос о том, что художественная стихотворная речь включается в поэтическую речь [Термин “поэзия” здесь используется в узком смысле слова. Поэзия — в противопоставлении прозе — одна из художественно-выразительных систем в пределах литературы, которые не ограничиваются только речевой характеристикой]. Поэтическая речь, используемая чаще всего в лирике, вообще направлена на активизацию смыслового восприятия, ибо это служит основной задаче лирики: заставить читателя или слушателя проникнуться определенными переживаниями, а не просто усвоить значение речевого отрывка. Именно к лирике более всего применимо определение искусства, сделанное Л.Толстым в работе “Что такое искусство?”: “Искусство есть деятельность человека, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их” [Л.Н.Толстой о литературе. М., Гослитиздат, 1955, стр. 357]. Активизация восприятия достигается многими факторами (например, лексикой — повышенной метафоризацией и т. п.), в том числе и стиховой структурой [Термин “структура” используется не в структуралистском смысле, а в конкретном — как построение стиха], но ее положение особое. Сравним два фактора активизации восприятия смысла: лексику и стиховую структуру. В “Желании” М.Ю.Лермонтова есть строки: Дайте раз по синю полю Проскакать на том коне... [М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. 2, М.— Л., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 147; разрядка моя.— В. Г.] Читателя не может не поразить своеобразное использование эпитета “синее” в приложении к существительному “поле”. Если бы мы прочитали “сине море” (ср. в черновом варианте “Желания”: “Я пущуся в сине море” [Там же, стр. 264]), это у нас не вызвало бы удивления. Но “сине поле” настраивает читателя на особое восприятие, мобилизует сферу его образного мышления: это поле, покрытое васильками, поле, на котором колыхание травы напоминает морские волны и т.д.; у нас возникают поэтические ассоциации, которые способствуют активизации нашего мышления в процессе восприятия; это достигается использованием необычного, не употребляемого в обиходной речи значения слова. Следует оговориться: имеется в виду не логическое мышление, а мышление образами, картинами (ср. известное выражение В.Белинского о том, что “художник мыслит образами”). Эмоция, несомненно, включается в понятие смысла. В статье “Иосиф Уткин” А.В.Луначарский писал: “... говоря о поэтичности, имеем в виду совершенно определенное отличие от среднего, так называемого нормального мышления и чувствования” [А.В.Луначарский. Статьи о советской литературе. М., Учпедгиз, 1958, стр. 441]. Луначарский не противопоставляет мысль и чувство. Итак, расширение ассоциативной сферы поэзии достигается и определенным, направленным отбором лексики. Стихотворная речь активизирует восприятие [Ю.Н.Тынянов. Проблема стихотворного языка. Л., “Academia”, 1924. Здесь автор развивает интересное положение об особом “смысле слова” в стихе]. Когда прозаическая речь неожиданно сменяется стихотворной (или наоборот, проза “вмонтирована” в стих, как, например, в “Борисе Годунове” Пушкина), степень восприятия повышается. Стих предполагает настроенность на повышенное восприятие вследствие заданности определенных моментов; поэт, как бы игнорируя индивидуальные свойства речи каждого человека, задает строго определенную манеру (своеобразную в различных стиховых системах): замедленный темп речи, особая звуковая единица — строка, звуковая ощутимость и т.д. С.Я.Маршак весьма справедливо заметил: “Наша торопливая, подчас небрежная разговорная речь, которой мы пользуемся в быту, для утилитарных целей, часто обесцвечивает и “обеззвучивает” слова, превращая их в служебные термины, в какой-то условный код. Писатель пользуется теми же общепринятыми словами (хотя словарь его должен быть гораздо шире и богаче разговорного лексикона), но мастер своего дела, он умеет так поставить слово в ряду других, чтобы оно играло всеми своими красками, звучало неожиданно, веско и ново” [С.Маршак. Заметки о мастерстве. “Книги и писатель”, вып. 1, М., Гослитиздат, 1960, стр. 17]. Художественное значение стиховой структуры состоит, в частности, в том, что как бы скрадывая, нивелируя индивидуальные различия в устной речи, поэт задает определенную художественно-выразительную манеру, предполагающую выполнение минимума звуковых условий: если их не выполнить, стих, так сказать, вообще не состоится. Стихотворная речь — это своеобразное противоядие скороговорке, небрежности в использовании смыслового и звукового богатства языка. При верно воспроизведенной стиховой структуре смысл сказанного воспринимается отчетливее (ср. в этом смысле ораторскую речь и “скороговорку” в обиходной речи). Поэтому стиховая структура (и отдельные ее компоненты) связана со смыслом не прямо, а через цепь опосредований [Однако трудно согласиться с Г.Гачевым и В.Кожиновым, что “любое свойство, любой элемент литературного произведения, который мы воспринимаем как “чисто формальный”, был когда-то непосредственно содержательным” (Содержательность литературных форм. “Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы”. М., Наука, 1964, стр.18. Ср. также стр. 29). В частности, изучение опосредований между стиховой структурой и содержанием первостепенно важно], которые должны изучаться на общем фоне звукового и семантического восприятия стиха. Например, когда после нейтрального звукового фона появляется аллитерация, внимание воспринимающего, реагируя на звуковые изменения, обостряется, как при чтении второй строфы стихотворения Е. Баратынского: Весна, весна! как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой Слепит мне очи он. Весна, весна! как высоко На крыльях ветерка, Ласкаясь к солнечным лучам, Летают облака. [Е.Баратынский. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта, Большая серия. Л., “Советский писатель”, 1957, стр. 167] В каждом слове (кроме предлога “к”) двух последних строк второй строфы встречается звук “л”. Если во всех восьми строфах стихотворения он повторен двадцать раз, то в одной второй строфе — шесть раз. Лишь в контексте стихотворения можно проследить выразительное значение аллитерации во второй строфе. Непосредственное связывание отдельных компонентов стиха со смыслом, поиски содержательного значения изолированно взятого звукового элемента (ударения, аллитерации, какого-либо “размера” и т.д.) неплодотворны. При анализе стихотворного произведения надо ставить вопрос о раскрытии целостного комплекса художественных мотивировок; без их учета можно прийти к “микросемантизму”, который немногим лучше формализма. [1970] Текст дается по изданию: Гончаров Б.П. К проблеме смысловой выразительности стиха. // Известия Академии наук СССР, Серия литературы и языка, 1970, т. 29, вып. 1, с. 23-32