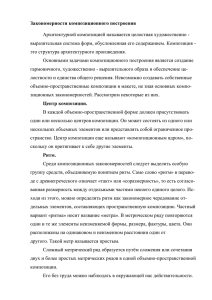[Рецензия на книгу Е.Эткинда “Симметрические композиции у Пушкина”] М. Л. Гаспаров
реклама
![[Рецензия на книгу Е.Эткинда “Симметрические композиции у Пушкина”] М. Л. Гаспаров](http://s1.studylib.ru/store/data/003720605_1-d082625099fb9d0dc1ec5fd257c9be61-768x994.png)
М. Л. Гаспаров [Рецензия на книгу Е.Эткинда “Симметрические композиции у Пушкина”] Е. Эткинд. СИММЕТРИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ У ПУШКИНА. ПАРИЖ, INSTITUT D’ETUDES SLAVES, 1988. (Bibliotheque russe de llnstitut d’etudes slaves, t. 82). 86 c. На обложке этой книги — решетка петербургского Летнего сада, ворота, одна створка чуть приотворена, но великолепная симметрия их узора остается отчетливо видима. Это — символ темы, которой посвящена книга Е.Г.Эткинда “Симметрические композиции у Пушкина”. Книга представляет собой композиционный анализ двадцати пушкинских стихотворений с краткими обобщениями во вступлении и заключении. Каждый анализ проиллюстрирован чертежом, а иногда и несколькими; среди них встречаются довольно сложные. Двадцать стихотворений, разобранных в книге,— это “Муза”, “Надеждой сладостной...”, “Демон”, “Простишь ли мне...”, “Коварность”, “К морю”, “Аквилон”, “Сожженное письмо”, “Желание славы”, “Я помню чудное мгновенье...”, “Признание”, “Под небом голубым...”, “Поэт”, “Кавказ”, “Бесы”, “Не дай мне Бог сойти с ума...”, “Пора, мой друг, пора...”, “Туча”, “Пир Петра Первого”, “Полководец”. Для примера рассмотрим первый и последний из этих разборов. Стихотворение “Муза” таково: “(а) В младенчестве моем она меня любила И семиствольную цевницу мне вручила. (б) Она внимала мне с улыбкой — и слегка По звонким скважинам пустого тростника (в) Уже наигрывал я слабыми перстами И гимны важные, внушенные богами, (г) И песни мирные фригийских пастухов. // С утра до вечера в немой тени дубов (в1) Прилежно я внимал урокам девы тайной; И, радуя меня наградою случайной, (б1) Откинув локоны от милого чела, Сама из рук моих свирель она брала, (а 1) Тростник был оживлен божественным дыханьем И сердце наполнял святым очарованьем”. Знаком // обозначена середина стихотворения. Вокруг нее концентрически располагаются двустишия, объединенные общими образами: (а — а1) цевница, (б — б1) Муза, (в — в1) поэт, (г) урок. Первая половина стихотворения (а—г) — играет поэт, внимает Муза; вторая половина (г — а1) — внимает поэт, играет Муза. В первой половине — два предложения объемом в 2 + (3 -|- 2) строки, во второй — тоже два, (2 + 3) + 2 строки. Большинство рифм — на “а”, но серединное двустишие выделено рифмой на “о”. Перед нами — зеркальная симметрия, выдержанная на 4 уровнях: сюжетном (я и Муза), образном, синтаксическом и фоническом. Стихотворение “Полководец” — длинное, 56 строк. Они тематически делятся на (10 + 10 + 10) + 4 + (10 +10+6) строк; но последнему, укороченному куску предшествуют несколько строк точек (“эквивалент текста”, по Ю.Н.Тынянову), и они как бы уравнивают его с предыдущими. Тематика десятистиший в первой половине построена на сужении поля зрения (от общего плана к крупному): дворец и картинная галерея — портреты героев 1812 г.— портрет Барклая де Толли; тематика второй половины — на расширении поля мысли: Барклай и народ — полководец и его трагедия — великий человек и его век. Оба движения образуют зеркальную симметрию; последний член, выводящий идейное обобщение за пределы заглавной темы, выделен точечным “эквивалентом текста”. Первая половина стихотворения напоминает описательную поэму (подлежащее — “он”), вторая — панегирическое послание (подлежащее — “ты”, а в концовке — “о люди!”). Центр симметрии, где сходятся обе половины,— четверостишие с отступлением: намеренно или ненамеренно художник так выразил суть личности Барклая де Толли? Это тоже выход за пределы заглавной темы (добавим: перекликающийся с концовочным “чей высокий лик... поэта приведет в восторг и в умиленье”). Перед нами — зеркальная симметрия на идейном и тематическом уровнях, выраженная сменами общего, среднего и крупного планов. Подобным же образом, с различной степенью детальности, построены и остальные разборы. Симметрия — опасный предмет для исследователя, потому что при некотором усердии ее легко отыскать решительно всюду. Только в нашем веке, например, не один раз вспыхивала мода во всем отыскивать золотое сечение, и каждый раз это мало что давало. Совсем недавно слово “симметрия” стало ключевым в большой серии сверхдетальных анализов “поэзии грамматики”, предпринятых Р.Якобсоном. Кого-то они увлекли, но кого-то, без сомнения, и отпугнули. Невозможно доказать, что все отмечаемые в них переклички оппонирующих падежей и дифференциальных признаков фонем отмечаются сознанием как неслучайные, т.е. эстетически значимые. Можно, конечно, утверждать, что все они залегают в подсознании и оттуда формируют восприятие, но пока мы не знаем, что там залегает рядом с ними, это нам мало что дает. Изучение “соразмерности, соответственности” (пушкинские слова для галлицизма “симметрия” — этой цитатой Е.Эткинд начинает свою книгу) требует большого чувства меры от самого исследователя. Е. Г. Эткинд обладает этим свойством в высочайшей степени. Он решительно отводит вопрос о том, что в симметрии относится к области сознательного и бессознательного творчества и восприятия. В своих анализах он твердо держится доказуемого и показуемого. Здесь он достигает большой убедительности. Вероятно, многие, прочитавшие эту книгу, некоторое время после этого, читая любые стихи, невольно замечали в них такие элементы симметрии, которые в другое время от них бы ускользнули. Такое педагогическое воздействие научной работы очень дорого. Автор находит удачную аналогию, чтобы определить свой подход к предмету. Он пишет о “метрике композиции”. Метрика — термин стиховедческий: метр — это та твердая последовательность выделенных мест, которая делает предсказуемым появление ударения или безударности на каждом следующем слоге силлабо-тонической строки. Предсказуемым, конечно, лишь в известных пределах: колебания вариантов внутри этих пределов дают сложную картину реального ритма. Но только на фоне метрических ожиданий этот ритм будет ощущаться как стих. Точно так же и здесь: симметрия дает читателю основу для восприятия композиции произведения, ее схема может быть сколь угодно затуманена смещениями и отклонениями, но все они ощутимы только на ее фоне. Здесь, однако, возникает вопрос, которого Е.Г.Эткинд подробно не касается. Когда возникает в сознании читающего эта схема композиционных ожиданий, на которую опирается ожидание? В метрике это почти ясно: двух-трех строк обычно хватает, чтобы опознать стихотворный размер, двух-трех строф — чтобы уловить строфический рисунок. А так как запас употребительных размеров и строф в каждой стиховой культуре ограничен, то часто для ориентировки бывает достаточно и одной строки или строфы. В композиции — дело иное. Запас симметрических структур здесь огромен, закрепления их за определенными жанрами или темами в европейской культуре, по-видимому, нет (по крайней мере, литературные манифесты и учебники поэтики об этом молчали), и читателю приходится к каждому стихотворению подходить как к изолированной задаче по композиции. Когда у него будет в сознании достаточный материал для решения этой задачи? Видимо, не ранее, чем когда он дочитает стихотворение до конца, сможет оглянуться, соотнести конец с началом, выделить середину, среди множества образных и стилистических перекличек отметить те, которые равно отстоят от этой середины, и т.д. Если после этого он решит перечитать стихотворение с начала, то только тогда в его сознании будет та система ожиданий, которую можно назвать метрикой композиции. Поэтика симметрических структур — это поэтика перечтения. Спрашивается что же определяет композиционные ощущения при первоначальном чтении? Очевидно, не симметрические, а линейные структуры: временная последовательность изображаемых событий, логическая их связь, нарастание (или чередование) напряженности и ненапряженности и пресекающая эти движения концовка. Конечно, отдельные элементы симметрии успевают ощутиться и при линейном восприятии. В небольшом стихотворении, читая его глазами (не на слух!), воспринимающий в любой момент видит, находится ли он ближе к началу его, к середине или к концу (поэтому восприятие симметрии в трехстрофной “Туче” сильнее, чем в двухстраничном “Полководце”). Если вдобавок где-то в стихотворении встречается тематический перелом, отмеченный, скажем, словом “Но...”, то читающий естественно предположит, что здесь — центр симметрического построения, и начнет на ходу искать вокруг перекликающиеся элементы. В свою очередь, и линейные структуры не исчезают из сознания при перечтении с установкой на ощущение симметрии: повторение элемента воспринимается как художественно выразительное только тогда, когда возникает он в изменившемся контексте, а эти изменения, как правило, определяются линейно (хотя бы просто потому, что к моменту второго упоминания у читателя накоплено в сознании больше, чем к моменту первого упоминания). Взаимодействие линейного, проспективного, динамического построения и построения симметричного, ретроспективного, статического образует диалектику композиции. Сдвинутая симметрия приотворенных ворот Летнего сада выразительней, чем полная симметрия закрытых створок. Е.Г.Эткинл очень хорошо это знает и чувствует. Почти для каждого стихотворения он намечает не одну, а две композиционные основы — одну линейную “играет поэт — играет Муза”), другую зеркальную (цевница — Муза — поэт — урок и т.д.) и описывает их взаимодействие. Всякий раз он отмечает деформацию повтора в концовке, обрывающей линейную последовательность и часто выбивающейся из симметрии. Но степень внимания к этим двум аспектам композиции у него разная. Его заглавная тема — “симметрические композиции”, и он сосредоточивается именно на них. Главное для него — выделить “метрику композиции”, а какими отклонениями она реализуется в “ритмике композиции”, это внимательный читатель легко додумает сам. Но так как друг без друга метрика и ритмика не существуют, то и в анализах симметрической композиции можно иногда заметить неполноту или натяжки. Укажем некоторые из них. Первого и последнего разбора мы уже коснулись; теперь, симметрии ради, приведем группу примеров из середины. “Аквилон”. В плане симметричной развернутости отмечена образная последовательность “тростник и облачко — тучи и дуб — тучи и дуб — облачко и тростник” и временная последовательность “настоящее — прошлое — будущее”. В плане линейного развертывания к этому следует добавить контраст двух половин по временному признаку (протяженные презенс и имперфект “клонишь, гонишь, облекался, величался” — точечные перфект и императив “разогнал, низвергнул — пусть блистает и играет”) и по синтаксическому признаку (в первых двух строфах параллелизм в 2 + 2 строки, в последних — в 2 + 1 + 1 строки). “Сожженное письмо”. “Первая часть — монолог поэта, обрекающий письмо на гибель; третья часть — монолог поэта, сулящий сожженному письму — пеплу — бессмертие”. Почему бессмертие? Неужели только потому, что поэт говорит милому пеплу: “Останься век со мной на горестной груди”? Эта перекличка между началом и концом стихотворения — слишком смелый домысел. “Желание славы”. Композиция по числу строк: 8 + 7 + 7 + 8 (отрицание славы — любовь — измена — желание славы); оговорка: “ось симметрии чуть сдвинута вправо — строка 16 частично относится к первой половине”. Ось сдвинута вправо очень заметно, перелом между частями (“...И что же?”) приходится только на 18-й стих: композиция по числу строк — 8 + 9, 5 + 4, 5 + 8. Заметим, что и в “Музе”, если проводить тематические границы не по двустишиям, а по предложениям и их частям, чистота пропорций нарушится. “Я помню чудное мгновенье...”. В знаменитом стихотворении три двухстрофия: нечетные строфы — о встрече, разлуке и новой встрече, четные — о сопутствующих душевных состояниях. Но так как последовательность АВАВАВ плохо укладывается в зеркальную симметрию, то исследователь затушевывает эту разницу и говорит лишь о последовательности ААВВАА. “Под небом голубым...”. Зеркальныой композиции нет, две половины стихотворения “синонимичны” и различаются только степенью эмоциональности. Можно добавить: зато линейное развертывание темы достигается энергичными сдвигами временной перспективы. В четырех строфах сменяются давнее прошлое (“...увяла наконец”), недавнее прошлое (“я слышал смерти весть”), сверхдавнее прошлое (“так вот кого любил...”) и настоящее (“не нахожу ни слез, ни пени”) — здесь как бы фабульная последовательность событий 1—2—3—4 превращается в сюжетную 2—3—1—4. К зеркальной симметрии это несводимо. “Поэт”. Пять четверостиший группируются 2 + 1 + 2: “поэт в миру — глас божий — поэт во вдохновенном одиночестве”. Рифмовка в них: АбАб, ВгВг — дЁЕд — ВжВж, ЗииЗ. Исследователь тонко отмечает перекличку II и IV строф через голову осевой III строфы, но упускает отметить перекличку (по охватной рифмовке) III строфы с V, потому что это ослабило бы ее осевое одиночество. Подобные же неотмеченные переклички есть и в “Бесах”, и в “Пире Петра Первого”. “Кавказ”. Из четырех строф две крайние объединены контрастом (царственность поэта на вершине — рабство Терека в ущелье), две средние — движением сверху вниз (тучи, скалы, рощи, стремнины, долины, ущелье). На самом деле движение сверху вниз начинается уже в первой строфе (вершина, рождение потоков по склонам, движение обвалов, устремляющихся вниз). Линейное построение (ровное движение сверху вниз на протяжении трех строф — и смятение в тупике четвертой, концовочной строфы) здесь явно преобладает над симметрическим. Но все это — частности. Книга предоставляет каждому читателю полезный случай сверить свою и чужую наблюдательность и подумать над их обоснованием — логической доказательностью и психологической убедительностью. А кто не занимается специально проблемами композиции, тот будет благодарен этой книге за многочисленные попутные замечания о поэзии и поэтике Пушкина. Например, о том, что последовательность строк “Душе настало пробужденье, И вот опять явилась ты” говорит: “не любовь породила вдохновенье, а пробужденье к творчеству возродило способность любви” (с. 48). Или что “Бесы” во множественном числе — это признак балладной традиции, а “бес” в единственном — русской народной (с. 64). Или что “Кавказ”, где орел царит наравне с поэтом,— это навеянный воспоминанием 1829 г. о Грибоедове отклик на его “Хищников на Чегеме” (“Мы над вами, / Будто быстрые орлы, / Над челом крутой скалы”) (с. 61). Или что последняя, безрифменная строка “Сожженного письма” — “Останься век со мной на горестной груди...” — заставляет ощущать после себя ненаписанную, нематериализованную парную к ней строку и этим уводит мысль “в чисто спиритуальную область” (с. 38). Примеры эти можно умножить. И последнее. “Симметрические композиции у Пушкина” — это как бы приложение к главной литературоведческой книге Е. Г. Эткинда, “Материя стиха”, где тот же подход к единству формы и содержания стиха подробно обоснован и разносторонне продемонстрирован. “Материя стиха” была написана 20 лет назад, пишущему эти строки пришлось тогда быть одним из многих рецензентов ее многострадальной рукописи. Но выйти ей удалось только в Париже, причем двумя изданиями (1978, 1985). Не пора ли ее издать и у нас? [1991] Текст дается по изданию: Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1991, т. 50, № 4, 370-373