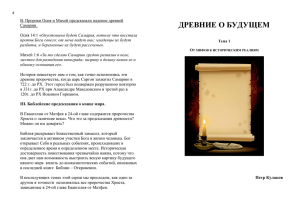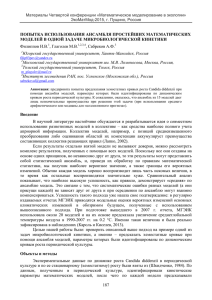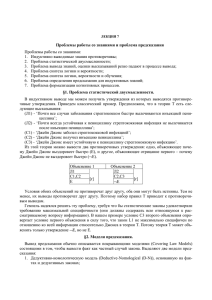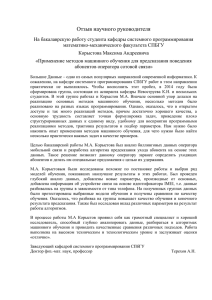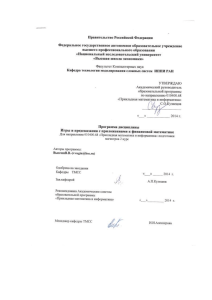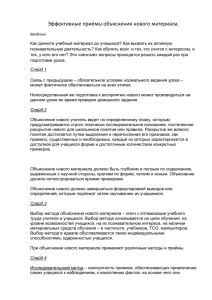Р. Рорти Метод, общественные науки и общественные надежды .
реклама
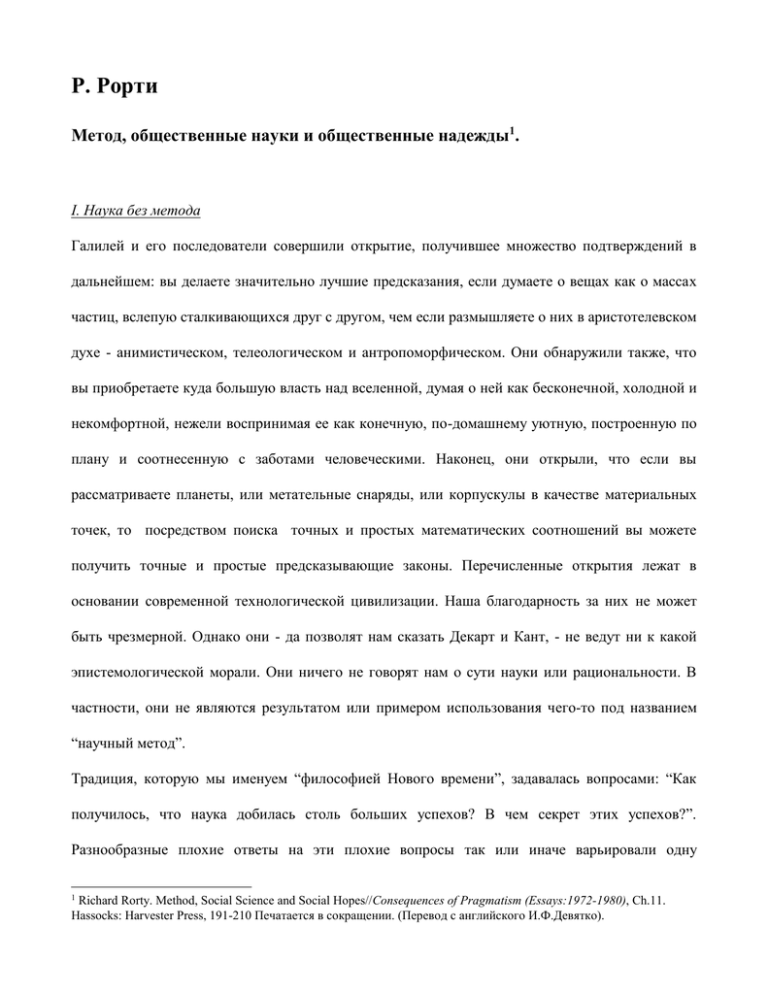
Р. Рорти Метод, общественные науки и общественные надежды1. I. Наука без метода Галилей и его последователи совершили открытие, получившее множество подтверждений в дальнейшем: вы делаете значительно лучшие предсказания, если думаете о вещах как о массах частиц, вслепую сталкивающихся друг с другом, чем если размышляете о них в аристотелевском духе - анимистическом, телеологическом и антропоморфическом. Они обнаружили также, что вы приобретаете куда большую власть над вселенной, думая о ней как бесконечной, холодной и некомфортной, нежели воспринимая ее как конечную, по-домашнему уютную, построенную по плану и соотнесенную с заботами человеческими. Наконец, они открыли, что если вы рассматриваете планеты, или метательные снаряды, или корпускулы в качестве материальных точек, то посредством поиска точных и простых математических соотношений вы можете получить точные и простые предсказывающие законы. Перечисленные открытия лежат в основании современной технологической цивилизации. Наша благодарность за них не может быть чрезмерной. Однако они - да позволят нам сказать Декарт и Кант, - не ведут ни к какой эпистемологической морали. Они ничего не говорят нам о сути науки или рациональности. В частности, они не являются результатом или примером использования чего-то под названием “научный метод”. Традиция, которую мы именуем “философией Нового времени”, задавалась вопросами: “Как получилось, что наука добилась столь больших успехов? В чем секрет этих успехов?”. Разнообразные плохие ответы на эти плохие вопросы так или иначе варьировали одну 1 Richard Rorty. Method, Social Science and Social Hopes//Consequences of Pragmatism (Essays:1972-1980), Ch.11. Hassocks: Harvester Press, 191-210 Печатается в сокращении. (Перевод с английского И.Ф.Девятко). очаровательную, но совершенно несостоятельную метафору, а именно - Новая Наука открыла язык, на котором говорит сама природа. Когда Галилей говорил, что Книга Природы написана на языке математики, он подразумевал, что его новый, редукционистский математический словарь не просто оказался работающим, а оказался работающим, потому что вещи таковы на самом деле. Он подразумевал, что словарь работает из-за того, что подходит ко вселенной, как ключ подходит к замку. С тех самых пор философы долго и безуспешно пытаются придать какой-то смысл этим понятиям - “работающий потому что” и “вещи как они есть на самом деле”. Декарт разъяснил эти понятия в терминах естественной ясности и отчетливости Галилеевых идей - идей, которые по каким-то причинам глупейшим образом упустил из виду Аристотель. Локк, неприятно пораженный неотчетливостью понятия “ясности”, думал, что дело пойдет лучше, если использовать программу редукции сложных идей к простым. Дабы приспособить эту программу к требованиям современной ему науки, он ввел ad hoc различение между теми идеями, которые похожи на свой объект, и идеями, которые непохожи. Это различение носило столь сомнительный характер, что привело - через Беркли и Юма - к вызванному скорее безнадежностью ситуации предложению Канта считать, что ключ работает только потому, что мы, сами того не зная, располагаем замком, сконструированным специально под этот ключ. Рассматривая предложение Канта ретроспективно, мы неизбежно приходим к выводу, что оно выдавало с головой весь план. Ведь кантовский трансцендентальный идеализм потихоньку приоткрывал черный ход для всех тех телеологических, анимистических, аристотелевских понятий, которые интеллектуалы изгоняли из страха выглядеть старомодными. Наследовавшие Канту спекулятивные идеалисты забросили идею обнаружения секретов природы. Взамен они приняли идею создания миров посредством создания новых словарей - идею, получившую отклик в нашем веке в трудах философов - ”диссидентов”, подобных Кассиреру и Гудмену2. Стремясь избежать так называемых “крайностей немецкого идеализма”, множество философов, грубо классифицируемых как “позитивисты”, потратили последнюю сотню лет на попытку изолировать науку от не-науки с помощью понятий “объективности”, “строгости”, “метода” и тому подобных. Они занимались этим, так как считали, что идея объяснения успехов науки в терминах открытия Языка Самой Природы должна быть в каком-то смысле верна - даже если метафора несостоятельна, даже если ни реализм, ни идеализм не могут объяснить, в чем же собственно состоит воображаемое “соответствие” между языком природы и используемым в конкретный момент научным жаргоном. Лишь немногие мыслители высказывали предположение, что наука, возможно, не располагает секретом успеха, что не существует метафизического, эпистемологического или трансцендентального объяснения того, почему словарь Галилея до сих пор столь хорошо работал. Лишь немногие пожелали отказаться от представлений о том, что “разум”, или “рассудок”, имеет собственную природу, открытие которой может дать нам “метод”, и что следование этому методу позволит нам проникнуть за поверхность явлений и увидеть природу “в ее собственных выражениях”3. Значение Куна, на мой взгляд, заключается в том, что, подобно Дьюи, он был в числе этих немногих. Кун и Дьюи предложили нам отказаться от представления о научном путешествии к цели, именуемой “соответствие с реальностью”, и ограничиться только лишь высказываниями о Э. Кассирер (1874-1945) - ведущий представитель Марбургской школы неокантианства, разработавший оригинальную "философию культуры", в которой постулируется существование единого "мира культуры", созидаемого "символическими функциями" ( конститутивными принципами, определяемыми человеческими ценностями и сходными с кантовскими идеями практического разума). Н.Гудмен (р.190б) – представитель аналитической философии, создатель "конструктивного номинализма", в котором на основании внелогических исходных терминов (прежде всего, элементарных чувственных качеств) разрабатывается язык конструктивной системы, позволяющий выразить и факты "картины мира", и научные законы без обращения к общим понятиям ("универсалиям" схоластов) - Прим. пер. 3 Подробнее я обсуждаю это в "Ответе Дрейфусу и Тейлору" (Review of Metaphysics, XXIV (1980), pp.39-46), а также в последующей дискуссии (Р. 47-55). 2 том, что данный словарь работает для данной цели лучше, чем другой словарь. Приняв предложение, мы избавимся от склонности спрашивать: “Какой метод используют ученые?”. Или, точнее говоря, мы придем к заключению, что в пределах того, что Кун называет “нормальной наукой” - т.е. деятельности по решению задач, - они используют те же банальные и очевидные методы, которые мы все применяем в своей повседневной жизнедеятельности. Они сравнивают примеры с критериями, они замазывают контрпримеры, чтобы избежать необходимости придумывать новые модели, они пробуют наудачу разные догадки, сформулированные на существующем в данный момент жаргоне, надеясь наткнуться на чтонибудь, что позволит охватить объяснением те контрпримеры, которые не удалось замазать. Мы больше не будем думать, что есть или может быть найден эпистемологически значимый ответ на вопрос: “Что Галилей делал правильно, а Аристотель неправильно?””, подобно тому, как мы не ждем подобного ответа на вопросы: ”Что Платон делал правильно, а Ксенофонт - нет?” или “Что Мирабо делал правильно, а Луи XVI неправильно?”. Мы скажем просто, что Галилею пришла в голову хорошая идея, а Аристотелю - не столь хорошая, что Галилей использовал терминологию, которая оказалась полезной, тогда как Аристотель - нет. Терминология Галилея была единственным секретом, который у него был. Он не выбирал ее по причине “ясности”, или “естественности”, или “простоты”. Ему просто повезло. <...> Если кто-то принимает, подобно мне, ту точку зрения, что традиционные идеи “абсолютной (“объективной”) концепции реальности” и “научного метода” не обладают ни ясностью, ни полезностью, он неизбежно придет к тому, что два взаимосвязанных вопроса - “Каким должен быть метод социальных наук?” и “Каковы критерии объективной теории морали?” - плохо поставлены. В оставшейся части статьи я хотел бы подробно обосновать, почему я считаю эти вопросы плохими и рекомендую придерживаться того подхода к социальным наукам и морали, который был предложен Джоном Дьюи4 и подчеркивает скорее проблему полезности нарративов и словарей, чем проблему объективности законов и теорий. II.“Свободная-от-оценок” наука об обществе и “герменевтическая” социальная наука Представление о том, что изучение человека и общества является “научным” лишь тогда, когда сохраняет верность галилеевской модели - т.е. использует “ценностно-нейтральные”, сугубо дескриптивные выражения для формулировки предсказаний и обобщений, оставляя их оценку “политиканам”, - недавно породило реакцию протеста. Это привело к возрождению дильтеевской идеи: “научное” понимание людей требует применения не-галилеевских, “герменевтических” методов. С предлагаемой мною точки зрения сама идея “научности” или выбора между “методами” выглядит результатом путаницы. Отсюда вопрос о том, должны ли представители общественных наук стремиться к ценностной нейтральности в духе Галилея, либо же им стоит попробовать что-нибудь более уютное, аристотелевское и “мягкое” - особый “метод гуманитарных наук” - кажется мне вводящим в заблуждение. Одной из причин возникновения спора стало все более ясное осознание того обстоятельства, что какие бы термины не использовались для описания людей, они становятся оценочными терминами. Предложение отделять “оценочные” термины в языке и использовать их отсутствие в качестве критерия “научного” характера какой-либо дисциплины или теории невыполнимо. Попросту не существует способа предотвратить “оценочное” использование любого термина. Если вы спросите кого-нибудь, использует ли он термины “репрессия”, “примитивный” или “рабочий класс” нормативно или дескриптивно, он сможет дать ответ лишь применительно к конкретному высказыванию, сделанному в конкретной ситуации. Но спросите того же человека, использует ли он данные термины только в описательных целях, или же для моральной Речь идет о самой влиятельной философской версии прагматизма - инструментализме Дж.Дьюи (см. также отрывок из книги А.Каплана, помещенный в настоящем издании) - Прим. пер. 4 рефлексии, в ответ вы почти всегда услышите: “и то, и другое”. Более того, и это решающее соображение, если ответ не таков, вы просто имеете дело с термином, который будет не слишком полезен в социальных науках. Предсказания не принесут большой пользы в “практической политике”, если они не сформулированы в тех терминах, в которых может быть сформулирована сама политика. Предположим, мы рисуем образ “свободного-от-оценок” специалиста в области социальных наук, который приближается к линии, разделяющей “факт” и “ценность”, и вручает свои предсказания разработчикам политических решений, живущим по другую сторону границы. Эти предсказания не принесут большой пользы, если не содержат тех выражений, которые разработчики политических решений употребляют в своем кругу. По-видимому, разработчикам политических решений понравились бы богатые, сочные предсказания типа: “Обобществление тяжелой промышленности приведет (или не приведет) к снижению уровня жизни”, или “С распространением всеобщей грамотности на выборные должности все чаще (или все реже) будут избирать честных людей”. Если же они получают предсказания, сформулированные на стерильном жаргоне “количественных” общественных наук (“максимизирует удовлетворенность”, “усиливает конфликт” и т.п.), то они либо игнорируют такие предсказания, либо - что опаснее - начинают использовать этот жаргон, рассуждая на темы морали. Тягу к некой новой, “интерпретативной” науке, на мой взгляд, можно лучше всего понять как реакцию на искушение формулировать социальную политику в терминах настолько сухих, что их вообще трудно рассматривать в качестве “моральных” - терминах, без труда обнаруживающих свою дефинитивную связь с понятиями “боли”, “удовольствия” и “власти”. Расхождения между теми, кто стремится к “объективной”, “ценностно-нейтральной”, “подлинно научной” социальной науке, и теми, кто полагает, что последнюю нужно заменить чем-нибудь более “герменевтическим”, ошибочно описываются как спор о “методе”. Всякий спор о методе предполагает, что существует общая цель, а разногласия касаются лишь способов ее достижения. Однако в нашем случае две стороны спорят не о том, как получить более точные предсказания, или что произойдет, если определенная политика получит практическое воплощение. Ни одна из сторон до сих пор не добилась сколь-нибудь впечатляющих успехов в такого рода попытках предсказывать ход событий, и если кому-нибудь вдруг удастся найти способ это делать, обе стороны с превеликим энтузиазмом позаимствуют новую стратегию. Несколько лучшее, но все еще неточное представление о сути спора можно получить, если рассматривать его как противостояние двух конкурирующих целей социального исследования “объяснения” и “понимания”. В сравнительно недавних публикациях это противопоставление рассматривается в свете другого противопоставления: между определенным научным жаргоном, позволяющим осуществлять обобщения в галилеевском духе (и находить примеры, подтверждающие или опровергающие эти обобщения, следуя сформулированным Гемпелем правилам), и жаргоном другого рода, жертвующим возможностью обобщать ради возможности описывать события и поступки с помощью того же словаря, который используется в их оценке (словаря, который огрублено можно обозначить как “телеологический”). Это противопоставление вполне реально. Но это не тот спор, который можно разрешить. Это различие, с которым приходится жить. Идея, будто понимание и объяснение представляю собой взаимоисключающие способы заниматься социальными науками, столь же неверна, как и представление о том, что микроскопические и макроскопические описания - это взаимоисключающие способы заниматься биологией. Если вы работаете с бактериями или коровами, в огромном множестве случаев вам понадобятся их биохимические описания. Однако для столь же большого числа задач биохимические описания окажутся лишь досадной помехой. Сходным же образом, имея дело с человеческими существами вы сможете чрезвычайно успешно использовать их описания в безоценочных, “нечеловеческих” терминах для множества различных целей, но в других целях - например, для рассмотрения людей как своих сограждан в обществе, - такие описания будут бесполезны. “Объяснение” - это просто такое понимание, к которому мы стремимся в целях предсказания и контроля. Оно отнюдь не противостоит чемуто, называемому “пониманием”, как абстрактное противостоит конкретному, или искусственное - естественному, или “репрессивное” - “освободительному”. Утверждение о том, что нечто может быть лучше “понято” при использовании одного, а не другого словаря - это всегда эллиптический пропуск само собой разумеющегося утверждения о том, что описание в предпочитаемом словаре полезнее для конкретной цели. Если целью является предсказание, мы захотим использовать один словарь. Если речь идет об оценке - мы используем другого рода словарь, либо попытаемся уклониться от его использования. (Так, например, при оценке точности артиллерийского огня прекрасно подойдет словарь баллистики, а при оценке характера человека окажется совершенно неуместен словарь стимулов и реакций.) Подводя итог этим рассуждениям, можно сказать, что существует два различающихся требования к словарю социальных наук: (1) Этот словарь должен содержать такие описания ситуаций, которые дают возможность их предсказания и контроля над ними; (2) Этот словарь должен быть полезен при принятии решения о том, что следует делать. “Свободная-от-оценки” социальная наука предположила, что жидкий “бихевиористский” словарь соответствует первому из требований. Это предположение не слишком-то и оправдалось: последние пятьдесят лет исследований в области социальных наук не привели к существенному увеличению нашей способности делать предсказания. Но даже если бы дело обстояло иначе и мы преуспели в предсказаниях, это не обязательно привело бы к выполнению второго требования. Это не обязательно было бы полезно для ответа на вопрос о том, что следует делать. Диспут между поклонниками ценностной нейтральности и поклонниками герменевтики основан на принятии в качестве само собой разумеющегося предположения о том, что удовлетворить одно из этих требований невозможно, не удовлетворив другое. Друзья герменевтики протестовали против применения бихевиористского языка для “понимания” людей, имея в виду, что он не может ухватить смысл того, что люди делают “на самом деле”. Но это лишь ошибочный способ сказать, что бихевиористский словарь мало подходит для моральных размышлений. И наоборот, друзья “свободы от оценок”, непоколебимо уверенные в том, что как только общественные науки найдут своего Галилея (о котором каким-то образом заранее известно, что он будет бихевиористом), первое требование будет удовлетворено, доказывали, что наш долг заключается в том, чтобы начать делать предсказания в соответствующих сухих терминах, предоставив нашей “этике” возможность стать “объективной” и “научно обоснованной”. Ведь только в этом случае мы сможем извлечь максимальную пользу из всех тех чудесных предсказаний, которыми мы вскоре будем располагать. Обе стороны совершали одну и ту же ошибку, полагая, что существует какая-то внутренняя взаимосвязь между первым и вторым требованиями. Ошибка полагать, что зная каким должно быть честное и уважительное обращение с личностью или с обществом, мы таким образом знаем как предсказывать и контролировать личность или общество. Но также ошибочно полагать, что наша способность предсказывать и контролировать непременно поможет в таком обращении. Утверждения о том, что лишь определенный словарь подходит для изучения людей или человеческого общества, что лишь этот словарь позволяет “понимать” их - это новое воплощение восходящего к семнадцатому веку мифа о Языке Самой Природы. Если, вслед за Дьюи, мы рассматриваем словари как инструменты для работы с вещами, а не репрезентации внутренне присущей вещам природы, нам не придет в голову, что “объяснению” и “пониманию” присуща внутренняя взаимосвязь, или внутренняя противоположность: нет никакой необходимой связи или противоположности между способностью предсказывать или контролировать поведение определенного рода людей и способностью воспринимать их как своих полноправных сограждан. А значит, мы не станем думать, что существуют два “метода”: один - для объяснения поведения какого-то человека, а другой - для понимания его природы. III.Эпистемическая и моральная привилегии Современные попытки превратить социальные науки в скорее “герменевтические”, чем галилеевские, имеют вполне внятный (и соответствующий точке зрения Дьюи) смысл, если они основаны на следующей посылке: и нарративы, и законы, и описания в других терминах, и предсказания служат полезной цели, помогая нам решать насущные проблемы общества. В такой трактовке эти попытки представляют собой плодотворный протест против позиции старомодных, “бихевиористски” ориентированных ученых, которых беспокоит, достаточно ли они “научны”. Но этот протест заходит чрезмерно далеко, когда он дорастает до философских высот и начинает проводить принципиальное различение между человеческим и природным, утверждая что следствием онтологических различий должны стать различия методологические. Таким образом, когда утверждают, к примеру, что “интерпретация начинается с постулирования того, что паутина значений конституирует человеческое существование”5, предполагается, что окаменелости (к примеру) можно конституировать без паутины значений. Но как только релевантный смысл “конституирования” (constitution) начинают отделять от физического смысла (“построение, складывание”) - как в фразе “дом построен из кирпичей”, - утверждение, что “X конституирует Y” сводится к утверждению, что вы не можете знать что-либо об Y, не будучи основательно осведомлены относительно X. Мнение о том, что человеческие существа 5 P.Rabinov and W.S.Sullivan. The Interpretive Turn: Emergence of an Approach//Interpretive Social Science, ed. Rabinov and Sullivan (Berkeley: University of California Press, 1979. P.5 не были бы людьми и остались бы животными, не умей они говорить, содержит в себе изрядную долю истины. Если вы не способны прояснить для себя соотношение между личностью, издаваемыми ею вокальными шумами и другими личностями, вы едва ли сможете многое о них узнать. Но можно столь же обоснованно утверждать, что окаменелости будут не окаменелостями, а простыми кусками камня, если мы не сможем уразуметь их отношения с множеством других окаменелостей. Окаменелости конституируются как окаменелости через паутину отношений с другими окаменелостями, а также через соотнесение с речевыми высказываниями палеонтологов, описывающих эту паутину отношений. Если вы не способны ухватить некоторые из этих отношений, окаменелости останутся, для вас, просто камушками. Для целей исследования любой объект “конституируется” паутиной значений. Сформулируем это иначе: если мы рассматриваем “сообщение”, которое несет в себе окаменелость, как текст, то мы вполне можем сказать, что на ранних стадиях своего развития палеонтология использовала “интерпретативные” методы. Иначе говоря, палеонтологи искали какой-то способ осмыслить происходящее с помощью такого словаря, который описывал бы загадочный объект через соотнесение с другими, более знакомыми объектами, превращая загадку в нечто интеллигибельное. Прежде чем эта научная дисциплина достигла стадии “нормальной науки”, никто не имел ни малейшего понятия о том, из какого рода вещей следует исходить, чтобы предсказать, в каких еще местах могут быть найдены подобные окаменелости. Говоря, что нынешняя палеонтология - это наука, мы имеем в виду примерно следующее: “Ни у кого не осталось ни малейших сомнений относительно того, какого рода вопросы следует задавать и какого рода гипотезы можно выдвигать, столкнувшись с непонятной окаменелостью”. Как мне кажется, действовать “интерпретативно” или “герменевтически” означает не столько следовать какому-то особому методу, сколько просто изыскивать словарь, который мог бы помочь. Когда явился Галилей со своим математизированным словарем, это было успешным завершением длительных изысканий, которые можно назвать “герменевтическими” в том единственном смысле, который я способен усмотреть в последнем термине. То же самое верно и для Дарвина. Я не вижу никаких эпистемологически интересных различий между тем, чем занимались Галилей и Дарвин, и тем, чем заняты библейские экзегеты, литературные критики или историки культуры. Таким образом, я не усматриваю никакой опасности в принятии термина “герменевтическая” для той охоты наудачу, которая должна вести к изобретению новой терминологии и неизбежно характеризует ранние стадии становления любого исследовательского направления. Этот термин не может причинить никакого вреда, но и особой пользы в нем тоже нет. В том, чтобы мыслить о людях либо окаменелостях, следуя “модели текста”, ничуть не больше толку, чем в том, чтобы мыслить о текстах, держа в уме модель человека или модель окаменелости. Это кажется полезным только в том случае, если мы подразумеваем нечто особенное, говоря о текстах - например, что они “интенциональны” или могут быть осмыслены только “холистски”. Но я не думаю - pace6, например, понятие “внутренней интенциональности” у Дж.Сёрла, - что “обладать интенциональностью” значит нечто большее, чем “поддаваться описанию в антропоморфных терминах, как если бы речь шла о носителе языка”7. Соотношение между действиями и движениями, вокальными шумами и утверждениями, с моей точки зрения, таково: первый член каждого противопоставления - это второй, описанный на альтернативном жаргоне (и наоборот). Я также не склонен считать, что объяснения окаменелостей носят менее холистский характер, чем объяснения текстов: в обоих случаях необходимо соотнести объект с С позволения, да позволит (лат.) - Прим. пер. См. дискуссию в The Behavioral and Brain Sciences, 1980 (3), pp.417-457 особенно мою статью "Серл и тайные возможности мозга" (Р. 445-446) и статью Серла "Внутренняя интенциональность" (Р.450-456). 6 7 разного рода другими объектами, чтобы составить согласованное и последовательное повествование, включающее в себя исходный объект. Теперь мне следует, исходя из описанной установки, предложить объяснение тому факту, что некоторые люди действительно думают, что тексты принципиально отличаются от окаменелостей. Я уже высказывал предположение (в полемике с Чарльзом Тейлором 8), что эти люди исходят их ошибочной посылки, будто бы чей-то собственный словарь всегда является наилучшим словарем для понимания того, что этот кто-то делает, что его собственное объяснение происходящего - это именно то, в чем мы нуждаемся. Эта ошибка кажется мне частным случаем неверной идеи, будто бы наука пытается изучить тот словарь, с помощью которого вселенная объясняет себя себе же самой. В обоих случаях мы предполагаем, что экспланандум (т.е. то, что мы пытаемся объяснить) обладает неким эпистемическим равенством, или даже превосходством по отношению к тем, кто дает объяснение. Но это не всегда верно даже по отношению к нашим собратьям-людям, а в случае природы это попросту реликт догалилеевского антропоморфизма. В конце концов, бывают случаи, когда предлагаемые другой личностью или другой культурой объяснения того, что там происходит, носят столь примитивный или столь идиотский характер, что мы от них с полным основанием отмахиваемся. Единственное универсальное правило герменевтики состоит в следующем: прежде чем формулировать наши собственные гипотезы, всегда имеет смысл спросить, что думают о происходящем те, кого мы исследуем. Но это правило - всего лишь попытка сэкономить время, а не поиск какого-то “истинного смысла” поведения. Если обнаружится, что “экспланандум” располагает хорошим словарем для объяснения своего поведения, нам не понадобится изыскивать собственный. С этой точки зрения, единственное различие между окаменелостью и надписью заключается в том, что мы легко представляем себе возможность 8 См. сноску 3. наткнуться на другую надпись, дающую толкование первой. В противоположность этому, мы будем описывать отношение между первой окаменелостью и окаменелостью, найденной позднее - отношение, возможно, проливающее даже больший свет на значение обеих, - в неинтенциональном словаре. В дополнение к ошибочному представлению о том, что собственный словарь субъекта всегда релевантен для описания его поведения, философы, абсолютизирующие различие между человеческим и природным, подобно позитивистам находятся под чарами представления о том, что якобы нередуцируемость одного словаря к другому имеет некий онтологический смысл. И все же обнаружение того обстоятельства, что мы можем, или мы не можем, редуцировать язык, изобилующий терминами типа “относится к” или “истинно для”, “указывает на” и т.п., либо другой язык, содержащий термины “убежден” или “намеревается”, к языку, являющемуся экстенсиональным9 и “эмпирицистским”, не скажет нам абсолютно ничего относительно того, как нам предсказывать или менять поведение носителей данного языка (или интенциональных субъектов). Защитники Дильтея совершают ошибку, представляющую простую инверсию ошибки, совершенной, например, Куайном, считающим, что невозможны никакие утверждения о том, как обстоят дела “на самом деле” применительно к интенциональным состояниям, так как приписывание субъекту различных состояний такого рода ничего не меняет в положении элементарных физических частиц, из которых субъект состоит. Куайн полагает, что если предложение не может быть перифразировано в языке, который понравился бы Локку и Бойлю, оно не относится ни к чему реально существующему. Последователи Дильтея, Экстенсиональные языки – языки, все контексты которых экстенсиональны ,т.е. допускают заменяемость равных ("синонимичных") высказываний. Если правила тождества и замены полностью определены внутри языка, являются его внутренней характеристикой (грубо говоря, не зависят от того, кто и при каких обстоятельствах пользуется языком), то никаких ограничений на замену в любых контекстах употребления возникнуть не может. Противоположное свойство формальных и естественных языков - интенсиональность – подразумевает, что правила замены зависят от модели референции, т.е., упрощая, от знаний, убеждений и 9 преувеличивающие различия между Geistes- и Naturwissenschaften, думают, что невозможность перифразировать содержит в себе глубокий намек на некий особенный метафизический или эпистемический статус, или указание на необходимость особой методологической стратегии. Но, конечно, все, о чем говорит такая нередуцируемость, это то, что определенный словарь (локковский и бойлевский) не очень хорошо подходит для построения определенного типа объяснений , относящихся к определенным “экспланандумам” (например, народам или культурам). Это демонстрирует лишь то обстоятельство, что, пользуясь предложенной Хилари Путнам аналогией, ежели вы хотите объяснить, почему квадратная затычка не подходит к круглому отверстию, вам лучше не пытаться описать затычку в терминах взаимного расположения составляющих ее элементарных частиц. Мне кажется, что подлинная причина того, почему невозможность редукции приобретает всю свою иллюзорную значимость, заключается в том, что эта невозможность представляет собой действительно важное условие для проведения морального различения между бесчувственными тварями и нами. Так, в поисках релевантных этому различению поведенческих особенностей, мы традиционно выделяли нашу способность знать. В предшествующие века мы совершали ошибку, гипостазируя когнитивное поведение как свидетельство обладания “разумом”, или “сознанием”, или “идеями” и настаивая далее на нередуцируемости внутренних репрезентаций к их физиологическим коррелятам. Когда это превратилось в vieux jeu10, мы перешли от ментальных репрезентаций к репрезентациям лингвистическим. Мы перешли от Разума к Языку как обозначению той квази-субстанции или квази-способности, которая делает нас морально отличными от других живых существ. И вслед за этим современные нам защитники т.п. свойств субъекта, использующего язык. Понятие "интенсиональности", для целей нашего изложения, можно считать почти совпадающим с неоднократно обсуждавшимся нами ранее понятием "интенциональности" Прим.пер.. человеческого достоинства стали упорно доказывать нередуцируемость семантического вместо нередуцируемости психического. Но все выдвинутые Райлом - Витгенштейном11 аргументы против “призрака в машине” равно хорошо работают против “призрака между строк” представления, будто сам факт того, что какая-то последовательность знаков была написана человеческой рукой, сообщает надписи нечто особенное - текстуальность,- чего никогда не бывает у окаменелостей. До тех пор, пока мы будем размышлять о знании как скорее репрезентации действительности, чем средстве совладать с последней, сознание и язык будут по-прежнему казаться “божественными”. “Материализм” или “бихевиоризм”, как и вся галилеевская традиция, будут по-прежнему восприниматься как нечто морально сомнительное. Мы будем вновь и вновь натыкаться на эту идею “репрезентации” или “соответствия действительности”, пока мы исходим из убеждения, что существует некая аналогия между называнием вещей их “правильными”, т.е. привычными, именами и открытием “правильного”, т.е. свойственного Самой Природе, способа описывать их. Но если мы сможем отказаться от этой метафоры и соответствующего репрезентационного словаря, язык сознания утратит свой загадочный характер, а “материализм” и “бихевиоризм” перестанут казаться такими уж опасными. Если мои рассуждения верны, нам следует думать о нашем особом моральном статусе просто как таковом, не пытаясь “обосновать” его через обладание разумом, языком, культурой, чувствами, интенциональностью, текстуальностью или чем-то там еще. Все эти священные понятия, выраженные в том или ином псевдо-объяснительном жаргоне, лишь передают наше осознание того факта, что мы являемся членами какого-то морального сообщества. Это осознание не может быть “обосновано” далее, ибо оно сводится к простому принятию определенной точки Здесь – старомодная игра, нечто отжившее ~фр.). – Прим. пер. 10 зрения на других людей как наших собратьев. Вопрос об “объективности” этой точки зрения лишен всякого смысла. Можно выразить все это более конкретно. Я сказал, что - pace Тейлор - ошибкой было считать данное кем-либо объяснение собственного поведения (или объяснение культуры, к которой он принадлежит) эпистемически привилегированным. Давший объяснение мог иметь хорошее объяснение того, что он делал, либо не иметь его. Но нет никакой ошибки в том, чтобы думать о данном субъектом объяснении собственного поведения как о морально привилегированном. Наш долг заключается в том, чтобы выслушать это объяснение, но не потому, что изучаемый нами субъект имеет привилегированный доступ к собственным мотивам, а потому, что он человек, подобный нам. Утверждение Тейлора о том, что нам нужны внутренние объяснения людей, культур или текстов, принимает вежливость за методологическую стратегию. Но вежливость - это не метод, а просто добродетель. Причина того, что мы предлагаем слабоумному психопату выступить в суде прежде, чем ему вынесут приговор, заключается не в том, что мы ожидаем получить от него объяснение его поступков, превосходящее те объяснения, которые содержатся в заключении психиатрической экспертизы. Мы поступаем указанным образом из-за того, что он, в конечном счете, один из нас. Прося его объяснить случившееся своими словами, мы надеемся уменьшить наши шансы обойтись с ним несправедливо. Общество также ожидает от представителей социальных наук, что они будут выступать в качестве переводчиков в диалоге с теми, с кем не очень-то понятно, как говорить. Таковы же общественные надежды по отношению к поэтам, драматургам и романистам. Гилберт Райл (1900-1976) - английский философ, позиция которого близка лингвистическому, бихевиоризму Витгенштейна. Критиковал картезианскую трактовку сознания как интракорпоральной субстанции, подчиняющейся законам механики ("привидение в машине"). - Прим. пер. 11 В предыдущем разделе этой статьи я доказывал, что мнение о существовании принципиального различия между объяснением и пониманием, или между двумя методами, применимыми, соответственно, в познании природы и в изучении человека, совершенно ошибочно. Точно так же в этом разделе я обосновывал ошибочность представления о том, что нам a priori известно, что природа и человек - это совершенно различные объекты исследования. Означенное представление смешивает онтологию с моралью. Существует множество полезных словарей, игнорирующих различения человеческого/нечеловеческого и личности/вещи. Существует также как минимум один словарь - словарь морали, - для которого эти различения носят фундаментальный характер (возможно, таких словарей намного больше). Описания людей в моральном словаре ничуть не более “реальны”, чем их описания в словарях первого рода. Описания объектов в одном словаре не могут быть “объективнее”, чем их описания в любом другом словаре. Словари бывают полезными и бесполезными, хорошими и плохими, наводящими на плодотворную идею или уводящими в сторону, чувствительными или слишком грубыми и т.п. Но они никогда не бывают более или менее “научными”, либо более или менее “объективными”.