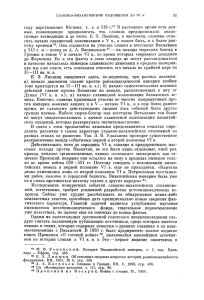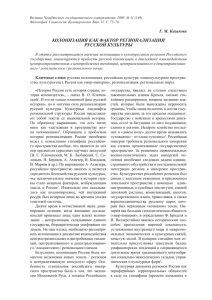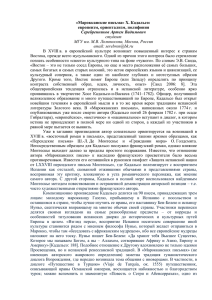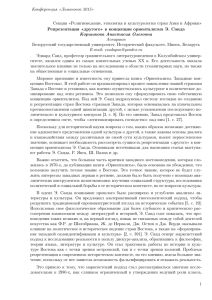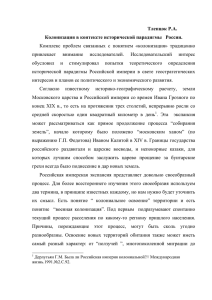Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России
реклама
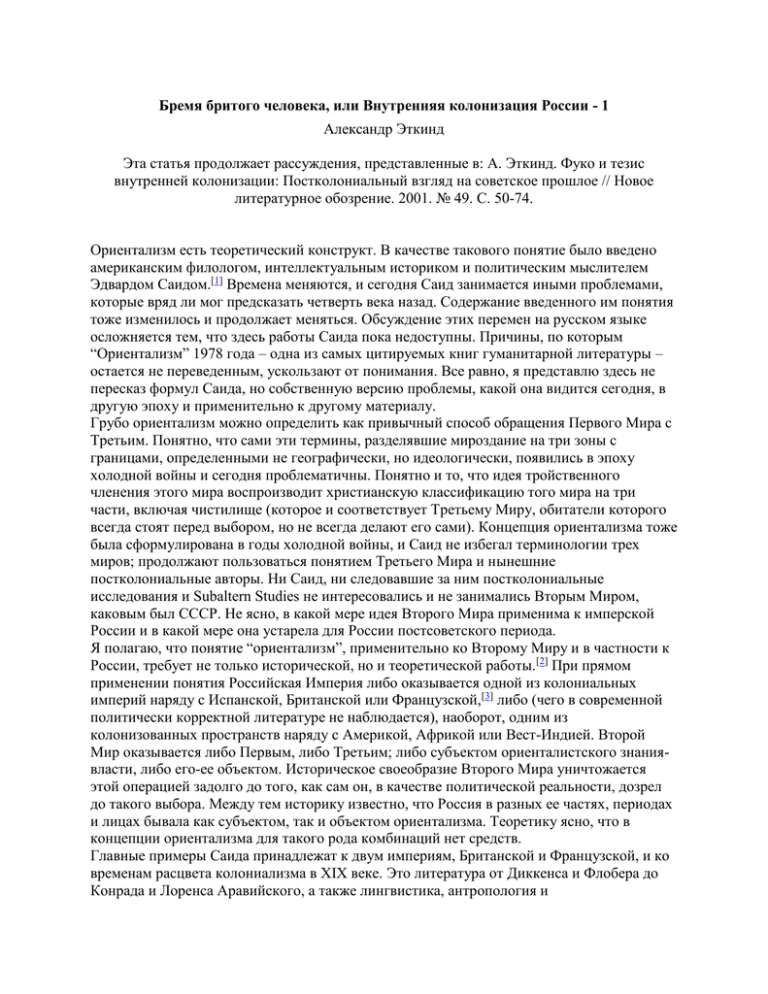
Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России - 1 Александр Эткинд Эта статья продолжает рассуждения, представленные в: А. Эткинд. Фуко и тезис внутренней колонизации: Постколониальный взгляд на советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 50-74. Ориентализм есть теоретический конструкт. В качестве такового понятие было введено американским филологом, интеллектуальным историком и политическим мыслителем Эдвардом Саидом.[1] Времена меняются, и сегодня Саид занимается иными проблемами, которые вряд ли мог предсказать четверть века назад. Содержание введенного им понятия тоже изменилось и продолжает меняться. Обсуждение этих перемен на русском языке осложняется тем, что здесь работы Саида пока недоступны. Причины, по которым “Ориентализм” 1978 года – одна из самых цитируемых книг гуманитарной литературы – остается не переведенным, ускользают от понимания. Все равно, я представлю здесь не пересказ формул Саида, но собственную версию проблемы, какой она видится сегодня, в другую эпоху и применительно к другому материалу. Грубо ориентализм можно определить как привычный способ обращения Первого Мира с Третьим. Понятно, что сами эти термины, разделявшие мироздание на три зоны с границами, определенными не географически, но идеологически, появились в эпоху холодной войны и сегодня проблематичны. Понятно и то, что идея тройственного членения этого мира воспроизводит христианскую классификацию того мира на три части, включая чистилище (которое и соответствует Третьему Миру, обитатели которого всегда стоят перед выбором, но не всегда делают его сами). Концепция ориентализма тоже была сформулирована в годы холодной войны, и Саид не избегал терминологии трех миров; продолжают пользоваться понятием Третьего Мира и нынешние постколониальные авторы. Ни Саид, ни следовавшие за ним постколониальные исследования и Subaltern Studies не интересовались и не занимались Вторым Миром, каковым был СССР. Не ясно, в какой мере идея Второго Мира применима к имперской России и в какой мере она устарела для России постсоветского периода. Я полагаю, что понятие “ориентализм”, применительно ко Второму Миру и в частности к России, требует не только исторической, но и теоретической работы.[2] При прямом применении понятия Российская Империя либо оказывается одной из колониальных империй наряду с Испанской, Британской или Французской,[3] либо (чего в современной политически корректной литературе не наблюдается), наоборот, одним из колонизованных пространств наряду с Америкой, Африкой или Вест-Индией. Второй Мир оказывается либо Первым, либо Третьим; либо субъектом ориенталистского знаниявласти, либо его-ее объектом. Историческое своеобразие Второго Мира уничтожается этой операцией задолго до того, как сам он, в качестве политической реальности, дозрел до такого выбора. Между тем историку известно, что Россия в разных ее частях, периодах и лицах бывала как субъектом, так и объектом ориентализма. Теоретику ясно, что в концепции ориентализма для такого рода комбинаций нет средств. Главные примеры Саида принадлежат к двум империям, Британской и Французской, и ко временам расцвета колониализма в XIX веке. Это литература от Диккенса и Флобера до Конрада и Лоренса Аравийского, а также лингвистика, антропология и коллекционирование от Шампольона до Малиновского. Примеры неизменно показывают, что колониальные мотивы являются доминирующими темами эпохи; что колониальные захваты сопровождались бурным интересом, литературным и научным, к захваченным колониям и их обитателям; и что содержанием такого процесса являлось формирование особого рода “знания” о колониальных народах. Ориентальное “знание” в достаточной мере необычно. 1. Ориентальное “знание” является общим содержанием не только разных жанров литературы (скажем, стихов Киплинга и его романов), но гораздо более широкой сферы, в которую входят науки, литература и политика. Вслед за Фуко Саид порывает со старой филологической традицией, которая считала собственным предметом скорее форму и жанр, нежели любое “содержание”, а в особенности – историко-политическое. Для новой традиции общность исторического содержания интереснее, чем очевидные и, конечно же, грандиозные различия форм и жанров: различия между стихами Киплинга и политикой Бальфура; между беллетристикой Конрада и антропологией Малиновского; между антропологией Малиновского и его работой в колониальной администрации. 2. Ориентальное “знание” одновременно является “властью” в том простом и понятном смысле, что оно, знание, направляет колониальную власть и ею же порождается. Такова природа всякого дискурса; Саид применяет эту общую идею Фуко к колониальному материалу. Ориентальное “знание” не есть ни причина колониальной власти, ни ее продукт, но скорее само ее содержание. Имперская политика есть, писал Киплинг в “Киме”, Большая Игра: она так же самоцельна, как деньги ради денег в “Протестантской этике” Вебера. Колониальная политика подобна ученой экспедиции. Географ путешествует для того, чтобы создать карту, которой тут же и пользуется. Создание карты одновременно является присвоением территории. Та же логика верна и для колониального антрополога, который вслед за миссионерами и администраторами описывает особенные местные нравы, и для имперского поэта, когда он рассказывает о загадочном Востоке, которому не сойтись с Западом. 3. Ориентальное “знание” формирует общее представление западного человека, его автора и потребителя, о колониальных подданных как одинаковых носителях определенных свойств, а не уникальных индивидуальностях. Это постоянная нота критических разборов Саида. Восточные люди такие же разные, как западные люди, и так же не похожи друг на друга, как не похожи на западных людей: так же, как не похожи друг на друга западные люди. Ориентализм как “знание” обобщает восточных людей в единый образ, приписывая им определенные черты в интересах колониальной власти. Эти черты могут формулироваться в исторических (“варварство”, “примитивность”, “отсталость”), психологических (“азиатская хитрость”, “жестокость”, “нелюбовь к свободе”), политических (“восточный деспотизм”, “неспособность к самоуправлению”), гендерных (“женственность”, “покорность”) и других терминах. В общем, они являются негативными, формулируясь как отсутствие позитивных черт, которыми обладает западный человек. Соответственно, эти термины отсутствия направляют политическую агрессию Запада, оправдывают экономическую эксплуатацию им Востока и обеспечивают культурные, образовательные и миссионерские предприятия, направленные на восполнение отсутствия. Важнее всего, однако, сама природа стереотипизирующего знания: люди разные, а власть хочет быть единственной, поэтому колониальный дискурс представляет людей одинаковыми. Из этих рассуждений не видно, почему все колониальные ситуации являются одинаковыми – в самом деле, все они разные, почти как люди – и, соответственно, почему они должны порождать один гомогенный корпус знания, который назван “ориентализмом”. Каждая колониальная ситуация порождает свою систему ориентального “знания”, которая обобщает людей и потому, доказывает Саид, является заблуждением, типа оптической иллюзии. Но и ориентализмы могут быть разными, а Саид интересуется только их общностью, структурной и содержательной. В этом смысле “ориентализм” есть двойной стереотип. Ориентальное “знание” вырабатывается ad hoc в каждой новой колониальной ситуации. Англичане вырабатывают свои стереотипы для индусов и свои для арабов; у французов свои стереотипы и т.д. Более того, у каждого западного автора свой Восток и, соответственно, свой ориентализм;[4] но между ними есть сходство, которое становится предметом обобщения. В этом смысле, обобщающем через исторические ситуации, “ориентализм” является продуктом стереотипизирующей работы уже не колониальных субъектов, но постколониальных авторов. Эта особенность глобального обобщения, которое предпринято самой конструкцией ориентализма, делает ее негибкой, неизменчивой и в этом смысле внеисторичной. Сам ориентализм подлежит типологическому, историческому и, в конечном счете, индивидуализирующему анализу.[5] Нет ничего априорно неверного в том, чтобы выяснять национальные и исторические особенности разных ориентализмов, к примеру, французского в отличие от британского или российского в отличие от обоих. Далее, вопреки Киплингу (и Саиду), Восток и Запад не являются дискретными сущностями, но континуальным пространством. Иными словами, нет надежды на то, что определенная фигура или ситуация всегда могут быть отнесены к одному и только одному из этих двух классов. Преувеличивая дистанцию между Востоком и Западом, классический ориентализм Саида является процессом культурной диссимиляции, выстраивания различий между сходными сущностями. Такой процесс не всегда идет в определенном географическом направлении. Россия воспринималась Европой как “Запад” в турецких войнах и как “Восток” в Крымской. В войне за независимость Америка была колониальным “Востоком”, в войне за Техас Америка была “Западом”. Примеры показывают, что Запад и Восток являются не географическими сущностями, а культурными конструктами, в которых выражается меняющаяся конфигурация исторических сил. Серая зона между ними, размах промежуточных типов и стадий наверняка велики. Ориентализм внутри этой серой зоны направлен внутрь её самой и, таким образом, отклоняется от прямолийненых отношений, описанных Саидом. Саморефенциальность русского ориентализма станет основным предметом дальнейшего обсуждения как индивидуальная его особенность, отличающая его от других ориенталистских систем – английской, французской и пр. Ориентализм описан Саидом как система знания, характерная для колониальной эпохи, момента активной колонизации Востока. Но деколонизация и, далее, постколониальная эпоха развивает иную систему знания, которая во многих отношениях выворачивает ориентализм наизнанку, причем он не перестает быть ориентализмом. В “Чуме” Камю или в “Логике практики” Бурдьё колониальный Восток показан другим, чем в “Путешествии” Флобера или в “Философии истории” Гегеля. Но процесс переоценки ориентальных ценностей развивается с самого начала колониальной эпохи и в самых ее центрах. Восхищение перед обитателями колониальных островов, перед американскими индейцами, фантастическими туземцами, мудрыми персами начинается с Руссо и Монтескье, если не с первых испанских и иезуитских рассказов о только что открытой Америке. На деле нечто подобное – восхищение простым, безличным и примитивным – можно найти уже у Рабле (чем в полной мере воспользовался Бахтин в своем популистском чтении ренессансного карнавала) и в немецком плутовском романе (из которого Вальтер Беньямин в ныне знаменитом очерке о “Рассказчике историй” уверенно и, на мой взгляд, ошибочно произвел Лескова). Важно, что во всех этих случаях структурные оппозиции, выработанные для понимания Другого, работают иначе, но не снимаются: Другой остается Другим, плохим или хорошим, а это и есть ориентализм. Хотя ориентализм всегда воплощается в оценочных суждениях, эти суждения не всегда являются негативными. Эти суждения могут быть негативными или позитивными: дело не в знаке оценки, а в значениях чуждости, стабильности и непреодолимости различий. Это принципиально важный, но трудный момент. Он труден для восприятия потому, что постколониальная критика, в не лучших своих примерах, сводит многоразличный процесс колониального дискурса к одному лишь оценочному моменту, к негативной характеристике Другого. Между тем позитивная, романтическая валоризация Другого – восторг, умиление и пр. – столь же тесно связаны с историческими процессами колонизации-деколонизации, как презрение или ненависть. Для ориентализма, как я его понимаю, характерны любые средства маркирования различий, которое препятствует перемешиванию, гибридизации, ассимиляции Другого. Эти суждения распределяются в растянутом оценочном пространстве, полюса которого обозначены фигурами Жалкого Туземца с одной стороны и Доблестного Дикаря с другой стороны. Такого рода оценка Другого всегда связана с оценкой Себя и, таким образом, способствует важнейшим функциям критики собственной культуры, анализа и переделки самого себя. Примеров тому множество, и все они так же различны между собой, как различны недовольные собой и своей культурой авторы, – Руссо и Токвиль, к примеру, или Радищев и Чаадаев, или Кюстин и Гакстгаузен. В отличие от классического ориентализма, которым в основном занимался Саид, обратный, или позитивный, или романтический ориентализм атрибутирует людям низших, покоренных культур высшие (а не низшие) моральные ценности.[6] От Руссо знакомая нота восторга перед Другим перешла ко множеству доблестных дикарей французского, американского, немецкого и русского производства. Эти дикари бывали разного цвета, красного, черного и белого, но им приписывались сходные черты: смелость и мужество (в противоположность испорченным, женственным людям западной цивилизации), альтруизм, бескорыстие и жертвенность (в отличие от стремления к выгоде и прочих черт капитализма), близость к природе и мистический контакт с иными сферами (в противоположность рационализму белого человека).[7] Начиная с самого Руссо, эта линия закономерным образом раздваивается. С одной стороны, речь идет о гуронах и прочих далеких редкостях; с другой стороны, сходное по своей природе преклонение обращается к местным “туземцам” – швейцарским, французским и прочим крестьянам. В применении к русской литературной традиции это, с одной стороны – Дерсу Узала, а с другой стороны – Платон Каратаев. На этом явлении мы тоже остановимся, оно характерно для России. Регулирование культурной дистанции – задача колониальной власти. Колониальные ситуации всегда основаны на культурной дистанции между метрополией и колонией. Нет культурной дистанции – нет колониальной ситуации. Но приписывание культурной дистанции основано на разном материале: географическом, расовом, этническом, религиозном, классовом. В любом случае культурная дистанция конструируется усилиями властной стороны. В этом отношении приписывание культурной дистанции мало чем отличается от конструирования расы, гендера или сословия. Такие признаки, как цвет кожи, правовой статус или лингвистические отличия, перевариваются культурной машиной, которая преувеличивает одни различия, преуменьшает другие и комбинирует их все вместе. Так создается образ Другого, который может либо больше, либо меньше отличаться от образа Себя. Работа с культурной дистанцией между властью и подданными – ее преувеличение и демонстрация, минимизация и отрицание, “изучение” и конструирование – является ключевым элементом всякой колониальной политики. Эта задача требует особого комплекса наук и искусств, предназначенного для освоения колониальных владений: литературных травелогов, религиозного миссионерства, культурной антропологии, музейных коллекций. Ориентализм есть конструирование культурной дистанции, которая легитимирует политическое господство. Другие важнейшие явления, в частности экономическая эксплуатация, переформулируется на языке культурных стереотипов, в нем получая свое оправдание. Речь неизменно идет о культуре, поэтому в центре событий как в метрополии, так и в колониях оказываются интеллектуалы. Их работа состоит в манипуляциях культурной дистанцией. Для этого учреждаются кунсткамеры, создается историография, проводятся полевые исследования, пишутся романы. В большинстве случаев культурные различия между метрополией и колонией опирались на расовые, этнические и лингвистические признаки. Колонизуя Индию или Конго, британцы или бельгийцы с легкостью дистанцировались от тех, кого порабощали и эксплуатировали. “Получерти, полудети”, по выражению Киплинга, подлежали покорению и просвещению: задача противоречивая в своих условиях, “бремя белого человека”, по его же слову.[8] Расовые различия между двумя участниками этого процесса, субъектами и объектами колонизации, гарантировали, что даже полный его успех не приведет к нежелательной путанице. Но культурная дистанция между метрополией и колонией не всегда совпадала с этнической дистанцией между ними. Классический случай, когда метрополия и восставшая против нее колония принадлежали одному и тому же этническому миру, дает американская война за независимость.[9] Англосаксы колонизовали самих себя и восстали тоже против самих себя: революция совпала с деколонизацией. При этом все говорили на одном языке, и почти все имели один цвет кожи. Но разные стороны конфликта по-разному оценивали культурную дистанцию между собой: англичане ее преуменьшали, американцы преувеличивали. Деколонизация Алжира или Кавказские войны дают пример более сложной динамики. Метрополия считала туземцев вполне ассимилированными, но те были иного мнения, террором утверждая свои отличия от Империи. Истину в таких случаях устанавливает война. Культурная дистанция сдвигается в сторону того, кто оказался сильнее. В случаях успешной деколонизации побеждает диссимилирующий национализм угнетененных, которые доказывают силой, что их культура иная, чем культура метрополии, что бы та об этом ни думала. Подавление сепаратистских движений означает победу ассимилирующей политики Империи, которая преуменьшает культурную дистанцию разными средствами, от образовательных программ до этнических чисток. Американские “поселения”, победившие в Войне за независимость, доказали этим, что были правы: они действительно отличаются от англичан. Проиграв свою войну, Шамиль был вынужден жить жизнью русского дворянина. В аграрных обществах культурная дистанция между верхами и низами обеспечивала стабильность, проясняя фундаментальные классификации, на которых была построена. В таких обществах главные различия строятся между культурами правителей и народа. Эти различия маркируются всеми доступными культуре способами, как лингвистические, этнические, религиозные, телесные, даже сексуальные. Для таких обществ вертикальные различия важнее, чем горизонтальные различия между соседними обществами. Согласно Эрнесту Геллнеру, лишь на следующем этапе, совпадающем с ранней индустриализацией, начинается перемешивание различий между классами и сословиями в гомогенной культуре и, одновременно, дистанцирование разных культур друг от друга.[10] Индустриализация рождает национализм как “бракосочетание между государством и культурой”, результат их взаимотяготения и приведения в соответствие. Национализация аграрной культуры, многократно разделенной на классы, провинции, общины, диалекты, сословия, секты, всегда есть самоколонизация: народ превращается в нацию, крестьяне во французов.[11] Процесс идет из столиц к границам, останавливаясь лишь там, где он сталкивается со встречным процессом равной силы. Особенностью России была ее географическая протяженность и недонаселенность, затруднявшая передвижение людей и символов, а также особая конфигурация культурных признаков, подлежащих перемешиванию. Диалектное разнообразие, игравшее ключевую роль для Франции, и соответствующая озабоченность элиты “правильным” языком, были менее характерны для России. Культурная дистанция между высшими и низшими классами оставалась первостепенным фактором, но выражалась другими кодами. Унаследованная от аграрного общества, к XIX веку эта дистанция выражалась множеством контрастов вплоть до юридического (сословное право – например, телесные наказания для низов, тюремная система для верхов), языкового (иноязычие верхов), религиозного (раскольничество низов) и телесного (борода, кафтан, ряса как маркеры сословных различий). Традиция аграрного общества – Токвиль обозначал ее как “Старый порядок” – оказывала подобающее сопротивление культурному перемешиванию. Объем различий оставался таким, что русские современники Токвиля с ужасом осознавали, что воспринимают собственный народ как иную человеческую расу. Чувствительным интеллектуалом 1830-х годов даже загородная поездка переживалась как путешествие на другой континент. Как писал Грибоедов: Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство.., а народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, [...] он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами.[12] В условиях ранней индустриализации, урбанизации и военной революции культурная дистанция между сословиями превратилась в помеху, препятствовавшую формированию нации. От Екатерины II до Николая II сама Империя играла роль “котла”, подвергая слишком большие различия между своими подданными дисциплинированию во встречных направлениях. Низшие классы подлежали просвещению, высшие классы подлежали опрощению. Просвещение понималось как задача государства, а опрощение – задача общества. Лишь взятые вместе, два этих ассимилятивных процесса вели к формированию нации. Как мы знаем, ценой этой встречи стало крушение империи. Но об этом знаем только мы, потомки. Главные пути российской колонизации были направлены не вовне, но внутрь метрополии: не в Турцию, не Польшу и даже не в Сибирь, но в тульские, поморские, оренбургские деревни. Тут государство раздавало латифундии и подавляло восстания. Здесь открывали общину и записывали фольклор. Здесь изучали старинные обычаи и странные религии. Отсюда в столичные коллекции привозили уродов и раритеты. Сюда направлялись местные паломники в страну Востока. Миссионерство, этнография и экзотические путешествия, характерные феномены колониализма, в России были обращены внутрь собственного народа. В отличие от классических империй с заморскими колониями в разных концах света, колонизация России имела центростремительный характер. Известия о русских шаманах, былинах, мощах, общинах, сектах и, наконец, народниках не уступали сенсациям из экзотических заморских колоний. В российских столицах эти известия воспринимались так же, как в европейских, с одной лишь разницей: этот экзотический народ был своим, он говорил на нашем языке и был источником нашего благополучия. Россия колонизовала саму себя, осваивала собственный народ. То была внутренняя колонизация, самоколонизация, вторичная колонизация собственной территории.[13] Степень культурных различий внутри метрополии, усилия по самоколонизации собственной сердцевины отвлекали усилия Империи от колонизации Третьего мира. Вольтер подсказывал Екатерине Великой колонизовать европейскую Турцию, но царица предпочитала учредить там новое самоуправляемое государство с собственным монархом.[14] Павел присоединял острова в Средиземноморье и собирался отправить казаков в Индию, но не имел поддержки соотечественников ни при жизни, ни после смерти. Не отказываясь от приобретений по краям своей державы, петербургские правители проявляли робость в отношении более далеких завоеваний. В 1808 Александр I отказался от предложения Наполеона осуществить совместный поход в Индию. В 1815 Александр отказался от использования своих побед в Европе для овладения проливами. Завоеваниям был предпочтен Священный Союз, институт пророческий и антиколониальный, отличающийся от нынешнего Европейского Союза разве что участием России. В 1821 православные греки наконец восстали против Османской империи. Общество желало вмешательства, но Александр отказался послать экспедиционный корпус в Стамбул. Неколониальный или, во всяком случае, не вполне колониальный характер имели кампании по покорению Кавказа, который после присоединения Грузии оказался внутри имперской территории.[15] Потомки Екатерины всячески ограничивали русское проникновение в Америку, сулившее множество проблем и выгод, пока не отделались от них, продав Аляску и калифорнийские владения в 1867. Иногда колониальные завоевания других держав вызывали попытки подражания снизу: в 1815 доктор Георг Шеффер пытался колонизовать для России Гавайи, в 1889 казак Николай Ашинов захватил анклав в Абиссинии. Не поддержанные из Петербурга, эти попытки были легко опрокинуты конкурентами. В общем, династия сопротивлялась всяким попыткам заморской эспансии, считая их непосильными, невыгодными или безнравственными: отношение удивительное на фоне того колониализма во все стороны, который как раз в эти десятилетия был характерен для всех союзников и противников. Даже Австро-Венгрия была активнее в трансконтинентальной экспансии. С другой стороны, эта особенность русской традиции может объяснить относительное спокойствие, с которым было воспринято расставание с прилежащими владениями в 1918 и 1991. Сегодня особенно видно, что после Петра попытки превратить военное преимущество в территориальные приобретения имели лишь временный успех. Екатерининские колонии в юго-восточной Европе и позднейшие завоевания в Центральной Азии подверглись деколонизации. Кавказская война продолжается, хотя отчасти потеряла свое “стратегическое” значение (николаевское оправдание войны территориальным единством с Грузией устарело, и теперь Грузия в этом аргументе заменена Дагестаном). Недавний отказ от военных баз на Кубе и во Вьетнаме подтверждает решения, когда-то принятые в отношении Гавайев и Аляски. В отличие от имперских и советских притязаний на восток Европы и на север Америки, на выходы к Средиземному морю и к Индийскому океану, постсоветская геополитика следует легитимистским идеям постнаполеоновской Европы. Эпохи разделены почти двумя столетиями, но между ними есть типологическое сходство: одна наследовала ближайшим итогам французской революции, другая наследует ближайшим итогам русской революции. Постреволюционные эпохи хорошо помнят “ужас”, который забывается следующими поколениями. В культурном, социальном и экономическом измерениях империя развивалась снаружи вовнутрь. Центры располагались по географической периферии, оттуда цивилизация распространялась в центр: словесная диалектика, которая соответствовала реальной политике.[16] Внешняя экспансия лучше удается островным крепостям, таким как Англия, а внутренняя интеграция остается делом континентальных держав, таких как Россия. Им удаются оборонительные войны и не удаются наступательные. Внешняя угроза сплачивает империю; опасность внутренних восстаний и расколов подрывает дальние планы. Так казацкое восстание в тылу остановило движение Екатерины на юг, а дворянское недовольство подорвало общеевропейский проект Священного Союза. Шли века, и столичная революция провозгласила самоопределение наций, столичная перестройка освободила Восточную Европу, столичный путч разрушил Советский Союз. Главным фронтом каждый раз оказывался тыл. Так в пушкинской “Сказке о золотом петушке” птица, выполняющая функции внешней разведки, кричит, “обратившись на восток”, откуда исходит угроза царству. На деле,угроза исходит изнутри, от скопца, члена народной секты. Между царем и скопцом выстроены все различия, какие только могут существовать между людьми; при этом оба они – русские. Царь гибнет не в схватке со внешним врагом, но потому, что отдается соблазну собственного народа. Европейские империи эксплуатировали завоеванные территории, извлекая оттуда свои доходы и тратя часть на их усмирение и развитие. Российская империя, наоборот, предоставляла своим колониям экономические и политические льготы. Со времен Александра I западные владения располагали большими правами и свободами, чем центральные губернии. Крепостное право было ограничено или отменено в Эстонии, на Украине, в Башкирии раньше, чем у русских крестьян. Согласно расчетам Бориса Миронова, в конце XIX века жители 31 великорусской губернии облагались вдвое большими налогами, чем подданные 39 губерний с преимущественно нерусским населением. Соответственно, империя тратила вдвое больше денег на душу населения центральных губерний, чем инородческих; расходы шли главным образом на “управление”.[17] Большей эксплуатации подвергались центральные районы страны. Соответственно, они требовали больших государственных расходов на аппараты управления, принуждения и просвещения. Все это необычно для колониальной ситуации. Растянувшаяся от Финляндии до Калифорнии, многонациональная и недонаселенная, имперская территория нуждалась во вторичной колонизации, своего рода реконкисте. В одних случаях колонизация осуществлялась иммигрантами, которых российская администрация за свой счет расселяла в срединных и окраинных районах Империи. Начавшись сербскими поселениями в XVIII веке, инородческая колонизация южной и центральной России – прежде всего немецкая, но также греческая, болгарская, еврейская – достигла расцвета в середине XIX века, когда в России было более полумиллиона “колонистов”. Многие из них были не только инородцы, но и иноверцы, наследники радикальной Реформации и сторонники очень специализированного образа жизни, одни из самых странных людей, которые когда-либо населяли Европу. Культурная дистанция, отдалявшая их от петербургских властей, была огромной, но вряд ли большей, чем дистанция между властями и русскими крестьянами. Колонисты делали свое колониальное дело, осваивая степи, строя села и дороги, обучая местных крестьян “культурному” земледелию и обращая их в свою “сектантскую” веру. Все это полностью устраивало имперские власти. На то и империя, чтобы посредничать между колониями, извлекать из них равную выгоду и не обращать внимания на их мелкие, с имперской точки зрения, отличия друг от друга.[18] В течение почти всего XIX века, пока Россия оставалась подлинной Империей, эта ситуация устраивала все участвующие стороны. Проблемы начались, когда Россия стала преобразовывать себя в национальное государство, формируя понятие гражданства и, соответственно, предъявляя равные требования к гражданам. Меннониты и другие сектанты-колонисты не были готовы выполнять общие требования (как и сейчас этого не делают их единоверцы и потомки в Америке), а российская бюрократия не была готова проявлять гибкость. По мере национализации империи инородческие колонии были обречены на изоляцию, эмиграцию или уничтожение. Они, однако, оставили в наследство успешно колонизованные территории в самой середине российского пространства. В общем, деколонизация проходила примерно с теми же результатами, что на других пространствах, в Индии или Африке. Колонисты уходят или погибают, но от них остаются более или менее освоенные территории – дворцы, дороги и поля, которые с успехом используются местным населением, а иногда за ненадобностью превращаются в руины.[19] Более сложным примером служат военные поселения, один из самых масштабных экспериментов в колониальной истории. В течение нескольких десятилетий в этих поселениях (в документах эпохи они запросто назывались “колониями”) жило до миллиона человек. Эти колонии в самом сердце России бурно развивались с окончания Отечественной войны до начала Крымской, радикально меняя жизнь, работу и культуру русского народа. Ампирные дворцы среди болот и хижин воплощали блеск и величие империи; их развалины, сегодня стоящие в буквальном смысле среди пустоты, поражают воображение. В селениях были открыты “ланкастерские” школы взаимного обучения, отработанные в британских колониях, а также больницы и многое другое, неведомое русской деревне. Кальвинистское влияние, характерное для многих государственных начинаний алексадровской эпохи, в военных поселениях спускалось в самую гущу народной жизни. Несмотря на злоупотребления начальства, жизнь поселенцев была наверняка не хуже, чем жизнь их товарищей, остававшихся в крепостном состоянии. Но, перемещенные из своих общин в царство телесной дисциплины, архитектурной симметрии и поминутного распорядка, крестьяне работали, ели и размножались без особой охоты.[20] На предписания неведомой им рациональности они отвечали характерным сопротивлением типа саботажа.[21] Переселения крестьян продолжались в течение всего XIX века. Они проводились как государственные мероприятия, часто насильственные, порождая обычные страдания и лишения, которые вызывали подобные действия в колониях. Аналогия с колонизацией дальних земель легко приходила на ум. Карамзин в свое время назвал “русским Писарро” Ермака, колонизовавшего для России новые восточные земли; Лесков в одном из рассказов назвал “нашим Пизарро” русского приказчика, командовавшего переселением крепостных внутри среднерусских уездов. И то, и другое в равной мере были акты колонизации, в одном случае внешней, в другом случае внутренней. Всякий раз, когда речь идет о регуляции культурной дистанции, мы наблюдаем интенсивное участие имперских интеллектуалов, специалистов в таких делах. Пушкин служил в колониальном управлении на юге России, Батеньков администрировал военные поселения; оба Тайных общества, Северное и Южное, формировались в недрах колониальных администраций. В случае инородческих поселений колонисты были этнически чужды местному населению. Наоборот, в случае военных поселений александровской эпохи все участники игры – “туземцы”, каковым были местные крестьяне, колонисты и начальство – были, в основном, этнически русскими. Сходство обоих колониальных процессов – иностранных поселений и военных поселений – обеспечивалось культурной дистанцией между колонистами и местными обитателями. В случае меннонитов эта дистанция была предсказуемым следствием их особенностей, в случае военных поселений она создавалась сосредоточенными усилиями властей. Оба примера выражают неусыпные усилия петербургской империи по изменению культуры, расселения, религии, образа жизни и национальнного характера самого русского народа. Этот процесс, вбиравший в себя многие другие, был самым характерным и самым масштабным явлением русской колонизации. Империя колонизовала собственно русское население. Масштаб этой задачи был сравним разве что с британской колонизацией Индии (и, конечно, Америки). Огромная и неведомая реальность, народ был Другим. Он выключался из публичной сферы и отношений обмена. Он был источником общественного блага и коллективной вины. Он подлежал изучению и любви, покорению и успокоению, надзору и заботе, классификации и дисциплинированию. Он говорил на русском языке, первом или втором языке столичной интеллигенции, но те же слова произносил иначе и вкладывал иные значения. Народ не мог писать по определению: тот, кто писал, переставал быть народом. Народ подлежал записи: все более точной и объемлющей регистрации своих необычных слов и дел. Так начиналась русская этнография, имперская наука о народе как Другом; этим она была отлична от британской или иезуитской антропологии, имперской науки о других народах.[22] Сам “народ” был тем, что в сегодняшних исследованиях принято обозначать словом “subaltern”.[23] Так начиналось русское народничество, уникальное по своим последствиям явление колониализма эпохи упадка – комплекс из социальной вины, мистической надежды и научной любознательности в отношении народа. Когда интеллектуалы записывали то, что говорит народ, то другие интеллектуалы могли верить или не верить их записям в соответствии со своими априорными представлениями. Русские последователи немецких романтиков открыли у народа фольклор, общину и целостность, столь недостававшую им самим. Русские последователи французских социалистов нашли у народа отвращение к собственности, равноправие женщин и нечто вроде гражданской религии.[24] Народ приобретал свойства черной дыры, в которую проваливался дискурс и которой можно приписывались любые значения. В полувековой истории знакомства с собственным народом множество раз повторялись две фазы: чтение о народе и хождение в народ. Чтение народнической литературы неизменно очаровывало: популизм был доминировавшим дискурсом. Знакомство интеллектуала с народом разочаровывало тем больше, чем ближе оно было. Эта история началась уже с Радищева, который интерпретировал свой сибирский опыт как проверку прежнего своего увлечения Руссо. Да, скажу Вам, пространство знаний народов образованных оторвало миллионы людей от блаженства первобытного, от счастья естественного [...] Проживая в великих лесах сибирских, среди диких зверей и народностей, [...] не верится мне, что я могу стать счастливым человеком по Руссо и пойти на четвереньках. Сей г-н Руссо, как мне кажется ныне, есть опасный автор для юношества.[25] Руссо проповедовал возвращение к первобытному состоянию, не особенно задумываясь о национальном вопросе. В порыве позитивного ориентализма французам предлагались примеры “благородных” гуронов или “свободолюбивых” поляков. Очевидная проблема того, что француз не станет гуроном, даже если впадет в детство, не рассматривалась. Позднейшее народничество подвергло идеал естественного счастья национализации: рекомендовалось не опрощение вообще, но возвращение к блаженному состоянию одного только собственного народа. Отсюда увлечение русских народников фольклором и расколом – мечтательным детством и угрюмой юностью русского народа. Отсюда же неготовность искать контакт с другими народами Империи, например, поляками или евреями. Примитивизм находится в сложных отношениях с национализмом; между тем оба они являются составными частями популизма, делая эту комбинацию нестабильной и взрывоопасной. Радищев – первый из тех, кто захотел в своем “Путешествии в Москву” познакомиться с народом и кому в последовавшем, более далеком путешествии пришлось это сделать, – пришел к характерным, но долго не читавшимся выводам. Гуляя по сибирским лесам “с отвагой, достойной аргонавтов”, Радищев размышлял о том, что сибиряки – русские поселенцы – хвастливы и лукавы, обманывают против собственной выгоды и к тому же избегают “новизны и всякого соседства”. Потом он увидит то же лукавство, которое заметил “в народе сибирском”, у своих подмосковных крепостных.[26] Типические характеристики из словаря негативного ориентализма применяются к собственному народу. Одновременно самое экзотическое из колониальных зрелищ, камлание шамана, Радищев описывал терминами, выявляющими его сопоставимость с западным опытом: “действо, шаманством называемое, которое простой люд считает призыванием черта, а обыкновенно полагают, что сие есть простой обман [...] Я же увидел в нем один из различных способов выразить ощущение высшего могущества существа непознаваемого”.[27] Это удивительное описание ближе к “Тропику рака” ЛевиСтросса, чем к шаманским историям XIX века. Ситуация является четырехслойной: наблюдатель (Радищев); туземец (тунгусский шаман); колонисты (русские поселенцы в Сибири); народ (подмосковные крепостные). Манипуляции наблюдателя с культурной дистанцией иные, чем были бы в этой классической ситуации действия классического ориенталиста. Классический ориентализм героев Саида в такой ситуации выразился бы изумленным описанием шамана, противопоставленного всем остальным фигурам, как Восток Западу, что помогает наблюдателю интегрировать себя и соотечественников в одно национальное целое: шаман есть шаман, русские есть русские, и им не сойтись. Радищев производит другую операцию, больше похожую на постколониальные стратегии. Он объединяет себя и шамана, честных людей сходной деистической веры, и противопоставляет их “лукавым” крестьянам, далее представляя последних одинаковыми в Сибири и в собственном поместье. Интересным образом стратегия Радищева – современника восточных упражнений Гете, индийских увлечений Шлегеля и египетских путешествий де Вольнея – отличается от куда более агрессивных построений постнаполеоновской Европы. Негативный ориентализм XIX века экзотизировал туземцев и идентифицировался с соотечественниками-колонистами. Радищев, напротив, нормализует экзотических туземцев и выстраивает культурную дистанцию между собой и своим народом, странным образом напоминая постколониальные увлечения XX века. Сложность задействованных здесь культурных механизмов показана на восхитительной картине Ильи Репина “Казаки пишут письмо турецкому султану”. Полномочные представители русского народа, казаки, показаны восточной стихией, детьми природы, неграмотными творцами народной культуры. Их издевательские усилия адресованы субъекту еще более ориентальному, чем они сами, турецкому султану. Его в картине нет, есть только его имя, но это его далекое присутствие/отсутствие приводит в движение всех действующих лиц: ситуация, характерная для “восточного деспотизма” (и еще для фрейдолакановского “отцовского имени”, незримого источника репрессии). Писарь, непохожий на казаков (но похожий на Гоголя), тщится передать карнавал народной культуры правильным канцелярским языком. В лице писаря, между Востоком казаков и Востоком султанов стоит Запад с его письмом и рациональностью. Казаки и писарь – русские (или малороссы), но культурное расстояние между ними вряд ли меньше, чем между ними и султаном. Казак в центре картины выразительно показывает назад: там султан, адресат письма, и там географический Восток. Запад стоит перед картиной в лице ее автора, а также и зрителя. В назидание последнему картина рассказывает о бессилии письма перед устным словом, профессиональной культуры перед народной, Запада перед Востоком. Однако Восток расщеплен надвое, что для нас и есть самое важное во всей истории: Восток казаков, предмет народнического любования, радикально отличен от Востока султана, предмета традиционного ориентализма. Сюжет тонок и ироничен, в нем есть и притча о необходимости Запада и письма: даже казакам (и султану) нужен писарь, и всем им нужны художник и зритель. Иными словами, сюжет читается и как ориентальная утопия типа евразийской, и как ее насмешливая деконструкция. Второй Мир обращается к Третьему, но без Первого им не обойтись. Женщин в этой картине нет. Скорее всего, гомоэротичные казаки пытаются написать султану, как они его сделают женщиной. Чтобы еще раз увидеть различие между европейской колонизацией заморских территорий и внутренней колонизацией России, перечитаем их классические истории, в которых само понятие колонизации используется различными, почти противоположными способами. Матвей Любавский в своем труде по истории русской колонизации, написанном около 1930 г., под заглавным понятием имел в виду два последовательных процесса, которые могли быть разделены между собой столетиями: во-первых, захват территории и, вовторых, ее заселение и освоение. К примеру, 20-я глава, “Занятие и заселение русскими людьми Башкирии”, начинается с событий XVI века, когда башкиры подчинились Москве, а кончается переселениями XIX века, когда русские крестьяне заселяли пустовавшую землю, бесспорно принадлежавшую России. Определяя колонизацию через заселение, Любавский не рассматривает присоединение Польши, Финляндии, Средней Азии – “областей завоеванных, но почти не колонизованных”. В целом колонизация характеризуется как “экспансия русского народа и создание им его собственной территории”[28] – процессы, по своему значению приближающиеся к формированию самой нации. Почти одновременно с этим, Евгений Тарле в своем классическом труде по истории европейской колонизации рассматривает заглавное понятие совсем иначе – как сумму географических открытий и военных захватов. К примеру, французская политика в Индии, Африке или Канаде рассматривается как колонизация, хотя в одних случаях французам удалось освоить территорию, а в других случаях нет.[29] Если бы Тарле следовал определению Любавского, ему надо было изучать французскую “колонизацию” Бретани или Эльзаса, но не Канады или Африки. Если бы Любавский следовал определению Тарле, он писал бы о русской “колонизации” Польши или Мальты, но не Башкирии. Одно и то же историческое понятие, колонизация, используется двумя противоположными способами применительно к России и к Европе. Это имеет смысл. России удалась только колонизация в смысле Любавского и не удалась колонизация в смысле Тарле. Области, завоеванные и заселенные, как Сибирь, остаются российскими (как Шотландия остается английской или Техас американским). А колонизация в смысле Тарле в конце концов никому не удалась. Ни сравнение внутренней политики императорской России с внешней колониальной экспансией европейских держав, ни следующая за этим сравнением идея самоколонизации России не новы. Наоборот, они восходят к самому началу русской интеллектуальной истории. Петр Чаадаев объявил деяния Петра Великого отправной точкой русской истории и, соответственно, самоколонизацией России. “Своим могучим дуновением он смел все наши учреждения; он вырыл пропасть между прошлым и настоящим”.[30] Примерно то же, что Чаадаев писал о русских, Алексис де Токвиль писал об американцах. “В Соединенных Штатах общество не переживало младенческой поры, оно сразу достигло зрелого возраста”.[31] В соответствии с нормой британского права под названием terra nullius, колонисты применяли законы Англии на любых территориях, на которых не обнаруживали действия других законов. Иначе говоря, до прибытия колонистов территория признавалась в легальном смысле пустой. Вопреки Карамзину и славянофилам, Чаадаев объявлял допетровскую Россию несуществующей, terra nullius. Вигель был прав, обвиняя Чаадаева в том, что тот “отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки, говорит, что мы никогда не были христианами”.[32] Это Чаадаев и сказал: Петр открыл Россию так, как открыл Америку Колумб, и заселил Россию так, как заселяли Америку пуритане. Именно в этом смысле Петровская империя есть колониальная держава, и именно в этом смысле она Империя. Героизируя Петра (и самого себя), Чаадаев создал риторическую фигуру необычайной интенсивности. Он рассматривает освоение внутренних областей России как процесс, аналогичный освоению заморских колоний. То была аналогия между петровским открытием России и колумбовым открытием Америки; между внутренней реформой и внешней колонизацией. Получивший главные свои впечатления в столице мирового колониализма, Амстердаме, Петр воспроизвел голландский опыт в доступных ему условиях. Не имея у себя ни флота, ни кальвинизма, ни заморских территорий, Петр творчески переописал задачу, создав новое пространство колонизации: русский и прилежащие народы. В этом свете вся российская история начинала выглядеть радикально иначе, совсем не по-карамзински. Если русские ставятся на место американских туземцев, кто занимает место пришельцев? Позднее Бакунин, пытаясь направить русскую мысль на рельсы протеста, будет изобличать Романовых как “немцев” и, значит, внешних колонизаторов России. Антинемецкая интерпретация монархии перейдет в антисемитскую интерпретацию большевизма. Между тем исторический опыт говорил уже Чаадаеву, что процессы колонизации-деколонизации не обязательно связаны с этнической дистанцией. Обе стороны американской войны за независимость были в большинстве своем англосаксами, так же, как обе стороны российской войны за свободу в большинстве своем были русскими. Ориентализация собственной культуры вызывала националистическое сопротивление. Объявленный сумасшедшим, Чаадаев подвергся остракизму и едва ли не экзорцизму, изгнанию духов. В своих терминах он хорошо понимал, что с ним произошло. Попробуем понять и мы, разумеется, в наших терминах. Переописывая русскую историю в колониальной перспективе, Чаадаев гипертрофировал культурную дистанцию между собой (и своим сословием) и колонизованным народом. Это та же стратегия, к какой прибегали англичане и французы, квакеры и иезуиты, которые в это же время цивилизовывали, крестили и просвещали индусов и индейцев. Разница, как всегда, – в отсутствии расовой, этнической и лингвистической дистанции между субъектом и объектом колонизации в России, и в неизменном наличии такой разницы при колонизации Индии или Африки. Именно в такой ситуации, когда видимые – например, расовые – различия отсутствуют, возрастает значение собственно культурного символизма, маркирующего необходимые дистанции такими признаками, как религия, фольклор, образ жизни, способ бриться и одеваться. Культурная история русских бород пока не написана, а жаль. Я бы аргументировал в ней, что в истории русской самоколонизации борода играла роль, аналогичную той, что в истории западной колонизации играла раса. Колонизация нуждается в эффективных маркерах культурной дистанции между колонистами и туземцами. Такие маркеры и есть собственное содержание ориентализма, столь же необходимая база колониальной политики, как коды “свой-чужой” в современной военной технике. Сырой материал для таких кодов никогда не бывает в дефиците. Раса, гендер и национальность, как мы знаем, “культурно конструируются”. Воспринимаемая дистанция между наблюдателем и людьми другой расы, пола или нации не является природной сущностью, но подлежит культурным манипуляциям; не так ли борода? В разные времена и по разным причинам русские люди разных сословий сбривали или, наоборот, отпускали бороды разной длины, что всякий раз было обусловлено культурой и обслуживало отношения к власти. Дело не в наличии бороды и не в цвете кожи, но в тех дистанциях между людьми, которые создаются культурой и маркируются телом. Другим, наряду с телом, источником символизма для маркировки культурных дистанций была религия. Такие приписывавшиеся народу сущности, как раскол, хлыстовство или, наоборот, истовое православие, неизменно служили средствами регуляции культурной политики высших сословий. Вернемся, однако, к хорошо выбритому Чаадаеву. В своем “Философическом письме” он выстроил слишком большую дистанцию между собой и народом. Его радикальный жест не мог быть прощен именно потому, что указывал на центральный – одновременно самый важный и самый своеобразный, – элемент имперской конструкции. Бремя бритого человека было велико, и империя, в лице своих интеллектуалов, не раз пыталась уменьшить его за счет уменьшения культурных дистанций. Славянофилы растили бороды и переодевались в крестьянское платье, отчего их принимали за турок. Они рекомендовали власти путь временного отступления, примирения и успокоения: после “петровской революции” (терминология Пушкина) следовал период николаевского НЭПа. Идеи славянофилов, призывавших к гибридизации с собственным народом, были первым проектом деколонизации России.[33] Отстав от своего времени либо сильно опередив его, Чаадаев призвал вернуться на путь самоколонизации тогда, когда власть и общество искали путь уменьшения культурного бремени. Объявив Чаадаева сумасшедшим, а славянофилов сектантами, администрация Николая I дистанцировалась от крайностей, пытаясь найти средний путь между ними (вечная проблема Второго мира). Психиатрический диагноз был свежим и сильным приемом дистанцирования; его пришлось изобрести именно потому, что другие, лучше известные средства – расовые, этнические, сословные, религиозные – к Чаадаеву применить было нельзя. Так, в творческом поиске, расширяется система культурных кодов “свой-чужой”. Пытаясь вернуться на сцену, Чаадаев нашел новый путь для развития старого аргумента. Те, кто поняли его тезис как обвинение “России”, то есть народа и правительства одновременно, поняли его тезис в националистическом ключе, то есть не поняли его. Его тезис, утверждал он в своей “Апологии сумасшедшего”, был не националистическим, а имперским. Национализм конструирует богатство местной традиции, выводя нынешнее государство из исторического народа и тем самым преуменьшая культурную дистанцию между ними. Империализм рассматривает эндемические культуры как terra nullius, оправдывая государство рациональными, внекультурными, универсалистскими идеями и тем самым преувеличивая культурные дистанции между империей и любым из ее народов. Это и делал поздний Чаадаев, пытаясь убедить Российскую Империю соответствовать ее самообозначению. Как писал его врач в книге, написанной с его слов (интересный случай, когда психиатр пропагандирует идеи своего пациента): Россия свободна от предубеждений, живых преданий для нее почти нет, а мертвые предания бессильны [...] Она может строить участь свою обдуманно [...] Характер народа совершенно этому благоприятствует. Терпеливый, почти бесстрастный, он готов без сопротивления идти к счастью [...] Душе его чужда строптивость [...] Она есть белая бумага, пишите на ней.[34] В новом колониальном переописании то, что казалось (и, возможно, было) атакой на русскую историю, превращается в ее апологию. Что казалось бедой, предстает как залог небывалого успеха. Если бородатая “традиция” народа есть препятствие делу его воспитания, значит, отсутствие “традиции” есть преимущество для правительства. Революционные преобразования России, прошлые и будущие, оправдываются колониальным представлением о ней как о белой доске, terra nullius. Так же оправдывался Надеждин, страдая из-за публикации “Философического письма”. Под его пером, однако, имперская конструкция Чаадаева приобрела национальный характер. “Мы дети, и это детство есть наше счастье. С нашей простой, девственной, младенческой природой, не испорченной никакими предубеждениями, [...] можно сделать все без труда, без насилия: из нас, как из чистого, мягкого воска, можно вылепить все формы истинного совершенства. О! какой невообразимый верх дает нам пред европейцами это святое, блаженное детство!”[35] Сравнения русских с детьми, подлежащими воспитанию, и дикарями, подлежащими просвещению, шли из петровской эпохи. Черный прадед Пушкина был извлечен из сераля, чтобы дать русскому народу образец нового человека. Как писал правнук, “Петр имел горесть видеть, что подданные его упорствовали к просвещению, желал показать им пример над совершенно чуждою породою людей и писал к своему посланнику, чтоб он прислал ему Арапчонка с хорошими способностями [...] Император был чрезвычайно доволен и принялся с большим вниманием за его воспитание, придерживаясь главной своей мысли”.[1] Пушкин верит этому успеху Просвещения больше, чем другим, более масштабным. Императору удалось переделать серального арапчонка в артиллерийского офицера, но подданные сохраняли “бороду и русский кафтан” и “азиатское невежество царило при дворе”[2] (вдали от двора Пушкин и сам отпускал бороду). У Пушкина ориентализм редко имеет позитивный характер. “Путешествие в Арзрум”, к примеру, полно негативных суждений по поводу турок, внешнего врага России. Таких же суждений полна и “Капитанская дочка”, но ориентальные конструкции применяются в ней в отношении подданных самой Империи. Смесь русских и башкир, которая в Оренбургской степи представляет бунтующий “народ”, по этническому составу мало отличается от инвалидной бригады, которая представляет здесь “Запад”. Изображенная здесь борьба, однако, вполне соответствует историям колониальных восстаний и, соответственно, их подавлений. Вспомним страшный сюжет о безъязыком пленном башкире или пушкинскую заметку о том, как восставшие повесили астронома, чтоб он был ближе к звездам. “Капитанскую дочку” стоит читать в сравнительном контексте таких историй, как более позднее Mutiny (1857), восстание сипаев в британской Индии, которое ныне корректно называть Первой войной за независимость. В британских нарративах о Mutiny обычен мотив ужасных казней и изнасилований, которым подвергались англичане и англичанки в крепостях, захваченных повстанцами.[3] То же мы видим и в “Капитанской дочке”, с одной разницей: Машенька, захваченная Пугачевым, остается цела и невредима. Это критически важно не только для героев повести, но и для всей ее колониальной конструкции. Спасая Машеньку, Пушкин дает ей возможность рассказать о своей небывалой истории самой Императрице, чем со своей стороны призывает ее – и читателя – к милости к восставшим и павшим. Исторически точно показав ужас “русского бунта”, автор добавил к нему глубокий, почти архетипический сюжет обмена милосердием (бунтовщика к девушке, императрицы к предателю) и этим проложил путь надежде. Сюжет полон перемещений в культурном пространстве, но самое невероятное из них – сначала в самый низ бунтующего народа, потом в самый верх имперского порядка – осуществляет женщина. Читатель, знавший реалии крестьянских бунтов, понимал необычность фабулы и, соответственно, мог оценить ее идеологическое значение. Следуя этим центральным для русской мысли переживаниям, зарождалась русская этнография, занятие собственным народом как Другим, наука о языке, быте и культуре главной из колоний Российской Империи. Парадоксальность самой этой конструкции до сих пор недооценена историками. Французские ученые путешествовали в Египет, немецкие ученые изучали санскрит, английские ученые занимались исламом: русские ученые путешествовали, изучали и записывали собственный народ. Были и исключения, путешествия Миклухо-Маклая являются самым очевидным из них. Тем не менее, начиная с Мельникова и Надеждина, русская этнография преимущественно занималась русским народом. С ходом десятилетий ее стали больше занимать инородцы Севера и Юга; и все же самые значительные ее плоды связаны с русскими словами (Даль), былинами (Рыбников), а особенно сказками (от Афанасьва до Проппа). В недавнем исследовании Натаниэль Найт датирует начало русской этнографии деятельностью Надеждина в Императорском Географическом обществе в 1840-х годах.[4] В этом пионерском исследовании недооценены, однако, важнейшие предшественники Надеждина, какими являлись он сам в 1830-е годы, а также его начальники и коллеги по работе в Комиссии МВД по раскольникам, скопцам и особо опасным сектам. После своей памятной публикации Чаадаева в “Телескопе” и последовавших неприятностей, Надеждин служил под началом Ивана Липранди в МВД. В той же Комиссии до и после Надеждина работали такие важнейшие фигуры, как Даль, Мельников, Щапов и Лесков. Все они, и Надеждин в том числе, писали работы о скопцах и раскольниках, а также участвовали в других затеях Липранди – не то декабриста, не то провокатора, основателя русской секретной службы в Париже, разжалованного за дуэль подполковника Генштаба, приятеля Пушкина, прототипа Сильвио, профессионального ориенталиста, инициатора дела Петрашевского, который отправил в Сибирь Достоевского и объявил славянофилов противозаконной сектой, автора сочинений по зоологии и восточным языкам, плодовитого публикатора и мемуариста. Раскол был важнейшей из конструкций внутреннего ориентализма, и более чем закономерно, что русская этнография началась с изучения народной веры (Липранди), откуда развились новые направления, такие как изучение народного языка (Даль), народного быта (Надеждин) и народных сказок (Афанасьев); впрочем, и интерес к расколу долго оставался центральной заботой, о чем свидетельствуют успехи Мельникова и Щапова. Надеждин, олицетворявший традицию Чаадаева, с одной стороны, и Липранди, с другой, – традиции Империи и полицейского государства – действительно был центральной фигурой; но его роль не стоит упрощать. Согласно Найту, в 1840-х в Географическом обществе соперничали два этнографических проекта. В универсалистском проекте Карла Бэра русская этнография была наукой о множестве народов, населявших Российскую империю: следуя образцам германских путешественников на Восток, Бэр создавал русскую этнографию в контексте внешней, европейской колонизации российского пространства. В националистическом проекте Надеждина этнография сосредоточивалась на изучении русского народа как экзотического целого. У Бэра то был заурядный продукт культурной антропологии как ориенталистского корпуса знания Первого Мира о Третьем. У Надеждина то был новый и по-своему радикальный проект того, чтобы Третий Мир расслоил сам себя, формируя внутренний аналог ориентального пространства и утверждая новую точку зрения на Восток, западную по методу и внутреннюю по местоположению. Ассимилировав взгляд западного путешественника на собственных сограждан, русская этнография породила новый, внутренний род ориентализма. Предметом и продуктом его стал Народ. Его диалекты и легенды, нравы и секты стали объектом отстраняющего и вместе с тем завороженного взгляда этнографа. Популизм конструировался как экзотизм, априорное признание своеобразия народа, его капитального отличия от интеллигенции вообще и этнографа в частности. То был необычный, амбивалентный, очень вовлеченный и все же стереотипизирующий ориентализм. Народ был Другим и воспринимался как слитное, недифференцированное целое. У этнографических книг были авторы; у народных сказок, былин и песен их не было и, полагали этнографы, быть не могло. “Мы дети”, писал Надеждин, но мы – дети испорченные. Подлинное детство, блаженное и святое, надо искать в народе. Настоящие дети были бородатыми, что воплощало противоречивый – нормативный и дескриптивный, архаизирующий и авангардный – характер этнографического проекта. Главным продуктом такой этнографии стало собрание народных сказок Александра Афанасьева.[5] Волшебные сказки, любимый предмет русской и советской этнографии в течение целого столетия, идеально соответствуют надеждинской системе отношения с властью. Чтобы лепить из нас как из воска, у нас не должно быть своих форм, ну разве что самые простые. Если народ состоит из детей, то культура состоит из сказок. Эмпирический ответ Надеждину дали потом либералы нового поколения, которые увидели фактическую ошибку в старом рассуждении о “белой доске”: на деле русский народ связан традиционной культурой не менее, но, в силу своей неграмотности, даже более других.[6] Империи, колонизовавшей собственный народ, предстояло испытать на себе культурные и политические влияния деколонизации. Озабоченность колониальными проблемами обостряется в конце имперского периода, когда недовольство эксплуатируемых народов и тревожные предчуствия вызывают чувство вины у имперской элиты. Военноэкономическая агрессия уступает место культурной симпатии, эрудированному коллекционированию и эстетическому любованию, тонкой смеси миссионерства и паломничества в страну Востока. Этот переходный на пути к подлинному равенству процесс можно иллюстрировать на примере черной культуры в Америке, которая начиная с 1850-х годов стала предметом сосредоточенного интереса высокой литературы, за чем в новом столетии последовал джаз и политические решения вплоть до “affirmative action”. [7] От Киплинга до Найпола нарративы о завоеваниях, бунтах, страданиях, освобождении и новых страданиях бывших колоний стали центральным мотивом высокой западной литературы. В один сравнительный ряд со всем этим должны быть поставлены такие типически русские явления, как “Записки охотника” и “Кому на Руси жить хорошо”, искусство передвижников и дискуссия об общине, терроризм социалистовреволюционеров и неонародничество символистов. Литература тех, кого Троцкий назвал попутчиками, продолжала давние – и сегодня давно забытые – увлечения; не зря Троцкий в Литературе и революции подозревал писателей начала 1920-х в “полухлыстовской перспективе на события” и рекомендовал им побрить своих героев. Для постколониальных метрополий обычен комплекс таких чувств, как сожаление о привилегиях, стремление снизить свой статус и отдать долг обездоленным, разочарование в идентичности, агрессия в отношении собственной культуры. Но, как мы знаем очень хорошо, справедливость восстанавливается всегда неполно и далеко не всегда. В варианте внутренней колонизации этот комплекс чувств обращен на “народ”, как он сконструирован культурой. Русское народничество, восторженное поклонение эксплуатируемому народу накануне конца империи эквивалентно западному ориентализму, как его описал Саид: обостренному интересу имперских центров к своим колониям, который мотивирован потребностью в знании-власти и, одновременно, чувством вины. В середине и конце XIX века народничество было доминирующей идеологией интеллигенции и, в конечном итоге, самой монархии. Национализация Империй неизменно предшествует их крушениям. К концу XIX века бороды художников и бюрократов, царских фаворитов и сектантских лидеров становились все длиннее. Следуя западной моде и характерным образом превосходя ее, длина русских бород нашла свое крайнее выражение в симметричных фигурах Распутина, народного пророка, который стал царским фаворитом, и Толстого, аристократического писателя, который стал народным пророком. Итак, русский ориентализм был направлен не в заморские колонии, а внутрь собственного народа. Если в ожидании географических потерь имперская культура окрашивается ориентализмом, то на фоне классовых конфликтов доминирующая культура окрашивается в иные, хотя часто похожие, цвета популизма. Явления народной жизни, такие как фольклор или земельная община, подвергаются романтической переоценке и неумеренному прославлению. Народные секты, в которых находили языческий культ и, одновременно, революционный ресурс, суть лишь один из примеров диссимилятивного конструирования: подлинный мир изобретается как максимально отличный от привычного, и вместе с тем он существует здесь и теперь.[8] Накануне крушения империи паноптические режимы власти превращаются в свою противоположность: взгляд, обращенный из центра в периферию, находит там не ярко освещенных и послушно двигающихся субъектов, но темные, герметичные и влекущие к себе тайны. Чувства элиты принимают характер поклонения Народу и отрицания собственной культуры. В силу своей парадоксальной обращенности на себя внутренняя колонизация оказывается циклически повторяющимся, трудно завершимым процессом. Революционные попытки эмансипации приобретают обратимый характер; за ними следуют новые колониальные циклы. Как писал Майкл Уолцер в своей критике Фуко, именно большевистский режим “непомерно расширил и усилил использование дисциплинарных техник”.[9] В гротесковых формах повторились знакомые манипуляции с культурной дистанцией, от веры в наступившее единство с народом до его массового удаления в ГУЛАГ. Психологический трансформизм сочетался/чередовался с паноптическим контролем и полицейским террором. Россия была вновь завоевана в Гражданской войне, и этот процесс сохранял свой внутренний, обращенный на самого себя характер. Враги народа конструировались внутри народа, не вне его. Коллективизация 1928 года повторяла опыт военных поселений александровской эпохи, обозначая возвращение к системе внутренней колонизации российского пространства. В России и Америке, революция совпала с деколонизациями. Сходство и контраст этих двух ситуаций еще раз показывает соотношения между двумя типами колонизациидеколонизации, внешним и внутренним. В американском случае освобождение от внешней зависимости, закрепляясь в законах и институтах, становилось необратимой основой национального взросления. В русском случае революционное разрушение системы внутренней колонизации вело к циклическим процессам воссоздания ее в новых формах. Внешняя деколонизация, как видно, быстрее поддается стабилизации.