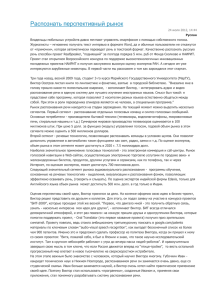"...Об известных всем", Г. М. Шергова
advertisement

УДК 821.161.1-94 ББК84(2Рос=Рус)-4 Ш49 Оформление и дизайн обложки Ирины Сальниковой В книге использованы фотографии из семейного архива Г. М. Шерговой Охраняется законом РФ об авторском праве Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. Шергова Г. М. Ш49 ...Об известных всем / Г. М. Шергова. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT», 2004. — 556, [4] с, [16] л. ил. — (Жизнь за кулисами). ISBN 5-17-026974-9 (ООО «Издательство ACT») ISBN 5-271-10190-8 (ООО Издательство Астрель») Это не мемуары в высоком значении понятия, хотя слово «мемуары» — просто-напросто воспоминания. Продиктованы они неотступным ощущением пустоты живого пространства, некогда заселенного моими прекрасными друзьями. Тоскуя о них, я пытаюсь собрать их снова вместе в моем доме, в моем существовании. Вызволить их из пределов недосягаемого. Это — куски жизни, прожитой нами вместе. УДК 821.l6l.l-94 ББК 84(2Рос«Рус)-4 © ООО «Издательство Астрель», 2004 Памяти Лешеньки и в дар Куне, которую любили герои этой книги. От автора Сегодня мемуары пишут все. Профурсетка, переспавшая с депутатом Госдумы, кидается к компьютеру, а лифтер элитного дома вдохновенно хватается за перо. Впрочем, все определяет мера таланта, а не социальный статус летописца. Тем не менее, не считая, что именно мои литературные дарования дают мне лицензию на жанр, я подчиняюсь общему зуду запечатления пережитого. Это не мемуары в высоком значении понятия, хотя слово «мемуары» просто-напросто — воспоминания. Истинное значение такого рода литературы в том, что сквозь «магический кристалл» читатель может увидеть время, если угодно, историю. А не для того, чтобы в истории застолбиться. Полагаю, вы убедитесь, что на подобную значимость записок я не замахиваюсь. Продиктованы они неотступным ощущением пустоты живого пространства, некогда заселенного моими прекрасными друзьями. Тоскуя о них, я пытаюсь собрать их снова вместе в моем доме, в моем существовании. Вызволить их из пределов недосягаемого. Это — куски жизни, прожитой нами вместе. Жизнь, как известно, не подчиняется строгим жанровым предписаниям. В ней анекдот соседствует с трагедией, а пустопорожняя игра в слова вполне уживается с серьезными раздумьями о профессии. Так и в этой книжке. Что-то — собрание апокрифов, что-то — разговор о ремесле. Последнее — неизбежно. Сделав полторы сотни фильмов, телесериалов, авторских телепрограмм, написав полтора десятка книг в прозе и стихах, неизбежно я не только дружила со многими героями повествования, но и работала вместе, вместе пыталась «поверить алгеброй гармонию». Поэтому, что греха таить, книжка в какой-то мере и о себе. И еще. Многие из тех, о ком рассказываю, прожили со мной и вторую ипостась существования: кто-то стал прообразом героя в моих повестях, кто-то призвал к жизни стихи, о ком-то я рассказала с экрана. Фрагменты этого воплощения тоже включены в книгу. Размеры рассказов не свидетельствуют о важности для меня того или иного персонажа. Записано так, как возникало в памяти. А значимость их, вообще, ранжиру не подвластна. Поэтому следую скучному канцелярскому закону: по алфавиту. С некоторыми отступлениями от этого порядка, диктуемыми драматургией бытия. Глава I «Гигантский» (Ираклий Андроников) Хоть и уверена, что прибегание к цитатам сплошь и рядом свидетельствует не столько об образованности пишущего, сколько об авторской беспомощности изъясняться выразительно и мудро, припадаю к вечному источнику: царственной универсальности Пушкина Александра Сергеевича. Разве скажешь образней и вожделенней: «Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой иль дурой, им обманутой, так я весь день минуты ждал...» А именно так и ждала я вечерних минут, когда вступлю на крылечко соседской половины. Летом одного из первых послевоенных годов мои ближайшие друзья Саша Галич и его жена Ангелина (в просторечье — Нюша) снимали полдома в Тарусе. Я же гостила у них. Вторую половину занимало семейство, с главой которого я и не мечтала жить бок о бок, не то что подружиться. А был он легендой, властелином концертных залов, повелителем восторженной публики, королем устных рассказов. Ираклием Андрониковым. Состав семьи Ираклия Луарсабовича был следующий: белокурая ясноглазая красавица — жена Вива, Вивиана Абелевна; одиннадцатилетняя дочка Манана, такая же красотка, при этом (что красоткам не так уж свойственно) склонная поражать собеседника эрудицией, афористичностью высказываний; и, наконец, глава дома Пелагея Андреевна. Суровая и добрейшая Пелагея, Мананина няня, со дня рождения последней правила семейными порядками. Ее обожали и боялись все Андрониковы. Она платила им тем же. Правда, без боязни. Через год (или два) мне был представлен еще один новый член семьи. Уже не в Тарусе. И не на террасе. Член этот обретался, главным образом, в кроватке, помахивая ножками, облаченными в вязаную обувку с неведомым мне названием «пинетки». Прелестный младенец по имени Катя. Младшенькая. Конечно, тогда никто и не загадывал, что пресловутые пинетки со временем будут сменены на балетные туфли, а еще позднее на выстукивающие озабоченную дробь каблучки руководителя студии художественных программ телеканала «Культура». Ведь не только канала такого в помине не было, само телевидение еще не вторглось в наши дома. Первые массовые приемники «КВН-49» появились, как следует из названия, в 1949 году. Будущее Мананы — тонкого искусствоведа и литератора в многомудром затейнике-ребенке просвечивало. Хотя, конечно, предсказать, что перу Мананы будут принадлежать прозорливые работы о взаимодействии, стыке разных искусств, тоже никто еще не мог. Сейчас я все пытаюсь припомнить подробности быта, живое естество поленовских пейзажей, обступающих нас в той давней Тарусе. Ведь ее чудодейство будоражило воображение многих художников и литераторов. Но память выхватывает только какие-то разрозненные предметы, в цельность зрелища не складывающиеся... Обрыв... Ветла, ощупывающая чуткой веткой поверхность реки, крытой рябью, как замшелой черепицей. А под ветлой — лодка. То ли рыбацкая плоскодонка, то ли наследие довоенного туризма. Один борт лодки (один!) был выкрашен голубой краской и украшен самодельной надписью «Динамо», столь чужеродной в этих патриархальных местах. Дубовая кадка под водостоком, перетянутая медными обручами, которые наша хозяйка надраивала кирпичной крошкой, очень гордясь тем, что они — медные. В бочку собирали дождевую воду. Вива мыла в ней свои пушистые и лучистые волосы. Мы с Нюшей старались следовать этому начинанию, по волосы наши Вивиного совершенства так и не достигли. Кажется, были еще развалины старой церкви... Да рассказывали старожилы о каком-то камне, где любила некогда сидеть Марина Цветаева. Но места указать не могли. И вот я думаю: почему так бедно зрелище памяти? Может, просто дело во времени — ведь столько лет прошло? Нет, тут иное. Все зримые подробности заслонены воспоминанием звуковым. Его ощущаю отчетливо и сейчас, потому и все, что с ним связано. Звук доминирует надо всем. Звук голоса. Голоса Ираклия Андроникова. Он не потускнел, время не истерло его. «Итак, я жил тогда... в Тарусе». Уж следовать классику, так следовать. Саша писал пьесу «Походный марш». Самым привлекательным в этом сочинении мне казался драматургический ход: перед близкой смертью молодые герои придумывают жизнь, которую могли бы прожить. Я даже, с разрешения автора, стала сочинять поэму с тем же приемом. Она и начиналась так: Мой друг писал об этом пьесу, Но я и браться не хочу, Считая пьесу по плечу Провидцу, может, иль повесе, А разговор зашел о пьесе... и т. д. Если Саше «Походный марш» не очень удался, то поэма моя и вовсе была многословной, вялой и надуманной. Я и черновиков не сохранила. По вечерам мы отправлялись на андрониковскую половину. Приходили мы трое — Саша, Нюша и я. Но вскоре терраса заполнялась сонмом блистательных персонажей. Слушая Андроникова, мы видели: вот сбрасывает шубу с пушистым меховым подбоем величавый Василий Иванович Качалов; открывает свой бенефис гениальный глухой Остужев; подсаживается к столу Виктор Шкловский; перебирая четки колких парадоксов, фонтанирует Алексей Толстой. Да, я смело могу сказать, что самые значительные и примечательные люди были среди нас. Ведь вели они себя как в привычной для них жизни, да к тому же говорили собственными голосами. Так рассказывал о них Андроников. Так показывал их, так имитировал голоса, интонации, манеру изъясняться, мыслить, общаться с людьми. Особенно темпераментным рассказчиком был Алексей Николаевич Толстой. Он (в лице Андроникова) бегал по террасе, возмущаясь происшествием, приключившимся с ним на Невском, когда он шел закладывать последний золотой червонец, чтобы накормить обездоленную революцией семью. И попал в плен к цыганке с целым выводком цыганят. «А цыганята эти чер-ны-и, гряз-ны-и. И вымыть их нельзя. Они тут же умирают. Они не вытерпливают чистоты». Писатель наш и охнуть не успел, как заветный золотой перекочевал к цыганке. А та все приговаривала: «Счастлив будешь. Напишешь книжку про царя. Богатым станешь». Тут Толстой делал недоуменную паузу и вопрошал: — Ну, скажите: откуда она тогда могла знать, что я напишу «Петра Первого» и получу за него Сталинскую премию? Рассказы следовали один за другим. Героями их были не только знаменитости, но и просто колоритные персонажи, встреченные Ираклием Лаурсабовичем в цветистом тбилисском детстве или на фронтовых привалах недавно отшумевшей войны, которую Ираклий прошел достойно. Я была уверена, что и там, в Тарусе, Андроников встретил человека, которому посвятит будущий рассказ. Личность-то была примечательная. Но почему-то обошло ее вниманием андрониковское устное творчество. Расскажу я. Хоть с мастером и не тягаюсь. И рассказ этот не столько о нашем тарусском знакомце, сколько о самом Ираклии Луарсабовиче. Хозяйка дома жила в задней комнате при кухне, незримо, как-то бесплотно, возникая только в случаях, когда в ней бывала нужда. Зимой в доме находился еще один жилец — дальний родственник хозяйки Егор Иванович. Оттрубивший всю войну в батальонной разведке, маленький, щуплый, похожий на огарок церковной свечки, Егор Иванович несменяемо был обмундирован в гимнастерку 56-го размера. Ремня Егор Иванович не носил, отчего гимнастерка обретала просторную вальяжность плащ-палатки. Впрочем, в определенных обстоятельствах эта одежка менялась на синюю сатиновую рубаху, застегнутую под кадык на аккуратные пуговки. Но об этом — ниже. Все хозяйственные дела вершились Егором, он все мог, все умел, за все брался, сопровождая занятия затейливой присказкой: «Это нам — запросто, это нам — ни сядь, ни ляжь». Вот и в хибарку за домом, где обретался летом, сам провел электричество и установил черную довоенную тарелку радиоточки. Однако главный талант нашего нового знакомца оказался не узнанным ни миром, ни им самим. Егор Иванович обладал абсолютным слухом и поразительно тонким восприятием музыки. Это открытие сделал Андроников. Обычно Егор Иванович приходил к андрониковскому крыльцу под вечер с каким-нибудь неожиданным сообщением. Скажем: — Слышь, Урсавич (так звал он Ираклия Луарсабовича), какая хрень нынче произошла. Вхожу к себе на квартиру, а там кто-то разговор затеял. Кто бы, думаю? Никого. А это радио заговорило человеческим голосом. Тут стоит пояснить: радио в описываемые времена только или говорило стерильными, хоть и прекрасными, голосами знаменитых дикторов, или транслировало читаемые по бумажке выступления представителей народа. Живая речь в эфир почти не проникала. Потому поразила тонкий слух Егора. Андроников, охочий до всякой самобытности, заводил с соседом долгие беседы. Особенно любили говорить про войну. Егор поражался: — Глянь, Урсавич, ты же войну до самого пупа понимаешь! Вон другие мне: куда такому в разведку! А я то — в самый раз: кто поширше не везде пролезут, а я — запросто, это нам — ни сядь, ни ляжь. В любую щелю просунусь. Как ты-то разобрал? Тут возмущенно вскидывалась Вивиана Абелевна: — Ну что вы говорите, Егор Иванович! Ираклий Луарсабович пробыл на фронте всю войну! — Так-то оно так, — кивал Егор, — но сильно он гражданственный. (Имелась в виду не общественная позиция Андроникова, а его сугубо партикулярный облик.) Важным атрибутом нашего тарусского бытия был патефон Старая машина, сработанная Калужским заводом. Знак к тому времени обветшавшей, а некогда легкомысленно-зазывной жизни нашей хозяйки. (Ее-то имя я забыла.) Как-то съездив в Москву по издательским делам, Ираклий Луарсабович привез несколько пластинок с симфоническими записями. И устные вечера стали перемежаться концертами. Да, это не было просто слушанием музыки. Андроников ею дирижировал. И не просто дирижировал, а имитировал, пародировал манеру того или иного дирижера. Такого я уже не видела никогда. При этом каждый раз обращал запись в новое, живое исполнение: — Сегодня (в таком-то куске) струнные звучали особенно проникновенно! Или: — Как он сегодня сыграл финал? Гигантски! И однажды в ответ на подобную реплику раздалось: — Это точно. Железно. Сегодня не сравнить, как прошлый раз. Все обернулись на голос. На крылечке сидел Егор Иванович — тихий, чистый, в синей сатиновой рубашке, застегнутой под кадык на аккуратные пуговки. И все как-то разом вспомнили, что он уже не первый раз приходит на музыкальные андрониковские действа, такой вот преображенный, готовый к священнодейству вхождения в стихию музыки. Особенно Егор Иванович полюбил «Фантастическую» симфонию Берлиоза. При «Шествии на казнь» заливался беззвучными слезами. И когда Андроников как-то воскликнул: — Нет-нет, у Рахлина это мудрее! Рахлин здесь делает... — И напел какой-то особый музыкальный акцент, Егор Иванович, помолчав минуту, произнес извиняющимся голосом: — Ты, Урсавич, конечно, не обижайся, ведь, я понимаю, кто слушает, тот и играет. Я, вот, будто сам играл. И еще, слышь, ты не обижайся, я слушаю, а будто сам все придумал. Всю музыку. После этого вечера Андроников прозвал Егора Гектором — в честь Берлиоза. Говорил: «Наш Гектор. Наш Гектор Иванович». На что просвещенная юная Маната скептически заметила: — При чем тут Берлиоз? Никакого портретного сходства. (Видимо, замечание было предвестником грядущего Мананиного исследования о портрете как феномене искусства.) — О нет, — запротестовал отец, — если бы Берлиоз служил в разведке на Четвертом Украинском фронте, именно на Четвертом, — он бы выглядел только так. С тех пор Егор Иванович ходил у нас исключительно в Гекторах. Звали, правда, за глаза. Но, видимо, до слуха нео-Берлиоза прозвище дошло, и както он спросил с удивлением, но без обиды: — Чтой-то ты, Урсавич, меня Гектаром кличешь? Еще б километром назвал! А в моей пропорции всего-то аршин без вершка, а у вершка хвост с аршин. Ни сядь, ни ляжь. Тайная Егорова одаренность вызывала у Андроникова порывистое восхищение (он, вообще-то, был — порыв и восхищение чужими дарованиями), он даже перестал обращаться к соседу с просьбами о житейских наших потребностях. К чему призывал и остальное население дачи. Какое-то время и мы попытались принять на себя заботы по хозяйству. А они возникали на каждом шагу. Прогнила и рухнула ступенька на нашем крыльце. Казалось, без Егора Ивановича не обойтись. Но Саша Галич недоуменно поднял бровь: «Зачем? Плевое дело!» Не скрою, мы с Нюшей не очень-то верили в успех предприятия, затеваемого интеллигентом, чья неискушенность в обращении с вульгарными орудиями домашнего производства была поистине девственной. Однако не прошло и получаса, как Галич приволок откуда-то дощечку. Игриво помахивая молотком и отрабатывая артистичность жестов, Саша ходил вокруг крыльца. Щурил глаз, примерялся. Можно было и приступить. Но тут плотник-новобранец обнаружил, что не хватает мелочи — гвоздей. Пошел к Андрониковым одалживаться. Реакция Ираклия Луарсабовича озадачила всех — мы с Нюшей наблюдали сцену. С категорическим жестом, отсекающим наглые Сашины притязания, Андроников почти свирепо возопил: «Нет гвоздей!» Галич оторопел. — Ваши действия? — взглянул он на Сашу, правда помягчев. Тот растерянно молчал. — Теряетесь? Тогда я расскажу вам, как действуют в подобных ситуациях истинные мудрецы и герои. Скажем, гигантский Валентин Стенич. Я всегда поражалась вдохновенной способности Андроникова по каждому поводу высекать ассоциации и призывать к жизни увлекательные истории. В тот раз явилась притча о гвоздях. В начале 30-х годов ленинградские писатели затеяли какое-то строительство. Кажется, дач. Или квартирного кооператива. Но уже на первых шагах литераторское вдохновение уткнулось в неприступное понятие «дефицит». В стране не хватало всего, в том числе и стройматериалов. На очередном этапе обнаружилось отсутствие гвоздей. Властителем дефицитного товара был человек по фамилии, если не ошибаюсь, Либерзон. Заведующий чем-то. Начальник чего-то. Впрочем, тогда все управляющие жизнью были или заведующими, или начальниками. Так как все прошения и подступы, адресованные к Либерзону хлюпикамисочинителями, кончались провалом, решено было направить к нему достойного противника. Выбор был сделан единодушно: Стенич, конечно, Стенич. Кто, как не он! Валентин Стенич, блестящий переводчик, умница и шармер, был известен и как непобедимый полемист. Стенич пришел к Либерзону. — Для писательского кооператива нужны гвозди. Распорядитесь, пожалуйста, — миролюбиво, даже беспечно начал он. Либерзон не поднял головы: — Гвоздей нет. — Нам очень нужны гвозди. — Голос Стенича окрасила доверительная вкрадчивость. Либерзон устало вскинул глаза и раздраженно буркнул: — Нет, нет гвоздей! Понимаете — нет! И тогда Стенич, неожиданно перегнувшись через разделявший собеседников стол, прокурорским шепотом зловеще прошелестел: — А распинать нашего Христа у вас гвозди были? — Будут гвозди. Завтра будут гвозди, — тоже шепотом смиренно выдохнул Либерзон. Назавтра гвозди прибыли на стройку. — Так поступают люди с вдохновением, — заключил байку Андроников. — А вы, уважаемый Александр Аркадьевич, конечно, будете искать легких путей: будете заискивать перед Гектором Ивановичем! — Ошибаетесь, уважаемый Ираклий Луарсабович! Советские люди не ищут легких путей! — гордо парировал Галич. И отправился на поклон к Егору. Так Таруса открыла для меня Андроникова. И я навсегда полюбила эту необычайную семью, где душевная щедрость и доброта всегда соперничали с высоким интеллектуализмом. Полюбила этот шумный дом, где ты мог встретить самых интересных людей и где незыблемость нравственных принципов никогда не декларировалась, а существовала с естественностью дыхания. Здесь обаяние таланта и талант обаяния хозяина одушевляли любого, перешагнувшего порог квартиры. Позднее, выйдя замуж, я привела к ним и моего мужа Лешу, давнего поклонника Ираклия Луарсабовича. Замечу, что в жизни своего кумира Леша сыграл определенную роль. В качестве главного редактора редакции кинопрограмм Центральной студии телевидения Леша решил запечатлеть на кино-пленке устные рассказы Андроникова. И «пробил» идею. Так появился на свет первый фильм цикла, снимавшегося и в последующие годы, — «Загадка Н. Ф. И.». А приведенный впервые в андрониковский дом, Леша оробело взирал на знаменитость, пристально и испытующе рассматривающую его. — Откуда я вас знаю? — Наконец произнес Андроников. — Ведь знаю же. Даже помню: что-то забавное было в нашем знакомстве. Обретя дар речи, Леша решился рассказать об их первой встрече, которую и встречей-то не назовешь. Когда-то, будучи студентом, еще и не мечтавшим о знакомстве со знаменитостью, мой муж был выведен с концерта Андроникова, так как ему стало дурно от смеха. И вот много лет спустя Ираклий Луарсбович узнал его и вспомнил тот случай. И сам уже хохотал до слез. Да, он вошел в нашу жизнь, жизнь моих сверстников, как триумфатор, знаменем которого была радость, побеждающая любые горести. Тончайший артистизм и юмор самой высокой пробы, казалось, не оставляли его ни на миг. Однако Андрониковы не были для меня только любимыми друзьями. Ираклий Луарсабович никогда не учил меня мастерству экранного или радийного рассказа. Но, если я с благоговением хотела произнести слово «Учитель», я думала о нем. Потому что бросала все дела, услышав по радио его голос. Потому что его телевизионных передач, фильмов ждала, как события. Потому что его пластинки, магнитофонные записи его рассказов слушаю и буду слушать каждый раз, как впервые. Помню, как входил он в редакцию звукового журнала «Кругозор», где я одно время работала, входил, заполняя собой, своим голосом, юмором, многоречьем пространство. Помню, как смолкали мы, боясь упустить хоть фразу: ведь потом каждый пытался пересказать все друзьям, да и просто сообщить, что виделся с ним. Только и заботило: не забыть, не забыть! Как это он говорил? А, вот: «Ну что это за рифмы? Простой перестук согласных! Знаете, кто был виртуозом рифмы? Маршак. Однажды праздновался юбилей знаменитого историка Евгения Викторовича Тарле. И Чуковский все "подкалывал" Маршака — мол, даже ему, Маршаку, не удастся подобрать рифму к фамилии юбиляра. Но Самуил Яковлевич тут же откликнулся: В один присест историк Тарле Мог написать (как я в альбом) Огромный том о каждом Карле И о Людовике любом». Помню многое блистательное, брошенное на ходу. Помню и другое, профессиональное. Помню, как вслушивались мы в записи рассказов этого человека на гибких пластинках «Кругозора», пытаясь открыть его секреты. Кое-какие из андрониковских открытий я постаралась использовать в своих построениях и манере эфирных рассказов. Но была одна область его дарований, которым бессмысленно и бесполезно подражать. И постигать. Разве что обдумывать созидаемое им. А повторить, подделаться? Увы. Тут нужно быть им. В устном творчестве Ираклий Андроников прославился своим даром имитатора. Говоря языком эстрады, можно было бы сказать: даром пародиста. Сколько раз известные писатели или артисты (у Андроникова есть и рассказы об этом) просили «показать» их, хотя потом были в обиде от точности передачи! Но тут кроется опасность очень серьезной ошибки. Пародистам, столь модным сегодня на эстраде и в литературе, удается имитировать голос, манеру, в лучшем случае — стиль. Андроников обладал даром имитации системы мышления изображаемого персонажа. Это качество уже как таковое требует широты и гибкости мышления собственного. Но и это не все. «Персонажи» Андроникова — писатели, ученые, музыканты, актеры. Каждый со своим даром, своими художническими ощущениями и своим багажом профессиональных знаний. И человеку, желающему «сконструировать» в рассказе такой персонаж, самому необходимо обладать всем этим. Более того, овладеть качествами персонажей своих рассказов. И еще более: овладеть настолько, чтобы уметь почувствовать и передать индивидуальные оттенки, характеризующие музыкальность или актерский почерк, направленность научной мысли или образного мышления того, о ком идет повествование. Дирижерская манера Штидри была иной, чем манера Гаука. Остужев ощущал таинство сцены иначе, чем Качалов. Склад ума Алексея Толстого не походил на ассоциативное мышление Шкловского. Но все они стали героями рассказов Андроникова. Далеко не всем искусствоведам и литературоведам удается раскрыть суть неповторимого в творческой личности. Андроникову удалось. Удалось потому, что его талант имитатора как раз и не есть талант пародиста. Он заключал в себе все таланты самого Андроникова — талант музыканта, артиста, ученого, писателя, человека еще бог весть каких дарований. Ираклий Луарсабович как-то говорил, что, «показывая» какого-нибудь человека, он пытается представить себя — им. Однажды на вечере какой-то (не помню какой) кавказской литературы произошло следующее. Вечер предстояло вести Алексею Суркову, который опаздывал. И Андроникова попросили заменить его. «Я постарался стать Алексеем Александровичем», — рассказывал он. И начал говорить о том, как русско-черкесские связи запечатлены в обликах Москвы. О Черкасском переулке, о других местах, хранящих память этих связей... И тут приехал Сурков. Андроников уступил ему председательское место, и Сурков (под хохот зала, не понимая причин этого хохота) почти дословно повторил только что сказанное Ираклием Луарсабовичем. Замечу: Андроников не говорил голосом Суркова. Он имитировал мысль. И не просто имитировал, он писательски точно воспроизвел мыслительный строй своего «героя». Героя отнюдь не примитивного, который сам — своеобразнейшая личность. ...Вот слышу стремительную скороговорку с подчеркнуто ясной артикуляцией, слышу монолог, где риторические приемы, прямая речь, свободное оперирование широчайшими познаниями (без жонглерского подкидывания цитат) сплавлены, естественно живут! Иван Иванович Соллертинский. Никогда не видела его. И вот — будто давно знакома. Познакомилась лично, когда пришел он ко мне, ко всем нам в рассказе Андроникова «Первый раз на эстраде». Как блистательно отчитывал Иван Иванович провалившегося новичка Ираклия после его попытки произнести вступительное слово на концерте! «Никто не понял, что ты говоришь о симфонии. Тогда ты решил уточнить и крикнул: "Сегодня мы играем Первую симфонию до минор, це моль! Первую потому, что у него были и другие, хотя Первую он написал сперва... Це моль — это до минор, а до минор — це моль. Это я говорю, чтобы перевести вам с латыни на латинский язык". Потом помолчал и крикнул: "Ах, что это, что это я болтаю! Как бы меня не выгнали!.." Тут публике стало дурно одновременно от радости и конфуза. При этом ты продолжал подскакивать. Я хотел выбежать па эстраду и воскликнуть: "Играйте аллегро виваче из «Лебединого озера" — "Испанский танец..." Это единственно могло оправдать твои странные движения и жесты. Хотел еще крикнуть: "Наш лектор родом с Кавказа! Он страдает тропической лихорадкой — у него начался припадок Он бредит и не правомочен делать те заявления, которые делает от нашего имени". Но в этот момент ты кончил и не дал мне сделать тебе публичный отвод...» Соллертинский — живой, живой, во плоти! Однако разве дело тут лишь в воскрешенном голосе? Открываю статью Андроникова, рецензию на книгу Соллертинского «Музыкально-исторические этюды». Рецензия. Видимо, не единственная — музыковеды не могли обойти вниманием эту серьезную работу. Но как прочел ее Андроников? Что стремился извлечь, понять, ощутить, услышать? Услышать. Ведь речь идет о музыке. Андроников пишет: «Величественный покой Седьмой симфонии Брукнера передан в "медленных" словах с торжественной инструментовкой: "НачиНаЕтся медленное вОлНООбразНОЕ приращЕНие звучНости..." О языке и стиле Соллертинского можно было бы написать специальную статью. Тут хочется обратить внимание хотя бы на несколько приемов, которые определяют великолепные качества его литературного мастерства. Отмечая роль сквозных мотивов в "Кармен", Соллертинский прежде всего, естественно, обращает внимание на знаменитый роковой мотив из пяти нот с увеличенной секундой, который впервые появляется у виолончелей в конце увертюры и возникает затем во всех решающих моментах действия, вплоть до сцены убийства, "когда он прорывается с трагическим торжеством на мощном фортиссимо всего оркестра". Вчитайтесь! Вспомните последние такты "Кармен"! Это сказано с волнующей точностью, какой обладает только истинная поэзия!» Да, для того чтобы показать «того» Соллертинского, из устной новеллы «Первый раз на эстраде», нужно было понять, знать, уметь все то, что рассказано об этом Соллертинском в рецензии на его книгу. А я ведь взяла лишь один пример, лишь одну черту андрониковского знания и понимания! Один из его секретов в том и состоял, что абсолютное знание предмета сочеталось с абсолютным слухом рассказчика. Абсолютным слухом, которым он улавливал — равно! — и звучание оркестра, и звучание многоголосой жизни. Потому и интонация собственной речи абсолютно точна. А как это важно для говорящего с экрана, в эфире, на пластинке! Как это важно для повествования о явлениях и людях, неповторимых в своей неординарности! Но в данном случае абсолютный слух — привилегия не импровизатора. Слух этот — достоинство писателя. Писательский талант Андроникова, дар литератора зоркого, чуткого, прекрасно слышащего и чувствующего, делал его рассказы истинной литературой, где герои действуют в отменно выписанной обстановке, где ситуации и фабула не случайны, а глубоко психологичны, где детали зримы, имеют плоть, цвет, запахи. Но все эти достоинства андрониковского творчества мне, как и многим, открылись не сразу. Может, оттого, что как раз блеск безупречной формы и не давал задуматься над слагаемыми успеха. Мы только восклицали: «Как замечательно! Как точно!» И хохотали до упаду. Радость, ах, сколько радости дарил он нам! Андроников воплотил в себе все необходимые качества автора эфира. Кто-то из его коллег обладает тем или иным, кто-то — суммой отдельных достоинств. А он — всеми. Он — литератор, умевший вывести на экран или в радиоэфир своего героя живым и достоверным настолько, что авторская интерпретация кажется единственно возможной. Его повествования были всегда увлекательны, их сюжет построен так мастерски, что авторские отступления возникали вроде бы сами собой. А общее движение наполненной эмоциями мысли повелевающе приводило вас к выводам автора. Но и приглашало к размышлению. Голосовой инструмент Андроникова был так точно настроен и так многозвучен, что сам превращался в ансамбль инструментов, которым открыты все партии. Для того чтобы инструмент этот зазвучал, чтобы пред вами возникли, ожили, заспорили, разразились монологами андрониковские герои, вовсе не требовался многолюдный зал или кинокамера. Как некогда в Тарусе, достаточно было двух-трех слушателей. Домашние рассказы отнюдь не уступали публичным выступлениям. Более того, дома для гостей-друзей разворачивались сюжеты, которые широкой публике и не стали известны. Надо было бы все записывать на пленку. Но, как ни смешно, у Андрониковых не было магнитофона. В доме, где всегда на грузинский манер, каждого пришедшего усаживали за накрытый (по-моему, раз и навсегда) стол, с покупкой «мага» все не выходило. За дело взялась Катя, младшая дочка. Рубли, отводимые ей на школьные завтраки, ребенок самоотреченно складывал в заветную коробку. Как вы понимаете, процесс при таких скромных поступлениях мог затянуться, по меньшей мере, до Катиного окончания университета. Воплотить мечту в жизнь помог брат Ираклия Луарсабовича — Элевтер, личность весьма примечательная и достойнейшая. Знаменитый грузинский физик, умный и ироничный, Элевтер Луарсабович был гордостью семьи. И если в московских писательских кругах о нем говорили «брат Ираклия», научное сообщество жаловало последнего, как «брата гениального Элевтера». Он-то и пришел на помощь любимой племяннице, «добавив» недостающую сумму па покупку магнитофона. В доме поселился «Грюндиг» — тяжеловесное сооружение тех времен. При первой же оказии Катя отважилась провести запись. Но пока механический мастодонт был установлен, пока его настраивали и запускали. Ираклий Луарсабович исчерпал экспромт, а бисировать отказался. Столь же неудачными оказались и следующие попытки увековечить очередной домашний концерт. Впрочем, кажется, кое-что записать удалось. Но время безжалостно иссушило хрупкую плоть магнитной ленты, лишив голоса и памяти. Да, да, сегодня мы с Катюшей не смогли восстановить ничего из тех путешествий по владениям ее замечательного отца. Сейчас я пыталась хоть по памяти снова вступить туда. Но, приоткрыв в эти владения дверь, я тут же остановилась в растерянности: за дверью сто дорог. По каким пойти, куда пригласить и вас? В глубины лермонтовской строки, которой отдал годы поисков и влюбленность? В зал Римской оперы? На кухню московской квартиры, где произносит вдохновенную речь Виктор Шкловский? Пройти по Невскому, чтобы в современном жилом доме поговорить с друзьями Пушкина и сподвижниками Некрасова? Войти в Большой зал Ленинградской филармонии, чтобы попасть на первый концерт юного Шостаковича, откликающийся блокадным исполнением 7-й симфонии? Всюду он водил нас. Но только он сам мог быть поводырем и экскурсоводом в путешествии. Пересказать — значит не просто не выполнить задачи. Пересказать — значит оскопить первоисточник. Думая об Ираклии Луарсабовиче, да и сейчас вспоминая его самого, удивительный его дом, я то и дело обращаюсь к словам «праздник», «радость», «веселье»... И всякий раз что-то толкает в сердце: как непостижимо несправедливой бывает судьба к носителям радости и добра! За что, за что выпадали на его долю такие беды?! Трагически ушла из жизни царственная Манана... Ведь все у нее было: ум, красота, имя, обретенное в науке, обаятельный муж Ладо, талантами хирурга которого гордилась вся семья... Сгорела дача. А с ней — не только большая часть уникальной библиотеки, но и рукописи, бесценные архивы, долгими годами собираемые Андрониковым. А когда через несколько лет по кирпичику, по рублю (вот уж воистину: «От трудов праведных не наживешь палат каменных»!) построили Андрониковы другой дом, сгорел и он. И еще, еще... И еще мука, мрак изнуряющей болезни длиной в несколько лет, безжалостный уход. Эти тяжкие годы и сейчас у меня перед глазами. Но отсвет их — не только сострадание. Удивление, восторг. Мужество ума и воли, не дающее характеру и юмору покинуть нашего друга до самых крайних минут настигающей беспомощности. Впрочем, не стоит бескомпромиссно корить судьбу. Она оказалась и великодушна: сберегла наследие андрониковского духа, его жизненной повадки. Над домом, который покинули Ираклий Луарсабович и Вивиана Абелевна, по-прежнему поднят андрониковский триколор: добро, ум, юмор. Едва занимается день, этот флаг поднимает маленький, почти игрушечный вахтенный — Катя. Диву даешься: как слабенькие ее плечики исхитряются волочить груз разнообразнейших забот? И многотрудные рабочие обязанности и домашние хлопоты, а бывает и напасти. Всякий раз изумляюсь с нежностью, ибо, как родного ребенка, люблю младшую дочку Андрониковых. Полюбила и ее добрейшего, раздумчивого мужа Ивана. А уж внуками Небеса разочлись с Ираклием Луарсабовичем не скупясь — в благодарность за достоинства и во искупление всех мук. Очаровашка Ириша с непринужденной грацией носит по земле и местам трудовой деятельности завидное бремя разнообразнейших знаний и четырех (или пяти!) языков. И Ираклий по-прежнему обитает в этом доме. Ираклий-юниор. Дедовское пиршество веселья и остроумия. При этом понятие «остроумие» имеет и свой составляющий смысл: ум юноши остер, в творчестве — изобретателен, в деле — моторен. Так вот о деле. Имя ему — телевидение. Как уже поминала, Екатерина Ираклиевна заправляет художественным вещанием на канале «Культура». Ириша тоже потрудилась там. Ираклий же пашет на новостной ниве НТВ, отважно и покорно выходя в ночные смены. Правда, непростой процесс «побудки» тоже на Катиных плечах. Телевидение в его сегодняшней ипостаси во многом обязано Ираклию Луарсабовичу. Он пришел туда, когда даже просвещенные люди не понимали истинных масштабов этого компонента жизни общества. А уж за собственный вид искусства вовсе не держали. Вот даже мудрый властелин киноэкрана Михаил Ромм утверждал: телевидение — только транспорт для искусств иных. Кипели споры. В пучину споров ступил Андроников. Зрение и постижение неведомого человечеству открывают открытия. (Тавтология здесь уместна и прозорлива.) Андроников своими работами обнажил смысл сегодняшней очевидности. Смысл этого открытия сформулировал еще в 1959 году Виктор Шкловский, когда в рецензии на телефильм Андроникова «Загадка Н. Ф. И.» писал: «Телевизор не только не соперник книги — это новый способ связи людей, новый способ фиксации слова. Звучащее слово жизненней и могущественней книжного. В хорошем исполнении фраза писателя становится не беднее, а богаче. Для пропаганды этого богатства нужна большая изобретательность. Ею отличается Ираклий Андроников. Важно понять принципиальное значение ленты. В ней мы находим художественно построенную речь. Она интересует зрителя, который смотрит и слушает неотрывно и узнает новое. Перед нами — возникновение нового этапа телевизионного искусства (курсив мой. — Г. Ш.). Роль так называемого диктора меняется, углубляется. Обо всем этом мечтали Яхонтов и Маяковский. Об этом должны были бы подумать художники нового искусства — искусства телевидения. То, что сделал Ираклий Андроников, — разбег перед большим полетом. Телевидение не должно копировать театр, не должно копировать кино. Оно не просто радио с изображением. В нем заключена возможность нового расширения "словесной базы", расширения художественного мышления». «А как иначе?» — пожмут плечами сегодняшние телевизионщики. Но ведь и открытия Ньютона или Коперника кажутся сегодня самоочевидными истинами. Наверное, таков почерк гигантов. «Гигантский» было любимейшим словом Андроникова. Для всех, кто пришел и придет на телевизионный экран, он останется — гигантским. Да и не только для них. Г л а ва II «Не путай конец и кончину...» (Юрий Визбор) На одном из своих творческих вечеров я получила из зала записку: «Как вы могли! Заставить страдать такого человека как Юрий Визбор! Это просто невероятно чтобы он вас так любил, а вы бесчувственная» (Пунктуация и стиль записки сохранены. — Г. Ш.). Почерк был явно женский, о чем свидетельствовала усердная каллиграфичность. Видимо, авторша — одна из сонма Юриных поклонниц, сонма, не поредевшего даже после его ухода. В первую минуту я не поняла, откуда у пишущей такие сведения, но потом смекнула. На вечере прозвучала пленка с песней Визбора, которой предшествовало устное посвящение. Такая песня: Твои глаза подобны морю. Я ни о чем с тобой не говорю, Я в них гляжу с надеждою и болью, Пытаясь угадать судьбу свою... Песня о мучительном путешествии по тайнствам морских глубин, завершалась так: И все страдания и муки Благословлю я в свой последний час. И я умру, умру, раскинув руки, На темном дне твоих зеленых глаз. Может быть, стоило публично ответить барышне, объяснив, что все не так, что не было страданий и мук поющего, не было моей бесчувственности, даже авторство стихов не принадлежало Визбору, а песня была, если не ошибаюсь, переводом из Бараташвили... Что единственная достоверная деталь — мои глаза, которые и правда были зелеными. Но тогда нужно было бы рассказать очень многое, поведать историю не только этой песни, но всех наших отношений с Юрой, нашей долгой дружбы, взявшей исток в скучном слове «сослуживцы». ...«О море в Гаграх, о пальмы в Гаграх!..» — пропел, почти прошептал интимный баритон в соседской квартире. (Относительность звукоизоляции московских жилищ обеспечила баритону свободный доступ в мою комнату, разве что снабдив тембр певца дополнительной доверительностью.) Сочась сквозь мембрану сухой штукатурки, голос повествовал о море и пальмах, как бы намекая, что и для меня в этом заключен особый личный смысл. И был прав. Социологи всех континентов, исследуя странный феномен «ретро», искали для него всяческие обоснования, сходясь в одном — в наш быстротечный век человеческая душа хочет зацепиться за нечто ностальгически-стабильное, коим представляются ушедшие годы собственной нашей юности, а может, и юности отцов. Поэтому человечество возвращает моду на мебель и мелодии. А «море в Гаграх и пальмы в Гаграх» не надо возвращать. Они, по-моему, существовали всегда как некий знак неизменности бытия. Во всяком случае, мне казалось, что и в довоенную пору и, уж по крайней мере, на протяжении всех предпоследних десятилетий на гагринском побережье каждый вечер звучал этот всплеск: «О море!..» А в зимние вечера средних и высоких широт любой недавний отдыхающий, мурлыкая эту (говоря откровенно, не отмеченную изысканностью вкуса) мелодию, возвращал себе ласкающие подробности шикарного субтропического пейзажа и безответственных курортных романов. Ах, море в Гаграх, ах, пальмы в Гаграх! Бог с ними, со вкусом или безыскусностью мелодии, но, честное слово, что-то щемит сердце. И не могу не отдать должного заботливо-предприимчивому уму безвестного гагринского деятеля, который затеял выпуск открыток с изображением означенных пальм на фоне моря, приделав к обратной стороне открытки мягкую пластинку с записью означенной же песни. Хоть в Тулу, хоть в Норильск можно увезти с Черноморского побережья это портативное напоминание о беззаботных сияющих днях и ночах с наземными лунами парковых прожекторов в свете которых, как в театре теней, шевеление пальмовых крон разыгрывало свои трагедии и фарсы. Ах, море в Гаграх, ах, пальмы в Гаграх!.. И когда за соседской стеной московской квартиры интимно зашептал баритон, я вдруг поняла, что это знак. Однако не потому, что липкому снегопаду за моим окном надлежало под напором воспоминаний уступить место орнаментальному сплетению пальмовых листьев. Нет. Хотя, что греха таить, и ко мне могли быть адресованы уверения гагринского баритона: «Кто видел раз, тот не забудет никогда...» Страшно подумать, что теперь в ослепшем Гагринском парке, наверное, лежат пальмы, уткнув в воронки от снарядов свои декоративные кроны, что патрульные катера, а не беззаботные яхты оставляют дорожки в море... О море в Гаграх, о пальмы в Гаграх!.. А тогда, тогда, когда просочился в мою комнату интимный баритон, он и правда подал мне знак. Я еще не знала какой. Но уже назавтра... — Это что — вроде «Моря в Гаграх»? — спросила я, вытаскивая из шкафа открытку, которая, разумеется, как у всякого «гагринца» со стажем, хранилась и у меня. — Ну, если хочешь — вроде, — согласился Борис Михайлович, — только отдельно картинка или текст, плюс к этому — запись на мягкой пластинке. Впрочем, и Борис Михайлович Хессин сам еще не очень представлял себе, что же это будет такое — звуковой журнал. Он приехал ко мне с сообщением: решено издавать при Государственном комитете по радиовещанию и телевидению такой журнал. Как он будет называться, как выглядеть, что станет его содержанием, не говоря уже о штатном расписании, еще не ведомо никому. Есть решение и вытекающее из него (для меня) предложение сотрудничества. — И кем я буду у тебя работать? — все-таки сочла я нужным поинтересоваться. И он сказал: — Шерговой. Это сейчас-то я понимаю, что как раз отсутствие штатного расписания и полная неясность обязанностей сотрудников побудили Хессина к такому, ни к чему не обязывающему ответу. Но тогда (кто бы на моем месте не ощутил самонадеянного восторга от сознания собственной значительности!) я решила, что именно меня призывают сказать новое слово в новой области звучащей журналистики. Хессин сработал психологически точно: оставив журнал «Огонек», где сотрудничала пятнадцать лет, я ринулась в неизвестность. Так-то оно так. И все-таки не в одной податливости на комплименты было дело. В жизни моей литературная работа имела самые разные формы и жанры. Я занималась поэзией, художественной прозой, кинодраматургией, публицистикой, делала радио- и телевизионные передачи, сочиняла эстрадные песни и даже тексты для оперетт. (Помню, как издевались надо мной домашние, когда как-то я одновременно работала с Романом Карменом над серьезным публицистическим фильмом и, поддавшись на предложение народного артиста РСФСР Г. М. Ярона, с увлечением писала новые стихотворные тексты к оперетте «Граф Люксембург».) Признаюсь: скучно мне было делать одно и то же, даже на разном материале. Так что секрет разнообразия моих занятий — просто-напросто чисто женское непостоянство и неумение на долгое время посвятить себя чему-то одному. В контексте данной книжки эти исповедальные строки имеют вполне утилитарный смысл: хочу объяснить, каким заманчивым показалось мне предложение Бориса Михайловича. Новое. Новое! Новое!!! Предстояло выдумывать и делать все не так, как вчера. Пишу об этом подробно, потому что радостны, увлекательны и волнующи для меня воспоминания о рождении «Кругозора». И, прежде всего, нежная благодарность всякий раз разгорается, дышит где-то в самой сердцевине души, когда думаю о моих товарищах и коллегах тех лет! Коллектив добросовестных единиц легко складывается в прочную арифметическую сумму. С надежным и безымянным результатом. Соединение непрограммируемых и не дублирующих друг друга индивидуальностей происходит по каким-то иным, неведомым законам высшей человеческой математики. Это некое интегрирование, при котором, в отличие от математики, результат непредсказуем. Но — убей бог! — лишь он желаем. Ибо в искусстве непредсказуемость и непостижимость возникновения суть те магии, что обращают прописи в откровения. Они, мои товарищи, хотели сделать профессиональную журналистику искусством. Они были непохожими, неуправляемыми, своенравными, потому что были чертовски талантливы, мои товарищи в «Кругозоре». Маленький редакционный коллектив, сумма индивидуальностей. Загадочный интеграл. Тогда почти все они были безвестны, в начале, в истоке, однако какими они были, рядовые сотрудники редакции! Полистала сейчас первые номера «Кругозора»: Борис Хессин, позднее директор творческого объединения «Экран» Гостелерадио СССР; Евгений Велтистов — писатель, лауреат Государственной премии СССР, отец детского любимца Электроника; Дмитрий Морозов — кинодраматург, лауреат Ленинской премии; Юрий Визбор — популярнейший «бард», киноактер, кинодраматург; Сергей Есин — известный прозаик; Людмила Кренкель — позже главный редактор Главной редакции музыкальных программ телевидения; Людмила Петрушевская — знаменитый драматург и прозаик... «Кругозор» и подарил мне Юру Визбора. Думаю, моему другу было бы приятно узнать, что сейчас я снова вернулась памятью к тем дням, что во многом были нашим Началом. Ведь и годы спустя, уже не работая в «Кругозоре», мы с Юрой часто спрашивали друг друга: «Помнишь?..» Помнишь, как отмечали мы победу над прочими изданиями, хотя жюри, признавшее наше верховенство, было весьма своеобразным? Тогда пришла из Владивостока телеграмма: «Ограблен киоск "Союзпечати". Украдены все экземпляры "Кругозора". Другие издания не тронуты». О, какие мы стали популярные и дефицитные! Дефицит — мерило качества социалистической экономики. Помнишь, Юра, как вел наши планерки, заседания редколлегии Э. Н. Мамедов? Он был тогда первым заместителем председателя Госкомитета, но значился и нашим главным редактором. На этих совещаниях высказывались самые «безумные» идеи. Потом все коллективно на них наваливались. И те идеи, которые выживали, шли затем в дело. Меж собой предложения слабосильные мы именовали невесть откуда й впрочем, и сами обсуждения пришедшим словосочетанием «хала-бала». Хотя, 1 именовались так. Да еще словом «топтушка». Топтали, правда, безжалостно. Но как радовались, когда кто-то тащил не затаптываемое! Мамедов обычно не выступал в роли визирующей, отвергающей или принимающей инстанции. Он с задором включался в сам процесс выдумывания, изобретательно подводя обсуждение к искомому. Редакция «Кругозора» была отмечена еще одной особенностью, почти все мы писали стихи. С поэтическим творчеством моих коллег сегодня знакома широкая публика — и распевающая песни Юрия Визбора, Бориса Вахнюка, и декламирующая стихи Евгения Храмова, и читающая стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» Дмитрия Морозова. У меня за эти годы тоже вышли поэтические сборники и поэма «Смертный грех», опубликованная в «Новом мире», о чем расскажу в другой главе. Но в «Кругозоре* поэзия была нашим средством мышления и общения. Мы переговаривались любимыми строчками и собственными экспромтами. Наши вечера«капустники» были прорифмованы насквозь. Имели широкое хождение «кругозорские» песни, сложенные для внутреннего, редакционного потребления. Гимном редакции была «Хала-бала». (Помните? Все, что объявлялось на заседаниях редколлегии пустопорожним, именовалось так. Но так же именовались и разговоры, из которых могло выплыть нечто ценное.) У нас были и свои собрания в домах (обычно у меня), на которых обретало первое звучание все, что слагалось каждым из нас. То и дело мы импровизировали коллективно. Заданная тема раскручивалась и закручивалась каждым. Мы перебрасывались новорожденными строфами, мы соперничали и братались. Мы бесцеремонно вторгались в сочинения друг друга. Скажем, в Юрину песню «Зато мы делаем ракеты» я всунула свою строчку «и перекрыли Енисей». В мою повесть «Туманная эстакада» Юра накидал несколько забавностей. Я даже одному из героев дала фамилию Визбор. О Юрином творчестве теперь написано много. Но почти ничего об особом жанре, которого он был прародителем и монополистом. Я имею в виду «песню-репортаж», начатую на пластинках «Кругозора», а потом перенесенную им в документальное кино. В этом особом жанре песня-повествование переплелась с документальными записями (или съемками), разговорами героев и подлинными шумами. А дело это не простое. Фонограмма пластинки или фильма должна принять в себя авторское слово столь естественно, чтобы у слушателя рождалось ощущение: сама жизнь откликается стихотворному слову, аккомпанирует ему, договаривает твоими словами то, что не произнесла она, но задумала. Вкус фальши, если он возникает, будет тут горше и неприемлемей, чем в сочинении печатном. Еще бы, ведь живая жизнь говорит! И даже в том случае, когда записана она не очень точно, когда в записи есть неправда, ярлык фальши все равно приклеится к сопровождающему слову, оно будет нести ответственность. Визборовские пластинки, на которых репор-тажные записи так органично входят в песни, что кажется: они неотъемлемая часть клавира, а песни подхватывают комментарий с естественной необходимостью вдруг зарифмовать продолжение разговора, — пластинки эти и нынче стоит переслушивать, изучать, пытаться понять секрет цельности их многоголосия. Тут соединились таланты Визбора-барда и Визбора-журналиста. Ведь был наш Юра этаким синтетическим. Долго я не полагала, что, написав слова «был Юрий Визбор», употреблю глагольную форму прошедшего времени в ее страшной непоправимости. Казалось, еще вчера мой любимый друг Юра Визбор был среди нас. Живой, веселый, звучный. Но вот слово «был» отсекло и Юрину жизнь смертной чертой. В год ухода ему едва исполнилось пятьдесят. А был он и того моложе — альпинист, слаломист, путешественник. Один из первых знаменитых «бардов». Песни его распевали повсюду. Киноактера Визбора узнавали на улицах: Борман в «Семнадцати мгновениях весны», герой «Июльского дождя», лент «Я и ты», «Нежность к ревущему зверю»... И еще: прекрасный художник-акварелист, журналист, прозаик, поэт... И такого чертовского обаяния парень, такого блестящего юмора, что приход его в любую компанию гарантировал успех «мероприятия». Ax, Юра на дружеских «собранках» — это особая песня! Хотя его песни сами по себе расцвечивали любую «неформальную сходку». Он и в разговорном жанре был мастак. Отменный рассказчик, Юра вовсе не стремился неостановимо держать площадку. Предпочитал пронизывать общий говор репликами, импровизированными репризами, как бы нанизывая на шомпол шумную беседу. Так произошло и в тот раз, когда я впервые услышала песню про зеленые глаза. Мой день рождения— 31-е августа. День завершения дачных сезонов, день проводов лета. Оттого все эти события оптом завершались, да и завершаются поныне многолюдными гулянками на нашей даче. Благо гигантская открытая терраса — очень подходящий плацдарм для такого рода действ. (Дачу начинали строить в довоенные годы мои родители, когда были модны танцы под патефон или радиолу. Беспокоясь по поводу ежедневных отлучек юного отпрыска-несмышленыша, мама сказала: «Пусть танцуют здесь». К невзрачной бревенчатой избушке пристроили этот танц-плац. Годы спустя уже мы с мужем перестроили и модернизировали дом, сохранив, конечно, террасу. Нужды в танцах уже Fie было, зато человек тридцать могли пировать как хотели.) Веселье в тот день уже отмерило десяток тостов, когда на крыльце появился мой друг Витас Жалакявичус. Персонаж этот достоин отдельного рассказа, что, может быть, я и сделаю в книжке. Классик литовского кино, один из самых талантливых и своеобычных отечественных режиссеров XX века, уже всемирно прославившийся своими фильмами, и, прежде всего, лентой «Никто не хотел умирать». При этом Жалакявичус — фигура в нашем кино драматическая: многие его картины были «закрываемы» на самых разных этапах работы. Киночиновников пугала смелость замыслов и недоступная для них усложненная ассоциативность мышления этого художника. От всех нас Витаса отличали и «западные» замашки, так и не искорененные советской властью в Прибалтике. Его манеры (а не только сложноватая стилистика витасовских фильмов) то и дело приводили в гневное недоумение кинематографическое начальство. Ну кто бы тогда рискнул отказаться от кремлевского приема из-за такой мелочи, как отсутствие приглашения для жены? Витас мог. Мог он вызвать пламенную филиппику кинобосса на тему «полной утраты чувства достоинства советского человека». «Представляете, — бесновался начальник, — Жалакявичус на глазах у всего Международного кинофестиваля открывал дверцу автомобиля Марине Влади!» Из сказанного, однако, следует, что порочные выходки Жалакявичуса были жестами истинного мужчины. Западного мужчины. В этом образе он и возник на моем крыльце с букетом черных, да, да, черных роз. При тогдашней скудости цветочного рынка такой изыск был почти неправдоподобен. Юра Визбор и сказал: — Что же символизирует такой изыск, гадали ошарашенные трудящиеся. Теперь-то известный фильм нас просветил: «черная роза — эмблема печали». Но в те годы фильма еще не было, а что такое печаль — мы не хотели знать. От воткнутого за стол Витаса общество тут же потребовало тоста. Он встал: — Галерею невероятных, прекрасных российских женщин мне открыла русская классика. Но, когда я познал Галину... — Витас сделал задумчивую паузу, которую тут же заполнил Юра: — Стыдитесь, сэр! Вы не на Балтийской окраине. Вы все-таки в России. У нас не принято публично порочить замужнюю женщину! Жалакявичус означил на лице одну из персональных своих улыбок — быстрый промельк губ при неподвижности лица и строгости глаз. В чем, мол, дело? Под общий хохот сидящая рядом с Витасом моя подруга Неля Альтман объяснила иноплеменному гостю, что в русском языке глаголы «узнать» и «познать» предполагают совершенно разный характер отношений между мужчиной и женщиной. Замечу: Витас был крупным специалистом по сокрушению дам. Виртуозно владея искусством обольщения со всеми тонами, полутонами и обертонами, он со временем бросал вчерашних возлюбленных, выпуская их в мир глубоко несчастными. Но вереница претенденток на роман с Жалакявичусом не скудела. Я звала ее — «очередь на Голгофу». Так что витасовская оговорка могла и меня в глазах присутствующих сделать обреченной очередницей. Кстати, о витасовых отношениях с русским языком, которым владел превосходно, хотя, поступая в Москве во ВГИК, не знал почти ни слова. Изрядно «приняв», Жалакявичус начинал очень изобретательно материться. Как было и в тот вечер. И та же Неля спросила его: — Витас, а как вы выражали неудовольствие, когда не знали русского языка? На что тот ответил: — Во времена, когда я не знал русского, мне эти слова не требовались. Как принято говорить, беседа (она же — гулянка) затянулась далеко за полночь. А ночь, в свою очередь, заполнилась различными событиями. Гости разбрелись по комнатам, но так как спальных мест явно не хватало, большая их часть развалилась на диване, креслах, ковре в гостиной. Вдруг кто-то просунулся в дверь и крикнул: — Срочно нужна машина! — Юрик, посмотри, что там стряслось? — попросила я. Как выяснилось позднее, одна немолодая, но еще вполне прелестная дама умудрилась в объятиях того же Витаса вывихнуть скулу. Необходимо ехать в травмпункт. О чем Юра и доложил: — Первые жертвы невооруженных конфликтов. — И с грустью добавил: — Вот таковы классики в быту: сначала они дарят даме цветы с невнятной символикой, потом публично позорят ее, а сами не мешкая отправляются изменять ей. Как положено заботливой хозяйке, я пошла отвозить в больницу пострадавшую приятельницу. В свете фонаря я увидела, что лобовое стекло моей машины покрыто серебристой испариной росы, и легкомысленно начала отирать его ладонями. Что-то тут же впилось в кожу: это была не роса. Упавшая шишка обратила стекло в тончайшую паутину трещин. Надо было посылать другую машину, я вернулась в дом. Почему-то все присутствующие в ужасе уставились на меня, а Визбор объявил: — Явление второе: те же и леди Макбет. Взглянув на руки, я обнаружила: с располосованных ладоней капала кровь. Поскольку все автовладельцы были пьяны, повез пострадавшую безотказный Юра Визбор, где-то оседлавший попутку. Витас сопровождал жертву. Эпизод по сию пору вызывает у меня восхищение заботами женщин, не покидающими их даже в минуты опасности. Как рассказал мне позднее Юра, в регистратуре больницы мою травмированную красотку долго мучали анкетными вопросами: где живет, где работает, каков возраст. Изнемогая от боли, еле ворочая вывихнутой скулой, дама на последний вопрос ответила, не дрогнув: — Двадцать девять. Легковерная регистраторша приняла сообщение как данность. Но, поскольку больной было под пятьдесят, Юра поддержал ее: — Не клевещите на себя. Я же был у вас пионервожатым. Вам от силы двадцать пять. К моменту возвращения скорбной экспедиции всех остававшихся в доме уже сморило, разговоры утихли. А Визбор оставался бодр. — Позор! — кликнул он обществу. — Как измельчал народ! Всего четыре часа, время штурма. — Какого еще штурма? — сонно осведомился кто-то. — Цвет советской литературы обычно в это время затевает битвы. Вот когда справляли день рождения Алексея Толстого, гости на его даче разбились на две партии, одна из которых забаррикадировалась в доме, а другая под водительством хозяина, Алексея Николаевича, графа Толстого, начала осаду. Осажденные на втором этаже вскипятили чайник и пытались облить наступавших. И тогда граф бросил клич: «Поджигай дом!» Вот что значит настоящие писатели! А вы? — Плодотворная дебютная идея, — мрачно сказала я, памятуя, что, согласно утверждению классика марксизма, «идея становится материальной, когда она овладевает массами». Слава Богу, массы на Юрин призыв не откликнулись. Дом уцелел. Утром веселье зашумело с новой силой. И даже более организованно: роль тамады взял на себя лихой генерал-грузин. Дело в том, что обычно все домашние застолья я веду сама. Но наличие дамы-тамады претило генералу, воспитанному в грузинских традициях. Больше подобного безобразия он терпеть не мог и вдохновенно пустил в ход витиеватую тестовую стилистику. Сказав нечто закрученно-хвалебное в адрес именинницы, хозяйки дома, генерал подвел черту: — Так выпьем за нашу зеленоглазую королеву! Тогда Юра взял гитару и спел «Твои глаза подобны морю». Так я и услышала песню в первый раз. Присутствующие прореагировали на исполнение, на стихи, на музыку, а один мой приятель, который действительно проявлял ко мне нетоварищеский интерес, спросил певца в упор: — И ты, Брут? — Но ведь объект обрисован достоверно, — уклончиво ответил Визбор. Конечно, он мог объяснить все как есть — то, о чем я писала в начале главы. Но он благородно оставил присутствующих мучиться неопределенностью. Уже много времени спустя Юра подарил мне пленку с записью песни и посвящением. — Почему ты посвятил песню мне? — не удержалась я. — Потому что она о тебе. — А что о тебе? — Это вопрос второстепенный, — опять сблагородничал Визбор. Я вроде получила тогда право говорить о тайных чувствах Юры и сейчас повторить лестную версию. Всем известно — для поощрения женского тщеславия много не требуется. Одна моя знакомая о мужчине, который проходил мимо, не замечая ее, шептала подругам: «Он так меня любит, что боится посмотреть в мою сторону». Но я не поддамся соблазну. Юра часто говорил со мной о любви. Не ко мне. К другим женщинам. И вот отложена рукопись, включен магнитофон, Юра снова в моей комнате. Очень хочется рассказать вам о нем. А как — и не знаю. Многое связывало нас. Полтора месяца спустя после кончины Юрия Визбора состоялся вечер его памяти. Потом были еще вечера — более многолюдные и более официальные, но я хочу вспомнить тот, первый. Он проходил в Институте океанологии. Не знаю, почему был избран этот институт и этот зал. Но был некий не читаемый поверхностно смысл в выборе. Моря шумели в песнях Визбора, моря раскачивали их ритм. Теплые и арктические, они внушали повадку своим покорителям и труженикам, которые столько раз входили на страницы визборовских репортажей, на пленку его фильмов. Стихия была в нем. Стихия, не знающая прописей и барьеров. Волнами дыбились, накатывая друг на друга, сливаясь, сшибаясь, таланты самые различные. И даже когда волноломы редакционных или иных реалий вставали на пути наката, волновой этот накат не спадал, а лишь взрывался новой волной в радуге брызг. Не о любом человеке хочется (да и можно!) писать в такой приподнятой манере. О Визборе необходимо. Хотя романтическая его сущность была земной. Земной и современной. Он был поистине бардом. Не бардом, коим сегодня считают себя те, кто просто сам пишет и исполняет свои песни. Он был бардом в высоком средневековом смысле, когда бард — воспеватель, воспеватель подвига и любви. Духа народа и души влюбленного. Но он был бардом эпохи НТР (научно-технической революции). Зная досконально технократическую повадку времени, любя и ценя научный склад мышления эпохи, Визбор умел сообщать ему черты романтические. Не набрасывая на современность театральных плащей, не вручая ей картонные латы. Его романтика не была реанимированной тенью. Она не была и наивным путником-пешеходом с псевдоромантическим рюкзаком за плечами. (Как нелепо звучит бытующее утверждение о том, что суть визборовской романтики — это «а я еду за туманом и за запахом тайги»!) Романтика Визбора была иной. Поиск научной мысли он воспринимал и передавал — хотя и в точных современных подробностях — как поиски золотого руна. Подвиг молодого лейтенанта Шклярука, который предпочел собственную смерть гибели людей, Визбор мог воспеть как подвиг былинный. И при этом не впасть в стилизованный архаизм. Рассказывая о своих друзьях, я хотела задуматься и над тем, какие уроки профессии преподала мне их жизнь и работа. Визбор учил меня и всех «крутозорцев» истинности романтизма. Так вот, о вечере. Ведущий встречу друг Юрия Визбора актер Вениамин Смехов, делавший эту свою работу проникновенно и увлекательно, постарался разбить программу на тематические разделы, отражавшие пристрастия Юры — кино, песни, спорт, живопись. Но за бортом (уж морская терминология так морская!) оставались поэзия, журналистика, художественная проза, юмор... да и многое другое, без чего не было бы Визбора. А главное: все перечисленное на параграфы и главы в нем не делилось. Все сосуществовало, побуждаемое к обретению формы — одно другим. Так и вышло. О Юре рассказывали «барды» и альпинисты, кинематографисты и космонавты, журналисты и поэты. И каждый не мог очертить круг воспоминаний четкой темой, потому что в Визборе барьеров не было. И еще потому, что начинали звучать его пленки, не аккомпанирующие, а сращенные со слайдами визборовских акварелей, возникали на экране его актерские работы, ведомые его песней, ведомые по взлетным полосам аэродромов, по ледяным зарослям торосов, по прокуренным комнатам московских квартир (то есть по маршрутам любви человека и художника), и было неясно, где кончается одно и начинается иное!.. Он изъездил всю страну, любил Север и Восток («Восточная Европа далеко — на западе Восточная Европа», — рассказывала песня). Он принял дороги войны как свои, хотя был моложе фронтовиков. Он бродил по детству, слышал, как грохочет кирзовый волейбольный мяч на Сретенке. Он предсказал свой последний миг последнего прикосновения к земле. Назвал время — сентябрь, осень, которая идет по земле, опираясь на синие посохи дождей. Он мог прочертить жизнь назад и вперед. А это дано только прозрению художника. Он был им, истинным. Истинным, потому что понятия «жизнь» и «работа», столь любимые им, были для него однозначны. И еще «любовь». Хотя это слово редко произносилось в его песнях. Говорил он о чувстве к женщине как-то деликатно, не разрывая рубаху на груди. Да и не использовал он свой успех, как эксплуатируют его сегодняшние, даже весьма затрапезные «звезды». Были, конечно, кое-какие недолгие связи, но главным были жены. При мне их было три. И отношения строились по формуле: «Ты у меня одна, точно в степи сосна». Отношения разные — и пылкие, и просто благодарные и драматические. Первая Юрина жена, журналист и талантливый «бард» Ада Якушева, — не только важный этап Юриной жизни, но и человек, многое определивший в его профессиональных пристрастиях. Ей посвящены многие его песни, которые после Юриного ухода «присвоены» преемницами. Ада и мать старшей Юриной дочери Тани, одаренного журналиста, принявшего от отца эстафету эфирного слова. Юра очень любил вторую жену — актрису Евгению Уварову, с которой его свел фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь», где оба они играли. Но что-то не сложилось. Расстались. С ней и дочкой Аней. Хотя с дочерьми он не расставался — любил обеих, заботился о них. С последней женой Ниной Юра прожил недолго. С его слов знаю, что это был брак без особого полыхания страстей, но в котором, как говорил он, было ему спокойно и тепло. Прибавлял: «Как у Хэма — "чисто, светло"». Он тяжко переживал, когда его бросила предпоследняя жена Таня. С ней Юра был «невенчан», неузаконен в качестве мужа, но через неделю после встречи с ней познакомил нас: «Это моя жена». А жена ушла, кажется, к генералу. (Да, милая авторша присланной мне записки, и страдания у Визбора бывали, и женщины бесчувственные.) И все-таки главным для него была однозначность слов «жизнь» и «работа». Последнее, что создал Визбор, — два сценария в сериале «Стратегия Победы». Этот цикл, рассказывающий о сражениях мысли в великой битве нашего народа, делался в творческом объединении «Экран» к 40-летию Победы. Я была художественным руководителем цикла. Я знаю, кто и как работал. И потому с уверенностью говорю: Визбор работал талантливо. Когда работаешь в рамках цикла вместе с другими авторами, ты невольно подчинен общим задачам, единой стилистике. Можно стать рабом стереотипа. Можно, конечно, стараться изобрести собственную непохожесть. Но тогда ты не встанешь в ряд единства. Сценарии Визбора в цикле не спутаешь с остальными, они визборовские — по интонации, по манере обращения с материалом, по характеру комментария. Но фильмы эти и не отрицают необходимых канонов общности сериала. Я думаю, что для Визбора это вообще очень важная черта. Он не был загадочным одиночкой в творчестве. И при этом был личностно узнаваем с первого взгляда, с первого звука. Во всем. В хоровых раскатах «бардовых» песен. В многостраничное современной журналистики. В бесчисленности документальных и художественных кинолент. В сериале «Стратегия Победы» Визбору как сценаристу принадлежат фильмы «Битва за Днепр» и «Победная весна». Схватка стратегий, противостояние умов увлекли его не меньше, чем схватки с арктической стихией или борения человеческого духа с неизведанностью космоса, которым он адресовал столько пронзительных слов. Юра был тяжело болен, перенес обширный инфаркт, лежа в кардиологическом центре. Я приехала навестить его. Он спросил: «Почему ты не привезла "Роковые решения" и воспоминания генерала Бредли?» Я запротестовала: «Уймись. Приди в себя. Какая работа?» Он покачал головой: «Без работы — загнусь. Только в ней спасение». И начал рассказывать, какие дипломатические мемуары только что прочел: теперь для него позиция Рузвельта на Тегеранской конференции обрела зашифрованный стенограммой смысл. И еще сетовал: в Висло-Одерской операции потерял одну армию, никак не может проследить ход ее действий. Огорчался по этому поводу так, будто завтра ему самому предстояло отдавать приказ о наступлении. На вечере в Институте океанологии один из самодеятельных певцов рассказывал, как чтили Юру «барды» юные, какой популярностью пользовался он у слушателей. (Да не только тот певец говорил об этом, все. А что до популярности, так что там: на похороны Визбора приехали горняки и строители из сибирской тайги, из Заполярья, из Каракумов. Его герои и почитатели.) Но тот молодой «бард», которого я сейчас помянула, рассказал вот что. В Куйбышеве систематически проводились фестивали самодеятельной песни. Склон горы служил гигантским амфитеатром на несколько тысяч зрителей. Визбор выступал в качестве почетного гостя, встреченный перекатами овации. Певцам в тот день было трудно: над бескрышным залом все время летали самолеты. Но вот вышел Визбор. Спел одну песню — в небе тишина. Другую — ни звука над головой. Запел третью. А в ней слова: «Надо мной рокочут ТУ». И сразу отозвалось в небесах рокотом. Рокотало положенное количество тактов, а потом смолкло. И продолжалась песня. Будто сам мир, сама жизнь были фонограммой, в которую вмонтированы песни Юрия Визбора, умело, естественно. Как на пластинках «Кругозора» с его песнями-репортажами. Вот еще один визборовский урок, который мы пытались одолеть с времен «Кругозора». Да, так и было. Жизнь во всем ее многозвучье окликала его, точно эхо. Его песни и строки озвучивали жизнь, сообщая ей для нас улыбку, печаль, веру в то, что любовь не побеждаема скудостью рационализма. У Юры была такая строчка: «Не путай конец и кончину». Мы не спутаем. Мы знаем: за кончиной не пришел конец. Пришло продолжение. Ведь каким был Визбор, еще предстоит узнать по книжкам, которые не вышли при жизни. Но выходят. По пластинкам, которые не прозвучали тогда. Но прозвучали теперь. Еще предстоит узнать его, потому что теперь предстоит задуматься. Как горько, что задумываемся мы сплошь и рядом уже после чьей-то кончины. Но кончину и конец не спутаешь. Правда, не у каждого. А может, это и есть мерило человеческой значимости — разность конца и кончины. Всей правды о глазах, подобных морю, — не знаю. Но есть другая песня. Та — обо мне. И о моем муже. Г. ШЕРГОВОЙ А жизнь у нас вышла такая: Пока все другие живут, Мы фильмы о жизни снимаем Длиною по тридцать минут. И этой работы лавину Имеют всю жизнь день и ночь Друзья — Александр и Галина, И Ксения — ихняя дочь. Нашей дружбе старинной Есть такая причина – Александр и Галина, И гряда долгих дней. В том вы оба повинны, Александр и Галина, Что мы любим с годами Вас сильней и сильней. Все было — и буйные чаши, И поиск гармонии слов, Рытье поэтических пашен И противотанковых рвов, Осколок, упавший в излете, Поэмы за ночь, за присест, Сильнее, чем «Фауст» у Гете, Сложней «Операции "Трест"». Наверно, тому есть причина, Что делу не виден конец, Что крутятся фильмов бобины На роликах наших сердец. Но все ж, несмотря на усталость, Мы снова выходим в эфир. Нам трудное время досталось: Борьба за разрядку и мир. Нашей дружбе старинной Есть такая причина Александр и Галина, И гряда долгих дней. В том вы оба повинны, Александр и Галина, Что мы любим с годами Вас сильней и сильней. 19 сентября 1981 Тут правда все. И «противотанковые рвы» (в 41-м я школьницей рыла их под Вязьмой), и «осколок» был, и поэмы (хоть и не за присест), и «Операция "Трест"» (муж был автором сценария знаменитого сериала Сергея Колосова), и дочь Ксения существует... А что касается Гете, то этой сталинской резолюцией мы всегда шутливо оценивали творения друг друга. (Кстати: надпись «эта штука посильнее "Фауста" Гете» великий знаток и ценитель литературы сделал на экземпляре горьковской «Девушка и смерть», штуки вполне заурядной. Опубликовать оценку вождя факсимильно решили в журнале «Огонек», когда я там работала. И произошел переполох: сентенция завершалась словами: «любовь побеждает смерть без мягкого знака на конце. Редакция терзалась: напечатать, как есть — явить массам безграмотность вождя, подрисовать мягкий знак — нарушить первозданность надписи? Две недели шли переговоры с ЦК. Никто не брал на себя ответственность. Наконец пришло разрешение: «подрисуйте». Но это так, к слову.) А в той песне все правда. И конечно, это — самая дорогая для меня запись из Юриных песен. Но у меня есть еще одна редкая, старая пленка, запись на старомодном «Днепре» или на чем-то вроде того, которую берегу. Запись, сделанная на праздновании моего дня рождения. Другого, не того, о котором рассказывала. Идет состязание Юры Визбора и Саши Галича. Это не только их единственный турнир. Это — единственный раз, когда они встретились. Юра, бывало, пел Сашины песни, как и песни других певчих авторов. Саша — только свои. Юра восхищался Галичем. Саша снисходительно числил Визбора среди певцов школярской романтики. Но в тот вечер они пели наперегонки, выкладываясь и соперничая. А меж песнями живут голоса, реплики Егора Яковлева, Толи Аграновского, многих. Звучат всплески голоса и Сашиной жены Нюши. Может, тоже единственно сохраненном. Впрочем, это — уже другая история. А такого рода «собранки» я сберегла в моих стихах «Московское состязание в Блуа». «ОТ ЖАЖДЫ УМИРАЮ НАД РУЧЬЕМ!» «От жажды умираю над ручьем...» Несложенных баллад бесплотные стропила. В первичном смысле обгцем и ничьем Поэта блажь еще не проступила. Поэты состязаются в Блуа, И, прикорнув в моей московской кухне, В братанье рифмы ринутся, едва Окрестных окон пресный свет потухнет. Здесь все пьяны. И каждый упоен Предчувствием божественных регалий. Вот — Юра Визбор, Франсуа Вийон, Вот — Толя Аграновский, Саша Галич. Кто нынче первым нанесет удар Своей струне, когда еще кромешен Восход стиха, но круглый зев гитар Уж отворен, как прорезь у скворешен. В который раз ликую и боюсь За обрученье музыки и речи. Друзья мои! Прекрасен наш союз! Он, как строка, неразделим и вечен! Вы живы вновь. Поэзия жива, Готовая учиться в первом классе, Где вечные азы взбунтуются, едва Мой вожделенный сон дневную боль погасит. И в доме летаргическом моем Турнир в Блуа затеется чин чином.... А умереть от жажды над ручьем Нужна ль поэту лучшая кончина? И за ее пределом, наяву Я снова вас, уже в небесной кухне, Как Карл Орлеанский, созову, Едва земная жизнь во мне потухнет. Глава III Ремесло Музы (Александр и Ангелина Галины) Ах, какая дерзость, Александр Сергеевич! Ее-то, из заоблачных сфер, в одеждах, тканных из эфирных нитей, ее с мерцающей над дудочкой улыбкой, ее, что не входила к Вам, а «являлась» — ее... «Сядь, Муза, ручки в рукава, под лавку ножки», да еще и приказано: «не вертись, вострушка!» Впрочем, с гениями, да и талантами вечно так: их личная Муза должна быть наделена даром перевоплощений и уметь менять античные туники на рубище или мятежный стяг, спеленывающий мифологическое ее тело. А то и самому гению вдруг достается стать музой другого. Помните, Александр Сергеевич, как трудились Вы в этой роли, когда, зажав под мышкой Ваши «Повести Белкина», Л.Н. Толстой приступал к «Анне Карениной»? А у поэтов — сплошь и рядом Муза, забыв первоначальное имя, жила земной жизнью и носила земные имя и фамилию. Музу Александра Галича звали Ангелина Николаевна. Недаром он обращался к ней с недоуменным: «мне странно, что ты — жена, мне странно, что ты жива». И впрямь странно быть женатым на Музе. Можно любить женщин, на них и женятся, можно воспевать возлюбленную, таков удел профессии, но быть женатым на Музе, которая тоже женщина, из плоти, крови, достоинств и пороков? Земной? Галичевскую Музу, по имени Ангелина Николаевна, Нюша, я имела в близких подругах, как и самого Галича в друзьях с тридцатилетним стажем, и тесное сплетение наших жизней дает мне право говорить о частном, скрытом, ведомом немногим. Говорить теперь, когда о Галиче (как и о Высоцком, Визборе и других ушедших знаменитостях) отговорили даже «друзья», знавшие их мельком, на ходу. Галич познакомил меня с Нюшей (тогда еще не женой) в то лето, когда кончилась война. Была она женщиной необыкновенной красоты и неправдоподобной худобы. Соединение этих качеств тут же отразилось в кличке, данной ей нашей компанией: Фанера Милосская. Не скрою, на наше военно-обшарпанное сборище Нюша произвела довольно странное впечатление, возникнув запёленутой в розовое боа из каких-то трофейных перьев, знавших лучшие времена. Пожалуй, слишком шумная. Слишком острая на язык. Хотя и компания наша скромной сдержанностью не отличалась. Но ее приняли. Приняли как избранницу друга, не более. Впрочем, очень скоро в жизнях многих из нас Нюша стала самостоятельным персонажем, ближайшим притом. Об Александре Галиче, как сказано выше, теперь написаны тома и сложены песни. Нюшу же почти не поминают, даже те, кто был ее личным другом. Чаще всего, поминая Нюшу, сочувственно или пренебрежительно роняют: пила. Да уж, и вправду пила. Порой до неукротимой шумности. Даже однажды была помещена в клинику. Но!.. Загулы ее были краткими, вменяемыми, общество не тревожащими. Это раз. А два... Начала-то она закладывать, пытаясь поглощать, ограничивать Сашины питейные запросы. Впрочем, ни Саша, ни Нюша никогда в хмельном бессмысленном беспределе не участвовали. Бывали веселые долгие застолья. Не тупое хлебание водки, в ужас повергавшее окрестности. Даже меня они не удручали. А я вообще не пью. Хмелею от общего куража. «Таков мой организм». Пьянки эти были оснащены песнями, байками, экспромтами. У нас с Сашей была заведена игра в придумывание на ходу «чекушек» — такой жанр мы внедрили в гулянки. Скажем: Саша: «И вот пошло тепло по членам...» Я: «по жилам трепет пробежал...» Саша: «нашел колено он коленом...» Я: «и предварительно пожал». Всех этих «возникновений», конечно, уже не помню. Но гуляли со вкусом. Хоть, что греха таить, и Саша и Нюша, бывало, перебирали, и порой горько. И бедой оборачивалось. Но не такой надо вспоминать Нюшу. К моменту нашего знакомства она заканчивала сценарный факультет ВГИКа. Писала сценарий о знаменитом металлурге Курако. Что с розовым боа как-то не сочеталось. Да и вся она была несочетаемой по обывательским меркам. Начать хоть с генов. Нюшин отец полковник Николай Иванович Прохоров — седой гигант с изысканным ликом столбового дворянина происходил из бедных крестьян. Дворянкой же была, напротив, тихая и хрупкая Галина Александровна, мама Нюши. И не просто дворянкой, а продолжательницей знаменитого дворянского рода Корвин-Круковских. Некогда в годы Гражданской войны красный командир Николай Прохоров увез ее из родительского поместья. По взаимной все разметавшей любви. Этот коктейль и бушевал в Нюшииой крови, хотя дворянские корни одолевали земную отцовскую суть. Николай Иванович молодое свое начало безоглядного ортодоксального коммуниста протащил через всю жизнь. Но странное, казалось бы, дело! Зять Саша, при всем своем фрондерстве и изысканности повадок, уважал неподкупность веры тестя. Чтил его. А к Галине Александровне относился с нежным почтением... Любил и Галку, Нюшину дочь от первого брака, девицу ума глубокого и саркастического, знатока искусств. Звал «моя дочь». Родную дочь от своего первого брака Алену Саша тоже, вероятно, любил. Говорю «вероятно», так как видел он ее крайне редко, в галичевском дому встретить Алену было весьма затруднительно. Ни в будни, ни в праздники. Я не уверена, что глубокая и долгая любовь вообще отличала Сашину натуру. Были восторженные увлечения умом и талантом разных людей, бытовавших в доме (И. Грековой, С. Рассадиным, Е. Бонер и др.), были привязанности к многолетним друзьям, были краткие (иногда дольше, иногда стремительные) влюбленности. Но уверена, что, несмотря на Нюшины «склонности», любил он только ее. Что до самой Нюши, то ее отношение к мужу любовью даже не назовешь. Это была оголтелая влюбленность длиною в десятилетия. Полное отречение от себя, брошенное к его ногам. Как я уже сказала, Нюша была сценаристом, и сценаристом талантливым. Она отказалась от профессии, ибо собственная работа могла отнять время и внимание, принадлежащее только ему, мужу. И в годы его успешной драматургической деятельности, и в годы шумной крамольной славы. Только однажды Нюша написала пьесу. Позвала пять-шесть человек послушать. Все сидели молча, потрясенные: пьеса была необыкновенно талантлива. Кто-то из слушателей прошептал: «Саше такую не написать». Хотя, конечно, была эта пьеса «непроходима». Я спросила ее: — Зачем же ты писала? Ведь советская сцена такое никогда не примет. Сразу она не ответила и только наедине сказала мне: — Я должна была доказать Саше, что могу. Пьеса, написанная для одного человека, вероятно, не сохранилась. Кому нужно сберегать безвестное наследие?.. Это о таких, как Нюша, я позднее написала в своей поэме: В щелях подрамников, за тактами хоралов Таимся мы — талантов двойники, Кто жертвует на мрамор пьедесталов Своих имен безвестных медяки. И все-таки Нюша присутствует в Сашиных творениях. Галич — человек светский, «в народ» не очень-то ходил. Всякая бытовуха, типа магазинов, скучных учреждений, лежала на Нюше. Из ее походов по заурядности пришла в Сашины песни и кассирша, что всю жизнь трясла челкой над кассовым аппаратом, и пьяный, который имел право на законный «досуг», и многое другое. Нет, нет, я вовсе не утверждаю, что все сцепы песен подсказаны наблюдательной женой. Фантазия Галича всегда бурлила. Именно фантазия, а не пресловутое изучение жизни. Так что на навязчивый вопрос аудитории: «Вы пишете из жизни или из головы?» — он мог отвечать однозначно: из головы. Помню, что его кто-то упрекал, что, не сидев в ГУЛАГе, он сочинил «Облака». «Вы же там не жили», — горячился оппонент. Галич саркастично пожал плечами: «Пушкин ведь тоже не жил в Средние века, а написал "Скупого рыцаря"». Уже во многих книжках отмечалось, что Галич был хотя и не блестящим драматургом, но весьма профессиональным. Истинный его талант явился в песнях. Но своеобразности Сашиной песенной поэзии без драматургического прошлого, думаю, не произошло бы. Именно в галичевских песнях индивидуальность, очерченность языка персонажей явилась так блистательно. Именно драматургия определила завершенную сюжетность его баллад. Именно это он и привнес в русскую поэзию. Бытовой, домашний язык Саши был изящен, богат, но не изобиловал «чужеродностью» лексикона. Нюшина речь была всегда просолена словечками всех народных слоев. Полагаю, они в галичевских песнях шли в дело. И иные обязанности лежали всегда на Нюшиных плечах. Да не то слово я употребила — «обязанности». Что-то в нем скучное, насильственное прощупывается — «обязан», «должен». А почти каждодневные обязанности сиделки, медсестры, уколы, капли, вкалывания всяческие (о, Музово ли это дело!) справлялись этой женщиной с веселой (чтоб, не дай Бог, Сашу не напугать) ежедневностью. Правда всегда с зажатым ужасом сердцем: инфаркты-то Сашины были делом нешутейным. А вот семейные раздоры (в какой семье их нет!) забавны порой. Звонок по телефону, мрачный Нюшин голос: «Мы с Сашей разводимся». Перепуганная, мчусь на Черняховского. Оказывается, Галичи не сошлись во взглядах на крещение Руси. Чисто философский подход к семейным дискуссиям. Такой вот диапазон — от теологических несогласий и столкновений литературных пристрастий до бурных Нюшиных обид на тему: «Сашка вчера опять перебрал». Или недовольств Сашиных: перебрала Нюша. Но главное: именно Нюша была источником галичевского противостояния трудностям и бедам. Есть много версий того, как началось властное преследование Сашиных песен. Самая ходячая: пленку услышал член Политбюро Д. Полянский на вечеринке своего зятя режиссера Ивана Дыховичного. Не так все было. Почин репрессиям положила ревизия фонда записей на государственном радио. Девушки-звукорежиссеры переписывали Сашины песни (для внутреннего пользования) и хранили кое-что на работе. Кто-то стукнул. Однажды Юра Визбор (тоже попавший под опалу) сообщил мне тревожно об этом и попросил предупредить Галича. Тогда они не были знакомы. Поехала я к Галичам бить тревогу, если угодно, «будить бдительность»: «Хоть в каких попало компаниях не пой! Стукачей-то пруд пруди». Однако друзья мои восприняли известие довольно спокойно: «Ну и хрен с ними!» Волнения начались позже. Сашу «приглашали» в инстанции, поначалу уговаривали, потом стали пугать. Конечно, тут уже безучастность к происходящему испытывать было трудновато. И тем не менее... Помню, в Центральном доме литераторов (ПДЛ) отмечали мы защиту диссертации общего друга Марка Колчинского. Когда здравицы отгремели, встал Саша: — А сейчас я спою новую песню: «На смерть Пастернака». Собственно, считайте премьерой. Это и была премьера. Почти премьера. К. И. Чуковскому Саша спел эту песню лишь накануне. Присутствующие приутихли: крамола закипала в самом логове идейных врагов (ЦДЛ). И тогда сказала Нюша: — Откройте все двери. Пусть слышат. — Нюша сказала, именно она. Все потом было: и скандальное, злобное исключение из Союза писателей, уравнявшее безотчетно Галича с Пастернаком: оставили лишь «членом Литфонда», как значилось в свидетельстве о смерти Бориса Леонидовича. Было и тихое, как бы застенчивое, исключение Галича из Союза кинематографистов, пережитое Сашей с большой болью: отторгали друзья-киношники. Но и первый писательский удар был жестоким. Мы с мужем приехали к Галичам назавтра после заседания. Саша лежал с сердечным приступом. Я жалостливо и испуганно шепнула Нюше: — Не надо ему больше петь. Ведь эти и посадить могут. И снова сказала она: — Плевать. Нам надоело бояться. Таково мастерство Музы — с дудочкой, в эфирных одеждах, с вдохновением в плечевой сумочке. А потом мы провожали Галичей. В ссылку. Комфортабельная, она и тогда ссылка. Потому что отторгает от своей жизни, от своей почвы, от своих близких. Навсегда. Античные греки это понимали. И Нюша понимала: никогда, никогда, никогда не увидит ни мать, ни дочь. Случилось — даже не похоронила. Даже выжить им не могла помочь. Овдовевшая Галина Александровна одиноко и нищенски жила на новостроечной окраине. Галка, ютившаяся где-то у подруги, сама выгнанная «за связь с врагом» со всех работ, мало чем могла помочь бабушке. Когда я думаю об одиночестве как о состоянии, всегда перед глазами Галина Александровна, а потом — Нюша. Раз в год, раз в полгода Нюше удавалось передать в Москву какие-то заграничные шмотки — матери на пропитание. Ездившие за границу эту миссию осуществлять боялись. Каюсь: боялась и я поддерживать даже переписку с подругой: в конце писем Галины Александровны (ей-то уж нечего было терять!) делала приписку без подписи. Раз в два-три месяца команда Нюшиных подруг, всегда в одном составе: Ира Донская (жена Марка Донского), Аня Коноплева (жена замдиректора «Мосфильма»), Наташа Колчинская и я — набивала продуктами сумки и отправлялась к Галине Александровне. До сих пор перед глазами наши морозные рейды (почему-то вспоминаются именно зимние) по окраинным колдобинам в чистенько прибранное прибежище бедности и горя. Не знаю, может быть, мы не одни проделывали то же самое. Но затравленная Галина Александровна чутко оберегала тайну таких посетителей. Не навредить бы чьему-то сердобольному участию. Хлопотала, заваривая по пятому разу спитой чай, вытаскивала серые сухарики, мелко и изысканно нарезанные. О смерти матери, а потом и дочери Нюша узнала в Париже и проводить их в другой мир не смогла. В Москву власти наши ее не впускали, а, впустив-то, не выпустили бы. Но будь я ваятелем, символ одиночества я лепила бы на такой манер: не заброшенная старушка в полупустой комнате, нет. Это была бы элегантная седая дама где-нибудь у Эйфелевой башни, омываемая парижским людским потоком. Такой я и увидела (довелось-таки увидеть!) Нюшу в последний раз. Мне повезло: я попала в Париж одна, без сопровождающих соглядатаев. Каюсь опять: в качестве члена делегации я бы побоялась, да, побоялась бы даже позвонить подруге, о которой мечтала, которую часто видела во сне. В снах она приходила всегда молодой, блистательной, почему-то в неизменном черном вечернем платье. На наше свидание пришла стареющая женщина, подновленная чрезмерной косметикой и дорогими туалетами с почтенным стажем. Прошло уже несколько лет со дня загадочной Сашиной гибели: был он убит током при включении нового телевизора. Была трезва. Только то и дело звала в кафе: принять пивка. Мы вместе провели целый день. Сходили на могилу к Саше — единственному Нюшиному пристанищу для собеседований: больше ей беседовать было не с кем. Эмигрантские друзья после Сашиного ухода, погруженные в собственные дрязги, забыли о том, что вдова-то еще жива. Через месяц после моего возвращения в Москву она прислала мне письмо и вложенную в конверт крошечную фотографию: она с любимой собачкой. На обратной стороне карточки значилось: «Это моя собачка Шу-Шу. Больше у меня никого нет». В Париже у нее не было никого и ничего. Даже языка. Никого не было рядом, когда она погибла ночью в огне пожара, вспыхнувшего от непотушенной сигареты. Сегодня у Саши много друзей. Гораздо больше, чем при жизни. У Нюши нет почти никого, даже в Москве. С уходом трех-четырех человек не останется и тех. И она иссякнет вовсе. Так пусть она хоть как-то продлится на этих страницах. Глава IV Легкая жизнь (Александр Каверзнев) ...Ливрейный лакей, надо полагать, для значительности, оснащенный алебардой, провел нас по ковровой дорожке, пересекавшей двор, распахнул ресторанную дверь и произнес на трех языках: «Милости просим!» Видимо, нашу национальную принадлежность с ходу определить не мог. Когда мы сели за столик, примостившийся под надменным навесом старинной кладки, Саша сказал: — Господи, какой праздник — ваш приезд! Это было в другой раз, в другой год, в другую ночь. Но тоже — в Будапеште. ...Мои руки, ухватившиеся за костыли, дрожали от напряжения, палки вязли в рыхлой поверхности дорожки. А я думала: «Какая я, наверное, страшная! Но ведь косметика здесь была бы безвкусна!» Саша сказал: — Ступайте смелее, не бойтесь, я же — рядом. Он имел в виду костыли и мою послеоперационную беспомощность. Но сколько раз я действовала смелее в жизни, в работе, потому что он был рядом. Не только в Будапеште, но и во всяких других городах. Мы познакомились в Москве, работая на телевидении, но подружились именно в Будапеште, где Саша был корреспондентом Центрального телевидения Советского Союза по Венгрии. Венгрии, которую я так любила и куда ездила часто. Позднее Саша переехал в Москву и стал одним из политических обозревателей ТВ. Впрочем, «одним из» — неверно. Он не был «одним из» ни в своей холодноватой прибалтийской красоте, ни в вежливой отгораживающей застегнутости, которая внезапно могла смениться необузданностью загула, ни в придирчивой верности очень узкому кругу друзей. Но, главное, он был совершенно непривычным персонажем экрана. Элитарный, был почитаем миллионами. Когда Сашу хоронили, вся улица Качалова и прилежащие переулки были запружены народом. Тогда так не провожали телеведущих. У него была своя профессиональная загадка, которую я пытаюсь осмыслить и поныне. Помню, мы отмечали пятидесятилетие Александра Александровича Каверзнева. Наш юбиляр все повторял: «А мне легко работается. Мне правда легко работается». И телезрители говорили: «Как он свободно держится перед камерой». Тогда я подумала: а ведь действительно, он держится свободно, потому что легко работает, и работает легко, потому что свободен. Часто за свободу принимают бездумность. Но истинная свобода требовательна, она ставит человеку много условий, прежде чем он овладеет ею. И эти условия — наши достоинства. Чем их больше, тем больше выбор. А возможность выбора — главное условие свободы. Он был обаятельным человеком, люди тянулись к нему. Он мог выбирать, за жизнь он отобрал себе тех, кому не изменял никогда. Это прекрасная свобода верности. Но как непроста верность такой свободе — не изменять себе самому. Он был талантлив. В его лексиконе публициста было много слов из обильной русской речи. Оттого был свободен в их выборе. Зрители знают лишь его звучащее слово. И хотя у этого слова, к которому ты не можешь вернуться, чтобы перечесть, вдуматься в фразу, — свои законы, речь Каверзнева была всегда подчинена высоким требованиям литературы. В своих работах он воссоздал облики разных стран, разных людей точно и зримо не только потому, что мы видели их воочию на экране. Слово Каверзнева было той кистью живописца, которая дорисовывает, преображает кадр, дает ему многомерность. Как бы ни полыхали на экране кубинские поля сахарного тростника, охваченные пламенем, поставленным на службу сафре, мы бы не услышали, не разглядели, как «пламя с хрустом поглощает сухие стебли» и как под ударами мачете «жерди сахара ложатся в ровную кладку», если бы Каверзнев не рассказывал об этом словами, у которых были зрение и слух. Мы не увидели бы во всей многоцветности лаосский «Новый год в апреле», когда люди поливают друг друга окрашенной водой, если бы Каверзнев не отдал нам своего ощущения в эти минуты. Но что самое существенное — кадры не сообщи- ли бы нам чувства и не дали оценок происходящего, если бы каверзневское слово, каверзневская мысль не превращали зримое им в обличительный документ, или в возможность сопереживания, или в повод для наших собственных раздумий. Он говорил: «Труднее всего даются первая и последняя фразы». Между этими двумя точками — не прямая, а петляющие, изматывающие пути поисков. Наверное, из всех поисков поиски единственного слова — труднейшие. Чтобы добраться до искомого, нужно пройти поиском темы, поиском героя, поиском поступка, в котором скажется герой. А потом — эта первая и последняя фразы. И все фразы между ними. Каверзнев в каждой работе проходил весь маршрут, не щадя себя. Шла ли речь о том, чтобы добраться до труднодоступного, простреливаемого района, или о том, чтобы «обломать перо» о неподдающуюся конструкцию фильма. Но когда он доходил до последней фразы, ему было легко. Одоление рождает чувство легкости. Мне всегда казалось, что мое природное легкомыслие тоже сообщает легкость в одолении сложностей. Но, думаю, легкомыслие — еще не артистизм. У Саши даже его закидоны, даже манера изъясняться вибрировали от артистичности. К сожалению, для меня запахи Будапешта, особенно осеннего, охваченного, как пламенем, веселой свирепостью багровых склонов Буды, были смешанными. Не только слабый уксус дунайских набережных, не только грибной запашок прелой листвы, не только призывный дух, сочащийся из дверей уютных харчевен. К ним часто был подмешен скучный настрой аптеки. Несколько раз я лечилась в будапештских клиниках. Давнее фронтовое ранение обернулось разрушением бедренного сустава, и в Венгрии мне его заменяли на искусственный — эндопротез. У нас тогда такое почти не умели делать. (А вещь замечательная: после установки первого протеза я двадцать лет отходила на лыжах, каталась на велосипеде — все, как у людей.) После первой операции, когда я лежала еще почти недвижимая, Саша приехал навестить меня. Привез гвоздики. С порога уткнулся взглядом в гигантский букет роз, стоящий на столике, небрежно бросил гвоздики на кровать, хмыкнул: — С такими соперниками тягаться бессмысленно! Кто же этот мастак? Розы действительно были потрясающие, я таких уже никогда не видела. На гигантских прямых стеблях надменные бледно-желтые лампионы. Прислал их мой венгерский друг Дьердь Ацел. О чем я и сказала Саше. Реакция была неожиданной. — Когда пойду в бой, оставлю записку: «Если не вернусь, прошу считать меня венгерским коммунистом». Дело в том, что Ацел был членом Политбюро, секретарем ЦК по идеологии Венгерской правящей партии. Деятельность Ацела, как и его свободомыслие, всегда вызывала шок в рядах «братьев по социалистическому содружеству» и считалась чуть ли не подрывной. Чем и вызывала восторг многих советских представителей творческой интеллигенции. В том числе Сашин и мой. — Но Ацел не пришел ставить вас на костыли? А я пришел. Будем учиться ходить. Поднимайтесь, врач разрешил. Идем на улицу. — Но я пока хожу только по коридору, — слабо запротестовала я. — Мне не выйти. — Выйдем вместе. Одевайтесь. Мои руки, ухватившиеся за костыли, дрожали от напряжения, палки вязли в рыхлой поверхности дорожки. А я думала: «Какая я, наверное, страшная! Но ведь косметика здесь была бы безвкусна!» Саша сказал: — Ступайте смелее, не бойтесь, я же рядом. Мы одолели пятьдесят шагов. Вернулась в палату. Саша осведомился: — Устали здорово? Ничего, постарайтесь поспать. А я посижу рядом и попытаюсь уговорить Духа Болезней оставить вас в покое. И рассказал, что в каких-то племенах (не помню в каких) злобный Дух Болезней идет на переговоры. Лучшим лекарем считается обладатель самых неопровержимых аргументов, перед которыми Дух пасует. — Чем ему мои ноги-то не угодили? — О, у этого мерзавца отменный вкус, он всегда кидается на самое лучшее. Между прочим, ваши глаза — тоже объект для его агрессии... Хотя в вас, вообще, для этого гада тьма соблазнов. С извечным женским идиотизмом, требующим развития и расшифровки безответственных комплиментов, я мяукнула: — А для вас? — А я, вообще, Дух Всех Пороков. — Вы — Дух Всех Талантов, — неуклюже польстила я в ответ. Но сказала правду. О чем думала по разным поводам. Да, он был очень одаренным человеком и потому свободным от зависти, хотя известность пришла к нему позднее, чем ко многим его коллегам. Как по-настоящему одаренный человек, Каверзнев знал, что удлинить время можно только спрессовав его — вопреки всем представлениям физики. И он набивал свое время до отказа. Он знал, как мало кто другой, проблемы европейских стран «социалистического содружества». Специалисты удивлялись его эрудиции в передачах о Китае. Его передачи о Второй мировой войне поражали обилием переработанной информации и смелостью сопоставлений. Для фильмов о Корее, Лаосе, Кампучии он штудировал историю этих стран и их философско-религиозные учения. Он был образованным человеком. Он знал свободу обращения с десятками томов, а не спеленутость мысли между двумя цитатами. Конечно, легко размышлять, когда ты знаешь много. Но какой это труд — узнать многое. Я тоже чему-то училась, полагала, что кое-чего знаю. Но какое унижение невежеством терзало мое солнечное сплетение, когда Саша и Олег Иванов начинали в наших спорах сыпать ссылками на источники! Я фолиантов этих-то и по названиям не знала. После Сашиной кончины мое сознание собственных несовершенств не кончилось. Подобные беседы Олег вел с моим мужем. Олег Иванов — журналист, искусствовед, художник, достался мне по наследству от Саши, ближайший его друг стал моим другом, подругой, наперсником, первейшим критиком работы. Мы с одинаковым восторгом могли смаковать загадочности рублевской «Троицы» и нестыковки в Олеговом адюльтере (или моем увлечении). Недавно навсегда ушел и он. Провожая его на гражданской панихиде, я думала о недавнем разговоре, когда он сказал: — Омерзительность болезней не только в том, что они лишают свободы поведения. Боли и немощи отнимают возможность уйти достойно и свободно. А я бы хотел быть независим и свободен до конца. Это так заманчиво — держаться перед Костлявой свободно. Как Сашка держался перед камерой. Олег часто повторял это: «Как Сашка». Да, Каверзнев свободно держался перед камерой. Но он свободно держался и с любым собеседником, какого бы высокого ранга тот ни был. Помню, мы вместе с ним брали интервью у руководителя Венгрии Яноша Кадара и вождя итальянских коммунистов Луиджи Лонго. Каверзнев беседовал с той свободой, которая не покушается на панибратство или выпячивание собственного «я». Он разговаривал с той естественностью, которую дает лишь одно качество: человеческое достоинство, если ты обладаешь им по праву. Пожалуй, ничто не требует от многих такой изнурительной обработки натуры, как достижение естественности. Естественность ведь вовсе не пренебрежение общественными нормами или нянчанье своей индивидуальности. Право быть самим собой не прописано в декларациях прав человека. Наверное, потому, что это право не может быть всеобщим, оно — удел избранных. Я сказала, что Саша был естественен в любой беседе, невзирая на ранг собеседника. Он и земные радости принимал как естественное состояние природы. Поездки, посиделки, гулянки с ним меньше всего можно было окрестить «времяпрепровождением». Он никуда это самое время не препровождал. Он давал времени течь и купался в его течении. Помню, заканчивался срок Сашиной работы в Венгрии, через несколько дней предстояло вернуться в Москву. Я тоже завершила очередное пребывание в будапештской клинике. Мы решили отпраздновать прощание с Будапештом, для чего я выпросила разрешение медицинских властей. — Поедем в самое роскошное заведение, — сказал Саша.— У вас есть вечерний туалет? Туалет был. В тот раз я задержалась в Венгрии на полгода, а посещение официальных приемов требовало соответствующего обмундирования. Чемодан с «вольной» одежкой хранился в гостинице у Чухраев. Знаменитый кинорежиссер Григорий Чухрай и его жена Ира тоже были частыми гостями в Венгрии, где Гришу очень чтили. Поехали к ним. В чухраевском номере я выволокла платье, красивое вполне платье из серебряной парчи, туфли и тут обнаружила прокол. Туфли были на высоченном каблуке, я самонадеянно решила, что и после клиники сразу загарцую. Как бы не так! Я и удержаться-то на каблуках не могла. Извинившись, Саша сказал, что ненадолго отлучится, забыл какие-то бумаги в офисе. Через полчаса он протянул мне коробку с серебряными туфлями на низком, удобном каблуке: «— Вы мне очень облегчили задачу, я никак не мог придумать для вас сувенир в память о Будапеште. Ресторан был действительно роскошным, что засвидетельствовало поданное нам меню. Не без смущения я прочла: — Яйца под майонезом — 250 форинтов. Надо сказать, указанная сумма тогда равнялась стоимости приличных туфель. Разумеется, правда, не моих фирменных серебряных. Саша хохотнул: — Чьи же это яйца?.. Ну и фиг с ним. Потянем, сегодня все потянем. Сказать по правде, употребил он не словосочетание «фиг с ним», а иное наше российское выражение беспечности. Потому тут же добавил: «Простите». На что я великодушно заметила: — Ну что вы! Потомку Бодуена де Куртене положено пользоваться всеми богатствами русской лексики. Так оно и было: прославленный лингвист, автор знаменитого «Приложения к толковому словарю Даля» приходился Саше, похоже, дедушкой. А в «Приложении» содержался наш замечательный ударный лексикон, без которого речь русского человека дистиллирована и фригидна. Хотя Даль этими россыпями застенчиво пренебрег. В своей, так сказать, разговорной практике Саша (во всяком случае, в моем присутствии) трудами предка не пользовался. Поэтому сказал кельнеру по-венгерски нечто галантное, хотя, по утверждению филологов, именно венгерский предоставляет нашим крепким выражениям достойные адекваты. Так или иначе, ни драгоценные яйца, ни прочие иноплеменные кушанья, изготовляемые в нашем присутствии на полыхающем зеркале подкаченного к столику модернового очага, соответствующих затрат не стоили. Куда вкусней была закусь в харчевнях и бессонных «нон-стопах», которых в ту ночь мы сменили множество. Под утро вернулись в клинику. Мне необходимо было быть на месте до прихода врачей. Пространство было обставлено тяжеловесными тенями казенных атрибутов больничного вестибюля. Или предметами, обращенными в тени постным светом немощной лампочки. А может, зал был загроможден сгустками особых запахов, селящихся навсегда в подобных заведениях. И вахтер сонный, грузный, дремавший за своей конторкой, тоже казался плотной тенью, сгустком запаха. Серебряный хвост моего платья поймал немощный лучик потолочного светильника, смахнул одну тень, другую и подкрался к вахтеру. Отчего тот привстал, бессмысленно уставившись на меня. Нет, даже с испугом. Что неудивительно. Возникновение некой дамы, спеленутой серебряным одеянием в предрассветном унылом помещении, привычном только к серому стаду больничных халатов, обращало происходящее в нелепую фантасмагорию. — Завтра беднягу переведут в психиатрическое отделение, — сказал шепотом Саша и помахал мне рукой: — Бог в помощь! Но вахтер все-таки буркнул положенное: — Вы куда? — К себе, в изолятор. Моя палата, где я находилась на реабилитации, помечалась табличкой «Изолятор». Слова эти «изолятор», «реабилитация» в сознании советского человека тех времени имели смысл, связанный только со сталинскими репрессиями. Поэтому все мои московские друзья не упускали случая съязвить в письмах: «Так, значит, все-таки ты не "без права переписки"? И какой срок тянешь?» Чтобы достичь палаты, надо было миновать несколько постов. И везде заспанные сестрички или санитарки, бессмысленно пялясь на мои серебряные одежды, не могли понять, что за чертовщина творится в чинных и бесцветных владениях клиники. Назавтра, как мне рассказали, они спрашивали друг друга: «Тебе ночью ничего не привиделось?» А Саша подвел итог фантастическому происшествию: — Как замечательно хлебнуть хоть малость кафкианства! А то что у пас с вами за жизнь? Все публицистика да публицистика... Будто скучал в профессии. Каверзнев был блестящим публицистом. В политическом фильме, публицистической передаче мы иногда грешим, я бы сказала, «избытком страсти», заменяющим аргументацию. Восклицательные знаки порой предпочитаются кавычкам, то есть неопровержимости документации. При всей логической отточенности мысли, безупречной конструкции аргументов Каверзнев был доказателен еще и потому, что в его арсенале документ становился оружием, бьющим без промаха. В этом тоже проявляла себя каверзневская свобода владения материалом. Он перерывал груды источников, чтобы найти единственно необходимый и беспрекословно убедительный аргумент для возможного оппонента. «Бесстыдство Пол Пота поразительно, — говорил Каверзнев в фильме "Весна в Пномпене". (Речь шла не только о личных "достоинствах" кампучийского палача, но и о бесстыдстве политика. Г. Ш.) — Когда Пол Пот, еще только стремившийся к власти, отсиживался в джунглях, тщательно скрывая свои замыслы и нуждаясь в поддержке, он писал в Ханой: "Все наши победы неотделимы от поддержки наших братьев и товарищей по оружию, каковыми являются партия и народ Вьетнама"». И дальше Каверзнев приводит текст листовки, отпечатанной в Пномпене через год: «Помните, что вы находитесь здесь на кампучийской территории. Кампучийская территория простирается до Сайгона». Каверзнев не тратит «экранную площадь» на долгие разговоры о беспринципности Пол Пота и его цезарских амбициях. Вольтова дуга двух документов высекает свет истины. Трагедии Кампучии в мировом кинематографе посвящено немало фильмов. Однако Каверзнев дважды возвращался к этой теме, не боясь повторений уже сказанного кем-то. В фильме «На перекрестках Кампучии» есть эпизод разговора автора с убийцами сотен безвинных сограждан. Выродки, насильники, вурдалаки. «Нужно усилие воли, — говорил Каверзнев, — чтобы подавить в себе гаденькую, мстительную мыслишку: вот им бы тот режим да тот рацион, на котором полпотовцы почти четыре года держали весь народ». Движение души закономерно, едва ли не каждый испытал бы такое. Но Каверзнев все-таки оговаривается: «гаденькая, мстительная мыслишка». Отношение к увиденному и осмысление его не вправе быть в плену у чувства. Нужна мировоззренческая позиция. Она диктует Каверзневу и формулу, и стиль отношения. У чувства нет формул. У мировоззрения они есть. И при всей их сложности они безупречны только в том случае, если безупречно мировоззрение. Но они действительно сложны: их не уложишь в четыре действия арифметики. Формула отношения к врагу, даже вчерашнему, не несет в себе всепрощения. И не нужно так понимать сказанное Каверзневым. Недаром в другом эпизоде он же говорил: «Я верю в истину, провозглашенную без малого двести лет назад в Парижском конвенте: "Милосердие тоже революционная мера". Но я не решился бы сказать, что в Кампучии это достаточная мера. Нет. И пусть нам не покажется странным, но силой оружия надо защищать и этих людей». («Красных кхмеров», запуганных или оболваненных, превращенных в бандитов. — Г. Ш.) И еще. Полпотовская шайка не просто превратила страну в тюрьму под открытым небом. Она загнала человеческую мысль в казематы тупого догматизма. Только широта мышления может убедительно облечить слепоту правителей, пытающихся ограничить зрение народа шорами бессмысленных догм. В полпотовских реестрах священнослужители числились «бандой реакционеров № 5». Стоя у чудом уцелевшей пагоды, рассматривая наивные настенные рисунки, в которых люди пытались обрести душевную опору, Каверзнев размышлял: «Нельзя смотреть на это глазами европейца. Здесь суть не в мистицизме. Здесь речь о сумме этических и культурных традиций, совместившихся с освободительной борьбой и национальным строительством. Полпотовцы не просто разрушали пагоды. Они рвали нити, связывающие людей, разрушали личность». Собственный атеизм не был для Каверзнева глухой стеной, за которой невозможно рассмотреть чужие верования и представления. Про Сашин атеизм, пожалуй, неточно. В его выступлениях жила языческая первозданность просвещенного скептика. Пренебрегать узаконенню-почитаемым, отдаваться владеющему минутой. И своим идолам — безъязыким каменным львам Цепного моста, рыжим перекатам будайских холмов, перемешиванию дня и ночи. И педантизму в работе. Таким идолом был для него Будапешт. Для меня тоже. Каждая встреча с этим городом выволакивала из любой душевной спячки зрение, слух, желания. Разбуженность эту я могла означить лишь языком стиха: ВОЗВРАТ К СТИХУ Опять Дунай домов скольженье Проносит в воздухе густом И задевает отраженьем Изнанку влажную мостов. На водах — здание земное И шпиль, упавший напрямик... Однажды виденною мною Узнай меня! В себя прими! Втяни, как нить в ушко иголье, В туннеля сумрачную пасть, Чтоб в неостывшие уголья Холмов будайских мне попасть, Где каждый дом под стражей сада Закатом медно остеклен И красным мехом винограда И — вправду! — точно раскален. Где тополь мой листву тасует, Чтоб я могла его узнать, Чтоб неповадно было всуе Твое мне имя поминать, О, Будапешт на сломе года, Мне лист пославший вестовым! Твоей листвы твоя колода Сдана до карты мостовым. И я сама уже не в праве Своей колоды не сдавать, Пред наготой дерев лукавить И с листопадом блефовать. Ведь возвращенье в каждый город (Коль ты вернуть себя сумел) Возврат к тому, что не пред взором, А там — за тридевять земель. Ведь возвращенье только повод К свободе зренье, слуха, чувств. Вернулась я. Вернулась. Снова Я — вижу. Слышу. Я — хочу. Когда я прочла Саше эти стихи, он сказал: «Это и мои возвраты в Будапешт. Мне здесь особенно легко работается». Тогда я впервые услышала «легко работается». Но, думаю, он имел в виду не только чудодейство города, но и вообще свою повадку в работе. «Мне легко работается», — сказал Саша. Легко в самом трудном. Что может быть завиднее? А ведь трудности не только словесных баталий сопровождали его в путешествиях. Сколько раз опасность, просто опасность для жизни стерегла его. Недаром наши солдаты, встречавшие его в Афганистане, вспоминая Каверзнева, всегда прибавляли: «...и какой смелый»... Но и об этих вещах он говорил легко, не бравируя храбростью, не делая вид, что все ему нипочем. На таиландской границе, где в «труднодоступных приграничных районах осели вооруженные отряды агрессивных недобитых полпотовцев», ночами не спалось, несмотря на дневную изнуренность жарой и работой. И он рассказывал: «Впрочем, не спится не только нам, приезжим русским. Кхмерские товарищи, едущие с нами, тоже ночами как тени бродят по высоким гулким галереям обычно пустующих вилл и гостиниц». И все. И никаких рассказов о выстрелах из джунглей или переплетах, в которые попадали наши корреспонденты во время провокационных инцидентов, затеваемых с той стороны границы. В Афганистане было еще опаснее. Каверзнев сам вызвался ехать туда. Среди обилия тем, которыми он занимался, у него был выбор. Он выбрал Афганистан. Но ведь право на выбор — это свобода. Вместе с оператором Вячеславом Степановым Каверзнев привез из Афганистана материал для фильма. Это было последнее, что он успел сделать. По его дневникам товарищи сложили и откомментировали ленту. Вернувшись из Афганистана, Саша позвонил мне: «Очень хочется повидаться, но я что-то загрипповал». — Там было страшно? — спросила я. — Жутко! В каком-то подвале на меня прыгнула крыса и тяпнула за ляжку, — засмеялся он. При чем тут смех? Действительно, что может быть страшнее крысы! Для меня рядом с этой тварью любой артобстрел — щекотание нервов. Саша смеялся, а совершенно не исключено, что крыса и принесла трагедию. Ведь он умер от какой-то неведомой инфекции, которую не могли побороть медицинские светила, даже военные медики, вызванные из Ленинграда Юрой Сенкевичем. В день похорон раздался звонок незнакомого человека, назвавшегося представителем какого-то медицинского ведомства. Он наставительно сказал: — Не целуйте, пожалуйста, Александра Александровича в гробу. И предупредите всех друзей. Я предупредила. Но Сашу в лоб все-таки поцеловала. Он ведь любил легкомысленные поступки, что замечательно. Рассказывая о моем друге, я не хочу делать из него ангела только потому, что его уже нет среди нас. Хотя не грешу против истины, говоря, что был он замечателен. Бывал он и легкомыслен, мог необдуманно попасть в передрягу. Но это было, я бы сказала, какое-то моцартовское легкомыслие, которое тоже делало его свободным. Свободным от скучных прописей и уподобления «идеальному герою». А так — жизнь была щедра к нему, все у него было: ум, талант, красота, обаяние, верность в дружбе и верность друзей. Был дом, в который ты мог прийти в ночь-полночь и знать, что терпеливая хозяйка обогреет и накормит. И хозяин будет тебе собеседником, не перестающим удивлять неисчерпаемостью мыслей, побуждающих тебя к размышлениям. И будет весело, ведь хозяин веселый. Два прекрасных сына — журналист и художник — встретят тебя в этом доме. И уходил ты с той стойкой радостью, которую дает сознание: какой блистательный друг у тебя, как ты его любишь. Мы все его любили. Потому мы тоже свободны. Свободны от забвения. Мы несвободны лишь от нескончаемых уроков, которые преподала нам его нелегкая «легкая жизнь». Уроков, которые хочется постигать заново и заново. И первейший из них: трудна в нашей профессии легкость. И еще. После известия о кончине Александра Каверзнева на телевидение пришло много писем и телеграмм от зрителей, называвших его «любимым комментатором». Авторы их были разных профессий — от разнорабочего до академика. Интерес к его работе был всенароден. Но ведь то, что он делал, никогда не было отмечено нарочитой простотой, которая сродни упрощенству. И все-таки он был доступен всем. Он никогда не пытался заискивать перед зрителем, стремясь нравиться. И все-таки нравился всем. Потому-то и нравился, что оставался самим собой. Вероятно, для того, чтобы твое слово, твоя работа стали всеобщими, нужно, чтобы они в первую очередь были до конца твоими. И это тоже для меня профессиональный урок Каверзнева. И человеческий урок. Он был таким, каким был. Мне нет нужды вносить в память поправки. Такую память легко сохранять. Глава V Простой рецепт (Зиновий Гердт) Виночерпий на пиршестве победителей. На празднике жизни. На котором он, в отличие от известных персонажей, не был чужим... Разумеется, я должна тут одернуть себя — больно уж ударилась в восточновычурную стилистику повествования. Но не буду ее менять. Во-первых, потому, что Гердт сам любил подчас роскошества речи. А во-вторых, и главных, потому, что нет в таком зачине никаких излишеств и метафор. Просто он именно так вошел в мою жизнь. На празднике. Самом великом празднике нашего поколения 9 мая 1945 года. В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги (Наташа Айзенштейн, впоследствии жена Гердта). Приходили самые разные посетители. И кто-то привел его. Тоже узнанного только что. В комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: «Все! Они с нами уже « ничего не смогут сделать!» И в этом ликующем утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности побежденного врага. «Они» вмещало в себя всех и вся, кто когдалибо попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами. И вправду, все последующие полвека нашей дружбы я знала Зяму стойким оловянным солдатиком, которого не могли повалить ни трудности, ни покушения на свободу его выбора и человеческое достоинство. А досталось ему достаточно всяких испытаний. Так вот. В тот вечер были извлечены все запасы водки, которую мы долго собирали, выменивая на хлеб, получаемый по карточкам. Очень хотелось этот хлеб съесть — мы все были молодые и голодные. Но мы копили водку к этому дню, который ждали так долго. И на этом пиршестве Гердт как-то естественно стал виночерпием. Не Саша Галич, не Семен Гудзенко, не те, другие, кто вернулся с войны, а он. Самый праздничный из всех. Он стал не разливалой, а виночерпием. Не было привычных уже военных кружек и граненых стаканов. Откуда-то были добыты бабушкинские дореволюционные бокалы, и водка в гердтовских руках не плескалась, не бухала в емкости, а почтительно ворковала с хрусталем, подгоняемая Зямиными тостами, вроде бы и не подходящими к поводу пить: «За что же пьем? За четырех хозяек, за цвет их лиц, за встречу в Мясоед. За то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт!» Все мы, присутствующие там, были у истоков своей будущей поэзии или прозы. Всем нам верилось, что именно День Победы знаменует рождение будущих книг. Или фильмов. Или спектаклей. Откуда нам было знать, что дорога этих книг и фильмов к читателю и зрителю будет столь же трудной, а порой и смертельной, как и наши военные кочевья... Но тогда пиршествовал праздник жизни, и все мы, самонадеянные и подвыпившие, верили безоговорочно: мы, и прозаики и поэты, станем полубогами. Недаром же тосты высокопарны, а виночерпий — великодушный хромой бес. Что-то и впрямь не будничное, лукаво-бесовское было в его повадке. Даже имена реалий, окружавших его. Смотрите, как звучал адрес его жилья: Пышкин огород, Соломенная сторожка. Не какие-нибудь механические Метростроевская или Автозаводская. Там, на окраине с загадочным названием, Зямина семья жила в кособокой хибаре. Жалкой и немощной. Как-то подведя меня к этой лачуге, Зяма сказал: — Вот тут будет висеть мемориальная доска: «Здесь жил и от этого умер Зиновий Гердт». Обряжать притерпевшуюся обыденность в карнавальные одежды шутки — удел избранных. Не хохмить, не тужиться в остроумии по каждому поводу, а вот так — обряжать с легкостью — Гердт умел. Однажды Зяма, Леша Фатьянов и я поехали в Ленинград. Денег у нас почти не было, но так как всем нам светили питерские гонорары, мы, шикуя, поселились в «Астории». Но дни шли, а денег нам не платили. Мы уже таились от администрации гостиницы. Но в один прекрасный вечер нас ухватила съемочная группа: герою фильма актеру Хохрякову требовалось для съемок пальто. А найти такой огромный размер они не могли. И вдруг — Фатьянов, высокий, могучий: — Дайте, пожалуйста, пальто в аренду. Мы оплатим. На доходы со съемок фатьяновского пальто мы протянули три дня до получения первых гонораров. Гердт окрестил спасительную одежку «труппа из тулупа» и каждый вечер разыгрывал мини-спектакли, где в разных амплуа выступало это самое пальто. И так во всем. Так сложилось, что мое личное сотворчество с Гердтом ограничилось, в основном, придумыванием всяких «штучек» для домашних «капустников», без коих наши сборища не мыслились. Особенно встречи Старого Нового года, когда мы, собравшись в чьей-нибудь квартире или в мастерской другахудожника, кидали по трешке в ритуальный цилиндр — шапокляк. Данный головной убор был одним из трех трофеев, вывезенных моим мужем-победителем из поверженной Германии. А именно: модель самолета Ю-87, взятую мужем Лешей со стола Геринга. Раз. Картину, купленную на берлинской барахолке, с изображением актрисы в костюме пажа. Леша говорил, что приобрел ее для того, чтобы жениться на женщине с такими ногами. Как, по его уверениям, и поступил. Два. Третий трофей — цилиндр, который потряс его, ибо был знаком неведомой советскому человеку роскошной жизни. О! Этот нервный рывок, обращающий сонный блин шапокляка в щегольскую трубу, с вороненым лоском атласной поверхности! (Вспоминая эшелоны ценнейшего барахла, которые гнали из Германии генералы и многие офицеры, стоит признать, что улов моего капитана был невелик. Хотя по роду деятельности Леша каждую неделю летал в Москву на ведомственном самолете.) Так вот. В цилиндр бросались трешки, и кого-нибудь гнали за водкой и закусью, вполне бесхитростной — соленые огурцы, квашеная капуста, батон вареной колбасы. Картошка варилась заблаговременно. Меню не меняли даже наши возросшие со временем доходы. Стол таким образом был, так сказать, моментального изготовления. А вот художественная часть создавалась загодя и со всей ответственностью. Саша Галич устраивал «Премьеру песни», непременно юмористической, знаменитый архитектор Юлик Шварцбрейм и художник «Мосфильма» Дода Виницкий на гигантских листах ватмана рисовали карикатуры и плакаты «на тему», Тимур Гайдар (отец будущего премьера) сочинял «приказы по флоту», ибо заведуя военным отделом «Правды», имел звание контр-адмирала. Мы с Гердтом верифицировали эпиграммы на всех присутствующих, состав которых в разные годы менялся. Почти никого из участников тех празднеств нет на этой земле, но я упрямо, хоть и в одиночку, да порой с помощью моих дочки и внучек, блюду традицию: на всех наших семейных сборищах эпиграммно-капустный антураж присутствует. Гости новых поколений подтвердят. Зяма в соавторстве с драматургами Мишей Львовским и Исаем Кузнецовым задумали пьесу о человеке, пришедшем в наши дни из прошлого. В каком именно качестве они вовлекли в это предприятие меня, сейчас уже не помню. Помню только, что мы сочинили для грядущего спектакля песню с припевом: «Липа цветет, липа цветет...» Впрочем, двусмысленность данной строчки была обнаружена нами сразу по сочинении. Выходило, что то ли наша жизнь была «липовой», то ли сам замысел — «липа». Так или иначе — пьесу не написали. Но радостный процесс обминания слов, разделенный с Гердтом, испытала. «Дух и нюх» текста он ощущал каким-то шестым чувством. В каждом жанре на свой манер. Как известно, Гердт был хром. Хромой артист на сцене и в кинокадре — нелепость! Так считалось, так считал сам Зяма. Чем и определено его тридцатилетнее манипулирование руками и голосом за ширмой театра кукол. Но однажды его пригласили в кино. У Образцова в то время шел спектакль «Чертова мельница», где Гердт играл черта первого разряда, такого быстрого, легкого, саркастичного. Однажды Зяме позвонил режиссер Васильчиков, который занимался дублированием заграничных фильмов: «Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром некий голос историка комментирует, шутя, все, что происходит па экране. Попробуйте прочитать это в манере вашего черта». Речь шла о знаменитом ныне фильме «Фанфан-Тюльпан». Зяма не только прочел, но и переделал текст ближе к своей «чертовой манере». После этого Гердта без конца стали приглашать па чтение и написание закадровых текстов. Это было не только статьей, параграфом в его рабочей биографии. Но и в моей, что для каждого человека эгоистически особенно важно. Надо сказать, что закадровый текст — стихия особая. Во времена античные голос, звучащее слово способны были, обязаны были приковывать к себе внимание, побуждать к действию чужую мысль, высекать слезы и радость. Голос актера и голос оратора. Власть звучащего слова была почти абсолютной. Ведь грамотность, тогда — удел немногих, лишь избранным приносила привилегию сопереживания с авторами трагедий и философских трактатов. Через века изобретение Гутенберга, казалось бы, понизило в ранге значительность «публицистических бардов». Истинным властителем умов стало слово печатное. И чем шире становилась читательская аудитория, тем властительнее оно оказывалось. И вдруг произошло удивительное: в XX веке слово звучащее снова обрело утраченные права. Не только на радио, в звукозаписи, но и в кино, на телевидении слово, побратавшись с картинкой, явилось в новом облике. Для меня оно стало одной из профессий, любимых. Не могу сказать, что Гердт был моим учителем в этом ремесле или образцом для подражания. Нет. Но именно его работы заставили меня задуматься над некими свойствами и секретами данной деятельности. Надо сказать, что в те времена авторский текст хотя использовал все литературные тропы (метафоры, инверсии и т. д.), но обязан был быть лишенным личностности. В смысле — не полагалось говорить «Я считаю, я подумал, я хочу так». К тому же царствовала почти безъюморная манера рассказа. А Гердт нагло все поломал. Говорил именно Он, хотел шутя, хотел даже чуть брезгливо. Только в его, гердтовской манере. И я, услышав Зямины комментарии, пустилась и в собственные поиски. Побудил меня Зяма еще к одной редактуре моих текстов. Придя в журналистику из поэзии, я грешила избытком литературных украшений в кино- и телерассказах. (Отчасти грешу и ныне.) Очень уж боялась, что мой комментарий будет не древом, а информационным обструганным бревном. Вслушиваясь же в Зямины вполне «красивые» слова, обнаружила, что они лишены излишеств. Поняла, что хрупкая граница экрана, отделяющая говорящего от слушателя, имеет свою загадочную «таможню». Только истинно необходимое зрителю должна пропускать она. Избыточное, необязательное — это вредная «контрабанда», служащая лишь тщеславию комментатора, хвастающегося своими приобретениями. Вываливая бесконтрольно свой «багаж», рискуешь утопить в пестрых подробностях концепцию экранного рассказа, то есть главное. Не думаю, что Гердт специально размышлял над спецификой экранного повествования. Она была дарована ему безупречным чувством слова, вкусом. Насколько помню, мы вообще только раз всерьез говорили об этой материи. Но в том разговоре мне открылось еще нечто важное. Как часто бывало, читали друг другу и себе стихи. Я начала мандельштамовское: Я слово позабыл, что я хочу сказать... Гердт завершил стихотворение, кончающееся: Но я забыл, что я хочу сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернется. Мы пытались расшифровать, что значит для поэта «слово позабыл». Не отказ же памяти. Нет. Вернее — не дал земных одежд и черт чувству и мысли, их тени, которая в своем «чертоге» продолжает бесплотное, но тревожащее существование. А отсюда уже пошли дальше, ища отмычки к овладению зрительским восприятием. Самое сложное, зачастую недостижимое — это вызвать в зрителе-слушателе ощущение, что твой авторский «чертог» не пуст, что он обитаем, населен бесплотными тенями мыслей, чувств, для которых ты, может, и не нашел слова. Что произнесенные слова лишь авангард смысла. Тогда твой зритель-слушатель отомкнет и собственный чертог бесплотных теней, и собственные мысли и чувства, не дублируя твоих, сформулированных, возникнут в нем. Тогда же Зяма похвалил мой последний фильм. Похвалил довольно странно. Картина эта, сделанная с известным режиссером, ему не понравилась. И он сказал: «Ты молодец. Замечательный фильм. Для слепых». Видимо, хотел сказать, что единственное достоинство фильма — текст. Он неправ. В кино и на телевидении текст, живущий отдельно от картинки, бесхозен и бесправен. Но еще и еще раз повторяю: в обращении со словом, в чутье его знаю мало равных Гердту. Даже о своих многочисленных браках он рассказывал, чувствуя веселую плоть слова. Один из его тестей был крупной шишкой в Средней Азии. Зяма отзывался о собственной жизни: «Влачу среднезятьское существование». Другая его жена была скульптором. Лепила фигурки, игрушки. Он называл это: «детский лепет». Надо признать, что Зямина любовная летопись содержит и факты горестные, когда он становился жертвой именно пристрастия к словесным затеям. Скажем, в дни молодости Зяма нежно и проникновенно был влюблен в неведомую мне барышню. Роман шел по восходящей и, по замыслу героини, должен был достичь пика во время профсоюзного концерта, когда она исполняла романс «Не пой, красавица, при мне...». Концерт произошел, исполнение также. Зрелище оказалось прелестным. Но что до «слышаша» — увы! Под впечатлением обоих этих компонентов Зяма тут же написал стихи: Зачем ты вышла в платье белом, Зачем в вечерней тишине. При мне, красавица, ты пела... Не пой, красавица, при мне. Неудивительно, что красавице нежный памфлет серенадой не показался. И... хрупкий сосуд девичьих чувств был раздавлен асфальтовым катком Зяминой игры в слова. Литература и любовь в гердтовской жизни давали самые неожиданные виражи и повороты. Так, эпоха женитьбы на Наташе тоже ознаменована своими забавностями. Однажды, когда мы с ней готовились к госэкзамепам по литературе, к нам присоединилась еще одна подруга, Лиля Кириллова, то есть, как мы говорили, дамочки «соображали на троих изящную словесность». Лиля в ту пору была кормящей матерью и каждые три часа добросовестно сцеживала молоко в поллитровую банку. Зяма отсутствовал по служебной или, может, творческой надобности. Вернувшись, прошагал по комнате, перетормошил скопище книг, заваливших столы и стулья, небрежно приговаривая: «Так… это мы читали, это мы штудировали, это мы знаем... Пустое дело!» Прибавив: «А вот есть — мы ничего не ели», двинул прямиком к подоконнику, где стояла банка с Лилиным молоком и, ничтоже сумняшеся, опорожнил ее. Мы замерли. Наконец Лиля прошелестела: — Зяма, это же грудное!.. Гердт и бровью не повел: — Но вкус вполне изящный. — Что ж, — сказала я, — теперь ты можешь считать, что впитал литературу с материнским молоком. Не исключаю, что спазмы отвращения сотрясали Зямин желудок. Однако вновь, как ни в чем не бывало, Гердт произнес с мечтательной задумчивостью: — Да, когда будущие биографы попытаются вскрыть корни моей энциклопедической эрудиции в вопросах литературы, стоит отнести их внимание к данному факту. В те времена и заподозрить возможность появления биографов Гердта в светлом будущем казалось нелепым. И, тем не менее, биографы есть, о Гердте пишут многие. И о его поразительных познаниях в литературе, особенно в поэзии, размышляют непременно. Но — надо же! — никому и в голову не приходит метод, которым эти познания обретены на заре его брачных эпопей. Да, женитьбы были многочисленными. Признаюсь, я со своими однолинейными вкусами, направленными на красавцев, не очень понимала причины его оглушительного успеха у женщин. Хотя ценила и ум его, и талант, и непобедимое обаяние. Но, так или иначе, свидетельствую: Гердт нравился женщинам, пожалуй, больше других известных мне мужчин. Все дамы любили его самозабвенно и бескорыстно. Меняли жен многие жрецы искусств. Помню разговор на Пушкинской площади драматургов В. Полякова и И. Прута. Оба они многократно уходили от жен, всякий раз строя квартиру для каждой. Тогда И. Прут, оглядевшись по сторонам, сказал задумчиво: — А неплохой городишко мы с тобой, Володя, отстроили! Когда я рассказала эту историю Зяме, он грустно произнес: — На днях одна маленькая девочка сказала мне: «Мы получили комнату — 17 квадратных метров, Понимаете — квадратных!» А я даже обыкновенного метра никому не мог вручить. Обидно. Действительно, настоящий собственный дом у него появился поздно. Вместе с настоящей женой. Когда Гердт женился на Тане и познакомил нас, я спросила его (Таня куда-то отошла): — Ну и какой срок отпущен этой милой даме? Даже не улыбнувшись, он ответил: — До конца жизни. — Что, как у Асеева, «из бесчисленных — единственная жена»? (Мы любили разговаривать строчками.) — Отсюда — в вечность. Аминь. А может — омен, возможны варианты. Зяма сказал так. Так оно и произошло. Все предыдущие браки были как бы романами под общей крышей. Жизнь с Таней была семьей, домом, заботой, нерасторжимостью. И любовью. Не притушенной временем любовью. Профессия настоящей жены — это множество ипостасей, порой вроде бы взаимоисключающих друг друга. Ведомый и поводырь, защитник и судья, подопечный и опекун... Таня — блистательный профессионал в этой старинной неподатливой должности. Принято считать, что комплекс чеховской «душечки» чисто женская привилегия. О нет! Присутствие в нашей бабьей жизни того или иного мужчины делает женщину счастливой или несчастной, деятельной или безвольной. Но почти никогда, уверяю вас, почти никогда данный мужской персонаж не формирует ее нравственный образ, ее суть. Поведенческие трансформации — о Боже, что с ней стало, ведь в девках была иной! — это всего лишь сознательное или, реже, бессознательное желание «вписаться в мужика». А так — какая была, такая и есть. Мужчины же — «отнюнь», как говорила моя маленькая внучка. «Душечки»-то как раз они. Именно в браках гуляки становятся домоседами, расточители — скрягами. Или наоборот. Если, конечно, жена для них значима. На протяжении полувека моей дружбы с Зямой я наблюдала и разные, вовсе не иконописные лики его поступков. Что не делает его лицемером, прикидывающимся носителем непятнаемых белых одежд. Помилуйте! Разве на совести каждого из пас нет мутных пятен или затертостей? Да и вообще стерильщик — скучен. Но присутствие Тани в Зяминой жизни не раз оберегало его от неверных душевных движений. Он жил, кося глазом на свод Таниных нравственных принципов, сверяясь с ним. А Танин моральный кодекс — не чета провозглашенному некогда «моральному кодексу коммуниста». Ибо последний был декларацией, литавровым грохотом бесплотных заклинаний. А Танины устои — безгласны, естественны, как кровообращение в живом организме. Хотя ей и принадлежат некоторые мудрые постулаты. Как скажем: «Дружба сильнее любви. Любовь может быть безответной, а дружба нет». Какой она друг, умеющий без восклицаний и многозначительных жестов приходить на выручку и утолять горести, сама я убеждалась не раз. У ее, старомодного по современным меркам Кодекса чести, и корни — старомодные. Танина мама, дочь знаменитых шустовских коньяков, а точнее, владельца коньячных заводов Сергея Шустова, обладала качествами, означенными в литературе как «аристократизм души». Понятие прагматическим повседневщикам недоступное и всегда именуемое ими на свой куций манер. Они ведь исходят причитаниями и слезами по поводу того, что кассирша обсчитала на целую десятку, хотя десятка не последняя. И держат за идиота расточителя неунывающего товарища по несчастью. Татьяна же Сергеевна умела с величавой легкостью принять пропажу бесценной семейной библиотеки, из которой, даже голодая, не продала ни книжки. Каноническое дореволюционное воспитание не побудило ее к ханжески неукоснительным следованиям «принятого». Полвека прожила «во грехе», не расписанная с любимым мужем. А когда им в канун золотой свадьбы предложили всетаки узаконить их отношения, сказала: «Нет, надо все-таки проверить чувства». Отношение Татьяны Сергеевны к замужеству дочери тоже заслуживает рассказа. Сложился этот брак стремительно, разметав прошлое Тани и Зямы, как управляемый, вернее, неуправляемый взрыв фугаса. Таня, ученый-арабист, была подряжена в качестве переводчика на гастроли театра Образцова в Египте. У Гердта, артиста-премьера, в спектакле была главная роль, которую предстояло играть на арабском. (Как и еще на пяти-шести языках в других странах.) Образцов привел Таню к Гердту, дело было в театре. Гердт с ленивой небрежностью обмерил, ощупал, обследовал Таню взглядом и спросил: — Дети есть? — Есть. Дочка. — Сколько лет? — Два года. — Подходит, — сказал Гердт. И только-то. В Египте Зяма пустился во все тяжкие, опустошая закрома своего обаяния, эрудиции и мужских умений. Вместительных, надо сказать, закромов. Обычно день такой деятельности сшибал разрабатываемую даму с ног. Но Таня не дрогнула. Нет, нет, разумеется, дрогнула, но устояла. Опасалась, что все будет смахивать на роман в жанре «Гастроли премьера». А Тане подобный вариант претил. Старомодна, что поделаешь! На обратном пути в самолете они договорились о свидании. Она пришла. Подъехал Гердт и, распахнув дверцу машины, сказал: — Прошу. — Гастроли продолжены? — спросила Таня. Он ответил: — Я свободный человек Да, в день приезда Зяма сказал жене: «Я полюбил другую женщину, я ухожу». Что иные говорят в таких случаях?.. Впрочем, отсутствие изысков в этом заявлении не делало его проще. Конечно, Зяма мучился сознанием, что приносит боль жене. Но она сама облегчила задачу единственным вопросом: — А как же квартира? — Квартира — твоя. В канун этого свидания Таня сделала мужу такое же признание. Формулировка, правда, была иной, согласно иной семейной ситуации. Через три дня Зяма заехал за Таней — они решили отправиться в Ленинград на машине. Ожидая его, Таня все рассказала родителям. Татьяна Сергеевна обратила на дочь сочувственный взгляд: «В таких случаях неплохо бы познакомиться». Гердт поднялся, представился и заверил: — Я обещаю всю жизнь жалеть вашу дочь. — И через паузу: — Я очень устал от этого монолога. Давайте пить чай. — Что и сделали. Когда уходили, Таня шепотом спросила мать: «Подходит?» И та, как после долгого знакомства, взмахнула рукой: «Абсолютно!» Иронии и жалости требовал некогда хемингуэевский герой. Татьяна Сергеевна была иронична, а жалость, нет, сострадание и понимание являла не раздумывая. Зяма гордился тещей. Восхищался тещей. Дружил с тещей. Обожал тещу. Таня-младшая все достоинства матери не примеряла на себя. Она просто существовала и существует с ними, в них. Оттого ее фамилия — Правдина — всегда казалась мне заимствованной из какой-то пьесы времен классицизма, где фамилии персонажей определяют их характер и нормы поведения. Когда Зяма был уже безнадежно болен и терзаем болями, отхлынувшими силами, сомнениями, только она умела сказать: «Зямочка, надо». И он собирался. И как гумилевский герой, «делал, что надо». Она «учила его, как не бояться и делать, что надо». Хотя этот маленький, хрупкий и немолодой человек и сам был мужественным до отваги. Но ведь и отважных оставляют силы... За три месяца до кончины Зяма снялся в фильме по моему сценарию. Как? Это непостижимо — ему уже был непрост каждый шаг. Видимо, Таня сказала: «Зямочка, надо. Ты должен оставаться в форме». А может, и сам он решил, что нельзя потакать недугу. Да и дружбе он оставался верен, как умел это делать всегда. Он вышел на съемочную площадку, и никто даже не заподозрил, чего это ему стоило. И в перерывах он был Гердтом — праздником для всех, виночерпием общей радости. Ночью после съемок я мысленно перебирала подробности, детали нашей многолетней дружбы. «Детали, — произнесла я про себя, — детали. И их великий бог». Стихи читают все, и почти никто не делает это адекватно стиху. Поэты, сплошь и рядом, топят суть в ритмах и аллитерациях, актеры пересказывают содержание. Смоктуновский уверял меня, что стихи нужно читать как прозу. Великий Качалов читал стихи удручающе смехотворно. За всю жизнь я слышала пять-шесть человек, в чьем произнесении звук и смысл были бы сопряжены. Одним из них был Гердт. Он заключал в себе целую звуковую библиотеку поэзии. Убей бог, не помню антуража того чтения. Потому что открывшееся мне тогда было важнее зримости окружавшего нас. Помню только, что это были времена, когда я училась в Литературном институте и школярски постигала поэтическое ремесло мэтров. А среди них были такие виртуозы стихостроения, как Павел Антокольский, Илья Сельвинский, для которых звучание слова и конструкция строки — безоговорочная подвластность материала. Казалось, мне уже открыты их секреты. Зяма читал Пастернака. Всем ведомо, как знал он его и как любил. Он произнес: Великий бог деталей, Великий бог любви Ягайлов и Ядвиг — и повторил это дважды. То ли на мгновение остановившись перед следующей строкой, то ли подчеркивая значимость произнесенного. И продолжал. Но я уже не слушала. Тогда я еще ничего не знала про Ягайло и Ядвигу, не стояла у их каменной усыпальницы, куда поколения влюбленных несут заклинания о счастье в любви. И стихи эти, к своему стыду, слышала тогда впервые. Разумеется, всех литературных бурсаков учили важности подробностей для повествования. И, тем не менее, провозглашенное Гердтом было открытием. Открытием важнейшего, что в искусстве и любви — равнозначно: ими правит Великий бог деталей. Не мастер, даже пристальный, а великий бог. Подробности — понятие перечислительное. Деталь — самоценность каждого атома в сложнейшем взаимодействии этих частиц, которыми правит их бог. Только исполненный деталей многозначный мир может стать искусством. Или любовью. Родство с этим богом — посвящение в художники. Гердт был из посвященных. Во всех его работах § детали звучания, смысла, жеста были бесчисленны и единственны для того жанра, в котором он в данный момент творил. Жест — особый инструмент в его мастерской. Руки Гердта — красивые, разговаривающие и ваяющие. Именно ваяющие нечто из пространства, из плоти пустоты. С их помощью слово обретало вещественность, зримость. Действо наполнялось бытием и событием деталей. Да, он работал не только в разных жанрах, но и в разных видах искусства. Гетевскому Мефистофелю не претило рассказать о повадках морских котиков в собственном закадровом тексте документального фильма, а захочется — о них же киплинговскими стихами. Оставаясь тем же, особым Гердтом, и всякий раз — иным. Потому что управление деталями ему по плечу. У профессионалов, даже мастеров, обычно имеется свой набор рабочих деталей. Из личного потайного мешка они достают их, тасуя и подбирая для нужного случая. У подлинного художника деталь — детище шестого чувства. В каждом виде произведения у нее особая природа. Гердтовская палитра, скажем, деталей интонации, оставаясь присущей только ему, была разной в чтении закадрового текста и дублировании роли в художественном фильме. Многим памятна Зямина работа при дубляже роли Лира в козинцевском фильме. Лира играл замечательный эстонский актер Юри Ярвет. Играл великолепно, но акцент не позволял оставить голос Ярвета в фонограмме. И Гердт сделал непостижимое: совместил собственные оттенки голоса с оттенками пластики, поведения другого артиста. При этом сам сыграл Лира. Ныне, увы, поток заграничной кинопродукции на экранах заглотнул таинство работы актера дубляжа. Теперь роли «озвучиваются». «Озвучивается» смысл произносимого на чужом языке. В лучшем случае озвучивающий поигрывает голосом. А то и просто, без затей читает текст. Некогда же в профессии актера дубляжа царили свои премьеры-чудотворцы. (Помню, Джульетта Мазина, услышав свою Кабирию, дублированную Ларисой Пашковой, воскликнула: «Как вы сумели заставить меня говорить по-русски!») Василий Жуковский как-то сказал: «Переводчик в прозе — раб, переводчик в стихах — соперник» Что делать — столп российской словесности не дожил до времен, когда искусство перевода прозаических текстов достигло вершин, породило собственные теории и школы. Поначалу-то российские модели иноязычной литературы действительно рабски, дословно представляли читателю чужие фразы и абзацы. Сама помню, как в домашнем дореволюционном издании Диккенса натыкалась на перлы типа: «Верхняя половина отца склонилась к пруду». Тем не менее, аналогия с жуковской формулой в искусстве экранного перевода возможна. «Озвучиватель — раб, дублер — соперник». Потому что первый — актер, второй — артист. Артист совсем не то же, что актер Артист живет без всякого актерства. Он тот, кто, принимая приговор, Винится лишь перед судом потомства. Толмач времен расплющен об экран, Он переводит верно, но в итоге Совсем не то, что возвестил тиран, А что ему набормотали Боги. Это написал Давид Самойлов, Дэзик. Наш общий с Зямой друг. Написал о Зяме, ему посвятил. Открыв суть не только взаимодействия с экраном, но и разницу между прочтением и прозрением. Между инструментом и таинством. Хотя и набор инструментов в гердтовском арсенале не из пары отверток состоял. Стихосложением, мастерским жонглированием рифмами, он тоже владел. Причем, чуткий к феномену стилистики, был и прекрасным пародистом. Играл в чужую манеру, играл звукосочетаниями. К юбилею Л. О. Утесова он сочинил музыкальное поздравление. Знаменитого утесовского Извозчика приветствует возница квадриги на Большом театре: «Здесь при опере служу и при балете я...» И по-ребячьи был горд найденной рифмой, упакованной в одну строку: «В день его семи-деся-ти-пяти-летия...» Леонид Осипович был в восторге. А вот Марк Бернес однажды на гердтовскую пародию обиделся... Впрочем, нет, не буду, не буду тасовать байки про Зяму. А то выходит какой-то дед Щукарь с изысканным мышлением и живописноинтеллигентной речью. Но и без баек — Гердт не Гердт. Точнее, без притчей, ибо в каждой забавной истории о нем заключен его способ общения с миром. Веселый и дружеский. Жизнь таких, как он, всегда потом расходится в апокрифах. А то, что ему бывало трудно, невыносимо больно, что в каждой работе он проходил через борения и сложнейшие поиски, — известно только ему. Да, может быть, еще Тане. Однажды он сказал мне: — Я вот что обнаружил: бывает так паршиво на душе, чувствуешь себя хреново, погода жуткая, словом — все сошлось. И тогда нужно сказать себе: «Все прекрасно», гоголем расправить плечи и шагать под дождем, как пи в чем не бывало. И — порядок. Господи, какой простейший рецепт! Выше я помянула о розыгрыше Зямой Марка Бернеса. Не сообщила подробностей еще и потому, чтобы сейчас не повториться. Дело в том, что случай тот стал эпизодом в моей авторской телевизионной программе «Старый патефон». Программа эта — цикл новелл о моих певчих знаменитых друзьях, по-своему, телевариант этой книжки. Первый вариант. Книжный подробнее и не только, как видите, о певцах. Одна из новелл программы называлась «Брызги шампанского». Глава VI «Брызги шампанского» (Марк Бернес) Когда в Сентэндре приходит листопад, его изобилием устланы тротуары и церковные дворы. Но кажется, листопадом оклеены и стены домов. Он кленово-желтый, этот старинный городок в двадцати километрах от Будапешта. Возле Сентэпдре расположена дача Нади Барта, куда и отправились мы в то воскресенье — я и еще три мои венгерские подруги. Они, как и Надя, венгерки, выросшие в Москве по причудам мировой истории. И после войны вернувшиеся на родину. Надя сказала: «У меня для вас сюрприз». И вытащила кипу старых пластинок. И над розами ее садика, над каменной мозаикой пола веранды потянулась мелодия, от которой у всех нас засосало под ложечкой... Это было старое довоенное танго. «Брызги шампанского». Шурша по стертым бороздкам пластинки, оно вползло в сад, и через минуту уже не было этого островерхого домика, из окон которого виден Дунай с плотным задником древесных крон и легкими просветами неба в ветвях, точно зеленое сукно, слегка потравленное молью. Ничего этого не было. Были сосновое Подмосковье, дачный поселок, дорожки, засыпанные хвоей, и мы, девочки предвоенного года, на скрипучих половицах террасы, сотрясаемой тщательным шагом танца. Мы сидели на этой венгерской даче, построенной руками Надиного мужа и ее сыновей, ровесников тех, с кем танцевали мы когда-то. Мы слушали и плакали, потому что каждая вспоминала своего мальчика из того предвоенного года. Мальчика в рубашке апаш (или «апаше», как говорили мы), с красным рубцом на лбу от стянутого на уголках носового платка, призванного пригладить неуправляемые вихры. А Надя плакала еще об одном венгерском мальчике — Андрее, своем старшем брате. Она плакала и думала о том, что, может, именно под эти «Брызги шампанского» венгерский мальчик, летчик-лейтенант Советской армии, танцевал с голубоглазой зенитчицей Аней в московском Центральном парке культуры и отдыха. Прямо с танцев он привел Аню домой. И сказал, что это его жена. Семнадцать дней они были счастливы, семнадцать дней их семейной жизни. А потом он улетел. Улетел в Венгрию, ибо был уже 45-й год, и бои шли здесь. Он погиб в Сентэндре, городе святого Андрея, спустившись с неба, как и положено святому. А мне вдруг привиделся не мой тогдашний кавалер по танцам, нет, мне вспомнился крохотный, щуплый мальчик Мика Садкович, который и в десятом классе выглядел младшеклассником. Он не танцевал, он скромно сидел в углу террасы. Но приходил каждый вечер, потому что был безнадежно влюблен в меня. Я же с холодной женской корыстью пользовалась лишь его познаниями в овладении недоступной мне школьной наукой — химией. В химии же Мика был гением. Не способным, не талантом, а именно гением — победителем всех школьных и взрослых олимпиад, открывателем неведомого. В Москве Мика жил с мамой, Александрой Михайловной, участковым врачом. Она воспитывала его одна, без мужа, и весь смысл своего пребывания на земле видела в этом щуплом и неказистом гении. Щуплый и неказистый гений погиб во время боев под Москвой. Может быть, оттого, что, владея молекулярными тайнами вселенной, был беспомощен перед секретами допотопной винтовки. Там, в венгерском саду над Дунаем, я отчетливо увидела Мику, скромно сидящего в углу террасы и наблюдающего за гарцеванием моего кавалера в пируэтах танго «Брызги шампанского». Там, в венгерском саду, мы слушали «Брызги шампанского», «Дождь идет» и «Утомленное солнце», и Шульженко, и Бернеса. — Ты школьницей была влюблена в Бернеса? — спросила меня Надя. — Господи! — всплеснула я руками. — Кто же не был! Действительно, все были влюблены в Марка Бернеса, точнее, в белокурого летчика из фильма «Истребители», который смотрели по десятку раз. Однажды меня даже чуть не исключили из комсомола за то, что я, будучи комсоргом, увела класс с уроков в кино «Форум», где как раз шли «Истребители». Когда уже в послевоенные годы Зиновий Гердт познакомил меня с Бернесом, я вовсе не влюбилась в него. Как и другие его друзья, я относилась к Марку с восторженной теплотой, подтрунивая над некими бернесовскими слабостями, такими как, скажем, повышенная мнительность к болезням или детская обидчивость. Помню, как истинно по-детски разобиделся Бернес на Гердта. В те годы Зяма развлекался сочинением музыкальных пародий. Одна из них была адресована Бернесу. Надо сказать, что в описываемую сейчас пору эстрадные певцы не пользовались микрофонами, полагались на чудо — вокальное мастерство и силу голосовых связок. Марк был, пожалуй, первым, взявшим в руки микрофон. Слушателей это не смущало, ибо неповторимая бернесовская манера исполнения и его «непевческий» в классическом смысле голос становились лишь ближе и волновали пронзительней. Но Гердт решил пошутить и одну из песен Марка переиначил так: Но микрофон — он тоже заедает, И хоть легко летит в эфир куплет, Движенье губ его мы наблюдаем, ...А звука — нет. Однако, невзирая на эти слабости, Бернес был человеком чутким и добрым. Случай дал мне тому подтверждение. Уже ушли из памяти подробности школьных лет, да и боль о погибших на войне одноклассниках притупилась, когда мне однажды позвонила Александра Михайловна, мать Мики. Она спросила, не могу ли я достать ей книгу Евгения Винокурова. — Там есть замечательные стихи, — сказала она. Мне не было нужды уточнять, какие именно взволновали ее. Конечно, это был трогательный реквием Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой, которые лежат в сырой земле за Вислой сонной. Стихи об одиноких матерях, не спящих в пустых квартирах. Где-то в шумном мире. Женя Винокуров был моим однокурсником по Литературному институту и не только подарил для Александры Михайловны книгу, но и надписал ее. Отправляясь к Александре Михайловне, я встретила на улице Бернеса, и, так как он был с машиной, попросила подвезти меня. По дороге я все думала: как она могла пережить потерю смысла ее жизни — гибель Мики. И все повторяла и повторяла про себя: «Свет лампы воспаленной пылает над Москвой...», и представлялся алый тюльпан абажура над столом. Но не было в комнате алого тюльпана, на письменном столе Мики стояла лампа под стеклянным зеленым абажуром, близнецом тысяч таких же предвоенных светильников. А еще... На столе в нетронутом порядке были разложены Микины тетради, листы со схемами и формулами. Будто он сам лишь на минуту отлучился. Именно это я и ощутила. А Александра Михайловна заговорила о нем спокойно, без драматизма. Только ни разу не употребив глаголов в прошедшем времени. Жизнь Мики длилась. Я боялась встречи с Александрой Михайловной, как бы стеснялась того, что я, хоть и раненая, вернулась с войны, а Мика — нет. Я боялась встречи с Александрой Михайловной, потому попросила Бернеса подняться со мной. Заговорили о винокуровских стихах, и Марк сказал: — А знаете, Андрей Эшпай написал на них музыку, и я буду петь эту песню. Правда, еще ни разу не пробовал ее на публике. — Так спойте, пожалуйста, — просто сказала Александра Михайловна. И так же просто он запел. Он пел без аккомпанемента и микрофона. Пел не для зала, а для одинокой женщины возле стола с зеленой школьной лампой. А в моей голове, странно трансформированная, билась строка: «Свет лампы вос-зеленой...» Это была самая оглушительная премьера, какую довелось мне посещать. И вот в венгерском саду над Дунаем мы снова слушали Бернеса и плакали. Мы, уже немолодые женщины, плакали о мальчиках, которых снега под Рузой или плесы Вислы и Дуная сделали вечными сверстниками наших тогдашних детей. Тогда с окончания войны прошло 25 лет, и планета, усеянная причудливо перемешанными разноплеменными могилами, казалась безмятежной и вовеки мирной, как этот садик на берегу Дуная. И разве могло мне прийти в голову, что пройдет еще четверть века, и сегодня, когда я сяду вечером за эти воспоминания, в доме напротив бессонное окно будет пылать воспаленным светом лампы, возле которой будет сидеть в слезах одинокая мать — ровесница моей дочери. Глава VII Притча о водительских правах (Михаил Калатозов) Глава, посвященная этому человеку, замышлялась в книжке изначально. Но особый смысл предлагаемый рассказ обрел в связи с событиями недавними. Домашними и порожденными ими раздумьями. Итак. Моя младшая внучка Леля, в среде моих друзей ходящая под кликухой «Между прочим» (именно так любила она в пятилетнем возрасте произносить это словосочетание), вернулась из Штатов, окончив там Бостонский университет. Леля — молодец, ибо одолела весь курс за один год. Однако такой стремительности способствовала, между прочим, одна деталь: ей зачли оценки, полученные Лелей на отделении структурной лингвистики Московского университета. Зачли с почтением: «Это же — МГУ!» Пишу об этом не затем, чтобы похвастаться талантами внучки (хотя отчасти, видимо, и за этим), но в первую очередь, желая обратить внимание читателей на авторитетность нашей университетской бумаги, уважение к ней. Как ни горько, в дни, когда пишется эта книжка, уважение к российскому документу вовсе не свидетельствует о почтении к моему отечеству. Вот эти-то огорчения и призвали стародавнее воспоминание о друге моей юности Михаиле Калатозове. Вернее, об одном эпизоде из его жизни. Если аристократизм той или иной страны исчислять по количеству князей на душу населения, то выходит, что у половины Грузии кровь — ярко-лазурная и сама Грузия — просто кишит принцами этой крови. Во всяком случае, почти о каждом грузине соплеменники сообщают доверительным шепотом: «Он — князь». Не знаю, кто там властительный самозванец, не знаю, как выглядят истинные князья... Впрочем, нет. Представляю вполне отчетливо. Высокий величественный красавец, чья царственная медлительность жестов таит вдохновенный темперамент. И тот тихий голос, что заставляет умолкнуть любой говор вокруг. Мечта женщин и гордость друзей-мужчин. И фамилия, которая сама — титул. Именно таким и был Михаил Константинович Калатозов, хотя за чистоту и вековую безупречность его генеалогического древа не поручусь. Думаю, именно таким и предстал он мировому кинематографу, взойдя на трон Каннского фестиваля как создатель великой ленты «Летят журавли». Впрочем, истиной киноэлите известен он был и до этого признания, так как вошел уже в историю кино загадочной правдой документального фильма «Соль Свапетии». А во время Великой Отечественной он был ленинградским блокадником, ежедневно готовым к смерти от бомбы или голода. Но выжил. Трудился, даже обрел не только опыт блокадной муки, но и некоторые полезные знания — получил водительские права. В 1943 году, когда ленинградская блокада была прорвана, Михаил Константинович вернулся в Москву, где его кинематографическая карьера сделала лихой вираж: он был назначен представителем Комитета по делам Кинематографии СССР в Соединенных Штатах. Надо сказать, что подобные организации, призванные продавать за рубеж советские фильмы, а также покупать иностранные, имели и другие негласные функции: служили крышей нашим резидентам. Однако в случае с Калатозовым дело обстояло иначе. Необходимо было привлечь на сторону союзника (СССР) симпатии голливудских звезд, которые, в свою очередь, пользуясь гипнотическим влиянием на американские массы, будили бы к нам чувства добрые и активные. А уж обольстительнее, умнее и величавее Калатозова претендента на эту роль было не сыскать. Говорят, имело значение при отборе кандидата и грузинское его происхождение. Как рассказывал мне один близкий к верхам кинематографист, кто-то из «высоких инстанций» сказал: «Пусть знают (американцы. — Г. Ш.) какие соплеменники у товарища Сталина». Ну что ж! Властительные кадровики на этот раз не промахнулись. Калатозов Голливуд обаял. Самые сиятельные имена облепляли российского посланца, хрестоматийные лица светились рядом с ним в кадрах кинохроники. Сегодня, выстраивая отношения с Соединенными Штатами, наши политики и журналисты неизменно поминают: «Во время Второй мировой войны наши страны были союзниками». (Хотя на вопрос: «На чьей стороне воевали США?» — незамутненные познаниями школьники порой отвечают «На стороне Германии».) Но даже новобранцы американской земли — наши сегодняшние эмигранты не могут представить отношения американцев к России времен войны. Каждую делегацию, приехавшую из Советского Союза, встречали как героев, кипели митинги с требованием открытия Второго фронта, шел сбор средств в фонд помощи России (СССР). Вот руководство кинокомпании «Уорнербразерс» даже отказывалось платить зарплату сотрудникам, не сделавшим отчисления в этот фонд! До чего же изменчивы лица событий и стран! Кто бы мог подумать тогда, в годы войны, когда Штаты были по отношению к России одной большой Филадельфией (что значит в переводе «Город братской любви»), что пройдет-то всего ничего лет и комиссия Маккарти будет предавать анафеме и остракизму за лояльность к Советскому Союзу тех самых американских кинематографистов, что приносили Калатозову любовь своих сограждан! Да, оттого калатозовское ведомство «Совэкспорт-фильм» прочно являло собой звездный небосклон Изысканное общество требует изысканного приема. Изыски, как понятно, дороги. Военный бюджет, даже для загранпредставительств, был суров и скуден. А грузинско-щедрая, к тому же романтическая, душа Калатозова не могла смириться с тем, чтобы на приемах выставить несколько заурядных бутылок водки. И он нашел решение. Были закуплены дыни, у представительского врача конфисковали чистейший спирт и несколько медицинских шприцов. Людской состав представительства был брошен на проведение дыням спиртовых инъекций. Хмельные фрукты, картинно препарированные, украсили столы на первом же приеме. Надо сказать, что на лицах звездных гостей, не обнаруживших в сервировке знаменитых армянских коньяков, и вообще ничего спиртного, изобразилось нескрываемое разочарование. Да и угощения было не густо. Пришлось налегать на дыни. А через полчаса хмельная компания уже гудела вовсю и требовала раскрытия секрета загадочных плодов. С тех пор инъекцированные дыни получили титул «Коктейль по-калатозовски» и стали популярнейшим деликатесом в голливудских домах. Но на этом необычайности не кончились. Однажды Михаил Константинович давал в представительстве очередной прием. Список гостей, как обычно, смахивал на страницы из справочника «Ху из ху» или киноэнциклопедии. Когда прием закончился, хозяин предложил двум «самым любимым» гостям отвезти их домой самостоятельно. — Поверьте, я хороший водитель, — сказал он им. Что правда, то правда. Водителем Михаил Константинович был отменным, даже в молодости работал профессионально. Да и авторитет его в автоделах был непререкаем. Помню, как я сменила престижную «Волгу» на маленькие, хрупкие, безвестные тогда «Жигули», узнав, что «сам» Калатозов пересел на них. Так вот. Знаменитый наш шофер выехал из двора представительства, имея на борту — кого бы вы думали? — Чарли Чаплина и Бет Девис. Ни больше, ни меньше. Однако присказка про «старуху» и «проруху» не даром возникла. Разворачиваясь задом, Калатозов сбил полицейского мотоциклиста. Размеры бедствия (сбить полицейского!) можете себе представить, услышав, как великие Чаплин и Девис прошелестели хором: «Это катастрофа!» К счастью, полисмен оказался жив, и экипаж лимизуна с ужасом ожидал свидания с ним, замерев в машине, так как выходить было не положено по правилам. Полицейский же, рыжий гигант-ирландец, не торопился. Он вынул откуда-то набор щеток, долго и тщательно чистил мундир, обувь и, только произведя положенную процедуру, приблизился и заглянул внутрь машины. Не узнать пассажиров было невозможно. Он, конечно, узнал, но виду не подал. Бет Девис адресовала ему лучшую из своих киноулыбок. Ноль эмоций. Чаплин сказал искательно: «Хотите, сэр, мы прямо тут сыграем для вас что-нибудь?» Полицейский поднял глаза на великого лицедея, но вновь «на челе его высоком не отразилось ничего». — Ваши права, сэр! — без интонаций сказал он Калатозову. Как рассказывал мне Михаил Константинович, доставая права, он волновался больше, чем в минуты артобстрелов на войне. Ведь он прекрасно понимал, что помимо американских кар его ждут родные, советские. А какими они могли быть, нам, жителям тех времен, известно. Полицейский взял документ и погрузился в его изучение. Казалось, прошел час, хотя и длилось-то это минуту-другую. Наконец спросил: — Это что — русские права? — Да, — обреченно ответил Калатозов. — И где вы их получили? 1942-год получения? — В Ленинграде, — еще тише сказал наш водитель. И тут произошло невероятное: гигант протянул водителю права, щелкнув каблуками, взял под козырек и торжественно произнес: — Берегите их — это лучшие права в мире. Счастливого пути! Понимаете, как горда была я дружбой человека с «лучшими в мире правами». Неудивительно, что похожую гордость испытала я не только по поводу успехов внучки, но и оттого, что так чтима и марка нашего университета. Впрочем, тут не точка, а иной знак препинания. Может, запятая, а может, знак вопроса. Но уж препинания — точно. «Лучшими в мире правами» водительское удостоверение Калатозова сделала отнюдь не безупречность советской службы дорожного движения, а великое самоотречение, высота подвига нашего парода во Второй мировой войне. После войны, правда, американцы, как сказано выше, об этом постарались забыть. Но в военные годы авторитет нашей страны был высок и непререкаем. Сегодня мы радуемся малому — вот, мол, слава Богу, еще в области науки и образования кое-какие американцы нас признают! Хотя, наверное, не стоит без конца сетовать то на нечестность олимпийских судей, то на скверну, которую навели на великую Россию грязные русские олигархи, отмывающие неправедные деньги в безнравственных американских банках. Дело куда проще и серьезнее. Все у нас как-то не заладится с высоким международным престижем нашего государства. Конечно, некоторые порывистые его движения и побуждают спросить вместе с Гоголем: «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ». И закавыка не только в том, что дальше по тексту: «Не дает ответа». Ответы следуют. Разные, но следуют. Беда в том, что, продолжая цитату про Россию, не можем мы вместе с Николаем Васильевичем гордо констатировать, что с почтением «постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». А то про одну «русскую мафию» талдычат! Где справедливость?.. Водительское удостоверение по-английски звучит как «лицензия на право вождения». Лицензию на изобретение или достижение, которые признает мир, россиянин еще может получить. Но лицензию на гордость принадлежности к своей стране в одиночку не получишь. Для этого необходимо, чтобы твое государство имело «лицензию на достоинство». Верю, что так и будет. А теперь о веселом. Однако летопись событий, связанных с водительскими правами Калатозова, этим эпизодом не исчерпывается. В родной советской действительности она пополнилась еще одним сюжетом. Не знаю, сколь верно утверждение, что история вершится дважды: один раз как трагедия, другой — как фарс. Но о том, что триумф может вернуться конфузом, излагаемый ниже случай, свидетельствует. Шли съемки фильма «Верные друзья». Мы звали его «домашним», ибо все главные создатели были связаны отношениями дружескими. А мы с мужем — с ними со всеми. Итак: автором сценария были Саша Галич и Константин Исаев (в просторечии — Кот), режиссером — Михаил Калатозов, одним из главных действующих лиц — Борис Чирков. Именно эта четверка и стала героями «конфузной драмы», как называл случившееся Саша Галич, повествуя о нем. Именно они и отправлялись на студию. Разумеется, на машине Михаила Константиновича, так как ни у Галича, ни у Исаева машины не было, а автовладелец Чирков машину не водил. Когда они подошли к автомобилю, Калатозов обнаружил, что забыл права. С присущей ему галантностью он начал извиняться перед предполагаемыми пассажирами и заверил, что моментально поднимется за правами. Но, что присуще всем творческим единицам, компания оказалась сплошь суеверной. Поэтому хором закричала: — Ни в коем случае: пути не будет! А Борис Петрович Чирков присовокупил лукаво: — Нет, ребята, совсем мы оторвались от народа. Машина, машина... А чем плох трамвайчик? И порешили: едем трамваем. В полупустой трамвай компания вошла довольно монументальная. И Калатозов, и Исаев, и Галич — высокие, чернокудрые пижоны, магнетически притягивающие женские восхищенные взоры и завистливые мужские. Один Чирков со своей простоватой курносой физиономией и ростом отнюдь не гигантским из единой композиции выпадал. Выпадал также и по причине своей сугубой славянскости. У тех-то троих облик был сугубо грузинско-семитский. И надо же! Немногочисленные трамвайные пассажиры обернулись именно на него. Потом деликатно отвернулись. И лишь один не спускал с Чиркова восторженно-вопрошающего взора. — Да, — вздохнул уязвленный Галич, — вот напиши хоть сто сценариев, сними хоть сто фильмов, а восхищенный народ будет все равно пялиться только па актера. (Соображение, веское по сути, в данном случае было вообще убийственным: после трилогии о Максиме Чирков стал почти национальным героем.) — Да-а, — меланхолично отозвался Исаев (он всегда говорил с какой-то вкрадчивой медлительностью, даже когда острил), — грубо ты с нами, Миша, обошелся, забыв права. Были бы у тебя права, не пришлось бы лишний раз ощущать свою ничтожность. — Еще раз простите, — развел руками Калатозов. Чирков же смиренно помалкивал. А пассажир, как завороженный, не спускал с него глаз. И только перед тем, как выскочить из трамвая, метнулся к Борису Петровичу: — Тысяча извинений! Я не ошибся? — Не ошиблись, не ошиблись, — снисходительно кивнул Галич. — Я сразу вас узнал. — Он затряс руку Бориса Петровича. — Вы — Соломон Рабинович? То, что данная новелла получила почти по О'Генри неожиданный конец, надеюсь, несколько утолила горечь сценаристско-режиссерской неполноценности в глазах масс. Но замечательней другое: из всей характерно этнической компании на роль Рабиновича был выбран Чирков. Вот так. Бывает. Вспомнив о «Верных друзьях» не могу удержаться, чтобы не рассказать еще одну историю. Упомянутая домашность фильма подчеркивалась и тем, что все три главных герой носили имена актеров, эти роли исполнявших. Борис Петрович Чижов — Чирков, Александр Федорович Лапин — Борисов, Василий Васильевич Нистратов — Меркурьев. Роли писались для них. Впрочем, не совсем. Нистартов в начале имел имя и отчество Николай Константинович. Ибо роль предназначалась знаменитому Черкасову. Однако, прочтя сценарий, Черкасов от роли отказался, не очень убедительно этот отказ объяснив и оставив режиссера и сценариста в огорчительном недоумении. Почему?.. Особенно печалился Чирков: ведь они с Черкасовым были связаны многолетьем, еще карьеру актерскую вместе начинали миниатюрой «Пат и Паташон». В чем же дело? Тайна открылась не им, а моему мужу. Уже прошло несколько лет со дня выхода на экраны «Верных друзей», ставших немедленно, как бы сейчас квалифицировали, кинохитом, когда муж мой поехал в командировку в Ленинград. На обратном пути в Москву он оказался в одном купе СВ «Красной стрелы» с Н. К. Черкасовым. Они были шапочно знакомы, встречались и раньше, но подробных бесед со знаменитым киноактером мужу не выпадало. Муж мой Александр Яковлевич Юровский, в свое время руководивший киноредакцией Центрального телевидения, а потом уже в качестве профессора МГУ читавший курс истории телевидения, прекрасно знал и кинематограф. Поэтому возможность побеседовать с великим мастером, да еще не спеша, в интимно-купейной обстановке, обрекающей на откровенность, была заманчива. «Вот и случай о "Верных друзьях" спросить», — подумал мой муж. Мысленно прикидывая ответы: недостаточно прописаны роли, характер героя он видел в иной трактовке, в конце концов, режиссерский почерк Калатозова не тот... И в том же роде. Когда было выпито по два стакана чая, а может, и чего еще, муж, достав самую доверительную интонацию, спросил: — Николай Константинович, дело прошлое, не скажете, почему вы отказались от роли в «Верных друзьях»? Вопреки ожиданиям Черкасов ответил легко и тут же: — Вы понимаете, там есть эпизод, где я должен бегать в одних трусах. А я все-таки член обкома партии. Непостижимое загадочное актерское племя! Что делает их на сцене, экране мудрецами, властителями, рыцарями, чуждыми житейской мельтишни? Как получается, что актерский талант диктует им сложнейшее решение, при этом не находясь во взаимодействии с тем, что древними именовалось словом «рацио»? А проще говоря... Ну, сами понимаете, как это звучит проще. И то: хитро-мудрый Иван Грозный, элитарнейший профессор Полежаев! И вдруг — бюро обкома... Ладно, Бог с ними. Им, если они, талантливы, воистину талантливы, все можно, все прощаем, тем более что встреча с лучшим из них — всегда праздник, событие, зарубка в памяти на всю жизнь. Именно такой и была, не отмеченная никаким потрясениями, но сберегаемая в душе, моя встреча с одним артистом. И тоже благодаря Михаилу Константиновичу Калатозову. О ней я рассказывала в авторской версии программы. Однако мне было нелегко. Мне было бесконечно одиноко в пустой степи, недостижимым казался Кишинев, куда мне надлежало прибыть в качестве корреспондента Всесоюзного радио. А «не любя»?.. Нет, любя. Моя любовь где-то за тысячи верст отсюда месила грязь фронтовых дорог солдатскими сапогами. И степное мое одиночество делало тоску разлуки острее и безнадежнее. Отчего мне завистливо представился тот, другой певчий путник, которому легко, потому что спешит он к восторженным концертным залам и потому, что может кочевать, никого не любя. Вертинский! Бесплотная мечта и восторг московских довоенных школьниц, легенда без облика, сотканная из одного голоса и странно волнующих слов. Несколько лет спустя оказалась я во Львове, уже корреспондентом журнала «Огонек». Земли, перед войной присоединенные к Советскому Союзу, будоражили в те времена воображение приезжих с Востока своим западным роскошеством, хотя война и им принесла убогость быта. Однако почти инопланетными казались загадочные остроголовые замки, надменные кварталы особняков и не окончательно растерявшая буржуазные замашки гостиница «Интурист». Поэтому вечерние посещения гостиничного ресторана были для меня всякий раз золушкиным королевским балом. В один из вечеров встретила я там друга нашей семьи, замечательного режиссера и не менее замечательного человека — Михаила Константиновича Калатозова. Он снимал во Львове фильм «Заговор обреченных». Снимался в этом фильме и Вертинский. Это сейчас я так запросто сообщаю: «Снимался Вертинский». А тогда... представленная этому мифу во плоти, я почувствовала легкое головокружение от неправдоподобия происходящего. Но, тем не менее, была приглашена за калатозовский столик и — во что уже совсем не могла поверить! — приглашена на танго Вертинским. Все было ирреально для недавней московской школьницы: и движение танца, будто не касающееся пола, некое ступание по мелодии, и этот высокий куртуазный господин, адресовавшийся ко мне словами «дитя мое». Я изо всех сил старалась делать вид, что подобные встречи и танцы для меня дело привычное, но в какой-то момент, не совладав с восторгом, ляпнула: — Ох, черт, как жаль, что мой фотокорреспондент завалился спать. Надо бы снять наш танец. Мне ведь потом никто не поверит, что я танцевала с Вертинским. Глава VIII «Кочевать, никого не любя...» (Александр Вертинский) Каруца, запряженная двумя меланхолическими волами, уныло двигалась по пересохшей дороге, и в развилке воловьих рогов всходили то крыши дальней деревни, то стайка одиноких тополей. Впрочем — редко. Бессарабскую степь почти не помечали предметы. И совсем нежданно вдруг взошел деревянный крест с резным изображением распятого Спасителя. А потом и приземистый сруб колодца. И сразу в памяти всплыло: И печально глядит на дорогу У колодца распятый Христос… Да, это было именно про эту молдаванскую степь, где такие скромные распятия то тут, то там встречают путника. А песня пришла из недавних и уже недостижимо далеких предвоенных времен, когда мы всем классом ходили к Тане Лебедкиной, дочке работника нашего торгпредсгва в Лондоне, слушать пластинки Петра Лещенко и Вертинского. Ходили тайно — певцы эти в Союзе были запрещены. Но вот снова Вертинский настиг меня в трудном путешествии в Кишинев, куда я добиралась в набитом поезде, потом на открытой железнодорожной платформе, груженной каким-то металлическим ломом, потом на попутной полуторке и, наконец, на крестьянских волах. Песня нагнала меня и уже билась в висках: Что за ветер в степи молдаванской! Как гудит под ногами земля. И легко мне с душою цыганской Кочевать, никого не любя… И сейчас была степь, и земля гудела — на этот раз от дальней канонады: война откатывалась на Запад. — Ну, ну, дитя мое, — великодушно помахал своей говорящей рукой Александр Николаевич, — не скромничайте. Я готов не только станцевать, но и спеть для вас. Что вам спеть? — «Что за ветер в степи молдаванской», — не задумываясь, выпалила я, продолжая не верить в реальность происходящего. Но он подошел к ресторанному оркестру, что-то сказал музыкантам, и те заиграли. И снова была степь, и каруца, запряженная меланхолическими волами, и в развилке воловьих рогов всходило деревянное распятие у колодца. А мимо пролетала тройка, под копытами которой гудела земля. Тройка уносила к нарядным концертным залам легендарного артиста, кочующего « по земле легко, с душой цыганской. Легко, никого не любя. А у меня снова ныло сердце, потому что я была простой смертной, влюбленной в очередной раз в кого-то в далекой Москве. Потому что мне было двадцать с маленьким хвостиком, и я еще не научилась свободе от пространств, известности и свободе от любви. ...Что же до ветра в степи молдаванской, то он гудел еще в моих стихах, ибо именно в Бесарабии я узнала счастье, отпущенное только моему поколению. Г л а ва I X «Это иду я, Время!» (Роман Кармен) Он открыл мне, как обращаться с временем и пространством. Как совмещать их, сопоставлять, бросать в противоборство. Я не говорю, что он научил меня своим секретам. Потому что истинному таланту нельзя «выучиться». Можно только пытаться постичь открытое мастерами. Случай, или (как угодно) судьба, подарил мне совместную работу с Романом Лазаревичем уже в самом начале моих кинодокумептальных проб. После участия в моей первой двухчастевке в 1959 году ЦСДФ предложила мне написать сценарий фильма «День нашей жизни». Фильмы такой конструкции уже создавались нашими документалистами до войны, в дни ее и сразу после. «День нового мира», «День войны», «День мира» — рассказ об одних сутках государства, вмещающий наиболее яркие характеристики того или иного исторического периода в бытии Родины. У «Дня нашей жизни» вначале был другой режиссер, с которым мы многое оговорили. Неожиданно картину передали Кармену. Непосредственной моей реакцией на это сообщение был ужас: начинающему кинодраматургу предстояло работать с классиком. Я боялась встречи с Карменом, и все придуманное для фильма вдруг показалось мне жалким, беспомощным, самодельщиной. Но меня не встретил человек с замашками живого монумента. Он не держался даже как мэтр. Он потребовал равноправного сотворчества. Своей фантазией он будил мою, отрицал неприемлемое и принимал мои отрицания предлагаемого им, когда контраргументы убеждали его. Однако, как я сказала выше, первые дни нашего знакомства я употребила на то, чтобы побороть закономерную робость новобранца перед маршалом. И, как назло, тут «случился случай», ввергший мое еще молодое сердце в предынфарктное состояние. Для работы над сценарием Рима (тогда еще для меня Роман Лазаревич) согласился приехать ко мне на дачу. Ну, что говорить — все семейство было брошено на уборку участка, расчистку дорожек и спешное сжигание прошлогодней листвы. Когда порядок (отнюдь не типичный для этой территории) наконец воцарился, я услышала, как кто-то из домашних крикнул: «Кармен!» Ага, решила я, значит, приехал. Бросилась на просеку, но никакой карменовской машины не обнаружила. А на участке снова голос, настойчивый, призывный: «Кармен!» Я все поняла и похолодела от ужаса. Кто-то окликал нашу собаку. Да, да, наша немецкая овчарка носила именно это имя. Разумеется, наречена она была так вовсе не в честь великого кинематографиста. Когда псина завелась, никто из моих, и я в том числе, Романа Кармена и в мыслях не держал. Просто была эта сука грациозна, темпераментна, чернява, хороша какой-то пиренейской красотой. Да еще своенравна: «Захочу - полюблю, захочу - разлюблю». Ну, чистая Кармен. По версии Мериме или, если угодно, Бизе. Ассоциации, как видите, литературные или музыкальные. Документальное кино ни при чем. И тем не менее. И, тем не менее, несложно представить ужас, обуявший меня: как будет оскорблен Кармен, узнав, что собаку нарекли таким образом! Ясно же, решит он, сделано это специально, чтобы унизить мастера. Да, вероятно, еще с подачи режиссера, с которым я начинала «День нашей жизни»: тот тоже был знаменит, с Карменом они соперничали. — Господи, уберите собаку! В будку, в будку! — простонала я. — Оставь, пожалуйста, глупости, — поморщил ся мой муж, — ты же знаешь, что при мне собака ни на кого не кинется. Что верно, то верно. Муж был единственным, кому своенравная ветреница Кармен не изменяла. Этакий Эскамилье на все ее времена. Одного слова нашего доморощенного тореадора было достаточно, чтобы Кармен была у ноги. — Но — имя, имя... — в отчаянии пролепетала я, и все разом поняли и засуетились, отлавливая собаку, упихивая ее в будку, вход туда за неимением замка привалили пеньком. Замка на будке не было отродясь, ибо наше вольнолюбивое животное никакой неволи не допускало, спало в сенях. Тем временем второй (а правильнее — первый) Кармен приехал. Все было расчудесно. Отобедали всем семейством, Кармен расслабился и то и дело повторял на разные лады: — Как это замечательно: большой стол, вся семья садится разом!.. Нет, вы даже не понимаете, как прекрасен такой ритуал! Я уже забыл, как такое бывает... Тогда я сочла карменовские слова данью обыкновенной вежливости. Только годы дружбы объяснили мне, что в словах Римы была истинная горечь. Но об этом расскажу позднее. Убрали посуду, все разошлись, и на том же огромном террасном столе я разложила странички — эпизоды сценария и всякого рода заметки. Мы погрузились в дело. Прошел примерно час. Мы работали дружно, увлеченно, я, уже несколько подобнаглев, пускалась в споры, по ничто не отвлекало нас: мое семейство, приученное уважать труд за столом, осуществляло свою жизнедеятельность тихо и уединенно. И вдруг рядом с домом раздался властный голос — Кармен, ко мне! Рима удивленно поднял голову. А там новый приказ: — Кармен, кому сказано, сюда! Увидев ужас, отобразившийся на моем лице, Рима, сам смущенный, решил, видимо, сгладить неловкость шуткой: — Ну, так властно со мной сам маршал Жуков не обращался... Может, у вас некий генералиссимус обитает? Я была не в силах выдавить из себя ни слова, я-то поняла: чертова Кармен отодвинула пенек, вырвалась из будки, а муж, забыв о роковом совпадении имен, пытается загнать ее обратно. Мое молчание насторожило Риму, уже без улыбки он спросил: — Кто это звал меня таким манером? — Это не вас, это собаку. Собаку зовут Кармен. Произнося эти жалкие слова, я отчетливо представляла реакцию Романа Лазаревича, ту, что вообразила еще до его приезда. Но он спросил: — И давно у вас проживает моя тезка? — Почти два года, — для оправдания добавила: — Еще до нашего знакомства. Откинувшись в кресле, Кармен смерил меня своим синим взглядом: — Тогда это — знак свыше. Вы уже тогда готовились к встрече со мной. Спасибо, Рима. Может, это и вправду был знак свыше? Не надо думать, что содружество наше было тихим и благостным. Мы, бывало, спорили, спорили ожесточенно и непреклонно. И позднее, когда мы работали с Романом Лазаревичем и над другими фильмами, от наших споров вибрировали стены. Но как часто во время благостной тишины моих последующих работ с иными режиссерами я с тоской вспоминала эти громогласные битвы. Кармен был вдохновенным и безжалостным «рабовладельцем» в творческой группе, где он сам делал себя рабом общего дела. Ему казалось немыслимым, чтобы человек, отданный фильму, мог па что-то иное тратить свои силы, интересы. Помню, как однажды (это было уже на другой нашей работе), когда Кармен записывал музыку с оркестром, я, считая, что это к моей литературной деятельности в картине уже не имеет отношения, позволила себе не прийти в тон-ателье, а беседовать с редактором о новом сценарии. Какой великолепный скандал учинил мне Роман Лазаревич! Еще бы, ведь я вообразила, что функции при создании фильма могут быть разграничены! С первой нашей совместной работы для меня непреложен карменовский принцип: фильм один, и каждый его создатель вездесущ в нем. А тогда, учинив мне разнос за отсутствие в тон-ателье, Кармен и сам несколько смутился, потому уже добавил мирно и иронично: — Ты же должна всегда быть при мне, иначе народ нас не поймет. — То есть? — А тебе разве не известно, что вся студия уверена: у Кармена и Шерговой — пылкий роман. Иначе с чего бы я с тобой делал столько фильмов? — Как с чего? С моего таланта, адекватного твоему, — не дрогнула я. Да, да, мы были уже на «ты», что отнюдь не изобличало интимность наших отношений. Никакого романа у меня с Карменом никогда не было. Дружба была, а романа не было. Но что правда, то правда: то ли так получалось, то ли у Кармена было такое правило, но больше одного фильма Роман Лазаревич с тем же самым автором не делал (разве что, кажется, два с Генрихом Боровиком). А со мной сделал несколько. И, наверное, именно потому, что любовные перипетии не осложняли нашу работу. В его сердечных делах я была только наперсницей, что, конечно, немало. По московской иерархии знаменитости и значимости Рима входил в категорию «классных мужиков». И правда. Все было при нем: слава, деньги, машина, квартира в элитной Котельнической высотке, дача... Атрибуты тогда не частые. А к тому же — элегантность и профиль, который просился быть отчеканенным на римской монете времен расцвета древней империи. Казалось бы, не уставай переступать через вязанки женских трупов! Ан нет. Про его романы Москва не судачила, а может, их и не было. Что же касается его браков, счастья они ему не принесли. Я не застала Кармена времен первой женитьбы — на дочери хрестоматийного старого большевика Емельяна Ярославского, скульпторе Марьяне. Ваятельница Риму бросила, как говорили очевидцы, — швырнула. Вторую свою жену, Нину, Кармен обожал, ревновал и терзался. И было с чего. Нина одна из самых знаменитых московских красавиц, для терзаний давала предостаточно оснований. То Рима с боем вытаскивал ее из особняка Василия Сталина, с которым та крутила шумную интригу, то натыкался в ресторане на жену, интимно воркующую с очередным шикарным пижоном, то... Перечень Нининых прегрешений можно длить и длить. Но главным из них считаю небрежение к самому Кармену и их дому, а дом-то Риме так хотелось создать Даже наличие прекрасного мальчика — сына Саши, брак этот скрепить не могло. Уже увидев всю Римину семейную эпопею воочию, я поняла, почему он сказал во время нашего семейного обеда на даче: «Я уж забыл, как такое бывает!» Рухнул и этот брак. Сыновья (от первого брака у Кармена тоже был сын — Роман, добрый, милый человек, ставший замечательным кинооператором) при всем теплом и уважительном отношении к отцу истиной жены заменить ему не могли. — Все, — сказал мне как-то Рима. — Никаких светских львиц, никаких инфернальных красавиц. Хочу тихую, милую, скромную. И вскоре привел ее ко мне. Тихую, милую, скромную. Нет, это неточно. Тишайшую, милейшую, скромнейшую хорошую девочку Майю. В синем скромном платьице «под горлышко» с белым детским воротничком. Без косметики, волосы забраны в два наивных хвостика, никакого громкого смеха, не говоря уж о зазывном хохоте, одни улыбки. И никаких претензий, готовность к бытовым жертвам; у новоявленной пары даже жилья не было. Рима ушел, бросив все. Вдохновленная видением грядущего счастья друга, я кинулась на поиски крыши над пасторальным уютом. Карменов приютили мои друзья, Саша и Рая Хазановы, чья квартира в это время пустовала. Со временем Рима получил квартиру. Быт, дом, семья (у Майи была дочка от первого брака) осенили карменовскую жизнь. Рима гордо и восхищенно сообщал друзьям: — Как она печет! Как она готовит! Какие грибы делает! Свидетельствую: все - правда. И пироги, и грибы, и хлебосольные застолья на даче. Сама отведала. Однако справедливо утверждает блатной шансон: «Не долго музыка играла». Очень скоро синенькое платьице было сменено на броские туалеты, а трогательные «хвостики» вышли из употребления, уступив место модным кудрям. Милашка Майя пустилась во все тяжкие. Подробности ее пронзительных романов живо обсуждались в фойе Дома кино и на пляжах писательских домов отдыха. Не сочтите эти свидетельства за ханжеские причитания уже немолодой (увы!) дамы. За долгую жизнь я не наблюдала (за редким исключением) браков, даже удачных, не перемешиваемых «отклонениями» мужа или жены. Да и на порицания «неверных» прав не имею. Мой счастливый и неразрывный полувековой брак тоже расцвечен разными вспышками. И моими, и, думаю, моего замечательного, любимого мужа. Более того, уверена, что возможность увлечений, влюбленностей не только стимулирует творчество, но может идти на пользу и семейной жизни. Важно только неукоснительно следовать заповеди бога домашнего очага: твои радости никогда не должны приносить огорчение, боль самому близкому человеку. А пируэты Риминых жен делали его глубоко несчастным. Трагическим была и кончина Кармена. Он лежал в больнице с инфарктом, а Майя уехала в Сочи с очередным возлюбленным. Где, почти сразу по прибытии, получила телеграмму о его смерти. Конечно, чужая жизнь, как равно и душа, — потемки. Может быть, в своих семейных невзгодах Рима сам был в чем-то виноват. Может быть, не отпущено ему было небесами одарить женщину безмерностью прихотливого бабьего счастья. Не знаю. Знаю другое. Счастьем сотворчества он дарил щедро. Счастьем преданности фильму до конца, без остатка. Сколько лет прошло с первых карменовских уроков, а я и до сих пор не понимаю сценаристов, для которых участие в работе над фильмом исчерпывается написанием сценария и дикторского текста. Работа с этим Мастером была школой, счастьем, но счастьем изнуряющим, трудным. Каким, впрочем, любое счастье, вероятно, и должно быть. Да и сам Кармен мог быть труден и неоднозначен. И это тоже — удел Мастеров. Я начала эти воспоминания с того, что Кармен открыл мне, как обращаться с временем и пространством. Это было вот как. Фильм «День нашей жизни» вмещал в себя десятки эпизодов, снятых в разных концах страны, даже мира. Одним из важных событий дня был правительственный визит советской делегации в Соединенные Штаты. Был в фильме и эпизод, запечатлевший жизнь пограничной заставы на восточном рубеже нашего государства, откуда рукой подать до территории США. Оператор С. Медынский по заданию Кармена снял пограничника, который, сложив рупором ладони, лихо, по-мальчишески кричит через пролив: «Эй, Америка!» Забавный штрих — мог им и остаться. Но в фильме — встык с этим куском (!) Кармен поставил шумные улицы Нью-Йорка, где тысячи людей встречали нашу делегацию. Америка точно откликалась. Он сблизил пространства и не связанный смысл двух эпизодов. Так впервые я ощутила на практике не только художественное, но и смысловое могущество монтажа, когда создатель документальной ленты не просто добросовестный повествователь. Нет, он может бросать эпизоды в объятия друг другу, он может выводить их на поединок — во имя мудрой публицистической страсти. А вот это и был карменовский почерк. Так же как с просторами, он обращался с временем. Мы работали с ним над фильмом о кубинской революции — «Голубая лампа». Уже шел монтаж. И вдруг, сорвавшись со своего места у монтажного стола, Кармен потащил меня в просмотровый зал, где была заряжена «Испания» — лента, которую он снимал до войны. Я решила, что Роман Лазаревич собирается, как это бывает часто, использовать в фильме старую хронику для иллюстративного сопоставления событий. Я ошиблась. Мы посмотрели прекрасный фильм, смонтированный Эсфирью Шуб, в который вошла испанская хроника Кармена и Б. Макасеева. А потом Кармен целый час — при егото жесткости к расточительству рабочего времени! — рассказывал мне о гражданской войне в Испании Он сближал годы, время. Он хотел, чтобы я ощутила, как Испания «длится» на Кубе. В «Голубой лампе» нет испанской хроники. Может быть (уже не помню), нет и прямых аналогий. Но там есть испанское время в кубинских одеждах. Должна признаться, что принять тогдашнюю Кубу в этом романтическом одеянии мне было не только не сложно, но даже естественно. И не только потому, что такой являла ее нам советская пропаганда. У меня были и личные мотивы. Как-то отдыхая в Сочи, я познакомилась с неким испанцем. Его звали Феликс Гонсалес. Ухаживая за мной, этот картинный кабальеро развернул всю изобретательную палитру испанских страстей. Мы продолжали видеться и в Москве, где Феликс учился в неком хитром заведении для иностранцев. Как понимаю сейчас — там готовили террористов и вождей для грядущих путчей. Вероятно, Феликс всерьез был увлечен нашими отношениями, потому что много раз трагически вопрошал: «Как же мы расстанемся? Нам же придется расстаться! Я не принадлежу себе, я принадлежу только делу и моей родине. Но как мне отказаться от тебя?» Каюсь: меня эти риторические вопросы не очень-то беспокоили, а революционная патетика любовных признаний даже потешала. Ну, живописный испанец, ну, не каждый день такое встречается! И ладно. Флер романтической необычности. Феликс уехал, и несколько лет я ничего о нем не знала. Но однажды раздался телефонный звонок: — Линда? — Он звал меня «Линда», уверяя, что по-испански это — «красавица». — Это Феликс. Я в Москве, я хочу тебя видеть. — Ну, конечно! Приезжай. — Нет, я не могу приехать в частный дом. — И, спохватившись, поправился: — Я не один, я с делегацией. Ты знаешь, что в Москве товарищ Фидель Кастро? Господи, знаю ли? Пол-Москвы на встречу выгнали, все СМИ об этом только и трубят. — Товарищ Кастро дает правительственный прием. Я приглашаю тебя, Линда. — И через паузу: — И твоего мужа, конечно. Так... Товарищ Кастро дает прием. Правительственный. А приглашает Феликс. Испанец Феликс Гонсалес. Так кто же он? А он: — Я пришлю тебе приглашение. Привезет курьер. Того лучше. Курьер. У него уже делегация, курьеры. У безвестного испанского нелегала сорок тысяч одних курьеров... Недурственно. — Кто же ты? — спросила я, увидев моего героя в торжественных просторах кубинского посольства, где давался означенный прием. Феликс, облаченный в военный мундир, высился над шустрой командой дипломатической челяди, обрамлявшей его значительность. — Потом, — сказал он. Потом открылось многое, чего я и вообразить не могла. А именно. Феликс был никакой не Феликс. Гонсалес никакой не Гонсалес. И даже испанец был кубинцем. И тогда, горюя о разлуке и говоря о том, что принадлежит только делу и родине, он вовсе не помышлял о сокрушении Франко и повой гражданской войне в Испании. Он уезжал к своему другу Фиделю делать кубинскую революцию. Ведь и лето-то нашей встречи было кануном революционного пожара на Кубе. Теперь бывший Феликс был одним из главных руководителей Республики Куба. На том приеме он представил меня Фиделю Кастро, мы довольно долго беседовали с кубинским вождем, видимо вызывая недоумение вождей наших и зависть присутствующих журналистов. Не иначе, решили они, я беру у него эксклюзивное интервью (не получив на то санкции Органов) и выпытываю тайны двусторонних отношений наших стран. Но все было проще: мы обменивались забавными историями. Я, в частности, рассказала Кастро анекдот, ходивший о нем в Венгрии. Как известно, венгры в немыслимых размерах поглощают кофе. Куда бы вы ни вошли, вам немедленно приносят этот напиток, крепостью не уступающий российскому самогону. Так вот. Анекдот таков. Приезжает в Венгрию Кастро с государственным визитом. Выступает на митинге, обращаясь к толпе с пламенным приветствием: «Я шлю любовь Кубы стомиллионному венгерскому народу!» Референт ему на ухо: «Товарищ Кастро, их только десять миллионов». Фидель свое: «стомиллионному венгерскому народу». Тогда уже венгерский вождь Янош Кадар: «Увы, товарищ Кастро, нас только десять миллионов». И тут Фидель взвился: «Что за ерунда! Я знаю точно. Мы продаем Венгрии кофе. Десять миллионов человек не могут выпить такое количество!» Надо отдать должное Фиделю, он в ответ на мой рассказ залился беззаботным хохотом, утратив на мгновение свою монументальную значительность. А псевдо-Феликс сказал мне на прощание: «Я горжусь тобой». Совсем как без конца говорят друг другу персонажи американских фильмов. Я не случайно в рассказе о Романе Кармене вспомнила свою кубинскую мелодраму. Написав выше, что несколько иронично воспринимала революционную патетику Феликса, я была не точна. Конечно, любовно-революционный его пафос был забавен. И все же, все же, все же... Я впервые встретила этакого живого Овода, увидела искреннюю самообреченность во имя революции и своего народа, человека из тех истинных, о которых мы читали в книгах, посвященных нашей революции или гражданской войне в Испании, ставшей пробным камнем для мировой интеллигенции. Слов нет, я еще застала тех, кто сидел в царских тюрьмах и «шел на штурм самодержавия». Но большинство из них казались мне зацикленными фанатами. Они оставались такими, даже выжив в сталинском ГУЛАГе. (Странное дело: сегодня, много лет спустя, когда не только общество, но и я сама пересмотрели свое отношение к «Великому Октябрю» и его бойцам, я испытываю к ним уже не прежнее неприятие. Не иронизирую на их счет. Я стала уважать их. Не разделять их воззрений, но уважать. Вероятно, потому, что сегодня так катастрофически завладел людьми дефицит бескорыстного самоотречения.) Именно это альтруистическое служение идее всенародного блага, во всех ее романтических доспехах я увидела в Феликсе. Именно это пленяло Кармена, определяя его чувства к Испании и Кубе. Именно это мы хотели передать зрителю, делая «Голубую лампу» и, позднее, «Когда мир висел на волоске...» — фильм о кубинском кризисе. Сегодня, когда открыты архивы и информация поступает к нам уже без визы агитпропа ЦК, я знаю правду, почти всю правду и о гражданской войне в Испании с кровавой жестокостью обеих сторон, знаю и вырождение Острова свободы в тоталитарный застенок. Я небезучастна к этой правде. Нельзя быть безучастным к разоблачению идеала. Но по-прежнему убеждена, что без идеала жизнь общества обречена на вырождение. Кармен не дожил до дней обнажения всей правды. Очевидец многих событий, в том числе испанских и кубинских, думаю, он тоже не все понимал до конца. Для него романтический флер происходящего заслонял сердцевину явлений еще больше, чем для меня. Думаю, и сегодняшнюю зрячесть он принял бы нелегко. Мы сделали вместе несколько фильмов. Но дважды в моей работе Кармен был не режиссером, а героем-рассказчиком. Когда я работала над телевизионными циклами «Летопись полувека» и «Наша биография», Кармен в кадре рассказывал об автопробеге Москва — Каракумы, об Испании, о Китае. Кадры, снятые им, его слова соединялись в страницы гигантской биографии времени, которому он служил, частью которого был. Именно оттого у него были свои отношения с временем, свой ход летоисчисления. Истинный художник — всегда повелитель времени и пространства. Однако он всесильнее во сто крат, если безграничность мира и многозначность времени суть его собственная жизнь. Когда фильм «День нашей жизни» был уже отснят, Кармен сказал мне: — Нужно придумать что-то, чтобы сразу было понятно, что это не просто хроника одного дня. Я предложила ему начать фильм монологом Времени. Он так и звучал: «Это иду я, Время!» Я написала этот монолог, Кармен смонтировал материал. Время двигалось по экрану долгой дорогой обездоленных и печатало четкий шаг победных колонн, ступало первым топтанием ребенка и неслось легкими стопами влюбленной девушки И вел этих людей по темноте кинозалов Кармен, который был экранным поводырем Времени. Позднее он подарил мне свою фотографию с веселой надписью. «Я — долгая дорога обездоленного режиссера, приговоренного к тексту Шерговой. Галя, Вы прелесть. Ваш Р. Кармен». Мы любили подтрунивать друг над другом по поводу взаимной рабочей тирании. И ссорясь, и веселясь, и никогда не враждуя. Я уже не услышу его походки. Но, когда я вижу вновь его фильмы, я ощущаю — утверждает Роман Кармен: «Это иду я, Время!» Я не случайно пишу о Кармене и Времени в несколько приподнятой манере с покушением, как говорится, па высокий слог. Карменовское документальное кино, да и вообще советское документальное кино того времени болело недугом излишней приподнятости, впадающей порой в пафос. Я тоже переболела этим. Стремление, как говорил один мой главный редактор, «рассматривать достижения через увеличительное стекло» приводило к странному парадоксу — документ переставал быть документом, обращаясь в миф. Меня всегда забавляет — ссылки на фиксированную на пленке действительность, как на подтверждение истинности рассказа. Любое изображение, особенно в фильме, может быть интерпретировано как угодно. Вон — Эсфирь Шуб в своей ленте «Конец династии Романовых» и Станислав Говорухин в «России, которую мы потеряли» одним и тем же кадрам придали противоположный смысл. Мы много говорили с Римой о правдивости документального кино и о предназначении документалиста. Иногда меня злила карменовская убежденность в непогрешимости (непогрешимости против правды) его кипорассказов, фильмов. Конечно, моя позиция, позиция человека, понимающего ущербность такого метода обращения с действительностью и, тем не менее, зачастую работающего именно таким манером, нисколько не лучше. Но диалог профессии с совестью — неминуем. Мне давно хотелось написать об этом. Я только не могла найти жанра разговора. Потом нашла. Я на писала повесть «Синий гусь», в которой прообразом главного героя Артема Палады был Роман Кармен. Конечно, как это бывает всегда в литературе — это вовсе не жизнеописание моего друга. Вся любовная история, сюжетная линия вымышлены, герой помещен в обстоятельства, в которых Кармену, может, и не всегда приходилось бывать (хотя есть и такие), но характеры и биографии героев подлинного и придуманного — схожи. А главное — я отдала Паладе мысли, сомнения, движения души Кармена. Повесть рассказывает о том, как Артем Палада снимает фильм о герое греческого Сопротивления времен Второй мировой войны. На алтарь этого подвига принесены в жертву десятки человеческих жизней. Но оставшиеся в живых считают, что жертвы были не напрасны, а имя героя — свято. События складываются так, что Палада узнает: герой — не герой, а предатель, фактический убийца поверивших ему людей. Правда неизвестна никому, кроме Палады, и не может быть узнана. Как же поступить режиссеру? Вместо снятого фильма сделать другой, разоблачающий легенду? Но как отнять у живых участников событий веру в то, что их близкие и друзья не погибли бессмысленно, что предана — тогда и сейчас — их вера в праведность жертв и лишений, у многих из них просто отнять смысл жизни? Рассказать всю правду о греческом Сопротивлении немецкому нацизму и тем самым запятнать это движение? А ведь сколько его подлинных героев и в последующие годы приняли участь мучеников, брошенных в тюрьмы и концлагеря даже в 70-е годы, при диктатуре «черных полковников»? Может быть, просто положить на полку сделанный фильм? Но его ждут. Ждут все, воевавшие в Элладе с гитлеризмом, с фашизмом. А так же ждут... Ждут в Париже, где объявлена премьера. И это обстоятельство — тоже соблазн. Честолюбивый, но соблазн, которого любым авторам трудно избежать. Легче уговорить себя в правильности решения. И Палада едет с фильмом в Париж. Не знаю, как поступил бы в этом случае Кармен, стоял ли он перед таким выбором. Не знаю, как поступила бы я сама. «Синий гусь» не только о Кармене, но и о себе, о всех нас, мифотворцах XX века. Повесть — дань моей дружбе с Романом Карменом. Вот несколько отрывков из нее. «Ликующий детский голос сообщил: "А сейчас хор исполнит любимую песню наших бабушек и дедушек". Я решил, что сейчас они затянут "Вихри враждебные" или, на крайний случай, "Конницу Буденного". А они запели "Марш веселых ребят", и я подумал: "Мать честная, а ведь жизнь-то — тю-тю!" Детский голос был ликующим и ломким. Он был ломким от отважной борьбы с пространствами, когда, самоуверенно расталкивая заросли радиоволн, облепленных звуками всей Европы, пробирался из Москвы сюда, в Афины. Голос изнемог в этих битвах, но все-таки ликовал оттого, что я впустил его, отомкнул для него вход, повернув ручку радиоприемника. Я люблю за тридевять земель от дома слушать Москву. Хор звенел уже свежо и четко, точно отдыхая в прохладе моего гостиничного номера. Небось, там, за окнами, эти северные голоса не веяли бы с такой отрадой: неделю жара стояла в 35 градусов. Я лежал, погрузив тело в оранжевую мякоть кожаного дивана, точно в недра гигантского апельсина. Это усиливало ощущение прохладного покоя, неподвластного городскому пеклу. Свет тоже помогал прохладе — сумеречный свет, идущий сквозь поляризованные оконные стекла, за которыми город на любом безоблачном солнцепеке выглядел пасмурным, а порой даже предгрозовым. Однако, лишенный таким образом полутонов, город был отчетливо выписан внутри оконной рамы. С моего дивана я видел холм Ликобетос. Когда-то в школе мы учили (а впрочем, и позднее я читал в разных путевых очерках), что Афины спускаются террасами от Акрополя. Глупости. Город спадает вниз от Ликобетоса. Акрополь ниже его. Ликобетос лежит над городом, похожий на крестьянскую шляпу с опущенными зелеными полями и серой мятой тульей, в складках которой застряла серо-бутылочная темнота поношенности и старости. Маленький храм воткнут в вершину, как перышко, что еще больше увеличивает схожесть холма с крестьянской шляпой. Я опять и опять рассматривал Ликобетос — и поля, и тулью, и храм-перышко. Я люблю подробности мира и подробности вещей. Обо мне написано во всех книгах по документальному кино, изданных во всех странах, где оно существует: "Пристальный глаз Артема Палады. Знаменитые детали Артема Палады". Чего ханжить — я почти хрестоматиен. Меня изучают. Моим именем называют направления и течения. Конечно, приятно. Но, Бог свидетель, я никогда не задыхался от упоения званиями, призами, премиями. Вот, наверное, если бы их не было, тогда "неполучение" мучило бы меня. Но они были. Я даже не могу себе представить, что их могло не быть. Детский хор ликовал. Я подумал: "Мать честная! Ведь это я — "бабушки и дедушки", — и выключил приемник. Потом вслух сказал: — Пропала жизнь. Почему Чехов так неотступно повторял эту фразу несколько раз в разных сочинениях? "Пропала жизнь" — в рассказах, в пьесе, несколько раз. И всякий раз слова эти ударяли меня по сердцу, хотя я знал, что я тут ни при чем. Это не про меня. Моя не пропала. Я и сейчас, произнося слова, цепенящие своей простотой, знал — не про меня. Но я испугался: и в словах этих была неотвратимость приближающегося живого предела. Я испугался, хотя сроду не боялся ничего — ни артобстрелов, ни начальственного гнева, ни разгромных рецензий. И женской нелюбви, измен — не боялся. Да и смерть, в общем-то, никогда не представлялась страшной. Страшной оказалась фраза: "Пропала жизнь". Фраза не моя, не обо мне, не имеющая со мной никаких связей. Чужая фраза. Про чужую жизнь. Чью-то, не мою. Пасмурный солнцепек царил на холме Ликобетос, на серых глыбах афинских улиц, камнепадом рушащихся с отлогов холма. Улицы выглядели безлюдными, и только где-то по узким их расщелинам вниз, к площади, недвижной, как гладь убитого зноем озера, спускалась Зюка. Она несла сквозь полуденную жару свое прохладное балтийское лицо, ее светлые волосы вспыхивали по всей их падающей длине, потому что на волосах зажигались брызги Балтики и даже эта чертова жара была бессильна высушить их. И вся Зюка, подобно моей гостиничной комнате, была недоступной для зноя. Я представлял, как она идет с холма Ликобетос — точно так же, как шла позавчера, когда я встретил ее. — Ну, — сказала Зюка, — где они, "зеленые дебри Афин?" Никаких деревьев. Даже на бульваре Сингру пальма торчит одна-одинешенькая. — Прости, — я коснулся ее прохладной руки, — не вышло из меня поэта. Давно-давно я написал ей стихи, в которых была почему-то строчка про "зеленые дебри Афин". Афины тогда были нам неведомы, как планета в созвездии Лебедя, столь любимого писателями-фантастами. И книги о Греции читались нами, как фантастическое описание земли, которую можно ощупать лишь воображением, а не взглядом. Я люблю ощупывать вещи взглядом, а не воображением. Потому, наверное, из меня и вышел кинооператор, а не поэт. — Из тебя вышел мифотворец, — сказала Зюка. — Гомер — двадцать четыре кадра в секунду». «...В синей безоблачной высоте над городом, над моей головой вдруг ударил звон церковного колокола, покатился к заслоненному холмами горизонту, за ним другой, третий... Удары обгоняли друг друга, сшибаясь в вышине и разбиваясь на мелкие чистейшие звоны. Ощущение уже однажды пережитого по неясной, лишенной координат хронологии, ощущение, которое испытывают, вероятно, все, толкнулось мне в сердце. Как всегда бывает в таких случаях, я не мог поймать его точный облик в прошлом. Перебегая улицу, мне навстречу устремилась светловолосая девушка, прижимающая к груди охапку красных цветов. В какое-то мгновение мне показалось, что это Зюка, и я стал мучительно вспоминать: когда же это было, когда она так бежала навстречу мне, прижав к груди цветы? Девушка помахала мне рукой. Я уже готов был ответить, но стоящий возле меня на тротуаре парень что-то крикнул ей, и я понял, что приветствие обращено к нему. Девушка все махала, и оттого, что букет она удерживала только одной рукой, цветы начали рассыпаться, падать, оставляя красные отметины на мостовой. Цветы распростерлись передо мной на асфальте, алыми кругами в зрачках они расплывались и множились, обращая афинскую мостовую в ту маковую лощину на окраине Севастополя, по которой полз Владик Микоша... Время еще раз опрокинулось назад и теперь обнажило развалины города моей войны. Изодранный многомесячной осадой, Севастополь был череп. Вывернутые металлические конструкции дыбились над руинами, как изломанные мачты судов, будто суша стала местом гигантского кораблекрушения. Отчего-то особенно четко помню номера домов, сохранившиеся на обломках стен, — самих зданий уже не существовало, и эти неподвластные уничтожению цифры делали город скопищем братских могил, могил людей и улиц, где захоронения помечены лишь порядковыми номерами. И среди этих черных владений копоти белая, чуждая разрушениям стояла наша "Северная" — гостиница на Нахимовской. Белый кораблик, плывший из иной мирной жизни в это море черной гибели. Бомбы и снаряды не тронули его, пощадив. Майские цветы папарунес... Майскими, именно майскими должны были быть цветы, оброненные этой девушкой в колодец моей памяти. Я уверен, что майские, алые, хотя и их имя — иное. Что же эго было? Я понял. Этот единственный знак былого... Во всей гостинице квартировало лишь четверо постояльцев — наша группа военных кинооператоров. А чуть подальше — к самым немецким блиндажам подползала та лощинка. Был май, и цвели маки. Цвели маки, заливая лощинку алым. Туда, к лощине, к наблюдательному пункту роты, шел неглубокий ход сообщения, соединявший блиндажи. Как-то под вечер мы с Микошей прошли на НП. Немцы угнездились совсем рядом, их голоса, даже слова были различимы. У замаскированной стереотрубы лежал усатый мичман, не выпускавший из левой руки трубку полевого телефона. Мы сели рядом с ним. И вдруг из немецкого блиндажа потянулась мелодия. Ее выводила губная гармошка. А потом чуть хрипловатый баритон запел: "Комм цурюк..." — пел он. Он просил чью-то любовь вернуться, он заклинал ее прийти назад, заклинал прыгающими, спотыкающимися и всхлипывающими звуками губной гармошки. Наверное, так заклинают дикую змею звуки дудочки восточного факира, подумал я. Образ был литературен и пышноват, но я ведь тогда, кроме литературы, еще не имел источников представлений о мире, я не видел ни Востока, ни факиров, пи змей. Я не знал даже, как заклинают вернуться любовь. Я знал в лицо только войну. Войну, на которой нежданно-негаданно какому-то немцу вдруг пришло в голову петь "Комм цурюк..." Куда он звал ее, свою любовь? На это чужое кладбище, где не погребены убитые им? Меня передернуло, как от чудовищно-нелепого созерцания ложа любви, которое палачу пришло бы в голову устроить па эшафоте, еще залитом кровью. Хотя это тоже было литературой. А Владик сказал: — Подумать только, он тоже тоскует о любви... — И через паузу: — Я нарву маков. — Не треба рисковати, товарищ капитан третьего ранга, — сказал мичман, — забачут. Но Владик пополз. — Псих, — сказал я. "Комм цурюк", — надрывалась гармоника, и я уже сатанел от злости: я не оставлял пи за одним немцем права на человеческие чувства и ощущения. Надо сказать, что война вообще жила во мне, лишенной спектра чувствований, того невидимого спектра, в котором тона, смешиваясь, переливаются один в другой, набирая силу от тьмы к свету и от света к тьме. Понятия войны были для меня монолитны и однозначны: ненависть, героизм, бессмертие... Даже не смерть, а именно бессмертие, перешагивающее через страдания и страх, точно не замечая их. Здесь, в Греции, как-то стоя на каменной сцене античного театра в Эпидавре, я подумал (не без тщеславия, должен сказать), что мои чувствования времен войны были чем-то схожи с чувствованиями героев античных трагедий, ибо те тоже были служителями однозначных начал человеческого бытия. Над одним реяло знамя мести, над другим — греха, над третьим — верности. Знамена чистых цветов. Без спектра. Сюжетная сложность цветовых совмещений только служила выявлению единства. Один английский киновед в монографии о моей работе написал: «Палада, может быть, единственный военный кинооператор, сумевший запечатлеть лик человеческого бессмертия в разных его ракурсах». Да, я не снимал страданий, я не снимал страха, я не снимал человеческую смерть. Я снимал героизм, равный деяниям античных героев, а может, и деяниям бессмертных богов. Наверное, оттого мои кадры, репродуцированные в десятках книг и на стендах бесчисленных выставок — "Комбат", "Черпая смерть", "Атака морской пехоты", "Последний патрон", и еще, и еще, — стали, как об этом писалось, "классикой войны". Мне-то, честно говоря, такое всегда читать про себя неловко. Моим героям был неведом страх. И дело тут в том, что я сам был лишен этого физического или психологического состояния. Как-то я прочел в послевоенной книге Микоши о том, что для запечатления бессмертия нужно снимать страдание и подвиг смерти ради жизни. Не берусь спорить. Но, чтобы разделить такую точку зрения, нужно дойти до нее самому. А для этого необходимо знать, что такое собственные страдания, собственный страх. Я мог испытывать сострадание, но лишения и потери, переносимые мной самим, я почти с самого начала войны научился принимать как неизбежное, как статут существования на войне. А страх? Если бы я рассказывал об этом, мне бы не верили, но я действительно не знал, что это такое, не понимал. Подсознательно я был уверен в своей завороженности от опасности, смерти, неудачи. Они — для всех. Для всех, кроме меня. Из этого не следует, что мне запросто давался тот или иной кадр. Коллеги-то понимали, как снимается крупный план рушащейся рядом бомбы или идущая через твою голову та самая "черная смерть" — морская пехота, поднявшаяся в обреченную на гибель контратаку. В афинской гостинице детский голосок, заявивший: "А сейчас наш хор...", сообщил мне о том, что старость — вот она, что жизнь кончена. Трудно сказать, возвращался ли я многократно к этой мысли с того мига. Однако время от времени — я сейчас осознал это! — странное состояние настигало меня: стремительно катящийся горизонт ударял под ложечку, твердым ребром ладони бил диафрагму. Линия горизонта не удалялась, как ей положено, она летела ко мне. От нее не было спасения, хотя я чувствовал, что на задворках памяти прячется какое-то воспоминание, способное освободить меня от ноющей боли необратимого конца. Что-то чертовски похожее, но избавительное. Сейчас я выудил это почти забытое. Летящий на меня берег. Желтая песчаная граница зеленого моря и земной суши. В одесском порту разгружались наши транспорты. Через залив по кораблям били немецкие орудия, выйдя на прямую наводку. Но мы не могли засечь их артиллерийские точки. В разведку вышел торпедный катер, которому предстояло принять огонь на себя. Я пошел на нем. Командир катера отослал меня на корму, велев примоститься между двух торпед. Эти два черных тюленя, густо смазанные тавотом, спали там, занимая все свободное пространство. Куда мне было деться с моей "Аймо", перезарядным мешком с кассетами? — А, вот как, прошу! — На корме стоял огромный матрос и весело подмигивал мне. Матрос вынул из бездонного кармана парусиновой робы кусок пакли, отер хребет торпеды. — Сидайте, — сказал он, — только на виражах в море не загремите. Вот тогда-то и было это: летящий на нас берег, залив, исполосованный автоматными очередями, катерок, ныряющий меж водных колонн, воздвигаемых разрывами орудийных снарядов, весь этот неправдоподобный мир, возникающий в визире моей камеры, неправдоподобный, ибо подвижная плоть вздыбленных вод — я чувствовал это, будто сам был камерой, — в секунду фиксации становилась неколебимей гранитных монолитов, а грохот канонады уже обретал немоту на крутящейся пленке. А желтая песчаная граница моря и суши все надвигалась и надвигалась, готовая ударить под ложечку твердым ребром ладони. Но не это осталось со мной навсегда. Остался я сам на жирном, точно потном от долгой скачки железном моем скакуне, осталось и яростное упоение работой, с которой никакая смерть совладать не в силах. И еще: огонь всей войны, принятый на меня. Как бессмертный магнит, я стягивал к себе все раскаленное железо бойни, даруя безопасность всем, кто сражается вместе со мной. Я думал обо всем этом одновременно, не замечая крючков ассоциаций, не соблюдая хронологической последовательности событий; все одновременно присутствовали во мне — и алые цветы папарунес, и гостиница на Нахимовской, и ночь среди мертвецов, и скачка на торпеде, — все существовало тут, на афинском тротуаре, где я отчетливо видел, как по мостовой, заполненной цветущими маками, ползет Владик Микоша, а тело его оставляет в красных зарослях черную промоину. Он нарвал в тот севастопольский вечер маков и установил в гостиничном номере роскошный букет. Рано утром мы ушли на съемку, а когда вернулись, увидели, что у нашей гостиницы нет боковой стены. Как на архитектурном макете, вся внутренняя конструкция здания была открыта взору. Уцелевший пол номера в глубине здания был почти сплошь залит кровью, ее капли время от времени медленно опадали на ребристую спину лестницы, ведущей на нижний этаж. На войне мы видели много крови — где больше можно ее увидеть? Но это зрелище было нестерпимо: кровоточили внутренности раненого пустого дома. А дело-то было куда как простое: пол нашего номера плотно устилали лепестки алых маков». ..Литературного брата Кармена Артема Паладу ошарашила пропасть, открывшаяся в простой фразе: «Пропала жизнь». Почему? — недоумевал он. — Почему? Моя жизнь была населена, перенаселена людьми, событиями, работой, любовью. Было, конечно, и тяжкое, но, вообще-то, счастливая жизнь, завидная жизнь. Так почему сейчас, когда накат линии горизонта все стремительней и неотвратимей, твержу неотступное: «Пропала жизнь». Почему? Может, оттого, что труд мифотворца не могут оправдать ни восприятие мифа как истинного мира, ни попытка оправдать перед собой сотворение мифологии. А? Глава X Лев Толстой застольного рассказа (Иосиф Прут) По моим беглым подсчетам, его возраст насчитывал лет эдак двести—двести пятьдесят. В соответствии с паспортом выходило тоже немало: ровесник века XX, он завершил жизненный путь тоже почти вместе со столетием. Однако на соперничество с Мафусаилом героя этой главы Иосифа Леонидовича Прута обрекало количество и хронология событий, в которых он принял активное участие. Выходило, Прут не только приглашал на первый вальс десятилетнюю бело-розовую куклу Любочку Орлову (в будущем знаменитую кинозвезду), махал шашкой рядом с Буденным, сея ужас в нервических колоннах белогвардейцев, стоял одесную с маршалами Великой Отечественной, но и галантно предлагал руку Марии Антуанетте, восходящей на эшафот. Так, во всяком случае, следовало из прутовских устных повествований. И вообще, все происходящее в новейшей истории происходило либо с ним самим, либо с его близкими знакомым. Даже анекдоты. Ончик, а для всех друзей Иосиф Леонидович был до самой кончины Оней, Ончиком, не начинал анекдота по всеобщей унылой заведенности. Скажем: «Приходит один еврей к другому...» Нет. В прутовской редакции зачин был иной: «На днях мой приятель Кашперович, ну, вы знаете, из третьей квартиры на Аэропор-товской, зашел в восьмую квартиру к Шлимовичу...» Короче, прутовская устная жизнь была новым «Декамероном», «1000 и одной ночью», более того — «Рукописью, найденной в Сарагосе», где сюжеты, подобно «матрешкам», упрятаны один в другой — zusammen, как говорят немцы. То есть, по-нашему, вместе взятыми. Жизнь устная. Была и жизнь плотская, земная Иосиф Леонидович был известным драматургом и сценаристом, его пьесы шли по всей стране, по его сценариям поставлено множество фильмов, в том числе знаменитые «Тринадцать» Михаила Ромма, «Незабываемый 1919-й» Ильи Трауберга и т. д. Высокий профессионализм Прута запечатлела ходящая по Москве эпиграмма. В соавторстве с узаконенным властями, но малоодаренным В. Кожевниковым Прут написал несколько сочинений, преуспевание которым обеспечивало официальное положение (что в советские времена было фактором немаловажным) прутовского соавтора. Так вот, кто-то окрестил содружество как «Артель авторитет и труд — Вадим Кожевников, И. Прут». Однако особенно нежно Ончик — добрейший, искрометный, открытый людям и ветрам истории — был любим, желаем, как «Лев Толстой застольного рассказа». Такую кличку и носил. Не мелкожанровую, эпическую. Совпадение или, скорее, несовпадение в Ончиковом бытии жизни устной и жизни плотской всегда было пищей для упражнений московских острословов-завистников. Ну, право, — и это все о нем?.. Помилуйте! Сходились на том, что быть не может. А зря. И вы увидите почему. Так или иначе — о творчестве Иосифа Прута желающие могут прочесть в книжках. Но мне горько думать, что вместе со слушателями прутовских повествований уйдет в небытие и увлекательная его апокрифическая жизнь. Поэтому хочется запечатлеть хоть некоторые ее страницы. При этом понимаю: без его интонаций, мимики, вся соль которой была как раз в отсутствии мимики, пересказ — лишь самодельная маска с вдохновенного лица. Кстати, о лице. Оно состояло из двух хорошо пропеченных французских булок, меж которыми был втиснут самодовольный круассан носа. Доминировали щеки. — В вашем лице я приветствую... щеки! — каждоразно здоровался с Ончиком драматург Петр Тур. Лицо не менялось с годами. Как, впрочем, и истории. К ним просто добавлялись новые. Итак: страницы жития Иосифа Прута, пролистанные или наговоренные некогда им самим. Юного Ончика воспитывал дедушка. Нельзя сказать, что сиротство юниора изобиловало жалостливыми подробностями, привычно сопровождающими жизнеописания обездоленных крошек. Дед числился одним из самых состоятельных предпринимателей Ростова-на-Дону. Потому, когда сверстники Ончика, закончив гимназию или реальное училище, определялись в должность, наш молодой жуир был отправлен в Европу. А именно—в Швейцарию, в Лозаннский университет, как раз для «европейской полировки ума» и обогащения знаниями. С умом было все в порядке. Что же до знаний — их багаж плеч не оттягивал. Ончик благополучно обзаводился «хвостами», проматывая дедушкину «стипендию» в развлечениях, которым умел придать разнообразие и европейский блеск. Какое-то время все шло без накладок, деньги из Ростова поступали с педантичной регулярностью. Но однажды по неведомым каналам слух об Ончи-ковых пируэтах достиг Ростова. И Ончик получил грозную депешу: «Если не возьмешься за голову, посажу на тысячу рублей, сдохнешь с голоду. Д.Х.Т.Б.Т.Д.С.П.». Дитя струхнуло. Хотя, честно говоря, перспектива жить на тысячу золотых рублей в месяц, что по современному курсу составляло несколько десятков тысяч долларов, на жизнь бомжа или, изящнее, французского клошара не обрекала. Больше страшила загадочная аббревиатура, стоящая в конце депеши. Расшифровывалась она следующим образом: «Да хранит тебя Бог. Твой дед Соломон Прут». Именно таким манером венчались все дедушкины письма. Но на этот раз внук почувствовал скрытую угрозу: еще немного, и дед перепоручит Богу заботы об отпрыске. Что, разумеется, менее надежно, чем опека старого Соломона. Не стоит, однако, думать, что наш нищий студент тут же перевоспитался. Он только понял, что, поскольку предстоит неизбежная встреча с дедом, нужно хотя бы временно «взяться за голову». Обрубив «хвосты», почистив перья, Ончик отбыл на каникулы в родной Ростов. Дед был доволен: — Когда хорошо, никто не говорит, что плохо. Когда мальчик себя ведет, его тоже можно вывести к людям. Завтра беру тебя на бал. Если заслужил, никто не скажет, что не заслужил. Дореволюционные благотворительные балы были главным подиумом, на который публично выводились мужские щедроты и женские прелести. Повод — дело второстепенное: сиротский приют, перевоспитание падших горожанок или усовершенствование городской бани... Не имеет значения. Важно унизить Вениамина Шварцмана размером благотворительного взноса, а Розе Львовне с Садовой продемонстрировать убожество усилий ее портнихи перед туалетом, который еще тепленький, вчера из Парижа. Бал сиял, как чертог. Лучились люстры, лучились золотые коронки в прорезях мужских улыбок, лучились бриллианты на благоухающих дамских бюстах, целый месяц томящихся в заточении скромных блузок, а теперь вырвавшихся на оперативный простор обнаженности. Блистали все, но самые знаменитые ростовские красотки были отобраны на роли цветочниц и буфетчиц. Полагалось, что им богатые посетители должны отваливать пронзительные суммы за цветок или бокал шампанского. Этакое зазывное ристалище рыцарей крупных купюр. Ончик, облаченный по последней моде, порхал от дамы к даме, собирая улов улыбок. Задержался у красавицы-цветочницы Зины. На изгибе ее мерцающей руки покачивалась невесомая корзиночка с розами. — Ончик, детка, розу? На воспомоществование одиноким бедняжкам, ставшим жертвами общественного темперамента. — Зина закончила гимназию, отчего могла себе позволить такие сложные эвфемизмы. Ончик галантно выдернул из корзиночки розу и с европейской небрежностью сунул в Зиночкино декольте сто рублей. И тут подошел дед. — Соломон Моисеевич, розу? На воспомоществование... — Безмозглым курицам. Знаю, — оборвал Прут-старший, но розу взял и, порывшись в бумажнике, протянул Зине рубль. Зиночка вспыхнула удивленным негодованием: — Соломон Моисеевич! Ончик, ребенок, дал сто рублей, а вы могучий Прут... — Видишь ли, деточка, — задумчиво ответил тот, — дело в том, что у Ончика есть богатый дедушка, я, представь себе, круглый сирота. Как ни странно, не грозные депеши, не строгие нравоучения, а этот, вроде бы просто забавный, эпизод произвел на Ончика решительное воспитательное воздействие. Как человек способный, одаренный, он блестяще закончил университет и даже на долгие годы остался в памяти педагогов и сокурсников как любимый выпускник. Что имело и свое продолжение. Уже в 70-е, 80-е годы Прута несколько раз приглашали в Швейцарию. Просто так. Не по служебной или творческой надобности. А чисто ради благ душевного общения, радости необорванной нити молодой дружбы. Не скрою, все мы, не до конца верившие в швейцарскую юность Прута, были этим обстоятельством несколько удивлены. Не следует также забывать, что сама по себе «неслужебная» поездка за границу, да еще индивидуальная, в те дни была редкостью. Безжалостный сепаратор «железного занавеса» отделял заграничные командировки чиновной элиты от личных поездок, сводя последнее практически к нулю. Свой интерес к миру можно было утолять разве что в составе туристической группы. Пруту повезло, и затеи юности обернулись неожиданным манером. Швейцария — страна гор (для тех, кто слышит об этом впервые — сообщаю). Оттого любимым развлечением юного Ончика и его друзей были походы в горы. Путников было четверо, закадычных друзей-однокашников, облачаемых в шикарное спецобмундирование, груженных рюкзаками с провизией, ледорубами и прочей амуницией. Откровенно говоря, ледорубы брались больше, как сейчас бы сказали, для понту. Сложных вершин маршруты не достигали. Да, их было четверо. По замыслу. Однако существовал еще и пятый претендент на покорение высоты. Пятилетний братишка одного из путешественников — Ренэ. Чтобы избавиться от этой обузы, наши альпинисты вставали ни свет ни заря, тайно покидали дома и со всеми возможными предосторожностями отправлялись в путь. Но стоило им расслабиться, потеряв бдительность на первом километре, как сзади раздавался ноющий голос: — Если вы меня не возьмете, я все скажу маме, и она больше не пустит вас в горы. Ренэ был внезапен и неотвратим, как непогода в горах. А присутствие ребенка сулило таскание его на закорках, частые привалы, вынужденную индифферентность при встречах на маршруте с незнакомыми барышнями. Проклятие по имени Ренэ тяготело над нашими путешественниками. Выше я поминала, что Иосиф Леонидович дожил почти до ста лет, не утрачивая бодрости духа, тела и темперамента. Такая же завидная участь выпала и трем его спутникам-ровесникам. Поэтому, когда почти шестьдесят лет спустя после окончания учебного заведения они встретились вновь, было естественно, что кто-то предложил: — Ребята, а не махнуть ли нам в горы? Все было, как прежде. Предрассветный холодок, шарящий в треугольнике распахнутого ворота, рваная копоть листвы, еще не набравшей цвета в рассветных лугах, упругость дороги под подошвами кроссовок от самых дорогих фирм. Впрочем, прежде кроссовок не было. Как не было и сложностей с затягиванием ремней на изрядно отросших животах. Но — нам ли быть в печали по поводу такой незначительной подробности! Швыряя в друг друга шутками, насвистывая мотивчики из модных оперетт начала века, ребятишки одолели первый поворот. И тут... тут сзади раздался ноющий голос: — Если вы меня не возьмете, я все скажу маме, и она больше не пустит вас в горы. Путники замерли, озираясь по сторонам. Никого, дорога пустынна. Только внизу, у подножия, громоздилась черная махина задумчивого и надменного лимузина. Лимузина, известного всей Швейцарии, ибо принадлежала машина одному из самых могущественных банкиров страны. А потом раздалось: — Возьмите меня на закорки, если не возьмете, я все скажу маме, и она больше не пустит вас в горы. Из-за поворота показался статный седовласый господин властительный банкир. Ренэ. Когда Иосиф Леонидович рассказывал нам эту историю, в ее правдивости уже никто не сомневался. К тому времени почти все самые неправдоподобные приключения Прута получили подтверждение. Сражался вместе с Буденным? Прошу: вот фото, я, конь и Семен Михайлович. С Жуковым на дружеской ноге? Не угодно ли: другой фотодокумент — я в гостях у маршала. Сюжеты о швейцарской юности многим поначалу тоже казались вычитанными из книжек. Не надо забывать, что для моих сверстников, да и людей постарше зарубежный мир, вообще был лишен плоти, как бы и не существовал на самом деле. «Железный занавес» — не занавес с закулисьем, а высокая ограда, оцепившая страну, жизнь Каково же было мое изумление, когда однажды у нас дома Ончик наперебой с моей мамой начали тасовать подробности студенческого бытия в Швейцарии. Мама тоже кончала Лозаннский университет. Но то — мама. Молодость родителей всегда отодвинута от нас, как времена Столетней войны. Там могло быть всякое и где угодно. Но — Ончик! Ончик — вечный ровесник всех современных москвичей, участник нашей сегодняшней жизни, человек без возраста! Откуда он-то раздобыл все эти дореволюционные излишества? А вот поди ж ты... ...Повествование в любом жанре, не говоря уж о мемуарном, требует расслабления читателя на забавностях. Требует, если угодно, баек. Уже одного этого обстоятельства было бы достаточно, чтобы включить в книжку главу о Пруте. Собственно, не о подлинном Пруте, заслуживающем более вдумчивого разговора, а пересказа нескольких его автоапокрифов (продолжи я начатое, конца бы не увидеть). В моем обращении к памяти о Пруте, как я поняла, был и другой призыв, более существенный. Однажды в какой-то малознакомой компании Прут занимал собравшихся очередной порцией своих «живых картинок». Все хохотали. Только какой-то безвестный куцеголовый гражданин соблюдал незамутненную мрачность. Когда расходились, он придвинулся к Ончику и деловито подвел итог происходившему: — Товарищ Прут, юмор является вашей сильной стороной. По дороге домой я сказала: — А на мой вкус, ваша сильная сторона в умении проживать жизнь много раз, да еще без скучного будничного сора, житейских мерзостей. Обычно скорый на реакцию Ончик на минуту задумался. Потом произнес: — Видишь ли, у самого красивого, вкусного яблока в сердцевине может притаиться червяк. Надкусишь, и все нутро сведет от отвращения. Это — жизнь. А воспоминания — это яблоко, у которого только аромат и облик. И никакого риска надкусить червя. Так Прут когда-то определил для меня стремление написать эту книжку. Хотя в те времена и мыслей о ней не было. У читателя может быть любое восприятие, неприятие или безучастие к рассказу. Но люди моего прошлого, их поступки, память моя о них — то яблоко. Аромат без риска надкусить червя повседневности. От которой в текущей жизни нет-нет да и сведет от отвращения нутро. Знаменитости, запечатленные на фотографиях рядом с Прутом, отнюдь не оказывали ему снисходительного расположения. Отнюдь. Тяга к его обществу была внеранговой и даже лестной. Однажды мы с мужем решили совершить круиз вдоль советского Черноморского побережья. С большим трудом достали билеты на первоклассный теплоход, ведомый прославленным капитаном. На пирсе встретили Прута. Он тоже отправлялся в вояж. — Так, — сказал Прут. — Предъявите билеты. Так. Места — не люкс. Ничего, поместим в лучшем виде. Капитан обеспечит комфорт путешествия, обслужит по высшей категории. «Капитан? Этот знаменитый капитан будет нас обслуживать?» — скептически усмехнулась про себя я. Капитан ждал у трапа. Ончик был встречен как персона королевских кровей, мы как высокопоставленные сопровождающие персону. Был люкс. Была обслуга. Все было. Жаль, мне не довелось попользоваться привилегиями па всю катушку: я была беременна и полпути провела у борта, поганя невинные воды Черного моря. — Когда ждем потомство? — поинтересовался Прут. — Сообщите. И о дальнейших акциях такого рода — извещайте. Мы исправно ставили Ончика в известность о появлении новых членов семьи. И на протяжении сорока лет в день рождения нашей дочери Ксении или внучек раздавался неизменный звонок Прута: «У нас сегодня ответственный день?» Все дни рождения друзей, их детей и внуков были помечены в записной книжке Они. О, сколько же их было! И ни разу он не забыл ни о ком. Но вот Ончика не стало, уже некому было вспоминать домашние даты. В день рождения внучки Кати мы с дочерью Ксенией почти одновременно сказали: «Первый раз без поздравления от Прута». И почти тут же раздался звонок: «Сегодня Катин день? Пруты поздравляют ее». Звонила Леночка, Онина жена, она не давала сгинуть традициям мужа, а может, и самому его присутствию в мире. Был в этом почти потустороннем привете читаемый смысл. Мастер притчи, он сам стал притчей. А у этого жанра нет бытовых, временных границ. Не было временных, возрастных границ и у друзей Ончика. Мои сверстники. Годящиеся ему, по меньшей мере, в дочери, сыновья и тут же — друзья юности. Один из них, наиболее любимый Прутом, — Леонид Осипович Утесов, Ледя, как звал его Ончик. Он меня с Утесовым и познакомил. Подружили меня с Леонидом Осиповичем уже годы и другие общие дела, события. Сегодняшняя многодецибеловая шизофрения поп-фанов вокруг шоу-звезд по сравнению с необъятной любовью к Утесову — «Фанта» супротив дорогого коньяка: пузырей много, а ни аромата, ни крепости. Его любили всей душой, всем народом. Утесов был понятием. О том, что он значил для миллионов почитателей, я, хоть малым штришком, постаралась рассказать в своей телепрограмме «Старый патефон». Глава XI Остров Утесова (Леонид Утесов) Казалось, он плывет по Десне, зеленый кораблик под зелеными парусами, подгоняемый рыжими всполохами огня. Во всяком случае, мне так кажется сейчас. Но клочок суши посреди бурлящей от взрывов воды был неподвижен, как и положено острову. Более того, к этому беззащитному, робкому в своей пасторальности островку можно было приложить традиционную квалификацию стойкости: «неприступная крепость». Хотя не было у крепости не только фортификаций и стен, даже мирных строений на нем не существовало. И все-таки беззащитность его была лишь пейзажной. У острова были защитники. Пятеро наших солдат, которых немцы уже неделю не могли выбить с островка. Ночами обстрелы прекращались, видимо, немцам жаль было тратить на эту горсточку зелени не только снаряды, по и сон. И тогда пятеро солдат, не таясь, разводили костер, садились вкруг него и пели. Пели песни Утесова. Так получилось, что все они пятеро, пришельцы из разных краев России, были страстными поклонниками знаменитого певца. И по общему согласию, решили окрестить свой непокорный плацдарм — Островом Утесова. Много лет спустя один из тех солдат рассказал мне эту историю. Она зацепилась мне за сердце, за память, и мы с композитором Марком Фрадкиным даже задумали написать песню «Остров Утесова». Но, как часто бывает, — только задумали... Однако Леониду Осиповичу историю острова я пересказала. Близость утесовской дачи сообщал уже на подъезде к ней пахучий ветерок. Плотно набитый ароматом антоновских яблок, встречал он гостей. Дачу Утесова обнимал старый яблоневый сад, и по осени рваная глухая морзянка падающих на землю плодов возвещала их спелость. Окружал дачу и новый забор, в котором уже не первый месяц недоставало одного пролета, отчего машины прибывающих предпочитали почему-то пользоваться не воротами, а этой незаживающей дырой. Однажды, приехав в гости к Леониду Осиповичу, я спросила: «В чем дело? Когда же, наконец, будет завершено строительство забора?» — А, — грустно махнул он рукой, — есть силы, над которыми человек не властен. Я вот — бесправный раб рабочих, которые строят дачу. Захотят — они придут, захотят — пропадут на месяц. Захотят — привезут материал, захотят — увезут... Я обречен только смиренно ждать и потакать всем их прихотям. — Господи! — возопила я. — Да они должны за честь почитать строить самому Утесову! Вот знаете... И тут я рассказала про Остров Утесова. Он был растроган, даже, пожалуй, смущен, что за ним водилось нечасто. Мы сидели в саду, и ветер, набитый ароматом антоновских яблок, небрежно прошелся мимо нас, оповещая поселковых мальчишек, что сад открыт для их опустошающих набегов. — Нет, это черт-те что, — не унималась я, — распустили вы своих строителей! Леонид Осипович посмотрел на меня в лукавом размышлении и поднял указательный палец: — Хотите психологическую задачу? — Давайте. — Вот я подумал: в один прекрасный день мне осточертеет эта бесконечная строительная мука и я скажу рабочим: «Ребята, забирайте себе все: дачу, участок, сад — все отдаю». Что они мне скажут? — А действительно, что? — не нашлась я. — Они скажут: хозяин, на бутылку надо бы добавить... А вы говорите — остров. Мы похохотали беззаботно и горько. Горько, потому что не могла я взять в толк, как с ним, Утесовым, можно так небрежничать. В день того моего посещения мне предстояло выступление в воинской части, расположенной в нескольких километрах от утесовского дачного поселка. И, погостив в этом пахучем доме, я прямиком отправилась к солдатикам. По дороге в часть я продолжала терзаться раздумьями о том, как вместе с войной ушли не только трагедии, горечь потерь, но и что-то светлое, бескорыстно-возвышенное, что жило в людях, не прокламируя своих высоких отметок, а как-то бессознательно присутствуя в человеческой сущности. Потому естественным продолжением этих мыслей стал наш разговор в воинской части. Да нет! Солдатам я никаких этих сентенций не сообщила, просто поведала про Остров. А потом про забор и утесовский психологический этюд. Сейчас могу признаться: про психологическую загадку я рассказала, чтобы повеселить аудиторию. Каждое выступление на публике требует, так сказать, «смены жанров». Но — увы! Ответом мне был одинокий смешок. Зал молчал. Молчал, не отводя глаз. Но — что делать! — как говорится, «номер не удался». Нет, так нет. Прошла неделя, и вдруг в телефонной трубке раздался утесовский хохоток, а потом ликующее: — Представляете! Свершилось чудо! Кто-то ночью достроил мой забор! Таинственный благодетель пожелал остаться неизвестным. Еще одна психологическая задача. Как вы думаете, кто бы это мог быть? — Действительно, кто бы? — как и в прошлый раз, тупо полюбопытствовала я. И все поняла. Мгновенно я увидела зал в воинской части и глаза солдатиков, обращенные к сцене. Это были точно такие же глаза, какими пятеро защитников зеленого острова, плывущего по Десне, смотрели в костер, когда пели друг другу песни Утесова. Глава XII «Дальше — шум...» (Фаина Раневская) Она сказала: «Браво! Браво!» Почти шепотом. Звуком из каких-то подвальных регистров голоса. И все трое заулыбались, заблагодарили. Школярски, необученно. Хвалила-то Раневская! Впрочем, и те трое тоже были не с бурьянной околицы: два народных артиста СССР — Борис Чирков и Александр Борисов да еще прославленный гитарист — виртуоз Сергей Сорокин. Слушательская аудитория была невелика — Фаина Георгиевна и я с мужем. Как всегда. Ну, может, еще человека два-три бывало. Пели ведь «для себя». Всякий раз, приезжая в Москву, ленинградцы Борисов и Сорокин приходили к Чирковым попеть. О, никакие торжественные залы не знают интимного совершенства концертов, когда знаменитые инструменталисты вдвоем, втроем играют друг для друга, когда поэты читают стихи, обращенные к паре собратьев по перу, когда поют вот так, как у Чирковых! Самозабвенно, как теперь говорят, просто «в кайф», они выводили мелодию, уводили, заводили. С первым и вторым голосом, с подголосками, замирая и разливаясь. И расстилалась необъятность ямщицкой тоски, зазывно жеманничал городской романс, а то и просто рушилась россыпь гитарных переборов знаменитой «Малярочки». Иногда вплетала свой чистый, точный голос и Мила, жена Чиркова, артистка Людмила Геника. — Вот так спеть — и можно помирать, — вздохнул мой муж Леша. — Так пойте. У вас вполне интригующий баритон. — Раневская приглашающе развела руки. — Фаина Георгиевна! У меня же нет слуха! — сокрушился муж. — И это при моей-то любви к пению! Что правда, то правда. Петь любил, слуха не имел. У нас дома даже существовала такая игра: Леша пел без слов, а присутствующие должны были угадать, что он имеет в виду. — Хотя, — взбодрился Леша, — говорят, что у знаменитого Тито Руффо тоже слуха не было. И, вообще, однажды я привел в восторг даже строгого церковного регента. Правда, правда. Регент этот, дядя моего друга, присутствовал на одной домашней вечеринке. Подвыпив, все, как у нас положено, затянули песни. И я со всеми. И представляете? — регент зажимает меня в прихожей и восклицает: «Это блестяще! Я никогда не слышал, чтобы так остроумно пародировали пение! У вас же тончайший слух!» Так что еще посмотрим... — Не зарывайтесь, — строго осадила его Раневская, — красота, ум да еще слух — это уже перебор... Галя, наверное, утомительно иметь в быту красавца? — У меня — опыт, — нагло хихикнула я. А Мила объяснила: — Галя же у нас, вообще, только красавчиков признает. Фаина Георгиевна поморщилась: — Нет, это пошло быть замужем за красавцем. Красавцы должны быть недостижимым идеалом. — А у меня есть недостижимый идеал, — не сдавалась я. — И кто же? — Петр Шелест. Все грохнули. Чтобы современному читателю была понятна та реакция, объясняю. Названный персонаж был вождем украинских коммунистов. Не знаю, какими достоинствами обладал секретарь ЦК КПУ, может и обладал, но внешность, глядящая с портретов... Лысый череп и антропологически характерная лепка лица не оставляли сомнений в том, что недостающее звено между неандертальцем и человеком — найдено. Так что при моей слабости к мужской красоте... — К тому же, — добавила я, — товарищ Шелест имеет особые замашки. Скажем, любит охотиться на уток с катера из станкового пулемета. Что широко известно украинским трудящимся. — И вы до сих пор не воспели своего Беатрича ни в стихах, ни в прозе? Стыдно! — покачала головой Раневская. — Воспою. Обещаю вам. — Да уж, пожалуйста. Дней через десять я получила тугой упитанный конверт. Он заключал цветной портрет Шелеста, вырезанный из «Огонька». На портрете была надпись: «Дорогой подруге Гале от друга Пети на вечную любовь и дружбу». Я ломала голову — кто прислал? Только через полгода Фаина Георгиевна «прокололась», что была отправителем. Узнала я и еще одну уже печальную историю, которая заставила меня подумать о том, что шутейное замечание Раневской о «красавце — недостижимом идеале», может быть, имело для нее и личные корни. Фаина Георгиевна никогда не была замужем. Как рассказывала мне одна из подруг Раневской, разочарование в мужской половине человечества постигло Фаину еще в трепетной юности. Тогда она, начинающая актриса провинциального театра, была влюблена в красавца героя-любовника. Влюблена беззаветно, со всем пылом впервые растревоженной души. А он... Впрочем, я описала эту драму в повести «Светка — астральное тело», изменив, конечно, образцы персонажей и антураж действия. Но вы поймете, как поступил Он с чистой любовью юной Фаины. «Рано потеряв родителей, Марго к тому времени уже сама зарабатывала, аккомпанируя певцам, в том числе и исполнителю испанских песен Мигелю Ромеро (в изначальности Мишке Романову). Сочный брюнет Мишка-Мигель был кумиром старшеклассниц и студенток техникумов с легкопромышленным уклоном. Да и было от чего сходить с ума! Черные волнистые волосы певца облепляли голову, как мгновенно замершее бурление асфальтного вара; алый платок, роль которого исполнял обыкновенный пионерский галстук, завязанный на шее под правым ухом, выявлял прямое родство с пиратами южных морей; слова песни, которые, по представлению Мигеля, звучали по-испански, дурманили эротической непроницаемостью смысла. Конечно, количество поклонниц Мигеля не могло соперничать с армией "лемешисток" или "козловисток", чья численность в предвоенные годы равнялась численности полков, а может, дивизий. Но свой батальон Ромеро держал не хуже оперных звезд: и снег из-под его подошв ели, и очередность для поднесения цветов соблюдали, причем в этот день счастливица с порядковым номером надевала все новое, вплоть до нижнего белья, хотя продемонстрировать своему божеству немудрящее изящество вискозной комбинации марки "Мострикотаж" удавалось лишь редким избранницам. Могла ли Марго не полюбить Мигеля? Праздный вопрос. Однако Мигель не замечал верного чувства Марго. Но как-то, вроде ни с того ни с сего, он спросил ее: — А ты с кем живешь дома-то? — Одна, — ответила Марго, еще не понимая, о чем речь. — И комната у тебя отдельная? — Да. Папа и мама умерли. Мигель пробуравил пальцем в застывшем варе дырку, поскреб темя и задумчиво протянул: — Так надо к тебе в гости зайти. Неделя ожидания неожиданного счастья прошла в угаре приготовлений: Марго, продав все, что можно, и одолжив денег у кого возможно, украшала свое жилье. Она сшила новые занавески из маркизета и, отбив ручки у трех старых фарфоровых сахарниц, превратила их в цветочные вазы. Низкие, для незабудок. В комнате не должно было быть никаких пышных цветов. Только незабудки — тут, там. Был закуплен многоцветный и многоименный комплект продуктов и вин для ужина. Разложенные по тарелкам закуски, подобно тематическим клумбам в Парке культуры и отдыха, зацвели розами, выполненными из окрашенных в свекольном соке луковых головок, и тюльпанами из отварной моркови (как учила сервировать стол мама). Собственно, Мигель мог и не приходить. Все подробности встречи Марго уже десятки раз пережила в мечтах. Его жест. Ее жест. Его порыв. Ее: "Нет, нет! Не будь так нетерпелив!" Его: "Но я столько дней ждал этой минуты! Ты моя навсегда. К чему медлить?" Ее: "Не спеши, перед нами вечность". Его: "О да! Ты так юна, непорочна, я не имею права на твою доверчивость!" Марго (с некоторыми вариантами) знала все, что будет. Даже если он не придет (хотя об этом страшно подумать!), она уже пережила счастье свидания. Но он пришел. Ровно в семь, как договорились. — Ждала? — спросил Мигель, кивнув па гастрономические клумбы. — Ждала! Ждала! — горячо откликнулась Марго. — Я много дней, много месяцев ждала вас. Мигель приподнял надо лбом застывшее кипение вара. — Ну да? С чего бы это? Может, влюбилась? Она поняла: настал ее час, решающий момент ее жизни, и она ринулась в леденящие просторы судьбы: — Да. Я люблю вас, вы не могли не видеть этого, не понимать. Вы поняли, вы пришли, вы здесь. Мигель молчал. Она поняла, нет, уже знала по свиданиям в мечтах: он боится ее молодости, неопытности. Он, искушенный человек, думает, что она может подарить ему лишь обожание вчерашней школьницы. А она готова на все. — Да, я люблю вас безгранично. Нет поступка, который я не могла бы совершить по первому вашему слову. — Правда? — Как зыбь па подветренной траве, раздумье протрепетало по лицу Мигеля. — Да, — подтвердила Марго и покраснела, так как подумала о том, что она, видимо, не напрасно, подобно дежурной поклоннице, надела новую вискозную комбинацию. — И все готова для меня сделать? — уточнил Мигель. — Все! — воскликнула Марго, покраснев еще больше, так как вспомнила, что под жакетом у нее старая кофтенка массового пошива. Но! В этом ли дело! Неужели какое-то жалкое произведение "Москвошвея" способно извлечь ее возлюбленного из пучины страсти? Их любовь выше несовершенств быта. — Тогда знаешь что, — с испанской небрежностью сказал Мигель, — уступи мне на пару часов свою комнату. А ключ я потом оставлю, где договоримся. Те два, нет, четыре часа, пока Мигель меж незабудок и овощных клумб окунал в пучину страсти какую-то безвестную безнравственную девицу, Марго пробродила по улицам. Она не плакала. Горе было слишком острым, чтобы утолиться слезами. Но сердце Марго раскололось и застыло на много лет». Примерно такую историю и рассказала мне подруга Раневской, хотя за достоверность не поручусь. Просто сюжет очень уж соблазнителен. Не имею права утверждать, что была дружна с Фаиной Георгиевной. Между мной и ею — разность масштабов бытовой повести и эпоса. Я относилась к ней с восторженным почтением, она отвечала великодушием доброжелательности. Полагаю, что расположением ее я обязана не каким-то своим личным достоинствам. Паролем в ее благосклонности стала давний ближайший друг Раневской Нина Станиславовна Сухотская, бывшая актриса Камерного театра, руководимого великим А. Я. Таировым. После уничтожения театра советским «искусствоведением» руководителем стала сама Нина Станиславовна. Правда, всего лишь руководителем театральной студии Московского дома пионеров, где в невинном возрасте подвизался мой будущий муж Леша. В спектакле «Дубровский» он пытался изобразить Дефоржа. От тех времен у нас осталась фотография, запечатлевшая сцену Дубровского-старшего и Троекурова. На обороте снимка надпись: «Два русских помещика, студийцы Н. Каплан и С. Рабинович». Сентиментальные воспоминания заставили Сухотскую сохранить теплую привязанность к бывшим своим ученикам на долгие годы. В силу семейных уз перепало и мне. Виделись мы с Фаиной Георгиевной у ее подлинных друзей. А так — только перезванивались. Среди прочих Раневская дружила и с Татьяной Николаевной Тэсс, знаменитой в свое время очеркистской «Известий». Писала та, в основном, на «душевные» темы, что обеспечивало ей стойкий успех, главным образом, у женской части подписчиков популярной газеты. Наши с Таней дачи располагались в одном поселке. Не берусь утверждать, что дом и участок Тэсс были невелики. Но почему-то все объекты обитания там хотелось именовать с уменьшительным суффиксом: домик, садик, терраска, кухонька. Может, от того, что дощатый финский дом не обладал старозаветной княжистостью срубов-соседей, может, потому, что каждая клумба, каждый куст требовали персонального внимания гостя. Но верней другое: такой дом-сад изображают в детских книжках. Раневская и говорила: «У вас, Таня, тут все очень «нОрАчито» (объясняла: имелась в виду ибсеновская «Нора» или «Кукольный дом»). Время от времени Татьяна Николаевна привозила к себе на дачу великую подругу, о чем великодушно ставила меня в известность. В очередной раз я застала там и какую-то субтильную барышню, щеки которой пылали от счастья причастности к жизни знаменитостей. — Спасибо вам, спасибо, большое спасибо! — лепетала посетительница, уже покидавшая дом. Когда она ушла, я подмигнула дамам: — Рассказов хватит на всю жизнь.- видела живую Раневскую! — А вот и пет, — обиделась Татьяна Николаевна, — она студентка факультета журналистики, пишет обо мне курсовую работу. Замечание, сделанное с подчеркнутой скромностью, имело в виду не только поставить все точки над «и», но и дать мне понять, что, мол, и я нахожусь в обществе двух популярных женщин. Человек слаб. Я тоже решила продемонстрировать, что, мол, не лыком шита: — А мой замглавного редактора писал обо мне дипломную. (Что было правдой.) С легкой печалью Татьяна Николаевна откликнулась: — Зажились мы с вами, Галя! Учитывая, что Тэсс была старше меня лет на двадцать пять, такое обобщение уничтожало даже лестность игривой сентенции. ...Мы говорили о Пушкине. Да, позднее, после чая на тенистой маленькой веранде мы говорили о Пушкине, любимейшем предмете размышлений Фаины Георгиевны. Она прочла нам хрестоматийный и первозданный монолог Бориса Годунова: «Достиг я высшей власти». Никогда, не в одном мужском исполнении это пушкинское произведение не открывалось мне в такой многозначной глубине. Я сказала: «Она прочла». Нет, не прочла, не сыграла. Она с обнажающей доверительностью поведала нам о безысходной тщете человека быть понятым, оцененным по заслугам. Потому что «живая власть для черни недоступна. Она ценить умеет только мертвых». Идет ли речь о власти монаршей или о даже «коронованном» властителе дум. Наверное, в царском монологе была для Раневской личная исповедальность. Во всяком случае, я так ощутила его. Мне стало не по себе: под сенью этой печали особенно жалкой выглядела «мышья беготня» наших с Таней тщеславных гарцеваний, стыдливо прикрываемых шутливым покровом интонаций. Фаина Георгиевна имела право сетовать на близорукое непонимание черни. Писательская чернь не создала на родине ролей, достойных ее. Режиссерская чернь не поставила спектаклей и фильмов, раскрывших бы диапазон ее таланта, спектаклей специально «под нее». Чиновничья чернь от искусства пальцем не пошевелила, чтобы побудить к этому тех и других. Талант и натура Раневской были вместилищем всех актерских и драматургических ступеней — от гротеска до античной трагедии. Античной трагедии без котурн. Что, что заключает уже для моих внучек понятие «Раневская»? Блестящие репризы «Муля, не нервируй меня» или «Красота — это страшная сила»... Да, впрочем, и для большинства современников Раневской она существовала, как великий шут. Ценности ее трагического наследства можно пересчитать по пальцам: Роза в роммовской «Мечте», «Странная миссис Севидж», «Лисички», «Дальше — тишина...» Что еще? Спектакль «Дальше — тишина» в Театре имени Моссовета был последней театральной работой Фаины Георгиевны. Скорбный дуэт с блистательным Ростиславом Пляттом. Дуэт, потому что все другие актерские работы, даже отлично выполненные, стали лишь фоном для рассказа этих двух. Рассказа об их нескудеющей любви, о пропасти одиночества, в которую, разлучив, их сбросил молодой эгоизм ближних. Горе героини Раневской вместе с нею оплакивал навзрыд весь зал. Лицо актрисы тоже было залито слезами. Слезами трагедии, соединяющей артиста и зрителей, как бывало это во времена Еврипида и Софокла. После спектакля я зашла к Фаине Георгиевне в грим-уборную. «Вы были в зале? Спасибо, что не предупредили. Я так боюсь знакомых на спектакле!» — сказала она. Не кокетничала. Бесстрашная в жизни, Раневская боялась глаза, сглаза знакомцев. Я не театровед, не берусь за профессиональный разбор ее работ, ее дарования. Я просто обделенный зритель, у которого отняли полноту катарсиса, даримого искусством высшей пробы. Ныне ордена ранга «гениальный», «великий» принято цеплять на одежку кого попало. Литератора, свалившего словарный запас в невнятицу «текста», в сочинение, для которого заборная «клинопись» куда как более подходящий способ запечатления, чем рукопись. Поп-звезды, голосом простуженного кастрата выкрикивающего опять же «текстовку», огороженную кольями рыгающих звуков. Кого угодно. Названные работы Раневской можно именовать гениальными — бестрепетно. Как-то по телевидению я наблюдала передачу о придворном мастеровом современности — художнике Александра Шилове. На дежурный вопрос ведущего о творческих планах Шилов глубокомысленно промолвил: «Творчество — тайна. "Дальше — тишина", как сказала Раневская». Утлый служитель ложного классицизма XX века не подозревал, что его наивное невежество обрело зоркость откровения. А ведь он уравнял в правах высоту актерского прозрения и авторство шекспировской формулы! Господи, как хотелось играть этой актрисе, сыграть несыгранное, объяснить необъясненное! Как-то она позвонила мне и попросила поискать что-нибудь, может, в зарубежной драматургии, роль для нее. Я «озадачила» всех знакомых переводчиков, и один из них нашел пьесу-монолог. «То, что надо», — сказал он. Переводчик даже сделал то, что ныне именуют «синопсисом» с переводом одной из сцен. Фаина Георгиевна загорелась. Но — уже не успела даже дождаться завершения перевода. Сейчас уже не помню содержания пьесы, помню только, что повествовала она тоже об одиночестве, о слепоте мира к единственности человеческой сути. Главной теме, занимавшей тогда Раневскую. Она была одинока всю жизнь, даже окруженная друзьями. В конце, когда друзья молодости уходили из жизни один за другим, одиночество обернулось заброшенностью, которую Фаина Георгиевна делила с пригретым ею бездомным псом. Ушла и она. Что было дальше? Дальше был шум книг о ней и сборников ее шуток, были фильмы и телепередачи, были запоздалые овации и сокрушения о том, что она так мало успела сделать. Шум, который уже не способен утолить горькую печаль ушедшего. Дальше — шум. Шум за сценой. Дорогая Фаина Георгиевна! Я тоже с запозданием, но выполнила свое обещание: описала, как Вы велели, того лысого партийного Беатрича в повести «Автор». Уже после Вашего ухода. Повесть эта приложена в конце данной книжки. Да, дорогая Фаина Георгиевна, я выполнила обещание: персонаж, запечатленный на портрете, присланном Вами, воспет. А от Вас уже ни похвалы, ни хулы. Глава XIII Мечта поэта (Илья Селъвинский) Железная труба железной печки была высунута в форточку, и сквозь стекло, искусно затканное инеевыми плетениями, все-таки было видно, как дым, сползая по стене на тротуар, лижет собственную тень. Я так и сказала Лиде: Ползет дымок по тротуару И лижет собственную тень. — Может быть началом стихов, — сказала Лида. — Нет, пожалуй, серединное. И правда, потом эти строчки встали в середину стихов «Дыхание в стужу», которые я написала о страшной военной зиме, холодной, голодной, когда мы валили лес в Подмосковье, чтоб отогреть нашу промороженную насквозь столицу. «И утром прядь волос отклеишь, примерзшую за ночь к стене». Были в тех стихах и такие строчки. Дрова нужны были учреждениям, предприятиям. У нас самих дров не было, и топили мы с Лидой нашу железную печурку в Воротниковском переулке собранной по задворкам щепой и книгами. Теперь это странно, непостижимо — жечь книги. Тогда казалось: чтобы хоть немного отогреться — сожжешь весь дом. И все-таки перебирали мы книги, обреченные на это горькое «аутодафе», с великим тщанием. Знали, что окоченеть готовы, а многое на Лидиных полках огню не предадим. Только то, в чем нужды не станет ни в морозную войну, ни в дни грядущего загаданного мира, когда, казалось, всегда будет лето. Может, в тот вечер литература проходила для нас наиважнейшую проверку. В тот вечер мы читали вслух письмо Михаила Светлова, пришедшее с фронта: «Мне исполнилось тридцать восемь лет. Я уже — мертвый Лермонтов, мертвый Пушкин и бешено догоняю Тютчева». Мы читали письмо вслух, мы вслух читали друг другу Светлова. И Лермонтова, и Пушкина, и Тютчева. Тютчева, который писал о старости, непонятном возрасте: мы-то были уверены, что никогда не постареем. И никогда не постареют ни Светлов, ни Твардовский, ни Наровчатов, никто из наших друзей. Не постареют, потому что старение — удел других поколений. И не потому, что многих из нас оставили вечно молодыми немецкие снаряды. Мы с Лидой Толстой (теперь читатели знают ее как писательницу Лидию Либединскую) жили войной, жили поэзией. Мы жили поэзией, потому что она была нашим делом, потому что мы обе с Лидой были студентками поэтического отделения Литературного института имени Горького. Мы знали, что война конечна, а поэзия — нет. Однако главнейшим в существовании любого была тогда война. И чтобы конечность ее стала зримой, любой из нас не поскупился бы ни на силы, ни на жизнь. Лидина маленькая дочка па извечный вопрос взрослых: «Кем ты хочешь быть?» — говорила тогда: «Санитарной собакой». Идея полезности была очевидна даже детям. Но что могло сообщить строчкам, расположенным в порядке, установленном рифмой, великую полезность людям в дни, когда все порядки устанавливала война?.. В тот вечер мы читали письмо Светлова, читали стихи. Потом мы слушали по радио «Последние известия», как каждый вечер. А потом снова были стихи. Передача из Ленинграда. Ольга Берггольц читала стихи о блокаде. Даже сегодня, едва вспомнив ее глуховатый голос, прорвавшийся через оцепление огнем, через километры морозного оцепенения, голос, долетевший, дошедший, добредший из Ленинградского дома радио до нашей комнатушки в Воротниковском, — даже сегодня я ощущаю странный звон в висках, который почувствовала тогда. Этим тихим и неистовым звоном отдавалось во мне высшее волнение — волнение сопричастности чужим мукам и чужой самоотреченности, которые говорили со мной стихами недостижимо далекой женщины. Стихи и голос были наделены не просто полезностью. Они заключали в себе спасительность. Спасительную силу хлеба в голод, воздуха в удушье, воды в жажду. Понятий простых, потому не подвергаемых сомнениям. Ни о хлебе, ни о воде, ни о воздухе в тех стихах Берггольц не было ни слова. Хотя именно хлеб, вода, воздух нужны были ленинградцам как хлеб, как воздух, как вода. Другие сравнения тут беспомощны. А может быть, как стихи. Такие стихи, которые для человеческого духа были хлебом, водой, воздухом. Для нас тогда стихи тоже были хлебом, водой, воздухом. Главным в жизни. Как сказано, я училась в Литинституте на отделении поэзии. Должна сказать, что, как и многие выпускники этого вуза, неоднократно слышала ироническое: «Что за нелепая выдумка подобный институт! Разве можно выучить "на писателя"?» Разумеется, невозможно. И как ни заманчиво бытующее утверждение, что в каждом человеке заключено то или иное дарование, нужно, мол, только, следуя давней премудрости, «не зарыть его в землю», полагаю, что талант — редкопородный элемент. В «периодической таблице» людских качеств он означен, но отнюдь не поселен в любом. И все-таки талант — лишь яркая строка в характеристике достоинств индивидуума. Особенность личности, не более. До той поры, пока талант не становится основанием профессии. Профессии. А к ней мастерство, выученная, постигнутая обобщенность цехового опыта непреложны. Лишь гений, взламывающий крепостные стены Ремесла, чтобы раздвинуть его пространство и перепланировать застройки прошлого по канонам будущего, лишь он способен стремительно овладеть наследием, оставленным ему веками. Да и то, вообразишь ли Пушкина, не постигшим Овидия, с которым сравнивал себя, или трагиков века Перикла, не знавшими Гомера? Данте, чья космогоническая фантазия сотворила не только концентрическую модель потустороннего мира, но и разжала до гигантских пределов тугую спираль поэтического мышления, и Данте избрал себе в поводыри Вергилия, поэта, собрата, предшественника. Так это — гений! Гении и те считали необходимым учиться у предшественников. А талант? Обыкновенный (при всей необыкновенности этого феномена) талант? Ему непременно нужна школа, от азбуки до высшей премудрости. Школой поэтического дела в Литинституте были и есть творческие семинары мастеров. (Семинары не заменяют здесь курса обучения, они лишь содружествуют с науками, изучаемыми по программе филологических факультетов университетов.) В мое время среди руководителей семинаров были Асеев, Антокольский, Луговской, Сельвинский... Мудрая виртуозность каждого из них, безоглядно даримая ученикам, бесценна, и об уроках каждого можно рассказывать и рассказывать. Мне посчастливилось заниматься в семинарах и Асеева, и Антокольского, и Луговского. С последним, его женой Майей меня позднее связывала долгая и нежная дружба. Но мечтала-то я об ином. О семинаре Сельвинского. Все самые знаменитые поэты военного поколения — Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, Павел Коган еще с довоенных времен несли Мэтру на суд свои стихи, шли на выучку. Да, это был Высший суд. (Недавно в мемуарах Д. Самойлова я снова прочла об этом.) А кто я? Как мне, безвестной студентке, проникнуть в «бурсу избранных»? Я и живым-то Илью Львовича видела только мельком. Но вот однажды... Однажды все началось уныло и безрадостно: мне предстояло сдавать экзамен по старославянскому языку. Объяснить, что такое глагольная форма «аорист» (именно так значилось в билете), для меня было равносильно решению теоремы Ферма переростком, одолевшим четыре действия арифметики. Обреченно помахивая билетом, я пыталась найти обходные пути из ниоткуда в никуда. И тут... Распахнулась дверь аудитории, и в открывшемся проеме означилось головокружительное зрелище: красавец-капитан. Золотая копна волос, стрелоносные глаза цвета чистого предзакатного неба, тонкая талия, схваченная побывавшим в «переделках» ремнем, вся грудь в орденах. Пришелец, с ходу оценив положение, осенил меня широким крестным знамением. Я поняла — мне конец. И тут... Снова «и тут»... Старик профессор, добрейший наш профессор Поспелов залился хохотом. Он смеялся неостановимо, отмахиваясь, заливаясь, и наконец пробормотал: «Давайте зачетку». Не веря глазам своим, я увидела, что он выводит: «Отлично». Кто же был этот маг? Приехавший с фронта мой друг поэт Сергей Наровчатов. Вытащив меня из аудитории, облобызав, Сережа недоуменно воскликнул: — Ну, что ты тут прохлаждаешься?! — Вроде бы сдаю экзамен... — Какие глупости! Сейчас Сельвинский будет читать стихи. Пошли, а то опоздаем. Он тоже только что с передовой. — Но я ведь не в его семинаре, — робко запротестовала я, — меня и не пустят. — Со мной — пустят. Я тебя представлю. Маленькая аудитория была полна, Сельвинский уже читал. Закончив стихотворение, объявил: — Те же и Сергей Наровчатов. С дамой. Что естественно. В главе о Зиновии Гердте я уже упомянула о подходе к произнесению стихотворного текста. Но здесь, именно здесь необходимо «вернуться к вопросу». Бесконечен спор: как читать стихи? Подобно большинству актеров, «рассказывающих» их, или правильнее чтецкая манера поэтов, когда рифмы, ассонансы, мелодика способны даже «закрыть» (по мнению специалистов в области сценический речи) сам смысл? Не разделяя точки зрения последних, я-то считаю, что в авторском чтении смысл не заслоняется манерой. Но, вероятно, в идеале необходима золотая середина между актерским и «поэтным» чтением. То, что я услышала тогда, было даже не чтением. Говорящей музыкой, шаманством, исполненным ясного смысла. Читал Илья Сельвинский. Читал свое «Лебединое озеро». Сельвинский. Перекаты его баса то вкрадчивого, то накрывающего слушателя с головой, были подобны тяжелому дыханию морских волн, подминающих прибрежную гальку и недвижные валуны. Он сам как-то назвал звучание этого голоса «виолончельным». Но в голосе умещалось все — и власть соборного органа, и доверительность ученической скрипочки. В движениях же чтеца властвовали повадки его любимых героев — медвежья ленца и свирепая грациозность тигра. Он был могуч, красив, покоряющ. Я и покорилась. Немедленно. С ног до головы. Слухом, зрением, ощущением пространства, подчиненного только ему. В таком полуанабиозном состоянии и была представлена Сельвинскому. — Вы — поэт? — спросил Илья Львович. (Господи, не «вы пишите стихи?», «Вы из какого семинара?», а «вы — поэт?») — Хотелось бы думать, — пролепетала я. — Как вас зовут? — Галина Шергова. — «Галина Шергова», — повторил он на разные лады, точно ощупывая мое имя, потом сказал: — Отличный подбор согласных и гласных. Вы обязаны сделать это имя известным. Илья Львович взял меня в свой семинар. Он открыл мне таинства стихосложения. На семинарах мы обучались владению самыми разными поэтическими метрами и размерами, и старыми, и новейшими. Получали задание: написать стихи, в которых свойства, скажем, амфибрахия были бы особенно органичны. Или — передать особенности определенной эпохи стихом силлабическим. (Сколько раз благодарно вспоминала я Илью Львовича, когда, работая над поэмой «Смертный грех», использовала его науку, ибо в поэме касалась различных эпох.) Сам Сельвинский, великий мастер стихотворной техники, разрабатывал поэтический метр, называемый «тактовиком». В тактовиковой поэзии разнообразие ритмов, затактов, пауз, звучаний живой жизни, особенности говоров, отражение динамики сюжета в динамике строки были предполагаемы изначально. Сколько раз я перечитывала знаменитую поэму Сельвинского «Улялаевщина». Цокот копыт, говор гармоник зазвучат, едва распахнулась книжная обложка, как ворота двора, на котором стояла казачья сотня: Ехали казаки, да ехали казаки, Да ехали казаки чубы по губам, Ехали казаки, на башке папахи, Ехали под бубен да под галочий гам. ...Гармоники наяривали «яблочко», «маруху»... Бубенчики, глухарики, язык на дуге. Ленты подплясывали от парного духу, Пота, махорки, дегтя — эгей! Все говорит, звенит, переругиваются песни и бубенцы... Я была во власти его мастерства. Но и не только мастерства. Я, как вы поняли, влюбилась в Сельвинского. Влюбленность эта — к чему лукавить! — отнюдь не мешала моим студенческим романам, ибо была типичным восторгом школьницы перед преподавателем какой-нибудь физики или географии. Впрочем, нет. Мной владела влюбленность в Поэта. Не в однокурсника, сочиняющего, подобно мне, стихи, а в Поэта-небожителя. Тут и на взаимность нелепо рассчитывать. Такой должен любить «Прекрасную даму», «Мечту поэта», таинственную и надземную, владеющую особым колдовством. Увидеть бы ее! Разгадать непостижимое! Выучиться бы хоть азам Ее пленительности! Разъять Ее «строфу» на строки и звуки! А может, чем черт не шутит, в конце концов и стать Ею! Тщась овладеть оккультной наукой зазывности, я ринулась в чернокнижье русской лирической поэзии. А уж в стихи Сельвинского всматривалась особенно пристрастно. Вот зубрила я портрет его идеала: Она необычайно женственна: Просторные плечи и тесные бедра При некой такой звериности взора... С фигурой у меня вроде было все в порядке. Оставалось отработать звериность взора. Но не тут то было. Мечта Поэта наделена была особым самородным искусством. В ней Женское к женственному поднималось, как уголь кристаллизовался в алмаз. А как кристаллизоваться — указаний нет. Может, я зря пренебрегла школьным курсом химии? Оставалось учиться на живых примерах. Из тех же стихов Сельвинского я узнала, что жена его тоже из породы Прекрасных дам, любовь через всю жизнь. Необходимо было изучить загадочный объект. В те времена живые классики были демократичны. Некоторых из нас, бывших у поэзии и Учителей «на подхвате», допускали в дома Мэтров. Попала к Сельвинскому и я. Илья Львович жил в «Литературном заповеднике» — тяжеловесном сером здании в Лаврушинском переулке, где был поселен весь знаменитый цвет российской изящной словесности. Попади в этот дом (как позднее и в аналогичный на ул. Черняховского) бомба — русская литература была бы обескровлена в один прием. Обстановка квартиры несколько настораживала буржуазной — по моим представлениям — основательностью. Мне бы было желанней, чтобы среди краснодеревных столов и буфетов реяла богемная поэтическая неупорядочность. Это много позднее, войдя в возраст и обзаведясь собственной квартирой, я с рвением обывателя начала таскать в дом ветхозаветную старинную мебель, как-то позабыв о презрении «Творца» к суетности быта. Но тогда... Тогда я ждала, что попаду на походный бивуак строф и строк. Мы сидели в кабинете Ильи Львовича, я читала ему новые стихи. Без стука, по-хозяйски вошла Она. Мечта Поэта. Грузная, хотя и статная, крашеная блондинка с лицом озабоченного управленца. Какие там «тесные бедра»! Тесной, скорее, была юбка, упаковавшая «двести фунтов золотого мяса», коими обладала героиня из «Улялаевщины» Тата, та, кого батька Улялаев отбил у коннозаводчика. (Говорили, что жену, Берту Яковлевну, Сельвинский тоже отбил у какого-то нэпмана.) Во всяком случае, образ нэпманши мне рисовался именно таким. Будто и не видя меня, Берта Яковлевна сообщила мужу о каких-то своих разногласиях с ЖЭКом (Жилищно-эксплуатационной конторой), о поведении жильцов с верхнего этажа и покинула кабинет. Спустя полчаса она возникла снова: — Илья, посмотри на кухне что-то с краном! — Может, позднее? — искательно спросил Сельвинский. — Галя, вот, читает стихи. — Стихи никуда не денутся, — был ответ. Мне не довелось ближе познакомиться с Бертой Яковлевной. Не исключаю, что она была прекрасным человеком. Но тогда ее вторжение в разгадку таинств перехода «от женского к женственному», нерасшифрованности свойств Прекрасной дамы — внесло в мою душу смятение и неразбериху. И это — Это? Со своими непониманиями я кинулась к моему главному авторитету в проблемах любви — Лиде Толстой, о которой я писала в начале этой главы. Лида уже отведала замужества, за ней ухаживали известные литераторы, а, главное, ее саркастический ум умел враз отделять зерна от плевел. — А ты что думала — у поэтов одни Лауры да Беатриче? — небрежно хмыкнула она. Возлюбленные Данте и Петрарки во всех их нимфовых одеждах, так бесцеремонно дезориентировавшие мое представление об избранницах поэтов, тоже были нередкими персонажами обсуждений на занятиях Ильи Львовича. И не только персонажами. Поводырями в плоть стиха. Мы на семинарах писали по заданию Сельвинского не только в разных размерах и ритмах, но и в разнообразных поэтических формах и жанрах. Писали сонеты, мадригалы, оды, баллады. Поразительное чудодейство таят в себе канонические стихотворные формы. Точное количество строк, четкие правила чередования рифм, повелевающий жест главного созвучия... Недаром, видно, поэзия, чье призвание — и звать, и исповедоваться, и ворожить, отняла некогда рифму у прозы. И недаром та, давняя проза, собеседник искушенных, в движении повествования отмечала шаги речевых периодов гулким ударом посоха-рифмы. Мировая поэзия теперь от рифмы почти отреклась, считая, что вольность чувств и воображения может быть передана лишь свободным стихом. Верлибр ныне господствует в поэзии. Но, слава Богу, русское стихосложение верно перекличке строк. Может быть, дело в особой мелодике русского языка, а может, выбран самый животный путь развития искусства: вечное оплодотворение исконного новацией. Стоило только заговорить об этом, как сразу в ушах загудела, зашумела ливнем струй и строк пастернаковская баллада. Вот уж поистине, стройность классическая, почти парфенонова, а материал колонн, орнамент фризов — из лексики, ассоциаций века двадцатого! На даче спят. В саду, до пят Подветренном, кипят лохмотья. Как флот в трехъярусном полете, Деревьев паруса кипят. Лопатами, как в листопад, Гребут березы и осины. На даче спят, укрывши спину, Как только в раннем детстве спят. Ревет фагот, гудит набат. На даче спят под шум без плоти, Под ровный шум на ровной ноте, Под ветра яростный надсад. Льет дождь, он хлынул час назад. Кипит деревьев парусина. Льет дождь. На даче спят два сына, Как только в раннем детстве спят. И в финале: ...Спи, быль. Спи жизни ночью длинной. Усни, баллада, спи, былина, Как только в раннем детстве спят. Слышите, ощущаете, обоняете сырую парусину листвы? Вас тоже мерное раскачивание строф швыряет из полусна в расчерченную струями явь? Как начинается этот ливень — перестуком внутристрочных и межстрочных «пят», «пет», как порыв строк с повторами этих «сын», «син» нарастает, замирает, обретает силу и рушится в накате восьмистрочий!.. Как, выныривая из лавины ливня и сна, обнажается то ли видение, то ли видение, что бывает всегда, когда сновидения сдают вахту яви! И в конце, в трехстрочии «посылки», эти последние капли утихшего дождя: «Спи, быль», «Усни, баллада, спи, былина» — тяжелые, редкие. И настойчивый венец каждой строфы, стойкая безмятежность души, объятой ревом фаготов, гудением набатов, ровным шумом на ровной ноте: «Как только в раннем детстве спят». И все это не школярство циркового звукоподражания, а разговор на языках стихий. Ах, можно говорить об этом колдовстве без конца! Недаром Сельвинский в стихотворении «России» восклицал: Люблю великий русский стих, Еще не понятый, однако. И всех учителей своих От Пушкина до Пастернака! Согласитесь: назвать ровесника, да еще соперника в поэзии среди учителей, назвать по-пушкински «учителей» (с ударением на первом слоге) — такое требует великодушия и бескомпромиссности. Знакомство с Бертой Яковлевной хотя и внесло определенную сумятицу в мои представления о предмете поэтического вдохновения, придало мне смелости. Я решила открыть Мэтру свои чувства. Разумеется, сделать это требовалось изысканно. Скажем, в форме той же баллады. Или сонета. Якобы — выполнения задания. Для модели я выбрала ронсаровские сонеты «К Елене». Кроме пылкости чувств, Ронсара отличала пристальность к обликам природы, а Сельвинский любил, чтобы пейзаж в стихе был зрим и первозданен. Задумано — сделано. Представился и замечательный случай опробовать написанное в весьма компетентной инстанции. Теорию литературы у нас читал профессор Локс. Я убеждена, что среди литературоведов, даже самых образованных и думающих, лишь единицам дано постичь психологию творческого процесса, объяснить необъяснимое. Разымая «алгеброй гармонию», даже пуская в ход высшую математику, человек, не испытавший рождения внезапного созвучия или непостижимости явления замысловатого в своей простоте абзаца истинной прозы, не может выйти за пределы алгебраической формулы. Да, только единицам дано. Профессор Локс читал свои лекции ужасно. Он бормотал себе под нос что-то безынтонационное, а иногда и листал при этом какой-нибудь французский роман. До поэтического признания Сельвинскому мне еще предстояло сдать экзамен по теории литературы. Все сложилось удачнейшим образом. Как раз передо мной отвечала одна писательская жена (такие тоже попадали в Литинститут) — красотка и дура. Достался ей билет о поэтах французской Плеяды — блистательном созвездии XVI века. Дама молчала, как заговоренная. Никакие наводящие вопросы Локса одолеть эту летаргию не могли. Наконец он спросил с унылой брезгливостью: — Ну, хоть кто такой Ронсар, вы знаете? — Ронсар? — оживилась вдруг дама. — Да, конечно. Это лошадь Дон Кихота. Локс молча взял ее зачетку и поставил «три». Видимо, из любви к заслуженному Россинанту. А следом — я. Представляете? — Раз уж разговор зашел о Ронсаре, можно я до ответа на билет прочту свою стилизацию? — спросила я. Локс поднял на меня глаза, что делал крайне редко, и кивнул: — Читайте. — Не дав ответить на вопрос билета, выслушал и поставил «четыре». Клокоча от негодования, я подскочила после экзамена к Локсу: — Как же так? Ей за Росинанта — «три», а мне за Ронсара — «четыре»? На сей раз открытого взора я не удостоилась. — Поставив вам «пять», я уравнял бы вас с Ронсаром. Надеюсь, вы на это не претендуете? — И через паузу: — А что касается той... Я представил, что эта идиотка придет ко мне еще раз на пересдачу... Увольте! За «четверку» было, конечно, досадно. Но зато! Зато меня от Ронсара отделял всего один балл, и можно было нести свою зарифмованную любовь к Мэтру. Читала я, по-моему, очень проникновенно. Я играла голосом, делала многозначительные паузы и акценты, пронизывая Сельвинского призывным взором, может быть, даже с некоторой звериностью. Не понять? Не принять? Немыслимо! Когда семинар закончился, Илья Львович вынул из портфеля книжки. Это была его трагедия «Бабек». Он что-то написал на титульном листе и протянул книгу мне. Замирая, я прочла: «Милой Галине Шерговой от одного из наиболее тонких ценителей ее таланта. Илья Сельвинский». Как видите, там не было ни слова об ответном чувстве, даже о понимании моего признания. Надо бы уйти с разбитым сердцем. А я ликовала! Оценка Учителя была в сто раз драгоценней несказанных слов Мужчины. Оценка Учителя. Награда и приговор. Сколько куража требовалось от каждого, чтобы вынести разгром достойно! Помню, на том же семинаре сонет моего приятеля был разнесен в пух и прах. Однако раскритикованный поэт подвел итог дискуссии экспромтом: А мой сонет Сельвинским жестко Приговорен был и распят. Я жил тогда на Малом Ржевском Дом номер два, квартира пять. Да, из всех азартных игр, доступных нищему студенчеству Литинститута, самой пылкой была игра словами. Помню, на дверях комнаты в общежитии, где жили Георгий Ломидзе, Борис Заходер и студент Попхадзе (увы, забыла имя), красовалась рукописная табличка: «Заходер, но не Ломидзе, а то — Попхадзе». А протокол какого-то собрания был подписан: «Лацис, Жегис. Магазаник, Бугае, Пусис, Пасоманик. И К. (Компания)». Фамилии подлинные. Что же касается моей неразделенной любви к Сельвинскому, то вскоре ей был нанесен еще один удар, правда врачующий. Секретарем директора института служила тогда некая значительная дама по имени Вера Эдуардовна. Значительность эту формировали недоступные нам заграничные туалеты, наличие мужа, крупного чиновника, а также снисходительно-ироническая манера изъясняться. Да и само отчество — Эдуардовна, — согласитесь, не хрен собачий, не плебейская кличка. Вера Эдуардовна была весьма неглупа, по каждому поводу имела свои суждения, порой непредсказуемые. Скажем, как-то я сетовала на то, что ранение, покорежившее мою лопатку, лишает меня завидной возможности носить купальники с открытой спиной. — Ты — дура, — пресекла мои причитания Вера Эдуардовна. — Любая американская миллионерша выложила бы состояние, чтобы демонстрировать спину с военным ранением. Я утешилась. Вера Эдуардовна держала приятельство со всеми известными поэтами. Может, оттого, что я уже публиковалась, благоволила и ко мне, обсуждая и оценивая все литераторские похождения и адюльтеры с глубоким знанием вопроса. Последнее обстоятельство меня всегда приводило в недоумение. Дело в том, что сама Вера Эдуардовна, мягко говоря, красотой не отличалась. Даже пристойность фигуры не могла компенсировать гигантский нос и крошечные, близко посаженные глазки, похожие на меткий след пули таежного охотника. А возраст? Ей было под сорок, что, по моим тогдашним меркам, свидетельствовало почти о дряхлости. Какие уж тут разглагольствования о романах! И тем не менее... Тем не менее, именно ей (а не только Лиде Толстой) я поведала о своей безответной любви к Мэтру. И, тем не менее, именно Вера Эдуардовна, зажав меня в углу своего кабинета, сообщила однажды: — Переспала я с твоим Сельвинским. Далее шла оценка достоинств моего кумира, выраженная не слогом высокой поэзии, а, как говорится, простым суконным языком. И любовь погасла. Нет, о нет, конечно, дело было не в открывшихся несовершенствах моего Божества (их виной могла быть и сама Вера Эдуардовна)... Я вдруг спасительно осознала вымышленность, легендарность Прекрасных дам, Мечт поэтов, всех этих Лаур и Беатричей. Их подлинные имена Берта Яковлевна, Вера Эдуардовна, Мария Ивановна и прочие. Они могут быть — прочие, а не избранные небесами. В общем, мне полегчало, и, подобно негритянскому рабу, я могла воскликнуть: «Свободна! Наконец свободна!» Свободна от своих жалких битв за превращение в Загадочную Незнакомку. Или Знакомку. А поэтическая наука Сельвинского осталась со мной до конца, была подспорьем и наставлеником во многих моих литературных опытах. Уже много лет спустя после окончания Литинститута я взялась за написание поэмы «Смертный грех». Ее идея и замысел были сформулированы в прозаическом прологе. «Иногда посреди света я оглядываюсь по сторонам и вижу: вся земля утыкана саркофагами и монументами, она морщится холмиками могил. Пышные эпитафии и дикарские доазбучные значки на них должны связать ушедших и живущих. Но разве эти останки прежней жизни знаменуют истинную суть человеческого бытия! Пер-Лашез — это не только багровые полотнища сентябрьских плющей, ниспадающих на Стену коммунаров. Это и сотни одинаковых фарфоровых розочек или гортензий, приникших к одинаковым плитам. Безвкусное изящество загробного бытия третьего сословия. Сотни. И единственный памятник узникам Равепсбрюка. Могильные холмы венчают житие жертв болезней или старости. Другие — жертв произвола, греха или порока какого-то человека. Но мир знал грехи и пороки, разъедавшие целые нации, государства и поколения. Их жертвы редко покоятся под одинокими холмиками или в персональном вместилище саркофагов. Загробные поселения этих жертв — братские могилы. А то и плоская безымянность земли. Христианская система называла семь смертных грехов. Грехов, неподвластных искуплению: зависть, скупость, блуд, чревоугодие, гордость, уныние, гнев. Однако иные цивилизации и социальные устройства оказались изобретательнее старинной схемы. Они присовокупили к извечным представлениям о пороке новые. И новые грехи стали для человечества гибельными, ибо, возведенные в программу наций, государств, поколений, они уничтожали нации, государства, поколения. Мне стало казаться, что земля покрыта несуществующими кладбищами этих массовых гибелей. Я пыталась поименно назвать грехи-убийцы, найти среди них главарей. Я тоже избрала семь, хотя, конечно, их и больше. Порядок не имеет значения. Теперь я все представляла отчетливо: я видела эти несуществующие кладбища и даже читала несуществующие эпитафии на несуществующих могилах, написанные несуществующими людьми. Одни из них, казалось мне, были сложены жертвами порока, другие — их носителями. Они могли быть случайны. Может быть, я не прочла что-то существенное. Но ведь нельзя увидеть полно и точно то, чего уже нет. А «нет» — самое безвыходное слово в мировых лексиконах. Но вот что мне удалось прочесть. Грехи эти были: фанатизм, властолюбие, расизм, порабощение, равнодушие, отступничество, милитаризм... Эпитафии были написаны стихом того времени, в котором жили вымышленные герои поэмы. Тут и помогла школа семинаров Сельвинского. И конечно, ему я повезла написанное. Сельвинский был уже стар и болен. Хотя ему едва перевалило за шестьдесят, могучий организм одолели война и бесконечные идеологические травли, которые волнами накатывали на поэта еще с 30-х годов. Сколько блистательных сыновей Русской Литературы уничтожили, затоптали очередные «кампании по борьбе» то с формализмом, то с упадничеством, то с космополитизмом, то с «ненашестью»!.. А ведь русская поэзия, не только «серебряного века», но и более поздняя, — самое впечатляющее явление в мировом литературном процессе первой половины XX века. И как бесхозно-преступно, что наши «вольные» постсоветские времена, справедливо канонизировав имена Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама (главным образом за их судьбу), предали забвению или невежественной иронии творчество Маяковского, Багрицкого, Антокольского, Тихонова (времен «Орды» и «Горачи»), Заболоцкого, Сельвинского, Мартынова и многих достойных. Молодые уже не знают их, о них. Все они стали жертвами фанатизма. Одни — фанатизма советской идеологии, другие фанатизма сегодняшнего литературного или идейного нуворишества. Фанатизм вообще почитаю первейшим человеческим грехом. Я отдала рукопись Илье Львовичу. Но он сказал: — Прочтите что-нибудь. Хочу услышать звучание. И я прочла. ГРЕХ ПЕРВЫЙ — ФАНАТИЗМ Пьер Ламбре, поэт и ремесленник. 1387-1418 гг., Сен-Туссен, Франция. Не знаю я, каков он, Высший Суд Архангелов, спеленутых в хитоны, Которым, причитая монотонно, Глупцы свои провинности несут. И почему — скажите — должен я Глухим богам поклоны класть примерно, Улавливая тайну бытия Лишь по глазам Марии боговерной? Я — человек, и мир отстроен мной. Я делал колыбели и надгробья, И так же бог был создан неземной По моему решенью и подобью. ...Огонь, крутясь, в печи меняет рябь, И подмасгерье меден от натуги Как крендели мы лепим твердь и хлябь, И бог родится на гончарном круге... Сто лет назад, сегодня и вчера Бог выходил придуманный и разный Из кузницы, из лавки гончара Или в лучинном нимбе богомазной. Что ж. Этот парень вправду был неплох — Отменно справедлив и благороден. И подковать коня умел мой бог, И прополоть капусту в огороде, Он был смышлен. Хоть поначалу — нем. Но я благого выучил в беседах Тем качествам и совершенствам тем, Каких недоставало мне — в соседях. И, как набитый школьником пенал, Бог их хранил в бесплотной оболочке. Но я жалел, что он, бедняк, не знал, Какие бедра у соседской дочки. Как взаперти беснуется вино, Как в очаге пулярка дышит дымом, И что вовеки богу не дано На Высший Суд явиться подсудимым. Когда-то боги знали в жизни толк, Ведя строку Гомера и Алкея. Но на земле божественный престол Обсели исступленные лакеи. Они просторный божеский закон На сто ладов толкли, как воду в ступе. А сам Господь с дешевеньких икон Взирал на мир — ленив и неприступен. Но я — поэт. И, мысли не дичась, В таверне «У кривого носорога» Я спел друзьям, как вам пропел сейчас, Свой постулат о назначеньи бога. И видел я, как, злобой искажен, Какой-то поп метнулся от порога... И я — создатель бога! — был сожжен. Во имя бога холуями бога. ...Твое лицо, моя Анетт, в окне Мерцало над людским многоголосьем, И в рыжине нечесаных огней Мои трещали рыжие волосья. Потом я просто серым пеплом стал, Но, в плоть земли не вдавленный веками, Я в беспокойных травах прорастал И падал ниц на придорожный камень. Как ветер пыль с бродяжьих башмаков, Меня трепали над землей столетья, Но в дальних улочках уже чужих веков Сумел в своих скитаньях рассмотреть я, Что камарилья новая кликуш, С извечной нетерпимостью слепою, Свершает казни человечьих душ Пред сотворенных идолов толпою. И я тогда сказал себе: — Постой! Ты над землей скитаться не устанешь, Не выстроен тебе еще постой, Не жди его и не ищи пристанищ. Я, ставший пеплом, дымкою, ничем, Я, не познавший домовитость гроба, Я оседаю на листы поэм, Кроплю землей ладони хлебороба, Чтоб мир сутяжный не посмел забыть О том, что бог певца и дровосека По их приказу может призван быть На Высший Суд пред очи Человека. II Карл Шлестнер, штандартенфюрер. 1902-1944 гг., Веймар. Трехслойны, как пирог под взбитыми белками, Три этажа пивной взахлеб! Взасос! Навзрыд! Пучины ячменя вскипают под руками, И пеной этот дом, как крышею укрыт. Под будущими стягами, Под новыми присягами, Мы чокаемся клятвой на пирушке, Воинственно и весело Куплетом «Хорста Весселя» Сбиваем — раз! — и пена с кружки!.. ...Потом над пирогом сходились свечи В поклонах именинного гавота, Двадцатою свечой сморкался вечер, И ты играла Мендельсона, Лотта. Я не поклонник музыки подобной, Но ТЫ играла Мендельсона. Значит... Горячий лисий гон проходит по Шампанье, И гаулейтер сам трубит за егерей. Французик-инвалид застрял ногой в капкане? — Ату его, ату! Собаками скорей! С потехой шли по следу мы, Но Отто Штраль, коллега мой, Назвал «чрезмерным» повеленье наше. Я вынужден был донести Об этой нелояльности. И— Штраль повис, как дичь на патронташе... ...Потом плющом вился дымок каминный И листья распускал на этаже на третьем. Горело пять свечей у нас в гостиной, А ты играла Мендельсона детям. Я это пресекал тогда, не правда ль? Но ты ИГРАЛА Мендельсона. Значит?! Германию и нас, как видно, порицая, Я всех детей села спустил под лед — подряд. В реке глазеют проруби... Попарно их попробуем! Из поколений — вырвать Это семя! Кто злобно или сдуру ли Проявит дерзость к фюреру, Он тут же — марш! — последует за всеми! ...Потом в тот отпуск тлело пламя фуксий, Как сто свечей па темени газона, Над ним витраж плыл в дюреровском вкусе, А в доме ты играла Мендельсона... Да, о жене сообщать гестапо — трудно Но ты играла МЕНДЕЛЬСОНА. Значит!!! Он, видно, ошалел, твой милый братец, Лотта! Лингвист схватил ружье! Припадочный маньяк... (Как я не распознал тихоню полиглота?) Подумать — восемь пуль в упор воткнуть в меня!.. ...Потом меня по-воински отпели, И вторила свеча дыханью фельдкурата. (Как я забыл о братце, в самом деле? Ведь ты играла Мендельсона — брату!) Вы оба мне кричали: «Будь ты проклят!» Но ведь не я, А ты, ты, ты играла, Играла, трала, трала, ты играла, Ты Мендельсона, Мендельсона, Мендельсона… Мендельсона... Илья Львович сказал какие-то добрые слова, и я, уже свободная и умудренная жизнью, спросила: — А вы когда-нибудь фанатически любили? Он задумался, потом произнес: Я никогда в любви не знал трагедий. За что меня любили? Не пойму... Прочел весь свой сонет, венчаемый строками: А между тем была ведь Беатриче Для Данте недоступной. Боже мой, Как я хотел бы испытать величье Любви неразделенной и смешной, Униженной, уже нечеловечьей, Бормочущей божестрснные речи. Снова Беатриче, Лаура, Мечта поэта, изнуряющие призраки моей молодости вступили на веранду сельвинской дачи. — А другой сонет, сонет о неразделенной любви, который Вам читала одна девушка, помните? — я улыбнулась. Он тоже улыбнулся и снова ответил стихами, заключительной строфой из его «Севастополя». Ты помнишь, ворон, девушку мою? Как я хотел сейчас бы разрыдаться! Но это больше невозможно. Стар. Через неделю я получила от него открытку: «Читал Вашу поэму залпом и с хорошей завистью. От души поздравляю Вас, милая моя ученица. И. Сельвинский». Тогда поэму издать не удалось. Только лет пятнадцать спустя, переписав куски и обновив, смогла напечатать в «Новом мире». Были отклики, были хорошие рецензии. Но дороже той, первой не было и быть не могло. Я не раз двигалась по маршрутам, вычерченным строками Сельвинского. Стихотворение «Аджи-Мушкай» стало призывом сделать фильм с режиссером Леонидом Кристи, ввести мой рассказ об этом событии в фильм Екатерины Вермишевой «Мир дому твоему» и телепрограмму «Муза в шинелях», которую я делала с режиссером Леонидом Ниренбургом. Все эти работы — повесть о горестном и высоком событии. Когда в 1942 году наши войска покидали Крым, часть бойцов и мирного населения ушли в Аджимушкайские каменоломни и оттуда продолжали сражение. Их окружала темнота. Ни восходов, пи заходов, одна ночь, длиной в девять месяцев Холодный пот каменных стен поил людей, хотя даже на раненых доставалось по одной ложке воды в сутки. Почти все погибли. Там, уже в мирной, но мрачной по-прежнему пустоте меня окликал стих Сельвинского: И вот они лежат по всем углам, Где тьма нависла тяжело и хмуро, — Нет, не скелет, а, скорей, скульптура, С породой смешанная пополам. Мою авторскую программу «Музы в шинелях» мы снимали в Новороссийске. Там попала я в удивительное место: в мертвый амфитеатр разбомбленного театра. Ветер гудел в руинах. Новороссийский норд-ост бился о камни, как гул далекой канонады. Нет, не далекой, а давней. И этот стон развалин опрокидывал время, поворачивал его вспять, возвращая зрение, слух, чувства в осень сорок второго года. Мне и казалось, что, вступив в это гулкое пространство, я попала в те сентябрьские дни новороссийской обороны. Я вошла в разбитое, простуженное здание Дворца цементников, сохраненное для поколений как памятник войны. В сорок первом году Дворец готовился к открытию. Оно было намечено на 22 июня. Уже был подготовлен концерт, отлажена вращающаяся сцена. Как у Пушкина: «ложи блещут». Но надломилась пушкинская строка: «театр уж полон». Он не заполнился людьми. Театр рабочих стал театром военных действий. Здесь, на земле Новороссийска, осенью сорок второго шли жестокие бои. Части 17-й германской армии, те, что покорили Францию, безуспешно бились с отдельными батальонами советской морской пехоты. Здание несколько раз переходило из рук в руки. Сквозь пробоину в стене мне было видно Черное море. И мне казалось, я вижу все Черноморское побережье тех дней, где, как в боевом строю, стоят города-герои: Севастополь, Одесса, Новороссийск, Керчь. Вдруг ветер, как выключенный, стих. Внезапная жара и тишина наполнили бывший зрительный зал. Я села на камень, может быть, некогда часть пролета лестницы. Каскадом обвалившихся камней были обозначены давний амфитеатр и полукруг лож, арка сцены ждала несбывшегося представления. И тишина была той, что возникает за секунду до поднятия занавеса. И тогда чуть слышно, пробираясь сквозь развалины то ли из чьего-то плейера, то ли из дальнего жилого окна, потянулись звуки. «Лебединое озеро». Мистика. Мистика, мистика! Потому что все оборачивалось самовозникшей экранизацией стихов Сельвинского «Лебединое озеро», одних из лучших стихов о Великой Отечественной. Здесь прежде улица была. Она вбегала так нежданно В семейство конского каштана, Где зелень свечками цвела. А там, за милым этим садом, Вздымался дом с простым фасадом И прыгал, в пузырьках колюч, По клавишам стеклянный ключ. 2 Среди обугленных стволов, Развалин, осыпей, клоаки Въезжали конные казаки И боль не находила слов. Мы позабыли, что устали... Чернели номера у зданий, А самых зданий больше нет: Пещеры да стальной скелет. Дальше: 9 И вдруг из рупора, что вбит В какой-то треснувший бандмауэр, Сквозь эту ночь и этот траур, Невероятный этот быт — Смычки легко затрепетали, И, нежно выгибая тальи, В просветах голубых полос Лебяжье стадо понеслось. 10 Оно летело, словно дым От музыкального дыханья, В самом полете отдыхая, Струясь движением одним... Но той же линией единой Спустился поезд лебединый, От оперенья воздух сиз – И веет, веет pas de sis. И снова над этими новороссийскими руинами веял, веял «па де сиз», и, чеканя его ритм, струясь движением единым сквозь мою память, сочилось чтение, голос. Нет, даже не голос — говорящая вторая музыка, шаманство, исполненное ясного смысла. Первое чтение «Лебединого озера» на первом моем свидании с Сельвинским. Мы воскрешали в телепередаче облик застигшего нас в руинах театра. Мы достали пленку с авторской записью стихов. Они соединились в программе. Как в моей жизни, работе тот голос, те «меди сродни виолончельному письму», поименованные так их владельцем, соединились с понятием Поэзия. Глава XIV «Вольный дочь эфира» (Екатерина Тарханова) Оттого что в помещении температура воздуха была минусовая, просторы клубного фойе казались бескрайними, как зимняя степь. Это делало мое положение еще более жалким. Итак, представляете: недавняя школьница решила предложить программу для знаменитого джаза братьев Даниила и Дмитрия Покрасс, и ей сказали: «Подождите нашего режиссера». От одного слова «режиссер» становится страшно. Я ждала. И вышел режиссер. Пока он пересекал ледяную пустыню нетопленного по военным временам зала, я пыталась понять: где же сам-то режиссер? Ко мне шла белокурая красивая девочка в очках — единственно серьезной детали ее облика. Но все было правильно: режиссером-стажером ансамбля и была она, представившаяся не совсем солидно — «Катя». С этого мгновения и началась наша дружба, длиной почти в полвека — до самой Катиной кончины. Дружба без единой ссоры. А еще — важнейшая область моей работы: радио, где Катя была и моим режиссером, и наставником, и открывателем неведомого. Однако не одна любовь к подруге и личная признательность побуждает меня к рассказу о Екатерине Павловне Тархановой. Для истории отечественного радиовещания «Тарханова» — понятие, многозначная глава. Сегодня радио это, главным образом, музыка, перемежаемая прибаутками «диджеев». Лишь две-три станции транслируют то, что можно в полной мере назвать «программами». А некогда радиорепертуар включал все разнообразие видов и жанров вещания. И детские передачи, и просветительские, и «Театр у микрофона», и много что. Конечно, и новости, политику. Дикторов знали все, как ныне ведущих тележурналистов. А во время войны голос «царя эфира» Юрия Левитана, читающего приказы Ставки, сообщения с фронтов, постановления правительства, вообще воспринимался как идущий с небес глас Божий. Да, ныне лидерствует телевидение. Но почему-то верю, что возрождение радио во всем многообразии вещания неминуемо. Оттого Катины постижения могут пригодиться и новым радистам, да и телевизионщикам. А ведь, встретившись в промозглой пустыне клубного фойе, ни она, ни я ни о каком радио и не помышляли. Лепили эстрадные миниатюры, конферанс и инсценированные песенки на злобу дня. Это было странное творческое содружество: часто мы обсуждали рабочие дела на крыше, где мы дежурили, гася «зажигалки», сброшенные на Москву во время немецких налетов, и где Катя слушала рассказы о театре своего напарника по наряду. Им был Михаил Францевич Ленин, народный артист СССР и рядовой дежурный противовоздушной обороны. Бывало, она приезжала ко мне после разлук, входила высокая, синеглазая, в белом воинском полушубке, в сапогах, заполняя звучным голосом, морозом, плавными жестами своих красивых, говорящих рук все пространство. Она возвращалась из разных мест и с разных дел: то ансамбль был на какой-то узловой станции, которую бомбили («Ансамбль пляски на фугаске», — шутила Катя), то это было возвращение из воинской части, где Катя служила инструктором по разминированию. Она и на сцену вышла так же — с теми же бытовыми своими жестами, в своем полушубке. Вышла, играя Фаину в студенческом спектакле «Спутники», как входила в дом. Но это было позднее. После того, как студентов ГИТИСа отозвали с фронта и Катя с другими вернулась па режиссерский факультет. Когда люди вспоминают свои первые минуты сопричастности искусству, обычно эти страницы бывают наиболее пышными и торжественными в мемуарной литературе. Даже терминология становится почти религиозной: «Театр (или зал, где читались стихи) казался мне храмом, происходящее — священнодействием». У нашего поколения были свой антураж «чистилища» в мире искусства и особые ощущения. Обросшие белым мхом инея батареи в ГИТИСе (Государственный институт театрального искусства) и Литинституте, толчея шинелей в коридорах, как на воинском полустанке. И везде, у всех подоконников читались стихи (как было у меня в Литинституте) или шли споры о Гольдони и Мейерхольде — это в Катином институте. Они живы в памяти, они не погасли — то восторженное изумление и почти растерянность от существования непостижимого, возвышенного мира рядом с трудами войны Мира, не поддающегося физическому уничтожению. И даже некоторое сомнение: а правомерно ли его существование после всего, что мы видели на фронте? Помянула выше Катин военный полушубок. А спроси о нем тех, кто тогда учился в ГИТИСе одновременно с ней, удивятся: «Помилуй Бог, да Тарханова была самой роскошной дамой!» И то: в те поры кого было удивить прибереженной фронтовой униформой? Почти все мы в ней щеголяли. А вот чернобурой накидкой до колеи никто из московских модниц похвалиться не мог. У Кати же данная роскошь завелась. Как и другие невиданные туалеты. Тогдашний ее муж, названный бы сегодня бизнесменом, обряжал жену в одежды, которым мы и названия не знали. Короче, так героиня песенки Саши Галича «вся в тюле и панбархате» могла возникнуть. В величавые ее чернобурки обряжали «нищего студента» в одноименном студенческом «капустнике». Все подруги, отправляясь на ответственные свидания, пользовались бесценными залежами Катиного гардероба. Но надо признать: смотрелись все эти боярские богатства времен развивающегося социализма только на Кате. Потому что Катя была красавицей. В таких случаях обычно говорят, - «Царственная красота». Ерунда, мало. Имперская. Всякая империя времен расцвета мечтала бы иметь на своем троне такую рокотовскую безупречность, такой эпос линий, черт. Тяжелый золотой узел волос, спадающий на спину, дымчатая нечитаемость взгляда, беседа красивых рук, вокруг которых сигаретный дымок распускался как шлейф изысканной рыбы — вуалехвостки. Мой муж признавался. «Когда я первый раз ее увидел, у меня коленки подкосились». Он был не одинок. Как-то мы с Катей отдыхали на Рижском взморье. Была еще при нас ее двухлетняя дочка Оленька, поражавшая всех безупречным напеванием любой мелодии при полном еще неумении говорить. Чудо-ребенка сдавали в аренду восторженным соседям, когда мы отправлялись на «мероприятия». Всякие. Однажды затеяли такое: лодочные гонки по реке Лиелупе. Капитанами гонок были люди легендарные. На нашей с Катей — великий кинорежиссер Всеволод Илларионович Пудовкин, на лодкесопернице блистательный любимец народных масс Михаил Иванович Жаров с двумя «галерниками» на борту. Конечно, не какая-то заурядная регата — кто кого обгонит. Нет. Капитанам надлежало подгонять друг друга, адресуясь женскими именами: «Подналяг, Поликсена!» «Не робей, Ефстафия!» Чем позаковыристей имена, тем лучше. До исчерпания их запаса. Победили мы: воспитанная в религиозной семье, Катя почти наизусть помнила святцы. Поверженный Жаров подгреб к нашему корвету. И тут увидел Катю. Впервые. Сомнамбулически поднявшись в полный рост, замер, а потом с воплем: — Ну, Илларионыч, это против всяких правил! Такую Клеопатру — на галеры, — и театрально рухнул за борт. Написала сейчас про наши бесхитростные забавы и вот о чем думаю. Сегодня тоже — вот уж не гадалось-то — приходят с войны люди. Кто с «чеченским» синдромом, кто с «афганским», кто со стойкой депрессией, кто с неутолимой агрессивностью. Не надо думать, что с той Большой войны солдаты возвращались бодрячками. Где там! Калекам счета не было, да еще у половины фронтовиков семьи погибли, дома в огне утонули. И среди моих друзей-знакомцев таких бедолаг хватало. Но — странное дело! В нас жила жадная тяга изголодавшихся по веселью, тяга к празднику, отнимаемому долгих четыре года. После окончания войны в нас так никогда и не оскудел порыв к изобретательным розыгрышам, грешным и безгрешным загулам. Озорство до самой старости. На своем веку я наблюдаю жизнь четырех поколений. И берусь утверждать: самым веселым, бесшабашным было — наше. Плюющее на все советские регламентации. Нашему поколению нет нужды жаловаться на недостаток пережитых событий. Все тут было — от неизбывных трагедий до ликующей, всезаполняющей радости. Однако пережить — еще не значит суметь воссоздать. А тем более воскресить не картину, а первозданность давних ощущений. Сейчас, вспоминая наши с Катей первые шаги в искусстве, я не просто отдаю дань естественной сентиментальности возвращения в юность. Я хочу понять, какое это имело значение для моей и для ее последующей работы. Мы сделали вместе много передач, основой которых был мой сюжетный радиомонолог. И многие передачи были посвящены войне и искусству. Главное, чего в них добивалась от меня как от рассказчика Екатерина Павловна, — это сохранение личностности позиций, с которых ведется повествование. И тут речь шла не о «личностности», имея в виду индивидуальность авторского письма, почерка. Тарханова хотела «реставрировать» мое собственное давнее восприятие мира, вещей, людей и явлений и сопрячь его с моим же опытом прожитых лет. «Этот абзац мог быть написан человеком любого поколения, — говорила она, — подробности в нем — общие, книжные. А ведь тогда это потрясло тебя. Потрясло и в то же время существовало для нас как повседневность, трагическая, почти непостижимая, но повседневность. Пересели себя в то время. Это должны почувствовать слушатели и в манере твоего письма, и в интонациях голоса. Тогда соседство с сегодняшними размышлениями получит многомерность». Она уводила меня в воспоминания, часто вроде бы и не имеющие прямой связи с темой передачи. Но я переселялась. Этот способ «переселения во времени» сослужил мне не раз добрую службу и в других моих, не радийных работах, о чем я еще расскажу. Учила она меня и другому, очень важному именно для звучащей публицистики: гибкости интонации, ее нарастанию и спаду до «пиано», тому, что можно назвать звуковой партитурой речи. Иногда она говорила: «Стрелка ушла за все возможные границы», «Стрелка мечется, как в бреду». Речь шла о стрелке, показывающей уровень звучания. А означало это: «Слишком много патетики». Или: «Непонятно, какие чувства ты пытаешься передать. Они искусственны, нарочиты». И, по сути, движения стрелки фиксировали точность или неточность выражения душевного состояния, которого добивался от меня режиссер. Ее собственное душевное состояние всегда необыкновенно корреспондировало с событиями, временем, о котором шел рассказ в той или иной передаче. И, как ни удивительно, даже самое далекое из пережитого она умела не только вспомнить, но и вызвать в сегодняшний мир неискаженным. Как нашу военную юность. Думаю, что именно из тех дней, из тех смешанных ощущений и родились во многих художниках, «питомцах войны», вечная обреченность искусству. Такая, какая всегда жила в Тархановой. Написав сейчас, что Катино состояние, она сама «необыкновенно корреспондировала с событиями, временем», я подумала о том, что для человека со стороны возникала определенная странность, разнобой в восприятии. Больно уж ее аристократическая красота и буржуйское оформление как раз и не корреспондировали со временами и событиями, о которых вела она повествование. Впрочем, годы революционных потрясений, особенно в России, тоже приводили на свои баррикады и чаровниц из респектабельных дворянских гнезд. Катя бывала трибуном не только за пультом аппаратной, но и в партикулярной жизни. У советских дам считалось дурным вкусом почитать «8 марта, Международный женский день» — праздником. Ну, выпьют на рабочем месте, ну, мужики цветочки поднесут... А так — фи, даже срам за «красный день» держать! У меня, да и у всех моих подруг 8 марта чтилось, как и чтится, любимым праздником. Среди нас всегда был оберегаем и храним культ женского братства, сестринства, если хотите. Как нелепы распространенные суждения о неверности и коварстве женских дружб! Из скольких горестей и напастей вызволяло меня женское содружество, сколько радостей сделало оно полнокровными и многозначными! Поклон вам земной, любимые мои воительницы бабьего клана! Около полувека собирается у меня 8 марта наш женский форум, сабантуй, гулянка на всю катушку. Наш «девичник». Хотя — увы! — с каждым годом, как петля на шее, все тесней, тесней он, каждый год — уходы, уходы, потери навсегда. А ведь казалось: без Нюши Галич, без Иры Донской, Ани Коноплевой, Эллы Леждей, без других моих, кровных, верных... «Девичники» наши были знамениты на всю Москву. Ни к одной тусовке участницы не готовились с таким тщанием. Ведь известно: туалеты и макияжи выпестываются не столько ради мужчин, сколько для сотрясения воображения прочих дам. Так вот, помню, подруга моя Неля Альтман, чье глубокое контральто, непревзойденное пение старинных романсов (в этом случае — не ее театроведческие таланты, как и таланты всех прочих подруг) были украшением любой компании, сидела в парикмахерской, готовясь к нашему бабьему | празднику. И вдруг совершенно незнакомая соседка по креслу спросила: — Вы идете на девичник к Гале Шерговой? — А вы знакомы с Галей? — удивилась Неля. — Нет, — пожала плечами та, — но ведь про девичники-то ваши все говорят. Мужчины на эти ритуальные собрания не допускались. Даже мой собственный муж изгонялся из дома. Мужьям же подруг разрешалось приехать лишь для того, чтобы по окончании симпозиума (что в переводе с латыни значит «праздник с пением и танцами») забрать жен домой. Мужики всегда озабочены тайной: о чем же говорят бабы в их «чистом» обществе? И наших эта загадка донимала. Потому однажды муж мой с приятелем вернулись пораньше и плотоядно прильнули к двери кухни, где вершилось сектантское таинство. Сначала сквозь гул не удалось выудить смысл фраз, слов, выкриков. Но вот над шабашем возвысился голос Кати. Озадаченно, недоуменно и разочарованно мужчины переглянулись: Катя произносила пламенный спич о советско-китайских отношениях! Екатерина Павловна занималась в жизни разным: писала сценарии документальных фильмов, ставила спектакли, переводила с польского, выступала как критик и публицист. Но когда я спрашивала ее: — Почему бы тебе не пойти работать в кино? Или на постановку в театр? — она всегда отвечала: — А эфир?.. Бог с ними, с «большими премьерами», у меня тут два раза в неделю премьера. И это было правдой. Дело не в том, что объявление «режиссер Екатерина Тарханова» звучало в эфире дважды в неделю. Это действительно премьеры: то премьера идеи, то новой радиофонической формы, то новой тематики. Есть свои журналистские квалификации истинности призвания. Когда говорят о посвященности своему делу, часто идут в ход лермонтовские строки: «...знал одной лишь думы власть, одну — но пламенную страсть». Вроде бы в этом случае мне не удастся последовать примеру моих коллег: я уже упомянула о разнообразии творческих интересов Екатерины Павловны. Кто-то может сказать: это разбросанность, этого не должно быть. А для меня пленительна такая разбросанность, ведь она проистекает из потребности участвовать во всем и по-разному. Это от щедрости того, что отпущено природой. И все-таки не случайно настойчивое «А эфир?», которое повторяла Катя. Ее «одна — но пламенная страсть» не обрела бы столько граней, если бы ее дарование не шлифовалось опытом публицистики, литературы, визуальных искусств. Школа смежных ремесел и школа всех проявлений основной профессии сделали Тарханову радиорежиссером, а не склейщиком пленки (что, к сожалению, бывает в работе многих наших эфирных режиссеров). На этом стоит остановиться особо. Все искусства имеют свои пределы возможностей. Театр не владеет простором, пейзажем, динамикой смены мест, какие доступны кино. Оно же, в свою очередь, лишено «обратной связи» с живым зрителем. Радио лишено изображения. И так далее... Но каждое искусство всегда хочет обратить свои ограничения в достоинства, а специфику качеств довести до совершенства, которое сделает невозможное возможным. А для того чтобы это произошло, чтобы твое «главное» искусство сумело преодолеть свой потолок, необходимо знать, что умеют и могут искусства иные. И как же важно изучить возможности разных искусств, чтобы найти им замену там, где этих возможностей нет! Именно над преодолением незримости радиодейства Тарханова всегда работала особенно много и заставила размышлять меня. Не буду повторяться — я уже говорила об этом. Хочу вспомнить вот что. Как-то Катя сказала мне: «Сегодня услышала, как Леонид Хмара читал по радио какой-то фрагмент. И вдруг заметила: все вижу. Сначала решила: это оттого, что мы привыкли слышать его чтение в документальных фильмах. А потом поняла: нет. Он выписывает голосом все зримые подробности, каждой дает особую окраску. При этом он не "играет" их. Он их рисует». Да, Хмара умел это. (Ах, какой он был диктор! Сколько радости, горькой радости, граничащей с отчаянием по поводу собственного несоответствия его мастерству, дала мне работа с ним в документальном кино!) Но Катино замечание заключало в себе и то, о чем я до того не думала, считая, что важно лишь живописно и точно передать словом пейзаж, обстановку. А надо было еще и «рисовать» их голосом, не играя, не пережимая. И как трудно этому обучиться! Читателю этой главы моих воспоминаний может показаться странным, что, повествуя о своей интимной подруге, я так много внимания уделяю вопросам профессии. Но в рассказе о Кате это неизбежно. И потому что в «звучащем слове» она была моим учителем, и потому что красавица эта, как никакая другая, оставалась безучастной к впечатлению, производимому ею на мужчин. И хотя мы с Катей были проникновенно дружны и знали все друг про друга, разговоры про «любови и романы» (как с другими подругами — упоительные и доскональные) были крайне редки. Катя нежно и верно любила своего последнего мужа — архитектора Юлиана Шварцбрейма, гордилась его талантом, его кристальной порядочностью, лучащейся добротой. Обожала их сына Алешу, мальчика всесторонних дарований. Недаром Алексей Тарханов стал ныне одним из руководителей крупнейшего издательского комплекса. А мог бы блестяще продолжить дело отца. Или стать незаурядным писателем-прозаиком. Все в нем было и есть. Катя учуяла горизонты Алеши еще в его мелком возрасте. Сказав «последнего мужа» (дожила с ним до своей кончины), я обнародовала факт: у Кати было несколько мужей. Но расставалась она с ними не потому, что влюблялась в кого-то еще. Разочаровывалась. Надоедали. Любовь же «как надо» с восторгами, страданиями, слезами я наблюдала у Кати лишь однажды. Перед браком с Юликом Катю сотрясал роман, героем которого был знаменитый грузинский архитектор — «красавец, умница, спортсмен». Правда, уже «не комсомолец». А женатый отец сыновей-близнецов. Роман был вдохновенным, но бездоходным. Катин возлюбленный не мог оставить не только мальчиков, но и Грузию, чьим героем он был. А Грузия не приняла бы Катю. В моем романе «Касание» Катя Тарханова — прототип одной из героинь — Екатерины Павловны Москвиной. Очень уж своеобычная она была личность, так и просилась в книжную прозу. Там есть и страницы о Катиной любви. Хотя, конечно, и сама героиня несколько иная, и избранник ее, художник Тенгиз Хорава, не совсем списан с Катиного избранника. И героиня, от имени которой ведется повествование, — вовсе не я. Но без этой, даже несколько трансформированной истории портрет моей подруги неполноценен и куц. Вот фрагмент из романа «Касание». «На тахте без подушки безжизненно лежала Катя. Она не пошевелилась, даже услышав, как я вошла. Сочась из-под очков, по ее щекам текли слезы. Мы долго молчали, я решилась: — Вы расстались с Тепгизом? Она не ответила, только слезы обильнее хлынули из-под очков. Снова повисла тишина. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг она произнесла еле слышно: — Тебе правились мои синие туфли. Возьми. И черпобурый жакет. Тебе он нравился. — Ты о чем? — не поняла я. — Мне ничего не нужно. Мне больше ничего не нужно. Что тут скажешь, трагедия обрела довольно странный оборот. И будь это не Катя, я, наверное, не удержалась, хихикнула бы. Когда со мной случалось подобное, меня меньше всего посещали мысли о завещательной раздаче имущества. Но Катин "конец света" был искренним отрешением от всего земного. И все-таки я сказала: — Несешь какую-то чушь Скажи лучше, что произошло. Она сказала, по-прежнему не шевелясь, не открывая глаз: — Он позвонил и сказал, что мы расстаемся. Что он сделал выбор: он не может их оставить. Как жестоко, как бесчеловечно — позвонить. — Ну что ж, Катуля, когда-нибудь это случается. — Но — позвонить! Он даже не прилетел для последнего разговора. — Случается, уходят и даже не звонят. Неизвестно, что хуже. Такие уж мы с тобой невезучие, дружок. Тут она судорожно всхлипнула: — Но я-то все равно люблю его. Я, как чеховская Маша, люблю его со всей грузинской суетой, с его девочками... — Насчет грузинской суеты у Чехова указаний нет. — Я попробовала вызвать ее улыбку. Она не приняла моих попыток: — Но девочки, вершининские девочки есть. — И без перехода: — Сделай милость, дорогая. Сделай милость, поезжай в Тбилиси. Посмотри на него, пойми, что произошло. Ведь что-то произошло, пожалуйста, умоляю. — Что произошло, что произошло... Разве не ясно? Что тут выяснять? Да и захочет ли Тенгиз обсуждать со мной столь личное? О, почему, когда дело касается нас самих, самые очевидные вещи кажутся непостижимыми. Я ведь тоже терзала себя бесконечными "почему". Но отчаяние Кати было столь неподдельным, что я сказала: — Хорошо. Попробую договориться о командировке. В крайнем случае, возьму за свой счет. Стол был прекрасен. Нигде, кроме Грузии, не являлась мне эта манера — накрывая стол для пиршества, ставить кушанья одно на другое. Нигде не приходило в голову, как важно сочетание колорита поданных яств, но уже в начале застолья, едва я плотоядно воскликнула: «Вкуснота! Пища царей!», Тенгиз деликатно переадресовал мое внимание. — А цветовая гамма? Ты знаешь, генацвале, какое чувство должен вызывать настоящий стол? Ты не знаешь. Это чувство, будто ты идешь по картинной галерее. Тут светотень Рембрандта, тут пурпур Тициана, тут клубящийся воздух импрессионистов. И все рядом. И ничто не спорит с соседом. Только тогда это настоящий стол. Ты поняла? Я прошествовала взглядом по длинному столу, установленному в просторной мастерской Хоравы. Золотые распятия цыплят табака, тяжесть кардинальской сутаны, одевшей красные перцы, розовые холмы сациви, удивленные глаза баклажанных ломтиков, глядящие из жидкой меди лоснящихся соусов, выходили мне навстречу. Их цвета двоились и троились на ярких холстах, обнимавших по периметру пространство. Холсты были на стенах, стояли на полу, прислонялись к стенам. Странно: кощунственная, казалось бы, близость искусства и пира пребывала в кровном родстве. Над столом простерся приветливый запах трав. Тархун, кинза, зеленый лук, укроп, соединив ароматы, выдыхали их в лицо сидящим. А еще выше, над цветом и запахом, стоял звук. Точнее — множество звуков, сплоченных в непостижимом порядке мужского многоголосья, гортанного и протяжного. Чудо грузинского пения, которого тоже не услышишь в наших краях. — Ну, как впечатление? — осведомился у меня сосед, маленький юркий человечек в жилетке, надетой поверх национальной рубахи с высоким воротом. — Потрясающе! — честно призналась я. — Так ведь это — Тенгиз Хорава! Кто такой Тенгиз Хорава? Бог! Царь! Галактика! — И вдруг, сменив тон, сосед доверчиво зашептал: — Вчера один человек пригласил. Сказал: именины. А что было? Какой стол? Похороны по четвертому разряду: покойник сам себя несет. Он тут же врезался в очередной такт песнопения, будто не отвлекался. Песня кончилась, Тенгиз поднял бокал для произнесения очередного тоста. Тост был уж не помню, каким по счету. Помню только — шуточным. Он был все время весел, Тенгиз Хорава. И когда приехал за мной в гостиницу, чтобы повозить, показать город и таскал по друзьям, где всякий раз накрывался стол и гудели пиршества. Как же я смогу рассказать об этом Кате? Ведь где-то за тридевять земель, упав навзничь на тахту, лежала Катя, и слезы беззвучно текли из-под очков. Наверное, она думала, что и Тенгиза застану в таком же горе. Она еще терзалась: что случилось, что случилось?.. Плыли лица, плыли голоса, плыло время. — Кажется, перебираю, — сообщила я вслух. Сосед вскочил и завертелся в тесном пространстве между мной и каким-то художником, мне его представляли. — Да что вы! Только начали. Хорошо сидим. — Слишком долго, — пожаловалась я. — Это долго? Это долго? Вот один раз мы пировали три дня, и никто ни разу не встал из-за стола! — Как это? — Если бы кто-нибудь встал, он бы умер. — В глазах присутствующих женщин. Сосед хохотал и суетился. Мне почему-то казалось, что он должен быть в котелке и с сигарой. С чего бы такое? Черт его знает, но котелок и сигара обязательны, они даже виделись. Каких присутствующих женщин? Нет, кроме меня, за столом никаких женщин. Хозяйка и девочки только бесшумно возникают, чтобы убрать опустошенное блюдо. Возникают и сникают. Нет, так не говорится. Исчезают. У Тенгиза вполне милая жена. Улыбчивая. Хорошее среднерусское лицо. Хотя грузинка. Катя говорила, что грузинка. Вот и по-русски говорит с акцентом. Акцент вполне приятен. И вообще вполне. Кате она мерещилась матриархальным чудищем. "Тенгиз никогда о ней не говорит. И когда я была в Тбилиси, нас не познакомил". "Катуля, ну зачем ему вас знакомить? Зачем тебе эти лицемерные взаимовежливости?" А вот девочки двухсотпроцентные грузинки. И тоже милые вполне. Воспитанные, но не зажатые. Ох, Катя, Катя, как же все это тебе рассказывать?.. Плыли лица, плыли голоса, плыло время. Душно, чертовски душно. Я вышла на открытую галерею. Солнце уже упало за зубчатый заборчик зданий на той стороне реки. Света с собой не забрало. Небо желтое, и Кура желтая, фыркая, дыбится. А здания плоские, черные, вырезаны из черной бумаги и приклеены к небу. Как говорится, такой бы пейзаж, да с любимым мужчиной. Тенгиз вышел на галерею, тронул меня за плечо: — Я вижу. Важа совсем замучил вас. — Какой Важа? — Ваш сосед по столу, Важа Тушмалишвили. Знаете, кто это? Это великий чеканщик. Его работы экспонируются по всему миру. Правда, самого его никуда не выпускают. Слишком много говорит. И все не то, что полагается. Я хотела было сказать, что неплохо бы посмотреть работы Важа, но не успела. Тенгиз резко прижал меня к себе и с болью, которую не пытался скрывать, выдохнул: — Как мне плохо, Ксаночка, как мне плохо. Я не могу жить без Кати и с ней быть не могу. Я погибаю, просто погибаю. И не знаю, что делать... Как она? — Плачет. — Бедная моя, милая моя... — Вы бы в Москву слетали, хоть поговорили бы... — Нет, нет, нельзя. Нам обоим будет только хуже. Я решил. И сказал дома. Русико ведь все понимала. Я сказал, что — все. Нужно быть мужчиной. — Наверное, вы правы. Мужчины так и считают. Только женщинам это трудно принять». Зато и мужчины и женщины понимали своеобразие ее режиссерского мастерства. Самые крупные литераторы стремились работать с ней. Звонок в редакцию — не диковинка. Может быть, это был сороковой звонок в тот день. И может быть, у Екатерины Павловны голос был уже достаточно усталый, когда она в очередной раз сказала в трубку.— Да. Это мы делали передачу «Чаплин и музыка». — Во-первых, я хочу поздравить вас и поблагодарить за удовольствие, — ответила трубка, — а, во-вторых, первый раз в жизни хочу попроситься в соавторы. Давайте сделаем передачу «Пикассо и музыка». Это говорит Эренбург. Сегодняшним поколениям это имя мало что говорит. Но в те годы... При всех претензиях, по большей части справедливых, которые может предъявить ему история отечественной литературы, да и социальная история, Илья Эренбург был фигурой значимой, знаковой. Одаренный литератор. Влиятельный деятель международного антифашистского движения. А главное — человек пронзительного ума, каких встречаешь крайне редко. А уж в дни войны!.. Два голоса воспринимались почти как глас Небес: Юрия Левитана, о чем уже поминала, и печатный «голос» Эренбурга. Помню, на фронте существовал даже неписаный закон: «Статьи Эренбурга в газетах на раскурку не пускать». И это не было приказом свыше. Солдаты сами так решили. Не зря же Эренбург был объявлен Гитлером одним из «главных врагов Третьего рейха». Оттого предложение Эренбурга Кате «попроситься в соавторы» было воспринято радийной братией как предложение руки и сердца коронованной особы, адресованное рядовому подданому. Почтение, оказываемое Кате титулованными особами от искусства, наблюдала я многократно. Жила Екатерина Павловна в доме на углу Пушкинской площади. Дом этот знала «вся Москва», ибо там располагалось ВТО — Всероссийское театральное общество. Дом актера, выпестованный искусными и бескорыстными руками ее директора А. М. Эскина, чье дело ныне с величавой сердечностью и мудростью продолжила его дочь Маргарита Эскина. Дом и его директора нежно почитала московская творческая общественность. А уж ресторан ВТО!.. Пристанище друзей и сердец, да и только. По «территориально-производственному признаку» (следуя советской терминологии) Катя в ресторане Дома актера была частым гостем. И мы при ней. Однажды большой компанией, ведомой Екатериной Павловной, мы пришли отужинать. Случилось так, что одновременно с нашим табунком в зал вошли Леонид Осипович Утесов и Иосиф Леонидович Прут. И вмиг с разных столиков раздались аплодисменты. Леонид Осипович величаво воздел руку, снисходительно пробасил: — Ша! Не надо оваций! — И тут же Прут низверг утесовский жест.— Не хапай чужие лавры, Ледя! И впрямь, навстречу вошедшим то тут, то там вскакивали именитые застолыцики, чтобы... приложиться к Катиной руке. За одним из столиков кто-то поднялся с бокалом: — Ваше здоровье, Екатерина Павловна! Ваше здоровье, наш «вольный сын эфира»! Реактивный Прут тут же откликнулся: — Тогда уж «вольный дочь эфира». И также «ца рица мира» — в одном лице. Как предусмотрел еще господин Лермонтов. И был прав. Кругом прав. Глава XV Обратная сторона Луны (Валентина Терешкова и Юлий Шапошников) Именно с таким называнием мне хотелось когда-то сделать документальный фильм — «Обратная сторона Луны». Словосочетание это за многие века стало для человечества означением некой тайности, скрытости от глаз явления, предмета, всем, однако, видимого и находящегося постоянно в поле зрения. Поэтому для темы фильма вполне подходящего. Но, разумеется, играла роль и причастность моих предполагаемых героев к космическим просторам. Героев было двое. И два моих знакомства с ними, знакомств, поначалу разделенных временем. С Ним, героем-мужчиной, свел меня мой собственный недуг. Необходимость операции, которую мне предстояло делать в зарубежной клинике. По правилам советских времен, для выезда за рубеж с подобной целью требовалось заключение Главного отечественного специалиста. Вот я и приехала в ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии) для встречи с его директором. Минуя детали беседы с ним, Юлием Георгиевичем Шапошниковым, скажу, что решила я ни в какие заграницы не ездить, а оперироваться здесь, в ЦИТО. За что и благодарна судьбе, ибо подарило мне мое решение не только постоянную и многократную медицинскую помощь, но и удивительного друга, которого, увидев однажды, я полюбила до конца — до его ранней кончины и за ее необратимым пределом. Как это ни покажется странным, но в размышлениях о будущем фильме меня несколько настораживала слишком уж нарочитая «кинематографичность», живописная праведность персонажей. Представьте себе: он — красавец в голубых хирургических одеждах, он же — генерал, облаченный в торжественность парадного мундира, он же — элегантный профессор, член-корреспондент АМН, встречающийся с Папой Римским... Да еще — жена, женщина со всемирной славой. Все почти неправдоподобно, похоже па голливудскую сказку или наше кинополотно прежних лет, когда предписывалось создавать безупречных героев в безупречных обстоятельствах, некую несбыточную мечту для смертных зрителей-обывателей. Да, я сказала: «Жена, женщина со всемирной известностью». Она — сверхгероиня... Когда я впервые увидела его, стремительно ворвавшегося в кабинет, где я ожидала встречи, увидела именно таким — картинным доктором, всепонимающим и исполненным доброжелательности, бойцом Гиппократова воинства с распахнутыми крыльями белого халата, я, конечно, меньше всего задумывалась над обстоятельствами его семейной жизни. И вовсе уж не предполагала, что давно знакома с его женой. Лишь несколько дней спустя мой палатный врач, очаровательная черноглазая красотка Леночка Терешкова сказала мне: «А вы помните, как вы были у нас в Чкаловской?» И начала перебирать подробности той давней встречи. Господи, помню ли? Конечно, еще бы... На Центральном телевидении делалась документальная киноэпопея «Наша биография» об истории государства, художественным руководителем которой я была назначена. В сериале каждый фильм посвящался определенному году жизни страны. В некоторых лентах я участвовала и как автор-ведущая. Таким фильмом был и «Год 1963», год полета в космос первой женщины — Валентины Терешковой. И я поехала снимать беседу с героиней будущего фильма. Надо сказать мне повезло: Валентина Владимировна всю жизнь ненавидела давать интервью, отказывала почти всем журналистам. Но почему-то на этот раз согласилась и даже пригласила для съемок к себе домой. Юная дочка Леночка (в будущем мой палатный доктор) явила тогда отличные ассистентские способности, умело орудуя архивами и помогая с установкой света. Что же касается самого интервью, то собеседница моя поразила меня с первых фраз. О, надо было знать, что и как было принято тогда говорить, ораторствовать со знаменитыми собеседниками! Не дай Бог, выйти за рамки узаконенной риторики. А Валя рассказывала, как рассказывала бы старой знакомой не о событии, поразившем человечество, а о загородной поездке к друзьям. Конечно, «поездка» со сложностями, неожиданностями, но вполне бытовыми, какими-то домашними. Говорили мы часа полтора. В фильме эпизод полета занял 15 минут. Что поделаешь — законы жанра. Но непростительно, преступно непростительно, что все «исходники» этой и других уникальных бесед с прекрасными делателями нашей истории (имена громкие и безвестные) были по приказу начальства стерты. Не вернуть, не воскресить... Большинства собеседников «Нашей биографии» уже нет на этой земле. Да и биография отмирает. Но это — к слову. А знакомство с Валей (я позволяю себе так называть Валентину Владимировну, ибо всегда именовала ее именно так) длилось в разных ипостасях. Мы встречались в телестудиях, на официальных «мероприятиях», я слышала ее речи с различных трибун. И хотя неизменно отдавала должное ее естественной манере держаться, ее элегантности, никогда, признаюсь, не ловила ее на победах женской раскрепощенности над регламентированностью уготованной ей роли. Потому была я прекрасно поражена однажды. Это случилось в Праге на Всемирном женском конгрессе. Я увидела не затюканного тысячей проблем и нестыковок руководителя сложнейшего форума. В кулуарах, невесомо перемещаясь в пространстве, буквально парила пленительно похорошевшая, веселая, кокетливая женщина. Такая, какими бывают только влюбленные и любимые. — Что это с Валей? — спросила я общую знакомую. — Она вышла замуж, — сказала та. — За кого? — За медицинского генерала Шапошникова. Да, да, за несколько лет до моего знакомства с Юлием Георгиевичем услышала я его фамилию. Однако, встретив, не связала эти события воедино. Но, встретившись, а позднее и подружившись, задумала упомянутый в начале этих записок фильм. Конечно, в кипоповествовании должны были присутствовать эпизоды сто медицинского бытия. И усталая радость после многочасовых операций, и ночные приезды к тяжелым больным, и деловитая парадность утренних обходов, когда он, профессор, окруженный белохалатной свитой, возникал в дверях палат, как вестник надежды страждущих. Еще. Виделся он мне над кипой чертежей эндопротезов, создание которых замыслил, и осуществил их производство в нашей стране, чтобы освободиться от зарубежных фирм. Домыслила я (видеть не довелось), как встречают его коллеги в разных странах, как советуются с ним — уважительно, с полным доверием и дружбой. А что встречают именно так — знала по их письмам и телефонным звонкам, которых Юлий Георгиевич от меня не таил. И о том, как умел Шапошников поднять всю медицинскую Москву, если кто-то просил о помощи, и вне владений ортопедии хотелось рассказать. Это-то я испытала сама и своими глазами видела. ЦИТО для больных — один из самых авторитетных медицинских центров. Для больных. А для сотрудников ничем он не отличим от обычного жизнепребывания коллектива — и страсти кипят, и противоборствуют идеи, характеры. Наверное, да, нет, наверняка были и у Шапошникова противники и недруги. Да что там говорить! Смерть его не сама пришла, приведена под уздцы завистниками. А вот представьте: ни разу, да, ни разу не слышала я из уст его хулы, поношения или просто неуважительных отзывов в адрес коллег. Зато с какой теплотой говорил он о своих помощниках-единомышленниках! С каким восторгом восклицал: «Золотые руки! Хирург от Бога!» (Так, скажем, неустанно поминал постоянного соратника Виктора Ивановича Нуждина.) И все-таки, все-таки... Совсем особые интонации возникали в голосе Юлия Георгиевича, когда произносил он: «Валя, Валюша». Не выставлял он своих чувств напоказ, не демонстрировал гордость (хотя вполне объяснимую) за жену: истинный мужчина, он не гарцевал в мужественности поступков и чувств, но, как уже сказала, мне досталась, выпала его дружба. Я знала глубину и истинность его любви к Валентине Владимировне. Сейчас, за рубежом его немоты я не вправе пересказывать слова моего друга о том, сокровенном для него. Право на публичность таких признаний принадлежит только владельцу, автору чувства. Но, поверьте, не откройся мне полуденный свет пространства, в котором обитали чувства моего друга, не пришло бы мне на ум рассказывать об этом в фильме. Так вот, о фильме. Людям 60-х, 70-х годов прошлого столетия памятны парадные кадры «космического венчания» — свадьба космонавтов Терешковой и Николаева. Говорили тогда, что «сватом» звездной пары был сам Хрущев. Говорили даже, что задуман был этот союз верхами как некая политически-пропагандистская акция. Не знаю, не берусь судить. Хотя не представляю независимую Валину натуру, добровольно отданную на службу общественной надобности. С Николаевым я не была знакома. В тот единственный раз, когда побывала я в их доме, генерал Николаев мрачно шаркал где-то в глубинах квартиры. Познакомиться с нами не вышел. Но видела я двух Валентин — поры Николаевской и поры Шапошниковской, двух женщин в одной оболочке. Двух, разделенных тем преображением, что поразило меня в Праге. Та, вторая Валя, потрясла меня еще раз. В трагические месяцы болезни Юлия Георгиевича она, потрясенная горем, была самоотреченным и безоглядным борцом за каждый день его жизни. Такой... Такой, какими не бывают женщины по велению долга. Только по велению любви. Повседневная жизнь, быт не могут избежать нелепых ссор, внезапного раздражения, взаимных недовольств. Наверное, союз Шапошникова—Терешковой тоже не избежал этих непременностей. И этого не знаю, но думаю, что даже браки, выстраданные и заключенные па небесах, идиллическими не бывают. Важно, чтобы привходящие размолвки не были сутью союза. Чтобы сутью его была любовь. Как у них, моих героев. Жизнь, деятельность Терешковой и Шапошникова (каждая по-своему) была публичной, открытой миру, отснятой в фильмах, описанной и откомментированной, известной всем. Как видимая сторона Луны. Но лунное тело не становится плоским лишь оттого, что зримо не все. Оно объемно, оно неполноценно, созерцаемое лишь в одном ракурсе. Вот мне и захотелось чтобы светило жизни моих друзей ощутилось людьми в своей многозначной полноте. Однако теперь замыслу не сбыться. Кино — феномен зрелищный. И не только чувства, но и движения, действия в нем должны быть зримы. А если речь идет о двух людях, то и зримы в двух проекциях. Один без другого — это тоже только одна сторона Луны. Когда пишутся мемуарные записки, воспоминания, принято обращаться к архивам, сбереженным бумагам и свидетельствам. Сунулась в свои бумажные вороха и я. Я не нашла там «документов», подтверждающих описанное выше. Да их и не могло быть. Никто, а тем более люди, о которых рассказываю, не дают посторонним расписок в подлинности своих интимных чувств. Но отыскалось другое. И это другое, думаю, поможет полнее представить себе: что же за человек был этот торжественный, чуть ли не «иконописный» генерал и почти академик. А был он веселый, охочий до юмора, откликавшийся на каждую брошенную ему шутку. Даже когда изнемогая от трудов, забот и борений, утверждал, что ведет жизнь «исключительно спинальную». Распростертая многократно хирургическими терзаниями на палатной койке я развлекала себя, да и моего профессора, всякими забавными посланиями. И всякий раз, едва вырвавшись от дел, он приходил ко мне в палату с не менее забавным ответом. Правда, ответы были устные. В отличие от меня, Шапошников не был избалован свободным временем для сочинения легкомысленных «эпистоляров». (Да, почерк моего друга сохранен мной только в дарственных надписях на книгах. Мы обменивались авторскими экземплярами наших сочинений. Но если Юлий Георгиевич мог мои книжки прочесть, то я его — увы! Моя медицинская безграмотность дальше этой дарственной надписи меня не пускала.) Так вот. Некоторые мои записки (черновики) сохранились, и две из них вспомню сейчас. К 70-ЛЕТИЮ ЦИТО Директору ЦИТО Жалоба на профессора отделения эндопротезирования Шапошникова Ю.Г. от пациентки №.. Пускай в ЦИТО сегодня праздник, Пусть юбилей парадный, пусть. Но я отдельных безобразий И нынче все-таки коснусь. Обласканный ТВ и прессой И респектабельный на вид Так называемый профессор В науке черт-те что чинит: Он изуродовал разрезом Мое роскошное бедро И начинил эндопротезом Его интимное нутро. Должна сказать не для проформы В защиту наших женских прав, Что для него бедро — не «формы», А тазобедренный сустав. Водя по мне рукой медбрата (Хорош, мол, шов иль не хорош), Он ощущал лишь инфильтраты, А чувств — буквально ни на грош. Вам, генерал, чужда беспечность. Так прикажите, дорогой, Чтоб он признал мою «конечность» Законной женскою ногой. Пациентка №... В моей просьбе прошу не отказать. Приписка Была бы я весьма моложе, Я б это написала тоже. А вот другая записка. Юлий Георгиевич уезжал тогда в командировку в Рим. ПАМЯТКА для отъезжающих в населенный пункт Рим Конечно, Рим в почетной роли Был вечной славой осиян. Но он — развалины, не боле Для патриотов — россиян. Вот Колизей. Он в I веке Был возведен. С тех пор ветшал. А ведь в любом московском ЖЭКе Он на ремонт давно бы встал. Боргезе вилла. Что такого? Простое местное старье, А вот на вилле Г. Попова Новейший импорт, ё-моё. А Ватикан? — Собранье комнат, Где бродит Папа. Папа есть. Но словом «мать» никто не вспомнит, Не то что на Манежной здесь. А их латынь, язык забытый? Там что ни слово — все не то, Вот, скажем, по-латыни «cito», А нужно говорить — ЦИТО. Короче, если есть культура У вас, мой друг, поймете вы. Что «РИМ» — лишь аббревиатура: «Руины имени Москвы». Итак: счастливо возвращаться! Но, если Вас страшит вояж, В палате номер «2-15» Дадут Вам полный инструктаж». Вот и все. Задуманный фильм снять не удалось. Но рассказать о замысле захотелось. Пусть хоть эти странички будут малой данью памяти о замечательном моем друге. Можно так закончить главу. Но я решила в этой книжке быть откровенной. А рассказанное — не вся правда. Блистательный профессор был и моим последним женским головокружением. Тем, что сообщало полетность долгим больничным неделям, а неотступные боли обращало в желанную возможность его присутствия, участия. Думаю, интерес Шапошникова ко мне тоже не был чисто медицинским, очередной пациенткой я для него не стала. Ипостась мужчины в ее жизни женщина всегда распознает по нашей бабьей каббале. (Когда слово имеет значение не рабской покорности, а таинства.) Да и сам Юлий Георгиевич не раз говорил мне, что мое пребывание в его будничном бытии преображает и расцвечивает это самое бытие. И тем не менее наш безгрешный роман таким и остался. Во-первых, потому, что рассказанное о двух моих друзьях — истинно. Во-вторых, увлечение мое не было той сокрушительной страстью, которая велела бы идти напролом, поправ мою собственную любовь к Вале и собственную супружескую верность. Был и третий заслон. Небеса меня баловали: до самых почтенных лет я не была обделена мужским вниманием, даже тогда, когда сама утратила интерес к романам и приключениям. (Наверно, оттого и шапошниковский всплеск в душе был так радостен и будоражащ.) Смешно, но я жила, не ощущая безнаказанного грабежа, производимого возрастом в женских владениях. Когда в «призывном возрасте» была уже моя старшая внучка, я вдруг задумалась над призывом собственной судьбы. И всполошилась, перепугалась. С запозданием, что говорить. Тщилась оградиться от напасти заклинаниями: Чур, чур меня — от не-меня, От зеркала, от наважденья! Как шелковинку — от огня. Как истину — от заблужденья. Чур, чур меня — от наглой лжи, Нелепой этой самозванки, От нашей с нею перебранки... Что в нас похожего — скажи?! Мне — двадцать пять во все года, Она — стара. Я — молода, Она — лекарства, пузырьки; Я — плоский ветер вдоль реки. Я — милых плеткой по лицу, Я — бух! — ив ноги молодцу, Я — невеселому помочь, Я — слово за слово — ив ночь! Я — все работы по рукам, Я — в деле форму мужикам, Я — вешний тополь докрасна Спалить строкой! А что она, Чужая с именем моим? Нам тесно в имени двоим. Но коль помедлит похвала, И скажут про меня — «была», И поднесут мне лесть как месть. Она напомнит, Что я — есть. Она — посмешище мое. Она — убежище мое. С Валей я сохранила дружбу, с Юлием Георгиевичем — нетускнеющий свет. Когда в 2001 году мы с мужем отмечали золотую свадьбу, Валюта сделала мне царский подарок: отдала под торжество пышные апартаменты особняка на Калининском проспекте, где размещается ее офис. Золотую свадьбу играли в золотом зале. И первый тост, тост благодарности за щедрый дар я подняла за нее. И за картинного генерала, которого уже несколько лет не было на земле. Ни у нее, ни у меня. Глава XVI «Для чего пережила тебя, любовь моя...» (Святослав и Ирэн Федоровы) Как-то в компании врачей рассказывались забавности. Наш друг знаменитый нейрохирург Эдуард Кандель поведал: — На днях получил из Чебоксар письмо: «Я был слепым. Мне сделали операцию, и я прозрел. И что же я увидел?.. В палатах полы немытые, няньки — хамки в грязных халатах, белье на кровати не менянное»... Застолье разразилось хохотом. И только Святослав Николаевич, не менее прославленный офтальмолог Федоров, всегда охочий до любой веселой несуразности, поучительно-серьезно отметил: — Правильно. Пусть и вчерашние слепые увидят все безобразия нашей жизни. Честно говоря, такая трибунная реакция на бесхитростную байку могла выглядеть «вне жанра». Для кого хочешь, но не для Федорова. Человека, о котором этот мой рассказ, вернее, заметки, Славу в несколько страниц не уместишь. Значение слов часто меняется, в зависимости от того, о ком говоришь. Особенно это заметно, когда речь идет о неординарной личности. Для заурядного человека такие понятия, как «бытие», «существование», «жизнь», — тождественны. Для незаурядного — каждое из этих слов имеет свое наполнение. В бытии Святослава Федорова понятия «жизнь» и «существование» взаимодействовали, но не были тождественны. Его «жизнь» не вмещалась в скудное пространство «существования», ей было в нем тесно. Он всегда жил, действовал, придумывал, осуществлял через край, поверх барьеров. Все дела у него получались больше, азартнее, необузданнее, чем положено человеку, который просто существует. Страсти, бушующие в нем, распирали это пресловутое «существование», рвали его смирительные ограничения. Иногда такое называют одержимостью. Слово, может быть, несколько примелькавшееся и все больше выходящее из употребления в последние годы нашей истории. Но и раньше, когда трудовой энтузиазм был особенно в чести, воплощенная одержимость как главный вектор реального человека встречалась отнюдь не на каждом шагу. А Слава был одержим. Мыслью, задачей, идеей, претворением замысла. Таким помню его в давние времена, когда Анатолий Аграновский первым написал о фантастических опытах безвестного офтальмолога. Таким он остался, став повелителем своей врачующей империи. Менялся только масштаб, размах. Не страстей, а географических и административных категорий. Мне нет нужды расписывать достоинства, значение его профессиональных и организаторских достижений. Коллеги Святослава Николаевича делали и делают это серьезнее и глубже, чем могла бы сделать я, дилетант, человек со стороны. Мне хочется думать и говорить о сущности этой «штучной» натуры. Я сказала — ему было тесно в отведенных, положенных рамках. Видимо, поэтому он так ненавидел любые формы оков. Полагаю, оттого и случился, осуществился странный для многих рывок из медицины в политику. Знаю, шептались тогда по газетным и околовластным задворкам: «все ему мало, честолюбие заедает». И правда, неужто мало всемирной медицинской славы? Неужто организаторский талант не утолен созданием гигантской офтальмологической империи, о чем скажу ниже? Так нет. Еще и депутатом Госдумы надо было стать. И собственную политическую партию организовать. Да что там! В Президенты России баллотировался. Всех коллег обошел. И не по устланной розами дороге шел. Все познал: и зависть коллег, и предательство учеников и ангажированную травлю в СМИ. И не сломался. Он отнюдь не был ангелом, смиренным безгрешным проповедником добра, иконописным носителем истины. Скорее — некий одержимый протопоп Аввакум от медицины. Был диктатором и рабовладельцем. Но рабовладельчество его было того же рода, о котором я писала в главе о Романе Кармене: когда сам властитель — безоглядный раб общего дела, единомышленников. В федоровском царстве МНТК (Межотраслевой научно-технический центр микрохирургии глаза) имя Святослава Николаевича произносилось с придыханием. И от почтения, и от робости. В разговорах означали его «Сам». Особенно старательные и услужливые коллеги (те, что всегда первыми предают кумира при его неудачах) даже некий культ учинили, развесив в своих кабинетах федоровские портреты-иконы. Вопреки его указаниям. Чего (собственного подобострастия) и не могли простить шефу. Однако все сотрудники института безоглядно веровали: от всех бед прикроет федоровское имя. И «получку» имеют не по штатной ведомости, а получают деньги за вложенный труд, да еще процент с общей прибыли комплекса. А уж о квартирах, дачах и говорить нечего — обо всех заботился грозно-веселый шеф, учинивший капитализм в «отдельно взятой» формации в недрах регламентированного социализма. У академика Льва Николаевича Гумилева есть рассуждения о «пассионарных» личностях, ведомых особой силой страсти — в деле, в профессии — истинных, единицы на столетие. Среди таковых в XX веке Гумилев числил Федорова. Именно эта пассионарность, а не покорное долготерпение ученого позволила Федорову внедрять свои открытия — искусственный хрусталик глаза, новые методики, лихой лозунг: «Снять с человека очки!». Именно она втягивала в воронку федоровской одержимости консервативную расчетливость советских чиновников, сдававшихся, разрешавших бунтарю в белом халате невиданную доселе организацию работы в клинике. Именно эта пассионарность, размыкая пределы повседневной врачевательской деятельности, бросала Святослава Николаевича в пучину общественных борений. Мало для кого порыв этот, рывок этот в политику был столь ограничен, столь самой натурой его продиктован. Он первым в нашем обществе «освобожденного труда» произнес: «Рабство, раб, рабский труд». Не о жертвах рисуемого пропагандой капитализма. О нас, нас самих! Как в сознании советских поколений слово «раб» означалось? Наивным фанатизмом комсомолки в красной косынке, выводящей на ликбезовской доске: «Мы не рабы. Рабы не мы». Да еще наивной яростью Спартака, замахнувшегося гладиаторским мечом на самовлюбленное величие Рима. И вдруг — мы, наша покорная подвластность государству! Может, основа — риторика, а то и тщеславие политика-новобранца? Нет. Заговорил-то Федоров об этом до перестроечных вольностей. В те времена и слушать-то такое страшно было. Я, во всяком случае, опасливо вздрагивала. А позднее поняла: рабство — самый страшный застенок человеческого духа, достоинства, порыва. Замурованность. Оковы личности. А Федоров ненавидел огражденность, предписанность предела. Так кому же, как не ему, ощутить злобные запреты рабства? И обрушиться па них не только во всеуслышание, а, что не менее важно, говоря с самим собой, как на исповеди. Признаюсь, федоровская «зацикленность» на какой-нибудь идее (медицинской или политической) производила порой странное впечатление. Он мог без конца говорить о владеющем им деле. Всюду. За рабочим столом. В застолье. На пляже. Некоторые слушатели даже иронически пожимали плечами: сдвинутый. Порой и мне такое казалось. И правда. Помню, доходило до смешного. Лежу на операционном столе. Профессор Федоров «чинит» мне глаза. И в течение часа, пока длится операция, произносит страстную речь на тему: «Как сделать человека хозяином собственного труда». Время от времени речь перебивается указаниями ассистентам о скальпеле или каком-то инструменте. Лежу смирно, но начинаю заводиться: какого черта задумал он приглашать в операционную политических оппонентов, чтобы и здесь взбираться на трибуну, вместо того чтобы думать только о моем ущербном глазе? Чье идейное противостояние предпочел важности моего здоровья? Хотелось бы взглянуть на них. И вот операция закончена, открываю здоровый глаз. Смотрю. Никого, кроме бригады. Это мне, распростертой и беспомощной, адресовал он весь пыл аргументов, испепеляющих его со вчерашнего дня, когда мы начали разговор в его рабочем кабинете. Поражаешься, сколько страстей и порывов заключала в себе его неуемная натура. Во всем — в профессии, в политике, в любви. Мало на моей памяти примеров, когда почти тридцатилетнее супружество не стало бы, в лучшем случае, дружеским единением. В браке Славы и Ирэн бал правили страсть, влюбленность, какие обычно отмечают только Начало. В последний отпуск Федоровых мы вместе отдыхали на Кипре. Начав дальний заплыв, обнаружила Ошву на «соседней» волне. Спросила: «А где Ириша?» Он мгновенно отыскал ее взглядом в далеком многолюдье пляжа: «Вон она — белоснежка». И такая нежность скользнула по лицу, на котором привычнее означался фанатизм идеи. Сейчас написав «фанатизм», я подумала, что вообще-то для меня это понятие нелюбимое, даже враждебное. В одном из своих сочинений я зачислила это понятие в разряд смертных грехов. Потому что это — всегда слепота, закрытость для принятия, понимания чужой аргументации. Да, слепота. Но как же: Федоров и слепота? Игра словами на поверхности: «слепота», «офтальмология»... И, тем не менее, не избегаю ее, суть противостояния слепоты и зрячести в самой натуре Федорова. Но фанатизм его — это обреченность идее, замыслу, начинанию. А не тупое отрицание чьих-то аргументов. И еще. Выше я сказала о любви, особой любви Федорова. Наверное, именно присутствие Ирэн в жизни Славы, ее мягкость, доброта, свет, исходящий от этой женщины, и смягчали, одушевляли федоровскую непреклонность, не давая ей стать упрямой непререкаемостью. С ней, Ирэн, он не мог лукавить. А не лукавить с близким человеком — это больше, чем не лукавить с самим собой. Они были отражены друг в друге. Как в системе параллельных зеркал, когда изображение уходит в бесконечность. Таким наблюдали па протяжении четверти века этот союз все знающие Федоровых: удачнику — удачный, безоблачный брак с красавицей-умницей. Небось, от первой встречи до трагического прощания. И только после Славиной гибели — он разбился на вертолете, который пилотировал сам, — Ирэн рассказала мне, каким непростым, порой горьким был этот роман. И каким неоднозначным (как и во всем) предстал в этой «лав сгори» сам Слава. Поразительная история этой любви долго не отпускала меня, и, в конце концов, я вместе с режиссером Ириной Юрловой и оператором Марком Глейхингаузом сделала о ней фильм. Ниже я привожу запись фильма. Без этого — и портрет Славы не точен. «ДЛЯ ЧЕГО ПЕРЕЖИЛА ТЕБЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ?..» На взгорье, от которого отлого скатывается луг, стоит церковь. Старинная, но подновленная. Она как пастырь оберегает стайку могил деревенского кладбища. Среди них — и его. «Под березкой», — говорил он когда-то, полагая, как все мы, что придет туда не скоро. «Порой крест, венчающий купол церкви, похож на надгробный, и кажется, что он установлен в небе. Собственно, небо и было его могилой. С небом у Святослава Федорова всегда были особые отношения. Даже весть о его приходе в мир сбросил вымпелом с неба самолет-кукурузник, когда отец, комдив Николай Федоров, проводил военные учения: «У вас родился сын!» Сын бредил небом, куда не пускала его беда — потерянная в юности нога. Но в конце жизни он все-таки ворвался в небо, сам сжимая штурвал вертолета. А однажды вертолет рухнул на землю, и потому земное надгробье осеняет другой крест. И, приходя сюда, она, жена Ирэн, видит оба креста. Могила лежит у изножья церкви в Рождествене, семейной церкви Суворовых, восстановленной трудами Федорова. На надгробной плите Ирэн высекла слова: «Ум и дела твои останутся в памяти человеческой. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Так и мы «Для чего пережила тебя любовь моя...» назвали наш рассказ. Его не стало. А она была обречена на жизнь. На жизнь, любовь и на это властное таинство, способное каждый предмет обращать в подробности их прошлого, не подвластного старению. Потому любое зеленое дерево может вдруг обернуться зимним кленом, их кленом. Он очень любил эту песню «Клен ты мой опавший» и в любой компании просил Ирэн ее петь. Даже там, в Сан-Франциско, на Всемирном конгрессе офтальмологов. Он был там триумфатором. 2000 мировых светил овацией приняли его доклад. А назавтра все перешли в зал поменьше, где продолжились прения. И вдруг Слава сказал: «А сейчас моя жена споет песню на стихи Есенина». Ирэн: «И вот я выхожу, к этой трибуне, где он только что читал лекцию, он садится рядом, на стул, смотрит на меня, и я мгновенно оцениваю эту обстановку: в Америку приехала первый раз, мой муж любимый, который мною гордится, наверное, раз он меня вдруг заставил петь, да еще из России приехала, ну и начала петь. И вот я пою, слова потрясающие, я пою прочувствованно, и, наверное, на вот этом эмоциональном подъеме, я чувствую, что у меня просто слезы на глазах, и вдруг я смотрю на этих мужчин, которые ни одного слова не понимают по-русски и у некоторых, я вижу, тоже слезы на глазах, тогда я еще больше эмоционально подзарядилась, и когда я закончила, то были такие аплодисменты, что я, в общемто, очень даже смутилась, конечно, это было так неожиданно, спонтанно». Но что могли понять американцы в нашей российской забубённой грусти? И что знали они, аплодирующие русской красавице, о том, чего стоила ей ее счастливая любовь? Иногда с кладбища она идет пешком. Идет к их дому в деревне Славино, утопическом поселении, основанном им, где и сейчас она чувствует его присутствие. Никому невдомек эти нынешние их встречи, потому что только зрением любви она может разглядеть, что он способен возникнуть за любым поворотом дороги, в окне дома, всюду. И наоборот, странной, почти нереальной ей кажется собственная жизнь — до него. Ташкент. Мединститут. Студенческий ансамбль. Замужество. Дочки — двойняшки Элина и Юля. Развод. Землетрясение. Переезд в Москву. А там — комната в красногорской коммуналке, скромная больница, где она работала акушером-гинекологом. И дежурила, дежурила, дежурила. Надо же было растить дочек. И какое уж женское счастье мог вместить монотонный маршрут: дом — больница, больница — дом... Март у метро «Войковская» все тот же. И толпа в том же возрасте. Кажется, и сегодня она в том же возрасте. Потому что можно сесть в тот же 191-й и двинуть прямиком в семьдесят первый год, в ту клинику, где ее слепнущая тетя просила разыскать неведомого ей врача-чудодея. На всякий случай игриво она вошла в его кабинет и замерла. Потому что, как писалось в старинных сентиментальных романах, «перед ней был мужчина ее мечты». Ирэн: «У него были удивительные глаза, удиви- тельные, просто удивительные, такие темно-зеленые, какие-то такие, просто пронизывающие насквозь, это был... это был взгляд настоящего мужчины, знаете, такой вот может даже и без слов понять, как... как ты, понравилась ли ты ему, сможешь ли ты чтонибудь добиться... Но тогда у меня не было этой мысли. Я даже забыла, зачем я пришла, потому что сначала было состояние шока, а когда, это же все мгновения были, когда он так посмотрел пронзительно, а потом сказал: "Ну, проходите, садитесь, пожалуйста"». Она села и, кое-как усмиряя сердцебиение, рассказала про тетю. Он согласился прооперировать ее протеже. Более того, разрешил ей, Ирэн, присутствовать на обходах и в его кабинете. Но неотвратимо приближалась тетина выписка, и в висках стучало: все, все, скоро — конец. Ирэн: «Нет, мне было очень неудобно, и он в этот момент мне сам помог, он мне сказал: "Где я вас могу найти?" — и когда он мне это сказал, мне все стало ясно, что опять же есть надежда на то, что встреча будет продолжаться, и я ему дала все свои координаты, все свои телефоны, и после того как я уже ушла, это было в апреле, 16 апреля я была у него в последний раз. Я стала ждать звонка». Но телефон молчал. И тогда она отважилась сама набрать магический номер. Ирэн: «Я когда ему позвонила по прямому телефону, он взял сразу трубку, и я сказала: "Святослав Николаевич, вы помните меня, я та-та". Он сказал: "Да, помню". Я говорю: "Я просто так звоню вам, чтобы услышать ваш голос, потому что у меня сегодня день рождения, решила сама себе сделать подарок". — "Ой, простите, одну минуточку, я вам перезвоню через пять минут"». «Я перезвоню через пять минут», — сказал он. Перезвонил. От приглашения прийти отказался, но пообещал звонить. И снова — ничего. Рвалась домой. Круглые глазищи диска таращились безучастно. Но однажды еще в подъезде она услышала звонок. Нет — колокол, набат. Договорились встретиться у кинотеатра «Комсомолец». Она приехала на 594м, нарочно немного опоздав, и сразу увидела его машину. Они поехали в ресторан «Русская изба». Сколько роскошных ресторанов повидала она потом! Но разве хоть в одном вино умело так вкрадчиво шелестеть? Разве хоть через одно окно к ее глазам мог подступить такой распахнутый мир? Куда там «Рицы», «Максимы», «Ривьеры» до неправдоподобной, благословенной «Русской избы»! Ирэн: «И вдруг он мне провел рукой вот так по щеке и сказал: "Да, все, конечно, замечательно, ой, ну нет у меня возможности ухаживать за вами, ведь вы же женщина, за вами нужно ухаживать, вам нужно делать какие-то подарки, с вами встречаться, бесконечно вы какие-то проблемы доставляете нам, мужчинам". И я сказала: "Святослав Николаевич, я могу вас абсолютно заверить в том, что со мной у вас проблем никогда не будет, никаких"». И они уехали в какой-то лес. Ах, ворожбу этого света, этого леса не воссоздать ни одному пейзажисту! Существовали только эти воды, зелень и они. И они целовались, целовались, целовались. Надо бы сказать «с юношеской страстью». Нет. Такое исступление доступно только зрелости. Двум одиночествам, обретшим друг друга. Хотя и это не точно: он-то был женат. И, похоже, парковые скульптуры разглядывали их с некоторым подозрением. Ирэн: «Это был чудный вечер, мы, остались у меня дома, и как потом он мне сказал: "Сегодня мы объявили войну богам". Вот, и с 2 2-то июня, это было 22 июня, это день войны был, начало, первый день войны, а он сказал: "Да, сегодня 22-е июня, а мы с тобой сегодня объявили войну богам"». У этой войны было много фронтов. Но главный — его дело. Как-то уже в заморозки он повез ее в Бескудниково, где на пустыре возились рабочие, размечая площадку под строительство будущего федоровского института. Ирэн: «Я говорю: "А можно мы с вами здесь поучаствуем и поставим колышек?" — "Да ставьте, пожалуйста". — Дали нам топор, у них не было даже молотка. Дали нам топор, какую-то такую дощечку, и обухом топора прибили мы с ним эту дощечку. Я держала, а Слава вбил ее этим топором, и мы ушли, удовлетворенные тем, что мы, так сказать, вбили вот этот колышек в здание той огромной империи, которую он потом создал». Эта империя — Межотраслевой научно-технический комплекс микрохирургии глаза — включила отделения в одиннадцати регионах России, летающие, плавающие, движущиеся операционные, руководство клиниками в Японии, Арабских Эмиратах, Италии, Польше, Албании, Китае и других странах. Только в нашей стране 3,5 миллиона человек обрели зрение. Воистину — империя! Сегодня ей трудно входить в его кабинет. Страшна немота пространства. А ведь здесь гремели научные дебаты, шумели предвыборные споры, когда Федоров баллотировался в Президенты страны и в Госдуму. Здесь его партия «Самоуправления трудящихся» обдумывала, как вернуть достоинство рабочему человеку, сделать его хозяином своего труда. Все молчит. Молчат мониторы, по которым он следил, как в операционных прозревают слепые. Теперь ослепли сами мониторы. Смерть будто настигла и предметы. Они всегда были в движении. Даже гири, с которыми он «подзаряжался», замерли на полу. Да, самое тяжкое — безмолвие кабинета, о котором мечтали они в декабре 74го года. Наступающий 75-й год, в общем-то не примечательный для человечества, казался ей чуть ли не началом нового летоисчисления, где все числа с календаря обязаны быть только красными. Вы заметили: она и сегодня помнит все даты?.. Ирэн: «19 января 75-го года, я только пришла с работы, это было где-то часов шесть, он мне позвонил и говорит: "Ты пришла уже домой?" Отвечаю: "Да, я дома". — "Ты вечером дома будешь?" — "Да, я дома". — "Я к тебе приеду". Я спросила: "А когда?" Он говорит: "Я приеду через час. Насовсем"». Как явственны в поселке Славино отзвуки того лета! На пустующей дороге вдруг слышится вкрадчивый рокот мотора. И откуда ни возьмись перед глазами синий «Мерседес», тот, что подарили Славе американцы. Нет похожих на ту машину. И не потому, что была она с ручным управлением и Слава звал ее «инвалидной коляской». Просто скорость того «мерса» была с каким-то ликующим посвистом, и он умел любой заунывный пейзаж обращать в неизведанное обтекающее пространство. Ведь именно так все и было, когда они отправились на юг. Была ли она счастлива? Ирэн: «Очень, очень была счастлива, я была счастлива каждый день, каждое мгновение, каждую минуту, потому что, понимаете, все дни были заполнены им, вот все дни были заполнены им, он все время был со мной рядом». А потом? Потом он исчез. Бросил? Ушел к другой? Или, разведясь с предыдущей женой, польстился на успех завидного жениха? Ах, какая разница! Какая разница, как окрестить эту беду, пропасть, это изнуряющее наваждение — круглые сутки в мыслях только он, он, он, он... И — проклятие молчащего телефона. Ирэн: «Когда началось вот это все, понимаете, в 76-м уже году вот это все началось, это было что-то страшное, потому что я ничего не могла понять, что происходит. И начались мои ужасы. Боже мой, что со мной было, тогда похудела, мне так было плохо, ночи не спала совершенно, просто бессонница, потом начались даже какие-то галлюцинации, ну то есть ужасное было состояние». Она уехала на юг. Ведь еще в прошлом году там царил ликующий праздник. Но на этот раз только унылое пекло. Москва была пуста и никчемна. И все-таки через две недели она вернулась. Ирэн: «И в этот же день он мне звонит, и вот так, без всяких договоренностей, без ничего, и говорит мне: "Я тебе звонил несколько раз, а тебя почему-то дома не было". Ну, я сказала, что я была на море, опять без всяких объяснений. Он: "Я очень хочу тебя увидеть, давай мы встретимся?" Мы встретились. Он удивился моему загару, потому что я была в таком легком открытом платье, и говорит: "Боже, мой, какая ты черная". Очень хорошо мы провели с ним время. Так продолжалось какое-то время, потом он снова исчезал, потом снова приходил, потом снова исчезал, и вот так продолжалось... Но все равно мы были вместе». И тут грянула другая беда: неизлечимо заболела мама. Схватив детей, Ирэн бросилась в Ташкент. Увидев на пороге дома вместо красивой цветущей женщины сухонькую старушку, поняла: это конец. Все-таки повезла маму в Москву, Слава помог определить ее к лучшему онкологу. Приговор не оставлял никакой надежды. Эта беда заслонила все. Пустел мир, каждый день, каждый час истирались и рвались теплые связи бытия. И она написала Славе: «Все. Мы расстаемся. Два бремени мне не донести». И отвезла письмо к его маме. Ирэн: «Когда я вернулась домой, вечером этого же дня он мне позвонил и сказал: "Я тебя очень прошу, ты можешь ко мне приехать?" Я его спросила: "А ты получил письмо?" — "Да, и поэтому я звоню тебе, я очень хочу тебя видеть". Ну а так было всегда, стоило ему мне позвонить, как бы там ни было и что бы ни было, я всегда к нему ехала, и в этот день я приехала к нему. Ну, думаю, если он не понял то, что я написала, я смогу еще разъяснить устно. Я объяснила ему всю ту ситуацию и просто ему сказала: "Ставочка, ты пойми, что меня просто не хватит сейчас и на тебя, и на маму". И вдруг он мне говорит такие слова: "Ириша, я хочу чтобы ты была со мной всегда. Мне никто не нужен, кроме тебя, за это время я выяснил, что я не смогу быть без тебя"». Она поверила ему. Потому что раньше он никогда не произносил этих слов. И никогда она не спрашивала его: что же дальше? Дальше оказалось долгое счастье: повзрослевшие девочки, подрастающие внуки, разделенные радости и замыслы. Даже общая работа: она выучилась на операционную сестру и могла ассистировать ему. Дальше был весь мир и на всех его широтах один адрес: «вместе». ...И вот мир опустел. Опустел и преобразился. И она не понимала: как же мир может обходиться без него? И как может дом существовать без хозяина, которого так любили их верные друзья? Сколько же их перебывало тут! Когда-то тесная терраса не могла вместить их веселые сборища, их всех. Теперь там только память и тишина. Бывало Слава говорил: «Мы с тобой половинки одного яблока». Похоже на забавную детскую считалку. А теперь разрезаешь яблоко, и будто ножом по сердцу. Она всегда ощущает его присутствие в их доме. Это даже не назовешь воспоминаниями: вот эту книгу он держал, здесь играл в шахматы. Это какая-то странная особенность предметов быта сохранять его облики, его голос. Он всегда спешил в этот их дом в Славино. Обихаживали каждое деревце, каждую яблоньку. И вот что интересно: после его прикосновения растения как бы получали дополнительные силы, даже увядшие зацветали. И еще любил реку. Этот канал. Вальяжное, степенное шествие судов. Говорил: «Вот этого мне будет не хватать — там». Летом он часто по утрам переплывал на другой берег реки, где его ждала машина. Переодевался и ехал на работу. Он плыл, сопровождаемый нехитрым деревенским эскортом. Так было всегда. Потому, когда она долго смотрит на воду, она почти верит, что случится чудо. (В кадре Слава всплывает и плывет ей навстречу.) Ирэн: «Я боялась своего счастья, я боялась, даже когда мы были вместе, я боялась: почему я так счастлива и так долго? И где-то внутри мне все равно было страшно, мне было страшно, потому что уж все было хорошо. С ним было все хорошо и просто. Вот, а сейчас я должна за это счастье расплачиваться своей судьбой. Вот я и расплачиваюсь, но все равно я живу. Конечно, я живу памятью и ради памяти, и так это и будет...» Как уже сказано в начале, у него были свои взаимоотношения с небом. А может, и с космосом. Завелся свой самолетик. Потом вертолет. И забавлялся он озорно, по-мальчишески. Вдруг вертолет опускался за домом, и сквозь его рев, пугающий соседей, Слава кричал: «Ириша, я слетал к Марии Ивановне за молоком. Возьми бидон». Ну какой другой мужчина мог бы дарить ей такие сюрпризы? «Для чего пережила тебя любовь моя?» — спрашивала она. Чтобы бессменно нести вахту памяти. Вот она создала Фонд Святослава Федорова, Фонд помощи слепым и слабовидящим детям. Конечно, ей бы не управиться без поддержки верного помощника — Юрия Михайловича Лужкова, без участия друзей с разных континентов. Они по-прежнему окружают ее со Славой. Фонд уже многое сделал, многим помог и самостоятельно, и в ассоциации с другими фондами. Она начинает и новые дела. Всегда мысленно советуется с ним. Но, вообще-то, ей хочется спрашивать его о самом простом: «Как прошел день? Что тебя огорчило сегодня? Что радует?» И услышать его голос: «Все удивляет — рассвет, закат, утка, севшая на воду, вкусный обед... Жизнь так прекрасна. Жаль вот только, что она такая короткая». Глава XVII «Какое удивительство!» (Борис Чирков) Он шел по нашему двору, покачивая не то рюкзачком, не то авоськой, шел усталой походкой пенсионера, выполнившего обязанности по приобретенью нехитрого домашнего харча. Чистенькая «бобочка» с короткими рукавами обтягивала мускулистый торс, самодельная повязка прикрывала один глаз — над ней торчал седой вихорчик. Будничный, как кримпленовый бюст бывшего счетовода Понтрягиной из 17-й квартиры, надменный бюст, который педантичный супруг, отставник-связист, выводил на ежедневный променад по бульвару, как зазывный цокот Зинкиных каблуков, адресованный ленивому табунку шоферов, курящих у всхлипывающих дверей служебной столовки, как нескончаемый призыв из окна: «Шурик, мусор!», как сам переросток Шурик, продолжавший сомнамбулически стучать в «орлянку» с дворовой мелюзгой, — привычным и ежедневным смотрелся он. Он шел мне навстречу, был уже шагах в десяти, а я еще не сообразила, что это он. Да, слишком уж что-то обезличивающее было в его облике, что придает похожесть, заурядность соседям по двору. И вдруг узнала: — Господи, Борис Петрович! Что с вами, что с глазом? Он застеснялся, заизвинялся: — Да вот какая-то хренотень приключилась... Похоже, в глазу абсцесс лопнул... Течет...— Из-под повязки и правда сочилось. — Так надо же срочно в больницу! — ужаснулась я. — Видите ли, Галочка, я как раз и хотел попросить вас отвезти меня... Если, конечно, вы свободны. Понимаете, не хочется моих девок пугать. Запаникуют... Я уж им из больницы сообщу. Наверное, не так, не так надо начинать рассказ о кинозвезде, облепленной восторгами, Легенде. Но в той горестной нашей встрече проступило многое, что как раз и было сущностью этого человека. Застенчивая скромность, почти робость, повадки, делающие всенародно знакомый облик неотличимым элементом толпы. Бережное охранение друзей, да и не только друзей — не обеспокоить, не навязать забот о себе, не быть хоть мало-мальски в тягость. И категорическое нежелание эксплуатировать многочисленные свои регалии. И еще это — «не пугать моих девок». То есть «Милок!» — Милку-большую и Милку-маленькую, жену и дочь, которых любил безоглядно и нежно. От которых долго скрывал и эту вот беду — что теряет глаз. Потерю для любого человека драматическую, а уж для актера... Он был именно таким. Хотя получил от судьбы верительные грамоты на иной образ. Случается и бесплотная литературная фантазия обретает плоть металла. На стратфордском сквере стирает невидимую кровь с бронзовых рук леди Макбет и блестят отполированные туристскими прикосновениями бронзовые колени Фальстафа. Уходят в новые скитания с мадридской площади недвижные Дон Кихот и Санчо Панса... К их реальному существованию привыкли поколения, и вот они увековечены в изваяниях. Его Максиму не поставлено памятников, если не считать его фильмов. Герой классической советской кинотрилогии Г. Козинцева и Л. Трауберга «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона». Монументом стал ленинградский кинотеатр, носящий его имя. А ведь он, Максим, давно выйдя из ограниченного пространства экрана, подобно Чапаеву, прочно вошел в общественное сознание, начал многообразную жизнь в мире. Ему, Максиму, писали письма: «Надо посоветоваться с хорошим человеком». Его приглашали на семейные советы и зачисляли в рабочие бригады. Рассказывали, что он был комиссаром полка в Сталинграде и на Курской дуге. И, как границу экрана, перешагнул он государственные рубежи. Бывшая заключенная фашистского концлагеря в Польше вспоминала, как узников поддерживал слух о том, что в этом же лагере русский большевик Максим сколачивает отряд Сопротивления. И еще, и еще... И все-таки не встал он навечно на мраморный постамент, замуровав в чугунной кожанке свою веселую отвагу и звонкую славу. Непомерную в своей огромности славу эту выпало нести человеку. Актеру, создавшему Максима. Борису Петровичу Чиркову. Нет заманчивее удела. И нет труднее. Прежде всего труднее. И актеру, и человеку. Я умышленно и сейчас не лишаю Максима его партийной принадлежности. Хотя для сегодняшних поколений «большевик» — почти клеймо. Бездушный комиссар. Тупой догматик. Кровавый чекист. Или иначе: торжествующий хам, властолюбивое быдло. Что ж, были, были и такие. Как и ныне, между прочим. Но революции, при всей их кровавости и, увы, подтвержденной веками бесплодности, не собирали бы под свои знамена не только ленивый сброд, но и радетелей за народное благо. Радетелей самой разной социальной причастности. Всякий раз, заговорив об этом, я не могу ни возвращаться мыслями к истории моей собственной семьи. Мои родители были врачами. Знаменитыми сибирскими врачами. Помню, к отцу больные на санях-розвальнях ехали за двести-триста верст, что, правда, по сибирским размахам, расстояние нормальное. Уже и после революции (советские порядки долго добирались до Забайкалья) родителям принадлежал огромный дом, где целый этаж был отведен под кабинеты, в том числе, и редкий по тем временам, — рентгеновский. Я в своем мелком возрасте владела тремя детскими: спальной, игровой и комнатой для занятий языками. А до «Великого Октября» родительские владения были и того роскошней. И вот я думаю: что заставило этих благополучных, преуспевающих беспартийных людей бросить все и уйти на фронт Гражданской войны врачами Красной армии? Что заставило их терять одного ребенка на эпидемии холеры, а другого на смертном покосе сыпняка? Да вот эта самая наивная и великодушная жажда всенародного блага. Мой отец не был бездумным идеалистом. Помню, когда мне было лет 15-16, он сказал горько, с отчаянием: «Мы живем в стране рабов». Мое бравое комсомольское верхоглядство было тогда сотрясено и возмущено против отцовского кощунства. (На осмысление истины ушли годы.) Я не подозревала, как трагична для отца утрата идеалов. Идеалы окрашивали и понятие «народ» — одну из высших национальных формаций. Даже если угодно — идейных. Потому искусство, особенно российское, делало «народность» эталоном нравственной истинности. Не исключение и искусство советское. Правда, на свой манер. Лучшими представителями народа почитались в советские времена большевики. Такими хотели быть верящие, даже верующие в социальные идеалы члены партии (а таких, берусь утверждать, было не так уж мало), таким надлежало подражать всем. Далеко не всегда советскому искусству удавалось справиться с предписанием «создать образ», надлежащий образ. Вереницы, толпы ходульных благостных и бесполых существ сновали по экрану и книжным страницам. Максиму — Чиркову с завидной и полнокровной естественностью удалось создать подлинный образ, Чирков расстался с Максимом, не утратив родства. История искусства знает бессчетное множество примеров, когда некий звездный взлет художника приторачивает его имя к единственному созданию. Бывает, что художник и не может еще раз переступить высокий барьер, взятый однажды. Он не стал актером одной роли. Их вместе с театральными более ста. И диапазон огромен: от Самозванца в «Борисе Годунове» до батьки Махно в «Пархоменко», композитора Глинки в одноименном фильме до грузинского крестьянина Агабо в иоселиановской пьесе «Пока арба не перевернулась», от Муромского в «Деле» Сухово-Кобылина до филера в фильме «Чрезвычайное поручение»... И так далее, и так далее... Я не берусь анализировать актерскую работу Бориса Петровича. Я хочу думать над сутью этого удивительного явления нашего искусства, именуемого Борис Чирков. У Микеланджело есть прекрасный неоконченный сонет. Вот строки из него: «...как в чернилах и пере таится стиль высокий, и низкий, и средний, в мраморе одновременно кроются образы и возвышенные, и грубые, в зависимости от того, что умеет извлечь из них наш гений...» Я хочу продлить мысль строчками, написанными Чирковым: «Актер, который создает человеческие образы, нигде не достанет строительных материалов для своей работы, кроме как в самом себе». Да, талант Чиркова способен был высекать из мира, заключенного в художнике, образы столь несхожие, но совершенные и оттого, что велик талант, и оттого, что велик его собственный мир. Тут он и тонкий ваятель, и трудолюбивый каменотес. «Труд, труд, труд», — любил повторять он. Недаром его рабочим девизом была брюсовская строфа: Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой! Я близ тебя, мой кнут тяжел, Я сам тружусь, и ты работай! Я не случайно говорила о трудностях родства с Максимом не только для актера, но и для человека. Ответственное и сложное бремя Максимовой чистоты, душевной цельности, нравственных высот не каждому по плечу. Но Чиркову оно не было тяжким. Потому что естественные и для него, Чиркова, а не только для Максима, эти категории. Тридцать лет дружбы дают мне право сказать, что он один из самых светлых и чистых людей, встреченных мною. Но ведь вот что интересно! Народность Максима гляделась простонародностью. Этакий смекалистый, но темноватый мужичок с окраины. И раз уж герой и актер были для миллионов в одном лице, то и Чирков рисовался мужичком, одолевшим если не грамоту, то лишь первые этажи книжной премудрости. Да, не княжеского рода. Из мещан, из крошечного городишка Нолинска Вятской губернии, что стоял на реке Воя, в ста двадцати километрах от Вятки. Жизнь тишайшая, отгороженная от бурлений большого Мира, где обитатели, сидя на скамеечках, «шшокали» и «ччекали» на местный манер, обсуждая, что «тетка Марья корове рог пошшибла», а «Лидка за лето, как с Гашшины приехала — палилась цисто яблоцко». Или затягивали жалостливую: Задумал я Богy помолиться, Я взял котомку и пошел... Все уездные премудрости — единственная городская библиотека, а вместо картинных галерей — репродукции из столичных журналов. И из этой-то глуши Боря Чирков, закончив реальное училище, маханул в Питер — учиться на артиста. «Взял котомку и пошел». Поступил в мастерскую Сергея Радлова, в театральный институт. А там: Мейерхольд, биомеханика — да! Станиславский — нет! «Передвижников — в запасники!» Реют другие имена, да какие! Кандинский, Малевич, Шагал, Лентулов, Хлебников, Крученых. Они суть искусства, сердцевина грядущего! И надо же! Курносый «глубиншшик» с северным говорком оказался желаем Мейерхольду и «ФЭК-СА» («Фабрика эксцентрического актера») и прочим взрывателям канонов. Казалось бы, Чирков это — Максим, Мужик — жалобщик из «Чапаева» («Белые пришли — грабют, красные пришли — грабют... Ну, куды крестьянину податься?..»), на крайний случай — непроницаемый Бирюк из «Солдатами не рождаются»... Целина народная. Вроде бы и сам актер из почвы этой леплен. При чем тут провидческая заумь, избранническая речь тех давних холстов и подмостков? Чирков и — «это»? Небось, повзрослел, осознал, отрекся. Нет, и, постигнув стройную классику, полюбив ее самозабвенно, юношескими кумирам не изменил. Чирковская домашняя библиотека, как и сам Борис Петрович, была вместилищем веков и вкусов, раритетов и новинок. Полки, полки, полки... И еще, заветное — старинный шкаф красного дерева, за чуть потускневшим стеклом чопорный строй кожаных переплетов с золотым тиснением и ветхая старомодность дешевых изданий прошлых веков. Гордость и счастье Бориса Петровича. Он был истинным библиофилом. Выискивал, покупал, менял редкие книги. Брал в руки с трепетной нежностью. Вот пьеса Симеона Полоцкого, второго экземпляра вроде не сохранилось. А это «Матвей Комаров, житель города Москвы», так подписывался. И кстати, в XVIII веке был чрезвычайно популярен. А тут — главное сокровище: первые прижизненные издания Пушкина... Притулилась к ним «Ундина» Василия Андреевича Жуковского. Видите? Дарственная надпись автора: «Уважаемому Николаю Леонтьевичу Дубельту от автора. 1 марта 1837 года». Борис Петрович делал вопрошающую паузу: — Соотносите. Дата, дата-то какая? Дубельт ведь был шефом жандармов, вместе с Жуковским разбирал архив Александра Сергеевича после его гибели. А? Прямо мурашки по коже... Такие экскурсии в литературные века могли длиться часами. Книжный дух был составляющим, природным элементом чирковского дома. Книги давали его обитателям бесценность взаимопонимания, книги рождали споры, даже ссоры, вообще-то, чирковской семье чуждые. Бубку (дочку, Милку-младшую) Чирков сам обучал чтению сызмальства. Чтению не как форме грамотности, а как форме человеческого существования. Добрый и терпеливый, он мог взорваться: «Боже, она тупая! Для кого же я собирал эту библиотеку!» К счастью, период Бубкиной «тупости» был краток. В скором времени у нее уже приходилось отбирать книги. Я никогда не только не наблюдала ссор Бориса Петровича с женой, но и сама Мила-старшая никогда даже не пожаловалась мне на какие-то семейные нелады. А при нашей близости я могла бы рассчитывать на ее откровенность. Просто так оно и было: Чирковы никогда не вздорили между собой. Только однажды. До крика. До ожесточения. До раздора на три дня. По поводу... поэзии Марины Цветаевой. Для Бориса Петровича стихи Цветаевой были одним из высших привалов в высокогорных обиталищах поэзии. Для Милы, отличницы уроков литературы советской школы, — «дамским сочинительством». Поддержать подругу в этом споре я категорически не могла. Тем более что в какой-то правоверной газетной рецензии за один из циклов моих стихов была обвинена в «цветаевщине». Литературный вкус Бориса Петровича был тонок и уважаем. Самуил Яковлевич Маршак звонил ему: «Я только что закончил перевод одного интересного стихотворения Бернса, приходите, если можете». Чирков спешил к соседу-искуснику: звучал перевод, будто выдохнутый самим шотландцем, стихотворения «О насекомом, которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы». Ах, как буднично и как нежданно! Оба восхищались бернсовской магией обманчивой простоты. Потом Маршак говорил: «А теперь я попрошу вас, я послушаю». Поверял Бернса и себя Чирковым. Александр Твардовский писал Чиркову о «Теркине»: «Скоро вся книга будет закончена, хоть она и "без конца", и Вы будете первый из тех, кому я с большой готовностью дам полного Теркина». Начала я рассказ про Чиркова эпизодом, являющим неподдельную чирковскую скромность, порой выглядевшую чуть ли не робостью. Так, может, оттого различные мэтры слали свои творения ему на суд — всегда, мол, только доброе слово и услышишь! Ведь вообще чирковская доброта, отзывчивость, как говорится, «вошла в пословицу». О нет. В суждениях о мастерстве, об изнурительном ремесле искусств он покривить душой не мог. И скромность его была мужественной. Во всем. Сколько раз наблюдала я негромкое и какое-то застенчивое мужество Бориса Петровича. В тот раз, когда я провожала его в больницу на тяжелейшую операцию, исход которой был неизвестен, он замешкался в кабинете. «Что вы?» — спросила я. Он виновато улыбнулся: «Вот хочу блокнот прихватить. Я же не все время буду замертво лежать. Можно будет поработать». Эту застенчивую улыбку запомнили люди у Максима. Застенчивую и одновременно озорную. Решительный и бескомпромиссный Максим умел быть чутким и деликатным. Чирковская деликатность, скромность стали нарицательными для людей, знающих его. Не могу не обратиться еще к одному воспоминанию. Мы с Чирковым отдыхали в Гаграх. День был смиренный, отчего волны, горбатящие море, тоже выглядели подвластными людской дрессуре. Мой муж и Борис Петрович решили «кунуться». Едва отплыв, ощутили, что их неостановимо относит от берега и одолеть лицемерную волну им не под силу. Леша отчаянно, но безуспешно барахтался, истязая водные холмы, призывая на помощь. А Борис Петрович обреченно и безмолвно замер, швыряемый стихией вверх-вниз: ему казалось неловким досаждать людям своей бедой. Слава Богу, неведомый загорелый атлант ринулся в воду и на могучих руках вынес поочередно терпящих бедствие. Кстати, приключение это получило забавное продолжение, уже не имеющее отношения к Борису Петровичу. Года два-три спустя после гагринской водной процедуры я гостила под Сочи у своих друзей Екатерины Павловны Тархановой и ее мужа Юлиана Львовича Шварцбрейма. Юлик, замечательный архитектор, строил там очередную «госдачу» для кого-то из правящих боссов. Зодчий он был на диво, о чем свидетельствует и тот факт, что человек с его фамилией был допущен к «телу» правителей. Сегодня, следуя примеру неподкупного Радищева, «взглянув окрест себя», обнаруживаешь не только поджарые торсы элегантных офисных зданий, но и обрюзгшие туши новоявленных усадеб. «Чудища», что «Обло... стозевно и лаяй», лают — надрываются, оповещая путников о количестве денег у владельцев этих архитектурных мутантов. В годы же, о которых мой рассказ, архитектура жила под лозунгом «борьбы с излишествами». А, попросту говоря, зодческую мысль дальше унылого параллелепипеда не пускали. Как пелось в куплетах блистательного самодеятельного коллектива «Кохинор», в фантазии архитектора «павильончик был как бомбоньерка», а, пройдя «инстанции», обращался в «типовуху». Неудивительно, что осмотрев сочинскую стройку, я сказала Юлику: — Ну, тут-то вам красота — выдумывай что хочешь! К моему удивлению, Юлик задумчиво покачал головой: — Нет, так тоже неинтересно. Скажу, чтоб ступеньки были из золота, — положат. У них для себя ограничений не существует. А расточительность в способах претворения идеи не лучше казенных регламентов. Искусство отвыкает искать. При этом разговоре присутствовал один из помощников Шварцбрейма, тут же встрявший: — Ерунда, Юлиан Львович, искусство это — гуляй душа! Что задумаю — могу. Хоть Тадж-Махал на льдине. Заявление такого рода должно было исходить именно от подобного персонажа-, был он один в один герой-строитель с плаката «Енисей покорен!» (Надо отдать должное советским плакатистам. Их модели всегда будили у женщин неясные грезы об адюльтерном прошлом или будущем.) Может быть, в силу этой подсознательной оккультности соцреализма я была готова откликнуться на энергичные ухаживания моего плакатного знакомца, которые он начал с места в карьер и не оставлял во все дни моего гостевания у Кати. Готова. Но не поддалась порыву, ибо ухажер мой допустил непоправимую промашку: он прислал мне объяснение в стихах. Стихи были чудовищно бездарны. Любовь к поэзии одолела во мне порыв к любви плотской. Когда я, путаясь в оправданиях, что-то промямлила моему госстроевскому трубадуру, он произнес скорбно и гордо: — А ведь я рисковал ради вас жизнью. Я же спас вашего мужа. Оказалось, он и был тот безвестный атлант, что выволок на гагринский пляж Лешу и Бориса Петровича. Хотела в повествование о Чиркове вписать эту сочинскую пастораль, исключительно следуя наказам драматургии: «Завязка—развязка», чтоб стрельнуло пресловутое «ружье из первого акта». Но, дойдя до «золотых ступенек» госдачи, подумала, что к Чиркову это имеет прямое отношение. Разумеется, смех сказать: глянешь на сегодняшнее обиталища всяких олигархов и квазиолигархов да сравнишь их с застойными госдачами, и, похоже, жители последних аскезу приняли. Нет, конечно, не в скитах век коротали. Но все же — бедновато, бедновато, хотя, по тем временам, шик-блеск. Да и иных именитых деятелей искусств правители обласкивали: дачей могли одарить, а уж «самых-самых» и городским особняком. У Чиркова ничего этого не было. Дачей не обзавелись. Лето обычно проводили в обожаемой ими деревне Свистуха на Яхроме, где бесконтрольно владели березовыми стайками, водоемом, затканным кувшинками, да плотными поселениями маслят в ближнем ельнике. Трехкомнатную квартиру в «высотке» получили, когда Бубка уже подрастала. Событие это как раз последовало за нашим знакомством. При первой встрече, дома у Саши и Нюши Галичей, Чирковы проживали во вполне скромной двухкомнатной квартире, что, откровенно говоря, по сравнению с галичевской десятиметровкой под родительским боком и нашей с Лешей бесприютностью выглядело вызывающей роскошью. Но для Чиркова-то, звезды с мировым именем, — двухкомнатка! Машина у Чирковых была. Но, скажи я сегодня своим внучкам, что надлежит им седлать пожилую отечественную колымагу, презрительно хмыкнули бы. А Чирков много лет ездил на «Волге» первого выпуска. Самым резвым элементом этой любимицы советского автомобилестроения была заводская марка: металлическая статуэтка оленя, притороченная к маковке капота. Даже на медленном ходу животное, исполненное страсти движения, неукротимо рвалось вперед сквозь марево потных асфальтов и неприручаемых московских порош. Впрочем, сам- автомобиль тоже бегал исправно. Слов нет, на какой-нибудь американский хайвей выпустить его было бы крайне опрометчиво. Но, слава Богу, допотопная и вечная российская проблема «дураков и дорог» наших путешественников от всяких буржуйских придумок заботливо оберегала. Новую машину Чирков приобрести не мог: покорно ждал, когда подойдет очередь. Ту, его первую, вспоминаю с нежностью. И вот почему Однажды Борис Петрович заехал к нам. Дома была я одна, муж пребывал в короткой командировке. Почти с порога Борис Петрович озадачил меня: — Галочка, не хотите ли купить машину? Я знаю — вы давно мечтаете. Я, видите ли, открытку на новую получил, старую отдам незадорого. — Господи! Еще бы! — запричитала я. И тут же осеклась: — Если, конечно, в цене сойдемся. Могу купить за рубль. — Рубль составлял всю мою наличность на текущий момент. Чирков только рукой махнул: — Да, ладно, будете выплачивать кредит, когда сможете и по скольку сможете. Мне бы сейчас только раздобыть недостающую сумму. Через полчаса мы с Милой уже сидели на телефоне, обзванивая кредитоспособных друзей. Через пару дней Леша вернулся из командировки; обшарив глазами квартиру, спросил: — А где Чирковы? — А почему ты решил, что они у нас? — Так ведь у подъезда их машина. — Это не их машина, это наша машина, — как можно небрежнее бросила я. Так началась моя долгая жизнь водителя. А Чирков на той, «новой», машине ездил, по-моему, до конца дней. Повторяю и повторяю: он был удивительно скромен. Никогда не обивал пороги, выпрашивая жизненные блага. Знаменитый почти всю свою жизнь, он исповедовал суть пастернаковской строчки: «Быть знаменитым некрасиво». Но этот скромный, застенчивый человек умел быть непреклонно твердым, когда дело касалось принципов его жизни. Даже если следование этим принципам могло повлечь за собой события для Чиркова малоприятные. Еще в годы войны, идя как-то от гостиницы «Москва» к Историческому музею, Чирков был ошарашен лихим виражом, произведенным пламенно-красным мотоциклом с коляской. Тот, презрев все правила дорожного движения, развернулся и затормозил в полуметре от Бориса Петровича. Водитель, худощавый молодой человек в летной форме, без обиняков сунул руку ошарашенному пешеходу: — Я — Василий. Полковник Василий. Здравствуй! Я тебя еще с той стороны узнал... Более подробного представления не требовалось. Полковников было предостаточно. С фамилиями. С именем — один. Сталин, сын вождя. — Здравствуй...те. — Чирков ответил рукопожатием. — Ну, садись, поедем... И началась оголтелая гонка по Москве с тем же безоглядным презрением к дорожным указателям. Приехали домой к Чиркову. Через час туда же прибыли еще два летчика могучего телосложения, имея при себе увесистый портфель, груженный отнюдь не военной документацией, что сделали посиделки задушевными до хмельных братаний. К удивлению Чиркова, новый знакомец даже понравился ему веселой открытостью, бесшабашной прямотой, а как выяснилось позднее, и верной смелостью. Одного из тех летчиков-тяжеловесов Василий в бою спас от смерти. Завязалось какое-то подобие дружбы. Ты ко мне домой, я — к тебе, совместная гульба в разношерстных компаниях, бесконечная «Формула-1» по московским улицам и дворам, хищные развороты «газика», когда тумбы и ограды хранил только неведомый добрый рок, а пешеходов распугивал залихватский баритон властительного шофера: Машина в штопоре вертится, Ревет, летит к земле на грудь. Не плачь, родная, успокойся, Меня навеки позабудь! — Давай, Боря, давай подпевай! Покорный Чирков подхватывал тихо и испуганно: Моторы племенем объяты, Кабину лижут языки. Судьбы вызов принимаю Ее пожатием руки... Вызов судьбы, обрисованный в песне, мог оказаться пророческим и для ошалелого «газика». Но Чирков на первых порах принял его «пожатие руки». Однако довольно скоро темперамент абсолютизма обрел в Василии и другие формы. Пошли буйные дебоши в компаниях, свары на ровном месте и, главное, чего Чирков уж никак не мог понять, а тем более простить, беспричинные и наглые оскорбления людей, смиренно сносивших вздорность «принца», чему приходилось быть свидетелем. Только свидетелям. Но все-таки свидетелем. И Чирков отказал Сталину-младшему от дома. Сказал: все кончено. Объяснение происходило на квартире Чиркова, когда Василий заявился в очередной раз. Сталин-сын стоял, держась за притолоку. Опустил голову, задумался на минуту. Потом выпрямился, неожиданно ласково улыбнулся: «Ну, прощай...» и обреченно пошел вниз по лестнице. Захлопнув дверь, улыбнулся и Борис Петрович, мысленно произнеся пушкинское: «Я бури ждал, но дело обошлось довольно мирно». Хотя тут же в подкорке чиркнуло: «Пока мирно. Пока». Во всех странах во все века правители любят держать подле трона крупных художников. То великодушно похлопывая по плечу. То принародно являя милости. Может, хотят «свою образованность показать», а может, что вернее, очень уж заманчив плодотворный опыт античного Перикла. В самом деле, начнут люди поминать какого-нибудь гения, Еврипида ли, Софокла ли — а когда жил? В Золотой век Перикла. Эпохи-то принято именами правителей обозначать. И наши дни таковы. А как сладостен самому художнику воздух кремлевских анфилад! Как притягателен, как зовущ, манящ! Ну, схамит правитель, ну, покуражится над тобой малость, ну, погневается... Ну и что? Можно и стерпеть. Бог с ним, с человеческим достоинством, которое ты же в творениях своих воспевал. Зато... И мало кто дерзал на противостояние. Единицы. Было такое и в брежневские, и в хрущевские времена, да и в ельцинские. Чем был чреват царский гнев? Из «пула» изгонят, благ лишат. Могут, само собой, и от читателя-зрителя отлучить. Но не повесят же. При Сталине не то что верховный гнев, неудовольствие «Ближнего круга» могло стоить строптивому творцу тюрьмы, а то и жизни. Знал об этом Чирков? Еще бы. Но принципы оказались сильнее страха. Слава Богу, в истории с Василием обошлось. Своим поведением в жизни Борис Петрович получил право предъявлять зрителю образы героев — почти рыцарей без страха и упрека. Того же, скажем, Максима. Ныне популярен, даже затаскан термин «имидж» — утвердившееся в общественном сознании представление о человеке или явлении. Применительно к актеру это понятие обычно связано с амплуа, с характерами актерских героев. Имидж Чиркова — это не просто образ Максима. Это представление о чирковской личности. И в этой связи необходимо сказать еще об одной форме работы Бориса Петровича. О работе на телевидении. Чирков понимал величайшую силу воздействия этого феномена, написав: «За каждым твоим словом, движением глаз, жестом следят сотни городов, тысячи деревень, миллионы домов и квартир! Здесь ты как народный трибун. Как же значительны, весомы должны быть мысли, которые ты излагаешь людям...» О Чиркове на телеэкране хочу сказать особо, ибо экран этот не просто еще одна сценическая площадка. Это наша «подзорная труба», через которую мы рассматриваем мир, тот «телескоп», который обращен на личность, даже удаленную от нас пространством и событиями. А это притягательно и опасно. Для безбоязненного показа личность должна быть Личностью. Как самонадеянно наивны табуны говорунов, рвущихся сегодня на экран!! На мой взгляд, для Чиркова телевидение было благодатно. По ряду причин. Прежде всего, люди смогли увидеть (в передачах, посвященных его творчеству, интервью, беседах) те его человеческие качества, которые были открыты только людям, близко его знавшим. Они могли вместе с Борисом Петровичем рассматривать книги его личной библиотеки, мысленно беседовать с ним о вершинах человеческого духа и об опасных безднах души. Люди смогли увидеть — воистину! — лицо актера без грима. Но и не только в этом дело. На палитре телевизионного экрана живут краски самых разных жанров и видов искусства. И если актер обладает дарованиями, необходимыми театру, кино, эстраде, публицистике, он может только на телевидении представить все свои таланты на суд зрителя, способного сравнить их и заключить в единое представление об артисте. Так вот. На телеэкране мы видели Чиркова-киноактера. Видели театральные спектакли с его участием. Мы узнали его — чтеца. В давние времена, когда вышел на экраны фильм «Учитель» С. Герасимова, все были потрясены эпизодом: учитель читает на уроке чеховского «Ваньку Жукова». И ныне не знаю прочтения рассказа с более пронзающей силой. Однако кому довелось слышать Чиркова-чтеца? Да почти никому, никому до тех пор, пока зритель не стал телезрителем. Ибо именно в этом качестве он услышал ершовского «Конька-Горбунка», лесковский «Грабеж», блистательно прочитанные Борисом Петровичем. В упомянутых произведениях чтение, введенное в атмосферу событий декорациями, особой манерой съемок, превратилось в моноспектакль, требующий и крупного плана и мизансцен, своих, телевизионных. Оттого эти спектакли или чтение, ставшее спектаклем, потребовали от Чиркова проявления особых качеств актерского мастерства. Точно так же, как телевизионные постановки пьес не были идентичны их театральной версии. Сегодня «особость» телевизионного языка очевидна всем, работающим на ТВ. А поначалу театральные телеопыты смахивали на подстрочники вместо художественного перевода. Именно это «особое» и определило характер афиногеновской «Машеньки», поставленной на телевидении Б. П. Чирковым, где он блистательно сыграл профессора Окаемова и раскрылся как режиссер. «Машенька» заслуживает упоминания еще и потому, что сорежиссером в этом спектакле была жена Бориса Петровича — заслуженная артистка РСФСР Л. Ю. Геника (исполнительница одной из ролей), а Машеньку играла дочь Бориса Петровича, Л. Чиркова. Говорю об этом, чтобы воспеть семейственность или — более высоким слогом — династийность в искусстве? Не только. Я пишу о Чиркове-человеке. А его нельзя ощутить во всей полноте, не поняв, что вся его семья не просто коллеги, а единомышленники, для которых каждая совместная работа — это отстаивание принципов человеческого общежития, законов общения людей. Оттого Чирковы и выбрали «Машеньку». Я так подробно говорю о Чиркове на телевидении потому, что, повторяю, именно оно с фокусирующей четкостью раскрывает Личность. А в личность Чиркова можно вглядываться до бесконечности, открывая все более удивительные подробности. Титул «Личность» ее обладатели сплошь и рядом путают с иным понятием — так сказать, кава-лерством славы. Ох, уж славы-то ему хватало! И из зрительного зала на руках выносили, и почитатели за сердце хватались при встрече. Вот, к примеру, в Одессе. Какая-то пышнотелая матрона чуть не задушила в объятиях, голося на всю улицу: «Боже, что скажет моя сестра, узнав, что я рыдала у вас на груди!» И такое бывало. Но Чирков неколебимо веровал, что ни слава, ни Личность не могут быть подвержены эксплуатации. Враждебны ей. Как-то во время поездки в Ленинград его встречала дочка Бубка. Едва Борис Петрович вошел в зал ожидания, все встали. Полагая, что тут готовятся к приезду какой-то официальной делегации, Чирков отошел в сторонку, чтобы не мешать. Некоторое время толпа стояла в молчании. И вдруг кто-то крикнул: «Борис Петрович! Здравствуйте! Это же мы вас приветствуем!» Покраснев и смущенно бормоча: «Спасибо, спасибо», герой встречи, сграбастав Бубку, кинулся к выходу. Но и там был настигнут. И тогда одиннадцатилетняя наследница отцовского успеха решила обратить внимание и на себя: — А это мой папа! Позднее ребенок жаловался нам: «Он побелел весь, ноздри раздулись, и страшным тихим голосом сказал: «Не смей, никогда не смей!» И до конца дня со мной не разговаривал. Чтой-то он? Ведь всегда добрый»!!. И правда, это случилось впервые — повысил на дочку голос. Но запомнилось ей навсегда. Не как обида, а как завет. Заповеди этого завета в чирковском семействе были незыблемы. Думаю, нарушь их Борис Петрович, актерские карьеры жены и дочери могли сложиться удачливей. Дело-то простое: попроси роль для той или другой, предложи другу режиссеру снять родственниц в новом фильме. Ведь и душой бы не покривил — талантливые актрисы. Все знаменитости так поступают. Но не он. Хорошо еще, что без чирковского участия режиссерское дарование Людмилы Юрьевны и наставнические склонности Милы-младшей РШШЛИ достойное применение в качестве педагогов во ВГИКе. Борис Петрович был старше меня и моих сверстников более чем на двадцать лет. В том числе и жены. И хотя его почтенность нами никогда не ощущалась, хотя молодой его задор являл во плоти утверждение Пикассо: «Надо потратить много времени, чтобы стать молодым», не скрою: часто гадала — а как возникает любовь в таких «неравных браках»? Спросила об этом подругу Милу. Она рассказала. Тогда я посоветовала: «А ты запиши все, как было». — Нашла Толстого! — хмыкнула она. — Да и кому какое дело до семейных тайн. Боря подробных откровений не любит. Но вот не стало Бориса Петровича, и Мила описала все. Все, как есть. Все, как было. Я не присутствовала при начале этого поразительного союза. Поэтому ни на комментарий, ни на вольный пересказ не имею права. Она сделала это так: «Меня сразу поразили его глаза. Это было 6 января 1949 года. Праздновали день рождения хозяина дома. Гостей было много. Все были молоды. Четыре года, как кончилась война, и радость жизни, ощущение ее полноты будили веселье гостей. Застолье продолжалось уже несколько часов. Шум, гам, все разговаривали друг с другом. Звонок возвестил о приходе нового гостя. Он вошел, но никто не обратил на него внимания. Хозяйка дома, моя подруга, усадила его за стол прямо против меня и умчалась по своим хозяйским делам. Он наполнил бокал, приподнял его, вероятно, хотел сказать какие-то поздравительные слова, но все кругом шумело, веселилось. Он улыбнулся, осмотрелся по сторонам, наткнулся на мой заинтересованный взгляд и, лукаво улыбнувшись, сказал: «Ну, тогда ваше здоровье!». Так мы познакомились. И вот тогда я сразу поразилась его глазам. Они были удивительные — огромные, внимательные, ласковые, умные... Внутри них зажигались лукавые огоньки, и сразу же Борис Петрович становился похож на мальчишку, который собирается напроказить и удерживается из последний сил. Мы проговорили весь вечер. К концу вечера выяснилось, что мы живем неподалеку друг от друга, и поехали домой вместе. Это «малое землячество» как-то душевно сблизило нас. Тринадцатого января — наша вторая встреча. Борис Петрович пригласил мою подругу, ее мужа и меня вместе встретить старый Новый год. Накануне с большим успехом была принята картина, в которой он играл главную роль, и он хотел отметить эти два события. Мне и хотелось пойти и не хотелось. Я собиралась встречать старый Новый год в компании, где все давно были известны друг другу, можно было явиться в любом виде и проблема туалета для меня, молодой актрисы с окладом в 325 р. (32 р. 50 к.), не возникала. Тем не менее, меня уговорили, правда сделать это было не так уж трудно. Но, когда я вошла в зал "Гранд-отеля", все мои женские комплексы охватили меня с невероятной силой. Большой зал залит светом, почти вся артистическая Москва здесь, и такие нарядные, такие яркие туалеты. Я села за стол и решила — танцевать не буду, а уж сидючи блесну "эрудицией" (все-таки профессорская дочка) и за непринужденной "светской, интеллигентной" беседой все, а главное всех, поставлю на место. И опять глаза! Посмотрели на меня с удивлением и с какой-то затаенной горечью и печалью. Потом они сощурились, блеснули огоньком, и на меня посыпалась груда цитат, сентенций, умозаключений — все это было преподнесено нарочито выспренне, вроде бы с юмором, хотя сарказма было куда как больше. Как же меня поставили на место! Как же было стыдно, но до чего же увлекательно слушать — ведь я добрую половину не знала. Вероятно, на моей физиономии отразилась и эта заинтересованность, и увлеченность, потому что глаза смягчились, потеплели и даже чем-то заинтересовались. Комплексы кончились. Мы пошли танцевать. Удивительные глаза оказались совсем рядом, и как же легко и радостно было в них смотреть... Семнадцатого января — наша третья встреча. Каток "Динамо". Перерыв на обед. Каток пуст, па нем только три фигуры, из которых одна моя. Мои "соледники" старше меня. За мной молодость, ощущение, что я нравлюсь, уверенность, но и самоуверенность, конечно. Ну, сейчас я покажу, как надо кататься! Начинаю "бег", стараюсь изо всех сил и поэтому спотыкаюсь, сбиваюсь с ритма, наконец, выравниваюсь и победоносно оглядываюсь. Коля Крючков на "норвегах" в низкой посадке, идет на блестящей скорости по большому кругу катка. Борис Петрович посредине катка на фигурных коньках крутит пируэты, чертит вензеля и на меня — никакого внимания. Впрочем, нет. У фигуриста очень лукавый взгляд, мимолетный, но такой острый, такой насмешливый, что я тут же грохаюсь на лед. Обидно до слез. Он тут же подлетает, поднимает меня, и глаза становятся участливыми — в них раскаяние за насмешливую улыбку. "Мороз и солнце, день чудесный!" Было решено вечером пойти куда-нибудь в театр, чтобы быть опять вместе. Почему-то, уже не помню, поход в театр не состоялся, и Борис Петрович первый раз пришел ко мне домой. Целый вечер мы проговорили, удивляясь, как много общего в наших мыслях и ощущениях. На следующий день он очень рано позвонил мне, чтобы договориться о встрече. Мы опять встретились и больше уже никогда не расставались... до 28 мая 1982 года. До его кончины». Не было, не было уже Бориса Петровича и тогда, когда сидели мы с Милой в осиротевшем его кабинете, почтительно разглядывая «Ябеду» Капниста 1798 года издания. Еще при Павле I свет увидевшую. — Смотри, надпись-то какая, — повела пальцем по странице Мила. — «Его Императорскому Величеству». Я дернула головой: — Надо же! А Его Императорское Величество, прочтя пьесу, тут же велел сочинителя примерно наказать, а все экземпляры уничтожить. — Этот один из уцелевших. Удивительно, — закончила Мила. И через паузу, может, по ассоциации с последним словом: — Один маленький мальчик, впервые увидев землю под снегом, замер от восхищения и, потрясенный, прошептал: «Какое удивительство!» Слово такое детское, такое сказочное... А знаешь, очень идет Борису Петровичу. Были люди умнее его — конечно. Были и актеры талантливее его, и, уж конечно, были красивее его мужчины. И все-таки другого такого я не встречала в жизни. Это она так сказала. Но вот и я, думая сейчас о Чиркове, тасуя и тасуя слова, не нахожу более точных: «Какое удивительство!» Глава XVIII Баллада о солдате-сверхсрочнике (Григорий Чухрай) Случилось так, что первый чухраевскии замысел и замысел последний замкнулись на моей к ним причастности. Как — расскажу ниже. Сейчас, начиная эти заметки, я почти мистический чувствую крут, очертивший нашу жизнь, нашу дружбу. Разумеется, я видела все его фильмы, иные и не раз. И, тем не менее, мне, как и кому-то еще из его друзей, выпало увидеть некоторые чухраевские ленты еще до того, как он снял их. Сказав «увидеть», я не оговорилась: Гриша, иногда мучительно ища то или иное решение, вдруг мог отчетливо, до деталей, представить то, что будет запечатлено на пленке. По рецепту знаменитого американского режиссера Джона Форда: «Фильм готов, осталось только снять его». Так, помню, я узрела в его устном повествовании эпизод пересказа ГоворухойОтроком «Робинзона Крузо». В кадре не было ничего, кроме бликов солнца, вспыхивающих на морской глади хитросплетения сюжета Дефо. Но и мне, и невежественной Марютке, героине «Сорок первого», все было ясно и впечатляюще зримо. Еще не снятой я видела сценку из «Баллады о солдате» — встречу на пустом перроне безногого солдата (Е. Урбанский) и его жены (Э. Леждей), когда она суетливо и мучительно-радостно пытается приспособиться к новой роли поводыря. А полуразжатую ладонь с возвращенной Звездой Героя... Да много чего отчетливо представлялось по Гришиным задумкам. Он входил в будущий фильм, как в уже обжитое жилье, населенное подробностями и воспоминаниями. И как лестна была его доверительность — пригласить туда слушателя! Познакомили нас Марк и Ирина Донские. Оба они заслуживают отдельной главы в этой книжке, но в моем сознании они так крепко сплетены с Чухраями, что ограничусь отступлением об этой самобытнейшей паре. Марк Донской, прославившийся галереей «горьковских» фильмов, при жизни был уже классиком. Во время войны его лента «Радуга» была удостоена восхищенного отзыва президента США Франклина Рузвельта, а великий Росселини писал Донскому: «неореализм начался с вас». Талант был могучий. Ум не очень. Монополией на образованность и игру ума обладала Ирина. Увы, не реализовавшаяся в полной мере, хотя была соавтором сценариев некоторых Марковых фильмов. В конце войны почти единственным местом «роскошного» времяпрепровождения был «Коктейль-холл» на улице Горького. Чему способствовало и иностранное его наименование. Попасть туда было непросто даже именитым посетителям. Но одному из них двери всегда были открыты — поэту-песеннику Алексею Фатьянову, чьи «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Друзья-однополчане» и прочие распевала вся страна. Оркестр «Коктейль-холла» в том числе. Леша и ввел нас в заветное заведение. И сразу музыканты запели: В городском саду играет Духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, Нет свободных мест. — Не точная рифма, Алеша, — сказала я, — надо бы «местр». — Завистники вы, — снисходительно вздохнул Алеша. В тот вечер он был грустен, печален, отвлечен. После пятого бокала признался: «Влюблен я. Женщина неземная, но замужем». — А фотка хоть есть? Покажи. И он вытащил крохотную фотографию с паспорта. Все смущенно потупились: неземная сильфида, выпроставшись из поэтического воображения нашего друга, гляделась точь-в-точь бесприметной мешочницей с подмосковной электрички. Что ж, любовь зла, подумали мы. Через пару недель я увидела ее «живьем» и поняла Алешин восторг. Ирина не была красавицей. Но дала бы фору любой примадонне московских салонов. Сотканная из юмора, снисходительной легкости в отношении к житейским проблемам, свои обширные познания она роняла в беседах, как незначительные. Даже мужество ее было веселым. Помню, когда после тяжелой онкологической операции (ей ампутировали грудь) она встретила меня в больничной палате задорным: «Вот! Не имей двух грудей, а имей сто друзей!» Безучастная к туалетам, к шмоткам, могла выйти на улицу, в магазин в чем попало. Как-то жутко веселилась: «Представляешь, стою в очереди за картошкой, подходит какой-то хмырь: "Дедушка, вы последний?" Ко мне! Дедушка! Ну хоть бы бабушка!» Иринины рифмованные шуточки, вроде «На заре ты ее не буди, в голове у нее бигуди», ходили по Москве, обретая иных авторов. И в любви Ирина была легкомысленно одержимая. В тридцатиградусный мороз выскакивала на свидание с Фатьяновым в одном платье, бросив неизменное: «Пойду навещу старуху Калатозову». (Калатозова жила с Донскими на одной площадке.) Был у Ирины еще один талант: ее обожали все животные, просто держали за свою. Могла ходить, обмотавшись питоном. Могла влезть в пасть льву — знаменитая дрессировщица Ирина Бугримова сманивала мою подругу в цирк, себе в помощницы. Дома у Донских жил дикий заяц. Воистину — дикий: жрал все, что пи попадалось на зуб. Пребывание его в доме закончилось, когда однажды Марк со слезами на глазах внес в комнату растрепанный и изгрызенный единственный (!) экземпляр сценария «Сельская учительница». Утерев слезы, классик выдохнул: «Или он, или я!» Жуткого свирепого ушастика я позднее запечатлела в пьесе «Светка — астральное тело». Выглядел он там почти документально, изменены только место жительства и имена героев. «Как уже вам известно, у Соконина жил заяц по кличке Ванька Грозный. История его жизни была такова. С "фотоохоты" (никаких иных видов охот на животные Соконин не признавал) Иван Прокофьевич привез заблудившегося зайчонка. Вначале заяц взращивался в соконинском доме по всем правилам и рационам биологической науки. Как и положено зайцу, был травояден, то есть потреблял в пищу капустные и салатные листья, скоромного в рот не брал. Но однажды (в судьбе животных оборот "но однажды" имеет столь же фатальный смысл, как и в человеческой), когда у Соконина были гости, развеселившаяся Алена, жена Ивана Прокофьевича, ибо тогда она была ему женой, плеснув в блюдце крепкого кофе, поставила на пол, где шемонался заяц, тогда еще просто Ванька. Ванька все вылакал. К восторгу гостей. Тогда ему кинули кусочек докторской колбасы. Съел. К пущему восторгу. С того и пошло. Заяц рубил все, что попадало под руку (или под ногу), уписывая съедобное и несъедобное. Впрочем, для одного вида мясного делал исключение: не ел крольчатины. Видимо, поедание плоти ближнего было для Ваньки чем-то вроде заячьего людоедства. А этого даже его безнравственная натура допустить не могла. Выпив кофе, возбуждался, становился буен и зол. За что и присовокупил к имени титул «Грозный». В отличие от Ивана Прокофьевича, ходившего дома под кличкой Ванька Добрый. Все катилось и катилось. Но опять-таки "однажды" Алена, сама зайца совратившая, пошла к Соконину, держа двумя пальцами изгрызенную в клочья и обмусоленную рукопись своей статьи по промышленной эстетике, в которой была специалистом. Алена произнесла только три слова: — Я или он. Но Соконин понял, что это вовсе не предложение выбора. Погрузив Ваньку Грозного в плетеное лукошко, с которым обычно ездил по грибы, Соконин поволок поклажу в ближайший детский сад микрорайона. Заяц под ликующие вопли детворы был помещен за отгородку в игровой комнате, и отныне этот отгороженный угол стал именоваться «Живой уголок». Приближалось лето, и детсад выехал на дачу. Произошло это через два дня после воцарения Грозного в «Живом уголке», и заяц еще не успел развернутся. Зато сразу после переезда за город начал свои опустошительные действия. В мелкую щепу разгрызая детские стульчики и столики, он только сплевывал железки инвентарных номеров. Воспитательно-административный состав детсада охватила паника, и на чрезвычайном профсоюзном собрании было решено отвезти зайца в лес (благо лес рядом!) и отпустить на волю. Так и сделали. Три дня заяц пожил положенной ему свыше жизнью. А на четвертый заскучал: ни кофе, ни докторской. И вернулся. И уже назавтра директриса детсада самолично доставила Ваньку Грозного в Москву к бывшим владельцам, везя его в собственном чемодане, который не пожалела для блага общества, просверлив в нем дырки, чтобы заяц в электричке не задохнулся». Из людей Иркин заяц признавал только двоих, точнее, одного, потому что вторым заячьим избранником был не человек, а предмет человечьего туалета: мой белый свитер из кроличьего пуха, из людей, кроме Ирины, заяц признавал только Гришу Чухрая. С зайцем на коленях я и увидела Чухрая впервые. Донской и перетащил Чухрая в Москву. Этому предшествовал «киевский период», памятный для многих замечательных кинематографистов. Не найдя работы в Москве после окончания ВГИКа, на Киевской студии нашли пристанище А. Алов с В. Наумовым и С. Параджанов, будущие мастера, тогда подмастерья. Сам Марк Донской был за какие-то провинности отправлен в Киев в полупочетную ссылку худруком студии. Жили бездомно, скученно, по дружно. Помнится, в качестве игрушки для почти безнадзорного Павлика Чухрая Ирина Донская приспособила дырявый таз, по которому дитя колотило денно и нощно, разбивая в пух и прах творческое воображение соседей. Надо сказать «москалей» на студии «местные» мастера чтили не больно-то. И учиться у того же Донского не рвались. А не мешало бы. К примеру. Обходя павильоны. Донской как-то зашел на съемки к одному из местных мэтров. Увиденная безграмотность происходящего повергла Марка в шок. — Ну, кто же так строит мизансцену! — в отчаянье простонал Донской. Меланхолический режиссер и бровью не повел: — Марко Сэмэнович! А я, вообще-то, безо всяких мизансцен сымаю. Поверженный классик выскочил из студии и активизировал свой переезд в Москву, что, в конце концов, удалось. Потихоньку начала переезжать в столицу и молодежь. Чухраю Донской даже купил костюм, чтобы тот мог предстать перед московским начальством «в пристойном виде». В Москве и состоялось чухраевское Начало. Всегда заманчиво примкнуть к чьей-то прославленной, почти канонизированной жизни. Шуршит в подкорке тщеславная надежда: вдруг исследователи творчества великого деятеля помянут и тебя. Обязательно ведь будут еще новые труды на тему: «Как начинался Чухрай?» А я тут как тут. У его истоков. Может, все так и было бы, будь Гриша просто внушительным персонажем, в чью биографию я случайно забрела. Но сейчас я пишу о друге, дорогом, любимом, с которым почти полвека была рядом. Значит, мотивы иные. И тем не менее чухраевское Начало — страница и моей жизни. Он начался — звонко и пронзительно — сегодняшней классикой: «Сорок первым». Тогда Чухрай, как сказано, приехал из Киева, где безнадежно бегал «на подхвате» у местного классика. Сейчас — смех подумать: Чухрай на побегушках у N! Ведь уж и в ту пору былинная мощь N обрисовывалась в Гришином рассказе о нем. А. П. Довженко (вот уж истинный классик!), выступая на обсуждении очередного кинотворения N, возвел очи горе и почти пропел: — N! Это же горный орел! Он может залететь на самую высокую вершину!.. Нагадит там и улетит. Чухрая N и к подножию своих вершин не подпускал. И уехал Гриша, оттрубивший в смертных десантных войсках все четыре военных года, в Москву. С верой, что здесь свое кино сделает. Летом пустовала комната моих родителей, и Гриша был там поселен для написания сценария «Сорок первого». Начались наши одержимые беседы о фильме, началась дружба. И еще началась первая любовь моей трехлетней дочери Ксении. Не привязанность к взрослому, не детская игра. Любовь к мужчине. А он был истинным мужчиной, мужественный красавец. Любовь дочери к натуре артистической. Ведь недаром, гуляя с Гришей по нашему садовому участку, юная соблазнительница зазывно предлагала ему: «Давай поймаем звезды». Иные бессчетные страницы киноведческих изысканий посвящены кинопоэтике «Сорок первого», режиссерским его откровениям, блистательной операторской повадке С. Урусевского. И никто уже не думает о том, сколь смел был это фильм. Сегодняшнему зрителю даже невдомек, что некогда было почти еретическим показать красивым и благородным белого офицера. Ах, не знают нынешние идеологических нравов 50-х годов. И слава Богу! Но тогда «Сорок первый» был отважным жестом, поступком, исполненным непреклонности. И все чухраевские фильмы из этой ипостаси. Не случайно же и «Балладу о солдате» на экраны не пускали (прихоть вождя спасла) и «Чистое небо» корежили... Я, может, как никто другой, понимаю, какого § мужества потребовало от Чухрая «Чистое небо» — повесть о мытарствах героя, попавшего без сознания в немецкий плен. Говорю так, потому что уже в 1995 вместе с Екатериной Вермышевой, к несчастью уже покойной, делала фильм «Герои-пасынки». Тоже повествование, документальное, о наших воинах, попавших в плен. Почти все они, бежав из неволи, стали героями Европейского Сопротивления. А, вернувшись на Родину, были отправлены этой Родиной в концлагеря и ссылки. Мы сделали этот фильм, но — в 95-м. А за двадцать лет до того сняли первую редакцию, где рассказали только о подвигах наших героев, но не о мытарствах. У пас не хватило упорства и мужества все-таки «пробить» тему. А у Чухрая хватило. Почти полстолетия я вглядывалась в этого человека. И с дистанции, и вблизи. И свидетельствую: он никогда не солгал. Никогда не схитрил во имя начальственных щедрот, никогда не изменил дружбе. И дом его, семья, великолепнейший клан Чухраев жили и живут по этим первозданным заповедям. Живут, осеняемые Гришей и его Ириной — прекрасной, добрейшей, неподкупной, не знающей лукавства ни в чем. Чухраевский клан — вечная зависть и пример для моих детей и внуков. Надо же! В такой семье — и прославленный сын Павел Чухрай, и его талантливая искрометно-остроумная жена — сценарист Мария Зверева, и энергичная, обаятельная дочка Лена с мужем, известным продюсером Игорем Толстуновым, и внуки от нынешних и бывших мужей и жен — сплочены, как я сказала, в надежный клан, сплочены Ирининой добротой и Машиной мудростью. И неподкупными постулатами самого Григория Наумовича. Поэтому из многочисленных чухраевских наград точнейшая — приз «За честь и достоинство». Сберечь обе эти добродетели было сложно отнюдь не только во времена торжества власти «двоемыслия». Смена эпохи идеологизированной временами, осиротевшими без всякой идеи, для нашего поколения — испытание не из простых. Испытание выбором, сама возможность выбора — пробный камень свободы — чревата и отрезвлением, и отступничеством. Чухрай верил, более того, веровал в возможность праведного претворения в жизнь многих социалистических постулатов, считая преступным обращение их лишь в демагогические лозунги. Оттого кликушеское, зачастую, отречение от собственной жизни принять не мог. Для него это была тяжелая работа души. Он хотел непременного отделения зерен от плевел. Но дело тут не только в том, как это практиковалось некоторыми сверстниками: заклеймим кровавые репрессии рухнувшего строя, молится на прочие его деяния. Чухрай искал облик наиболее плодоносной формации общества. Он даже придумал модель этого общества новых творчески-экономических отношений: вместе с ассом кинопроизводства Владимиром Александровичем Познером (отцом прославленного ныне телепублициста) создал «экспериментальную студию при «Мосфильме». В. А. Познер, большую часть жизни проживший и проработавший в зарубежной киноиндустрии, помог Чухраю создать схему работ, где деньги студии «не спускались сверху», а зарабатывались достойным творчеством с выгодой для государства и для творческого коллектива. Будучи экономически малограмотной, не берусь входить в детали организации процесса. Знаю только, что студия работала успешно и создала немало замечательных картин. Но, увы! Принцип ее не совпадал с прописями советского кинопроизводства, чего было вполне достаточно, чтобы студию прикрыли. Чухрай был в отчаянии. Тогда и начались его инфарктные муки. Ведь студии он пожертвовал не только силы, бессонные ночи и дни сражений с начальством, он отдал ей самые бесценные годы своего творчества. Мало кто из художников готов на такую жертву: отказ от собственного сочинения ради чужого. Чухрай мог. Как и мог коленопреклоненно (только в этом случае!) восхищаться чужим шедевром. Был он как-то председателем жюри на Московском международном кинофестивале. Власти уже подобрали кандидатуру для главного приза, разумеется советского изделия. Намечена была заурядная лента по заурядной повести В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев». (Не могу не помянуть забавный эпизод, связанный с этим творением. У нашего друга профессора А. В. Западова был пес, обученный на представление «Знакомьтесь, Балуев» подавать лапу.) В числе картин, представленных на конкурс, была бессмертная (тогда еще новорожденная) лента Федерико Фелинни «Восемь с половиной». И Чухрай отдал главный приз ей. Был скандал, были вызовы в ЦК КПСС («чужая», «иностранная» и т. д.), были чуть ли ни угрозы Чухраю «положить партбилет», полученный, кстати, на фронте, в дни тяжких боев. Но Гриша не дрогнул. Он вел свою войну не только за свободу отечества от вражеского нашествия, от фашизма, но и за создание наиболее совершенной формации общества. Исторический опыт России XX века сложен, противоречив, неосмыслен, а может, до конца и не осмысляем. Мы много и часто говорили об этом феномене. Года три назад даже придумали фильм, решив назвать его «Парадокс России». Потому что только парадоксальность способна принять в себя ответственность за многое, через что мы прошли. Ведь «опыт, парадоксов друг» был всяким. И кровавым, и безнравственным, и неправдоподобно бескорыстным до искреннего самоотречения. Мы уже разработали и тематику, и драматургию. Нашелся даже толстосум, обещавший денег на производство. Но... скучно повторять, чем кончаются подобные обещания. А жаль: Гриша считал такую работу закономерным итогом сделанного ранее. От этого замысла, который замыкал круг нашей дружбы, осталось лишь две странички заявки. На них стоят обе наши подписи. И так как странички эти вряд ли будут воплощены на экране, я приведу их здесь. Ведь это последнее, над чем размышлял Григорий Чухрай. СИНОПСИС ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА «XX ВЕК. ПАРАДОКС РОССИИ» Двадцатый век на исходе. Мир подводит итоги своего сложного столетия. Однако ни в одной стране события не были столь противоречивы, но и значительны для мирового сообщества, как «феномен России». Он был отнюдь не благостным, это век. Он был тяжелым, кровавым, трагическим и... славным. Сколько заблуждений, сколько прозрений, сколько ошибок и преступлений. И сколько великих побед! Стоит ли вспоминать обо всем этом? Не лучше ли устремиться в будущее и строить это будущее по-новому? Будущее возникает не на пустом месте. Оно возникает из прошлого и настоящего. Между прошлым и будущим нет четкой границы. Мы думаем, что отказались от прошлого, а оно живет в нас. Его нельзя зачеркнуть и начать с «чистого листа». Мы не случайно сказали о «феномене России». Ибо это была первая в истории долговременная попытка создания социально справедливого общества. Сегодня одни ее называют позором России, а народ — пасынком истории, другие безудержно восхваляют и скорбят об ушедшем. И то, и другое — историческое легкомыслие. Нельзя отождествлять преступления власти с жизнью народа. Жизнь народа зависит от диктата власти, особенно тоталитарной, и все-таки это не одно и то же. В нашем фильме мы покажем это различие. Сегодня уже можно рассматривать советский народ в соотношении с предреволюционным и постсоветским. Мы не беремся делать окончательные выводы и давать безапелляционные политические рецепты ни стране, ни миру. Наш фильм приглашение к размышлениям. Итак, в чем же особенности этого периода, какие принципы и постулаты были положены в основу движения государства и общества? «Век социализма» сообщил многим понятиям свой смысл, сделав их лозунгами и координатами жизни. Почти в каждом из них было и разрушительное, и созидательное начало. Не разобравшись в этом, мы не поймем, отчего для части мира они были «империей зла», а для части — «маяком надежды»? Каковы эти постулаты? 1. Классовость. Был ли классовый подход к развитию государства дерзкой попыткой установить альтернативу рабству от денег и материального богатства, поставив вместо него царство труда и социальной справедливости? Или это непременный жесткий диктат одного класса по отношению к другому, меняющихся местами в зависимости от политического строя. А также химера ли «бесклассовое общество», провозглашенное Брежневым? Как, почему и непременно ли классовое противопоставление ведет, как было в России, к гражданской войне? 2. Идейность. Что такое тоталитарная идеологизация всех истинных процессов, при которой клеймо «безыдейности» было одним из самых страшных обвинений? Идейность и фанатизм. В чем их различие? Возможно ли общество без организующей идеи и в то же время возможна ли попытка умозрительного ее создания? 3. Коллективизм. Этот, один из важнейших постулатов дееспособности советского общества, содержит как организационный, так и психологический принцип. Уничтожает ли коллективизм индивидуальность? Рождает ли в людях чувство единения? Что это — механизм в практике властей орудовать массам, превращая их воистину в массу (недаром и репрессии были массовыми)? Или это чувство ответственности человека перед соратниками по труду и деятельности вообще, особое чувство локтя? 4. Энтузиазм. Чем он был — стимулирующим девизом народа или ловкой эксплуатацией народных усилий? Благородным искренним самоотречением или расхожим лозунгом? А может быть, энтузиазм — синоним всенародного страха? Каковы плоды и пороки энтузиазма? 5. Дружба народов. Нареченное так изобретение советской политики и пропаганды — одно из самых сложных в мировой национальной практике. Очень важно понять, чем в этом смысле был Советский Союз — империей, штыками удерживающей сожительство народов? Плодотворной попыткой этого сожительства? Что это — уничтожение национальной самобытности или взаимообогащение экономик и культур? Какие чувства испытывали люди: стирание ощущения национального достоинства или причастность к величию многонационального государства? Что обрели и что потеряли народы после распада Советского Союза. Да, парадоксальна наша история. Да, мы были страной самых чудовищных репрессий. Геноцида некоторых народов, идейного удушения творческих порывов многих художников. Не секрет: в развязывании «холодной войны» и в угрозе атомной катастрофы вина не только наших оппонентов. И это общеизвестно: мы — народ, который первый в мире послал человека в космическое пространство, мы спасли мир от фашизма. Мы дали в XX веке передышку в войнах (раньше они происходили каждые 25 лет), мы дали миру Пастернака и Солженицына, Твардовского, Гроссмана; наш народ не только героически воевал во Второй мировой войне, но и освятил ее прекрасными песнями своих композиторов и поэтов (у немцев не было таких песен — и это не случайно). Мы дали миру глубокие, талантливые постановки и фильмы. Сегодня западный мир питается нашими открытиями в области живописи. Обо всем этом мы вспомним. Мы вспомним и об ошибках, неудачах, заблуждениях и преступлениях нашего века, но не для самоунижения, а только для того, чтобы, строя будущее, не повторять их. Отрицательный опыт — это тоже богатство, если серьезно воспользоваться им. Беспамятство — это бесплодная и опасная темнота. Она ничего не может родить. Кроме новых ошибок и преступлений. Оттого «феномен России», ее парадокс — важнейшая тема при вступлении в новое тысячелетие. Мы полагали построить наш фильм на конкретных документальных новеллах, а также проблемах и постулатах, о которых сказано выше, к обсуждению которых привлечь философов, политологов, ученых, деятелей культуры самых разных политических убеждений. Хотя, повторим: фильм — не утверждение догм, а приглушение к размышлению на пороге нового века. Галина Шергова, Григорий Чухрай. При всей нашей дружеской близости я ничего не знала об «отступничестве» Гриши в проблемах семейного жизнеустройства. Не знаю, были ли у него увлечения на стороне, хотя охота за режиссером-красавцем шла горячая, особенно силами дам-актрис. Знаю только, что он считал невозможным снимать актрису, с которой тебя связывает не только сюжет фильма (практика, кстати, весьма распространенная). Лишь однажды он мне сказал: «Вот буду снимать N и заведу с ней роман». Но фильма не снял и романа не завел. Это точно. Конечно, романтические видения посещали Гришу, как и всякого мужчину. Порой забавные. Рассказывал: «Сижу вчера дома один, Ирина на даче, и мечтаю: сейчас раздастся звонок в дверь, открываю, а там неведомая прелестная девушка. ... раздается звонок, открываю, а там неведомая прелестная девушка... И спрашивает колокольчатым голоском: «Павлик дома?» Потом сидел и думал: может, это была вестница с сообщением, что на дворе стоит эпоха не моя, а сына? А?» Выше я сказала, что испытание выбором — пробный камень Свободы. Свой мужской выбор Гриша сделал девятнадцатилетним солдатом в Ессентуках, где стоял их полк и где жила кареглазая чаровница — учительница Ирина. Сделал на всю жизнь. Символична дата их брака — 9 мая 1944 года. Будто за год они предсказали то, о чем мечтало истерзанное войной человечество: мир и любовь. Мир на земле в ту войну был отвоеван такими, как Григорий Чухрай. Мало кому на долю выпало столько военных маршрутов, сражений, страданий, как досталось ему. И по праву он написал книгу «Моя война». Чухрай хотел свои раздумья о кинематографе сделать книгой. Не успел. Последний год жизни был уж совсем тяжким — болезнь отнимала силы планомерно и безнаказанно. Оставались лишь записи, заметки и среди них — примечательные. И все-таки книга вышла. Я не описалась, назвав эти отрывки страницами книги. Книга вышла. И ее рождение — жест любви. Ирина и дети собрали листочки, заметки, заготовки и издали их. Даже не для того, чтобы не дать затеряться Гришиным размышлениям. Цель была иной: близкие хотели, чтобы он успел подержать книгу в руках. Даже не прочесть — что Грише было уже не под силу. Просто подержать. Книга опоздала на месяц. Это был последний подвиг Ирины. А ведь ее жизнь была подвижнической, отданной на служение, на помощь мужу. Она как-то сказала мне: «Многие женщины мечтают встретить замечательного человека и любить его всю жизнь. Мало кому такое достается. Мне досталось. Я любила его всегда. Так же, как в начале». Может считаться, что Гриша так и не достиг бы таких профессиональных высот, если бы не было Ирины. Еще на фронте он мечтал о кино, хотя ему прочили блестящую военную карьеру. Как-то, уезжая на фронт, он отдал ей свою любимую книгу Лебедева о кино-искусстве в залог того, что вернется живым, вернется к ней, вернется к мечте о кино. И Ирина сделала все, чтобы никакие беды, трудности, безденежье, бездомность начала, борения, порой поражения на долгом пути не отвлекали от работы, не лишали веры, не погружали в быт. Свою службу поварихи и бескомпромиссного редактора, медсестры, точнее, сестры милосердия и консультанта-справочника, матери-бабушки и организатора на домашних интервью, телесъемках Ирина несла с преданной непритязательностью солдатки, ждущей мужа с войны или выхаживающей приехавшего на побывку мужа-солдата. Маршал кинематографа Григорий Чухрай всегда держался как рядовой. Недавно мы с Ирой разглядывали фотографии: помпезные приемы в Кремле, встречи с мировыми знаменитостями. На них Чухрая и не сразу обнаружишь. Затерялся где-то в дальних рядах, как будничный солдатик в арьергарде кинематографического генералитета. Он всегда числил себя солдатом, и на войне, и в мирных делах. Со всем комплексом воинской чести. И на войне. И в кино. Когда ему, прошагавшему Сталинград от первого дня до последнего, Главное политуправление армии «зарезало» сценарий фильма, о котором он мечтал, и фильм о Сталинграде был отдан другому режиссеру, Чухрай встретил это с воинским достоинством. Он был солдатом-сверхсрочником в этой жизни. А такие привыкли: послали в наряд — исполни службу как надо. Хотя служба тяжкая: все понять и доложить по форме. Да еще по форме, как говорится, высокохудожественной. Мое военное бытие было куда скуднее чухраевского. Но понять его принцип «предать — это значит изменить присяге» могу. Присяга-то есть, не только воинская, верности себе тоже присягать необходимо. Все фильмы Чухрая об этом. И «Баллада о солдате» — в первую очередь. Я часто думала: почему он назвал эту ленту «балладой»? Поразительная жизнестойкость заключена в этой пленительной форме стиха. Отгрохотали оды, стихли вдали прошлого мадригалы, а баллада живет, улавливая сердцебиение времени. В чем же дело? Вот, наверное: в балладе герой сюжета не отождествлен с героем лирическим, но автор — всегда незримый лирический герой, завоевавший право на повествование. Как сказано Жуковским: «Певец во стане русских воинов». Не о стане, не возле стана, а — во! Чухрай и был «певец во стане русских воинов», говорящий от их имени. Заметки мои на балладную форму не претендуют, но думаю, понятно, почему я позаимствовала заглавие чухраевской ленты. Глава XIX «Особые песни» (Клавдия Шулъженко) В глубине двора под сводами могучей черемухи стоял стол. Вросший ножкой в землю, как гриб-боровик, он, казалось, стоял там вечно. Летом кто-нибудь из соседей выносил во двор патефон и ставил его на стол. Распахивались окна, на лавочки рассаживался дворовый народ, и все слушали. Чаще других заводили пластинки Шульженко. Вертелся диск, и черемуха осыпала на него крохотные луны лепестков. Зинка с Николаем были постоянными слушателями. Зинка и Николай — знаменитая пара. Красавица Зинка владела сердцами парней всего квартала, а также прилегающих переулков. Центр-форвард Николай был кумиром уже целого района. Знаменитая пара. Они садились на скамейку возле стола, соблюдая целомудренную дистанцию, а Шульженко рассказывала им про чьи-то руки, которые, точно крылья огромной птицы, обнимали пространство любви. Может быть, пространство над этой скамейкой и старой черемухой, похожей на белокаменный храм. Потом пришла война, Николай ушел на фронт, и уже больше года от него не было писем. А Зина все приходила во двор, и Шульженко пела о том, как на Южном фронте оттепелью развезло дороги, и о том, что кто-то кому-то дал закурить на случайном перепутье, где распутица размешивала черную корку дороги, на которой буксовали полуторки и орудия на конной тяге. Иногда я садилась на скамейку рядом с Зиной, наблюдая, как смотрит она куда-то перед собой сухими глазами (она никогда не плакала) и изредка повторяет: «Надо же!» И в этом нехитром «Надо же!» была не только речь о своей трудной жизни, но и потрясенный восторг перед голосом другой женщины, голосом, которому под силу сближать пространства и одолевать разлуки. Случилось так, что я никогда прежде не видела Клавдию Ивановну Шульженко, как говорили, «живьем». Но мне она, как, вероятно, и Зине, представлялась победительной красавицей, почему-то в платье, похожем на сверкающую чешую выпрыгнувшей из воды рыбы. Но прошли годы, и однажды знакомый композитор предложил мне написать песню для Шульженко. Я пришла к ней домой. Меня встретила немолодая полнеющая женщина. Лицо без косметики казалось вообще лишенным черт, а пестренький халатик сообщал всему облику заурядную будничность. Оттого неуместной представлялась императивность, с какой она сказала: — Мне нужна особая песня. Вы женщина, вы должны понять. Нужна песня для победы. Не над всем залом. Над одним человеком. Это дело жизни. Вы понимаете? Я понимала. И она сказала: — Я выбрала песню. Это итальянская «тарантелла». Напишите русский текст. И вот я пришла на концерт и увидела ее. Я не помню, в чем она была — может быть, в платье, напоминающем рыбью чешую. А может быть, в одеяниях, схожих с древнегреческой туникой. Я забыла об этом. Она пела «тарантеллу», и звонкая медь невидимого бубна сыпалась в зал. Пестрый вихрь одежд танцующей толпы метался по сцене. И над этой бесплотной толпой царила она — молодая, красивая, стройная. Победная. — Победа. Полная победа, — сказала она по телефону, когда назавтра я позвонила ей. Дня через три я поехала к Клавдии Ивановне поздравить с этой женской победой, к которой оказалась слегка причастной. Снова навстречу мне вышла немолодая, полнеющая женщина с шеей, обмотанной мохеровым шарфом. — Поздравляю, — сказала я. — Он сражен? — А, плевать, — безразлично махнула рукой Клавдия Ивановна. И через паузу: — Знаете, вчера у меня вдруг сел голос, и мне показалось, что все. Не будет песен, концертов, залов, этих людей, этих глаз... Не будет жизни. Боже, как страшно! А я все отдам за это. — Даже любовь? — ужаснулась я. Она засмеялась: «Господи, конечно...» И внезапно, каким-то почти извиняющимся голосом произнесла: «Но как пустынно, когда в зале только тысяча человек. А не тысяча один». Прошло еще много лет, и я как-то забрела в наш старый двор, где жила когдато. Он изменился: не было ни стола, ни скамеек, только засыпанная снегом старая черемуха напоминала о крохотных лунах лепестков, сыпавшихся на вращающийся патефонный диск. Я зашла к Зине. Мне навстречу вышла немолодая грузная женщина, чем-то похожая на Клавдию Ивановну Шульженко. Вероятно, общностью старения полнеющих женщин. Мы пили чай, перебирая прошлое. — Постой-ка, — сказала Зина. Она подошла к тумбочке, на которой стоял стереофонический проигрыватель, и поставила пластинку. И запела Шульженко. Это была песня «Три вальса» — рассказ о счастливой любви, отмечающей первую встречу, а потом серебряный и золотой юбилеи свадьбы. Голос взрослел, мужал, старел, двигаясь дорожкой сюжета вослед жизни героев. И вдруг я услышала всхлипывание. Плакала Зина, Зина, которая не плакала никогда, даже когда на Николая пришла похоронка. «Что ты?» — спросила я оторопело. Она обеими ладонями сверху вниз стерла слезы и сказала тихо: «Ничего не было. Ни серебряной, ни золотой, ни простой, ничего не было. Все женихи там остались. Одна прокуковала». А потом, махнув рукой в сторону патефона, добавила: «Ей не понять. Ей, небось, все по-простому было. Все могла. И не боялась ничего. Но все равно спасибо ей». Зина сменила пластинку. В одном углу комнаты оркестр взял аккорды, а из другого отозвался голос: Дует теплый ветер, развезло дороги, И на Южном фронте оттепель опять... За окном падал безучастный городской снег, а распутица размешивала черную корку дороги, на которой буксовали полуторки и орудия на конной тяге, и звонкая медь невидимого бубна сыпалась на раздолбанную колею. Уже не было на земле почти никого, кто сидел когда-то под белокаменными сводами черемухового храма. Не было и самой Клавдии Ивановны, женщины в вечном платье из чешуи рыбы, выпрыгнувшей из воды. Женщины, умевшей сближать расстояния и сокращать чужие разлуки. Женщины, которой, как верили мы, все было просто и которая ничего не боялась. Глава последняя, особая, но без которой не мыслю эту книжку «А больше — ничего...» (Александр Юровский) Однажды некое желтое издание воскликнуло примерно следующее: «Ну чего ждать от пижона в белом смокинге, с тросточкой, да еще сына цареубийцы! Что благого может он принести нашему студенчеству?..» Описанный персонаж, будем справедливы, пижоном был. И смокинг имел, правда черный, что, впрочем, студенчеству неведомо. Что же до тросточки — и она существовала, иначе после тяжелого ранения на фронте пижону ходить было бы трудновато. А вот в родстве с цареубийцей Яковом Юровским не состоял, хотя был полным тезкой сына мрачного чекиста — адмирала Александра Яковлевича Юровского. Нес ли лжеродственник благое студенчеству? Полагаю, да. Ведь не зря же он — заслуженный профессор МГУ на кафедре телевидения факультета журналистики, неизменный соавтор учебника «Телевизионная журналистика», чьему перу принадлежат книги и десятки публикаций, посвященных тайнам ТВ. Множество учеников-аспирантов сохраняют с ним верную и благодарную дружбу. Да и вообще, пижон наш сделал немало. В кино и на телевидении поставлено много документальных и игровых фильмов по его сценариям. А еще — в этой книжке он часто фигурирует под псевдонимами: «Мой муж», «мой муж Леша», просто «Леша». (Лешей кличут его домашние и друзья, хотя и — Александр.) И нет без него ни меня, ни этой книжки. Журналисты, в разные времена бравшие у меня интервью, неизменно спрашивали: «Скажите, как можно сохранить счастливый брак на протяжении тридцати, сорока, пятидесяти лет? В чем рецепт?» А правда — в чем? И существуют ли подобные рецепты? Другим отвечать не берусь, попробую ответить себе, полистав хронику нашей жизни с моим мужем Лешей. В какой-то из глав этой книги я уже поминала о том, что истинным стартом моей журналистской биографии стал очерк в журнале «Огонек», который отправил меня в творческую командировку. Вовсе не за очерком, а для написания цикла стихов. Была раньше такая поэтическая практика. Привезла же я не рифмованный отчет о проделанной работе, а сочинение прозаическое и документальное. Мне выделили редактора, которого встретила сразу настороженно, ибо, вообще, автор я склочный и вмешательств в свой текст не одобряю. Однако после часа работы с удивлением отметила про себя, что замечания признаю и текст покорно правлю. Редактор, невзирая на молодость лет, оказался весьма толковым. (Замечу в скобках, что редактор этот на всю оставшуюся жизнь стал первым читателем всего сочиняемого мной, самым авторитетным, хоть и нелицеприятным, судьей. А его уничижающая меня эрудиция позволяла сплошь и рядом не обращаться к справочной литературе.) Так мы встретились. Меня взяли в «Огонек» очеркистом (честь по тем временам редчайшая), Леша продолжал редакторствовать и время от времени писать для журнала. Через месяц мы уже дружили взахлеб. Дружили, дружили — безгрешно и безинтимно. В советские времена был такой завод: когда отмечался юбилей какой-нибудь республики, союзной или автономной, пресса на помпу не скупилась. Газеты посвящали юбилярше полосы, «Огонек», самый главный и популярный тогда журнал, отводил на воспевание успехов и достижений именинницы почти целый номер. Произошел и юбилей Аджарии. Создать материалы в жанре развернутого тоста поручили Леше и одному из «огоньковских» фотокорреспондентов. В эти же дни мне выпала командировка в Тбилиси. С грузинской столицей и ее окрестностями я разделалась достаточно быстро. Перед отъездом в Москву подумала: «Надо бы отметиться у друга, благо он неподалеку, в Батуми». Позвонила. И пришла в смятение. Задыхаясь, Леша кричал в трубку: «Дорогая, ради « Бога приезжай в Батуми! Умоляю тебя, приезжай!» Я ничего не понимала. Может, с ним что-то стряслось? Может, некому помочь? И я поехала. Батумский перрон дремал в полуденной пустынности. Лишь вдалеке от моего вагона маячила объемистая цветочная клумба на двух человеческих ногах. Она двигалась на меня, и, наконец, за ворохами, глыбами, нагромождениями цветов я разглядела Лешино лицо. Он опустошил всю вокзальную цветочную лавку. — Как немыслимо прекрасно, что ты здесь! Спасибо тебе, — сказал Леша. — Едем в гостиницу, я снял тебе номер. Открыв дверь, я замерла. Зрелище одурманивало хайямовской орнаментальностью: весь пол гостиничного номера был усыпан лепестками роз. Вот с той минуты, когда я ступила на пол в трепетной розовой пороше, что-то произошло во мне, в нас обоих, что-то скрываемое от самих себя вырвалось из заточения, заслонив нашу прошлую жизнь, обезлюдев мир. С той минуты началась наша неделя в Батуми, ставшая первым свиданием, медовым месяцем, почином жизни длиной в пол с лишним века. Как я сказала, нам предстояло подготовить спецномер «Огонька», посвященный юбилею Аджарии. Это обстоятельство обусловливало наш приезд, как пришествие знатных гостей. Партийный хозяин республики отдал приказ: «Обеспечить пребывание по разряду "что захотят"». Мы захотели выйти в море на шхуне. Солнце лучилось, воды лучились. Погода благоприятствовала любви. Но, когда берег отступил, обратив белые земные здания, надменные кипарисы в крохотные фигурки нечеткого детского рисунка, на шхуну навалилась тьма, волны, встав на дыбы, обступили суденышко крепостной стеной. Начался шторм. Около получаса наша жалкая посудина болталась в черном месиве воды, и мы уже приготовились встретить смерть в жертвенных объятиях друг друга. Однако начальство оказалось бдительным: на спасение шхуны был выслан отряд пограничных катеров. Нас выудили из пучины. Иззябшие и полумертвые от пережитого, мы были прямо с пристани доставлены в кабинет хозяина республики. Пол кабинета, обставленного с азиатским роскошеством, еще мотался под нашими ногами, как палуба злополучной шхуны. В состоянии, близком к анабиозу, мы плюхнулись в правительственные кресла автономно-республиканского масштаба, стараясь изобразить на лицах извиняющиеся улыбки. Партийный секретарь, в облике которого затейливо соединилось добродушие придорожного шашлычника со свирепостью небритой кавказской овчарки, тоже метнул в нас проблеск вереницы золотых зубов. После долгой паузы изрек: — Это хорошо? Ну вы бы утонули — вам что. А с меня бы голову сняли. На этом прием был закончен. Но опекавшие нас республиканские деятели получили строжайшее указание: не пускать наши порывы на самотек, а разработать строгую систему пребывания. Для начала был запланирован торжественный объезд республиканских колхозов-передовиков. Все проходило в лучших традициях номенклатурных мероприятий. Пионеры трубили в горны, повязывая нам красные галстуки, председатель колхоза голосом уличного репродуктора оглашал цифры надоев, окотов и укосов, девушки из сельской самодеятельности, изгибая станы под надсадный рокот бубна, вручали нам цветы. И кавалькада мчалась дальше. В третьем колхозе Леша мрачно шепнул мне: «Не худо бы и пожрать». Я с надеждой кивнула на накрытые у крыльца правления колхоза столы. Но не тутто было. Приставленный к нам уполномоченный заторопил: «Едем, товарищи, едем. В "Заре" уже ждут». И мы опять понеслись. Когда проезжали какой-то колхозный сад, шофер наш, меланхолический юноша Зураб, мотнул в сторону сада головой: — Мушмула. Прекрасный фрукт. Гордость республики. — И, понизив голос, доверительно: — Самому товарищу Сталину доставляют. Я потребовала остановки. Мы нарвали мушмулы, кузины модного ныне киви. Стало повеселее, и я даже сочинила «Попутную песню», которую тут же огласила: ...Нам в колхозах жали руки, Подносили нам цветы. Но совсем иной разлуки, Мой товарищ, жаждал ты. Жизнь уж Не мила, Ах муш- мушмула, Поддержала, дорогая, Организм, как могла. Зураб уважительно прищелкнул языком: «Как вы могли такое сочинить!» Зато назавтра наши гастрономические чаяния были удовлетворены с лихвой. Нас повезли в горное селение Хуло. Его расположение — огромная высота и дорога, петляющая по краю обрыва над горной пропастью, — сделали Хуло почти не посещаемым жителями низин и местным начальством. Не знаю, что уж побудило составителей нашего маршрута отправить нас туда с безусловным риском для жизни. Уполномоченный сказал: «Для знакомства с жизнью горцев». Зураб наш, беззаботно свесив левую руку в открытое окно, крутил баранку одной правой на вполне безответственной скорости, завинчивая виражи и одолевая игрушечные мостики, перекинутые над бездной. Всякий раз, когда такое сооружение начинало маячить перед машиной, ехавший с нами фотокорреспондент, заклинающим шепотом умолял: — Попади в мостик! Попади в мостик! Но Зураб только дергал головой: «А!». Не выдержав напряжения, я спросила: — А сколько тебе лет? — Девятнадцать. Моя тревога окрепла: — А ты давно за рулем? — Давно. Два месяца. Уже. Мы с Лешей вновь, как на шхуне, мысленно попрощались взглядами друг с другом и с необузданным пиршеством окружающей природы. Но, видимо, Небеса, тронутые нашими заполыхавшими чувствами, решили хранить нас. Мы благополучно добрались до Хуло и невредимо вернулись. Труднодоступность селения определила и его особенность: туда не добиралась советская власть. В Хуло не было колхоза, не было пионеров, не было цифр отчетности. Крестьяне там жили, как сто лет назад. Главной же достопримечательностью Хуло был... ресторан. Маленькая, поевропейски убранная комнатка, где властвовал повар Нико. Он же директор, он же мэтр, он же официант. За полвека, что отделяют меня от посещения Хуло, мне довелось побывать в лучших ресторанах разных стран. Но никто, уверяю вас, никто не сравнился с Нико в необыкновенности кулинарного искусства. Дело было не только в том, что ягнячье мясо обладало почти утробной «каракульчевой» нежностью, не в том, что тончайшая картофельная соломка, хрустя, не теряла мягкости... Ах, да что там! И сейчас, когда пишу, слюнки текут... Дело в том, что Нико соединил в своих творениях сочную первозданность грузинской кухни с тончайшими изысками каких-то французских магов очага. Смене блюд не было конца. Надо думать, Нико не был аборигеном. Похоже, он, видимо, знаменитый кулинар равнины, скрывался в Хуло то ли от стражей правопорядка, то ли от служителей репрессивных органов. Не знаю. Так или иначе — нам повезло. За обедом я сказала: — Я смотрю, Нико, ваше Хуло — какое-то особое место: ни райкома, ни колхоза. Он улыбнулся: — Они думают, что есть. — И показал пальцем куда-то вниз. Воспоминаниями об обеде в Хуло мы питались трое суток. Не в переносном, в прямом смысле. Мы оба уже сидели без денег: моя командировка в Тбилиси кончилась, а с ней и суточные, Леша вложил незапланированные на роскошества деньги в закупку цветочного ларька и мой «люкс» в гостинице. Как говорится, сели на хлеб и воду. Спасение принес гонорар за стихи и рассказ, которые мы сунули в местную газету. Конечно, размеры вознаграждения не претендовали на ужин в ресторане. Но мы закупили несколько банок черешневого компота и протянули до перевода, который выслал Леше крайне недовольный его расточительством зав. редакцией. Нам опять повезло. Нам было море по колено, даже штормовое. Настоящие бури ждали в Москве. Новая жизнь предполагает расставание с прошлой. Но прошлое не отмирает само собой, ему недостаточно махнуть ручкой. В этом временном понятии у меня был сложный, многозначный роман, у Леши — семья. Мне было проще выдержать мучительное объяснение. Леше предстояло оставить жену, в высшей степени достойную женщину, и четырехлетнюю дочку, которую он нежно любил. (Как, впрочем, и продолжал любить, а также внука, ставшего блестящим специалистом.) Правда, тот первый брак, в силу обстоятельств ему предшествующих, о которых не хочу говорить, не был безоблачным. И тем не менее... Так или иначе, Леша сказал о своем уходе сразу после нашего возвращения в Москву. И немедленно в парторганизацию «Огонька» « поступил сигнал об аморальном поведении сотрудника. «Огоньковцы» поначалу решили сделать вид, что ничего криминального не произошло. Однако «сигналы» в виде анонимных писем стали поступать в партком «Правды», по партийной иерархии ведающей нашим журналом. Предложение, адресованное Леше «правдинским» парткомом, было лаконично: — Вам придется сделать выбор между партией и Шерговой. И он сказал: — Я уже сделал свой выбор. Увы, сегодняшние сверстники нас, тогдашних, даже отдаленно не могут оценить мужества, проявленного Лешей. Тогда для любого человека, не говоря уж о «работнике идеологического фронта», исключение из партии означало моральную смерть, зачеркнутость всей последующей жизни. Мы приняли эту перспективу. И все-таки наши коллеги в «Огоньке» оказались сердобольнее «правдистов». Леше дали строгий выговор. Исключения из партии требовал лишь один моралист, про которого в редакции ходила шуточка: лежа в постели с очередной любовницей, он отбивает депешу жене: «Но люблю только тебя». Что и говорить, «строгач» был благом по сравнению с исключением, но сопровождался он увольнением с работы. Меня в редакции оставили, за что я и по сию пору благодарна тогдашнему главному редактору «Огонька» Алексею Александровичу Суркову. Удивительная личность был наш главный! Весьма средний, хотя и популярный поэт, он был блестящим оратором, заставлявшим аудиторию то рыдать, то покатываться со смеху; деревенский паренек, он был всесторонне образован. Но что особенно важно, типичный продукт эпохи, Сурков при этом был тверд в вопросах высшей морали. Так, во времена борьбы с «космополитизмом» ЦК партии потребовал от Суркова увольнения всех евреев. На что он сказал: «Я тридцать лет в партии, она меня юдофобству не учила». (Хотя именно партия и была автором антисемитской затеи.) И не уволил ни одного человека. Тогда ни один главный редактор (за исключением, кажется, Бориса Полевого) не позволил себе такой смелости, которая могла обернуться для самого Суркова любыми неприятностями. Итак. Что же получили мы в качестве «свадебного» подарка? Жить негде. Разве что в маленькой комнатушке моих родителей в коммуналке. Я с нерегулярными заработками: мне разрешили печататься в «Огоньке», но только за гонорары, без зарплаты. (Помню, как уже год спустя я на восьмом месяце беременности лезла в шахту, чтобы сварганить какой-то очерк.) Но самое безвыходное — Лешина безработица. Полная безнадега, ведь в придачу к «строгачу» муж мой был обременен «пятым пунктом». Попросту был евреем. А так как имя, и фамилия, и внешность этого обстоятельства не изобличали, в десятках редакций и учреждений повторялась одна и та же драматургия. Кадровик: «О, какие данные: стаж, фронт, ордена! Приходите завтра, будем оформлять». Назавтра выяснялось, что место занято. Или: «С партийным выговором принять не можем». Поначалу « Леша подрабатывал так называемой «негритянской» работой. Это когда пишешь за кого-то, а тот ^ тебе отслюнит процентов эдак пятнадцать-двадцать гонорара. Но потом власти припугнули литераторов разоблачением, и предложения закончились. На работу не по специальности тоже не брали. Нетрудно представить, что испытывал молодой, полный сил мужик, фронтовик, тяжело раненный на войне. Но ни разу он не омрачил нашей жизни причитаниями, сетованием на судьбу, раскаянием в содеянном. И ни разу мне даже не пришло в голову попечалиться о том, как непросто нам жить. Главным правилом было: если из-под двери сочится тоненькая струйка света — ныряй в нее, если в драматической ситуации возник забавный поворот сюжета, он-то и должен дать смысл происходящему. Скажем, вереница анонимок в партком долго не обнаруживала имя отправителя. Мы ломали голову — кто? Обычно подобная деятельность была привилегией обиженных жен. Но абсолютная порядочность Лешиной супруги априорно отвергала даже возможность подозрений. Некоторые детали излагаемого в посланиях, правда, давали возможность заподозрить одного из моих поклонников. Но! Какие доказательства? К тому же упомянутый персонаж продолжал наносить нам дружеские визиты. Пришел в очередной раз. Леша был в ванной. — Где Леша? — осведомился посетитель. — Ах, — горестно вздохнула я, — он оказался грязным человеком, нам пришлось расстаться. Мешая победный энтузиазм с тихой доверительностью, тот потупил очи и сказал: — Галя, мне не хотелось вас огорчать, но я всегда знал это. — Но я верю — он станет чище! — Нет, дорогая, нет, он слишком погряз в своих грязных делишках. На мою повторную реплику: «Но я верю!» вошел Леша с головой, обмотанной полотенцем, и я прошептала: «Вот видите, я была права!» Визит друга, мгновенно прервавшись, оказался последним. А смеха нам хватило надолго. Или вот еще. Мы вожделенно ждали момента, когда может встать вопрос о снятии партвыговора. Все-таки вдруг полегчает с работой! По прошествии года «огоньковцы» решили обсудить нашу участь. Об эту пору я была сильно беременна. Настолько сильно, что давала основания заподозрить — вынашиваю тройню. И вообще, сменив молодую стройность на монументальность скифской бабы, входила в проемы (включая, помоему, и дворовые арки), заслоняя собой пространство Деталь немаловажная. Точно такое же зрелище являла собой моя лучшая подруга Наташа Колчинская. А мы вместе? Впечатляет? Однажды Колчинские пригласили нас в консерваторию, я откликнулась: «Здорово! Я так давно не была в родимом Большом зале!» Леша: «Нет, нет, я, вообще, насчет серьезной музыки не спец». Марк Колчинский привел двух вышеописанных сильфид один. Под вопрошающие, недоумевающие и порицающие взоры постоянных посетителей Большого зала. Там публика была постоянной. Повел-то повел, но месть затаил. За неделю до обсуждения на партбюро Лешиного дела мы с Колчинскими пошли прогуляться по Арбату, там публика тоже, в основном, была постоянная, знакомая. И Марк исчез. Исчез, оставив Лешу зажатым меж двух слоновьих животов. Откуда ни возыр!сь, навстречу член партбюро «Огонька». Потрясенный зрелищем, он, рассеянно кивнув, шмыгнул в толпу. Назавтра редакция вибрировала: у Юровского-то дубль-аморалка! О таком еще не слыхивали! Вопрос о снятии выговора был заменен на снятие вопроса с повестки дня. Обидно? Ну, ясное дело, обидно. А мы веселились. Впрочем, прошли мы и через времена, когда совсем уж было не до веселья. Страшные времена. С пиком — начало 1953 года. Грянуло «дело врачей». Для читателей помоложе объясняю. В один прекрасный день советская общественность была потрясена зловещим сообщением в «Правде». Группа врачей, в основном евреев, давно и планомерно занималась отравительством членов правительства, руководителей партии, выдающихся деятелей Советского государства. Свои сети «убийцы в белых халатах» расставили всюду, и простые граждане тоже оказались под коварной угрозой. Так было объявлено. Всенародный гнев, по замыслу авторов задумки, благословленных Сталиным, должен был не только смести с лица Родины выродков-медиков, но и, вообще, победно продолжить дело Третьего рейха по уничтожению зловредной нации. Нам беда дышала в лицо особенно жарко: комната родителей располагалась в доме Минздрава, где жили только врачи. Увольнения, аресты шли ежедневно. Наш подъезд сотрясался от топота ночных визитеров. Думаю, отца и маму спасло только то, что были они хоть и прекрасными врачами, но рядовыми. Брали тех, кто покрупней в должностном отношении. До моих очередь не успела дойти. А вот о том, что уже сформированы товарные эшелоны для вывозки всех евреев в отдаленные, необжитые края Сибири, говорили со всей определенностью. Как выяснилось позднее, так и было. И тогда я пошла в милицию и попросила обменять мне паспорт. В графе «национальность» вместо «русская» мне написали «еврейка». Мой русский паспорт не был ни фальшивкой, ни ошибкой паспортиста. У него была своя история. Здесь сделаю отступление. Мне давно хотелось описать некоторые удивительные подробности из жизни моего рода, тем более что ничего похожего я в литературе не встречала. И так как вряд ли мне еще представится удачная возможность, воспользуюсь ею сейчас в этой книжке. Мои предки с незапамятных времен жили в Сибири. Загадочная страна, зеленая медведица, давшая в своей таежной обители приют многим отторгнутом и гонимым. В ее чащобах, на ее сопках издавна селилась всяка «ересь». Ссыльные политические, фанатики религиозных сект. Очень обширной была секта «субботников» — исконно русских людей, исповедовавших иудаизм. Странное это было племя. Помню жену отцовского брата, белобрысую деревенскую деваху, из всей людской премудрости знавшую лишь предписания Торы. Да, браки «субботников» с евреями разрешались. Потому обе мои бабки, а они тоже были из «субботников», вышли замуж за моих дедов-иудеев. Хотя за чистоту и их крови не поручусь: в Сибири в те времена исконных евреев было не так уж много. Дед по линии отца заурядно торговал и, видимо, как личность особого внимания не требует. А вот мамин отец... Двухметровый силач — двумя пальцами сворачивал в трубочку серебряный рубль, — четверть века отслуживший в царской армии, вернулся в родное село, где семья хлебопашествовала. Но крестьянствовать не захотел. Пошел ямщиком на сибирский почтовый тракт. Наверное, был талантлив и предприимчив, ибо через несколько лет уже стал владельцем почтовой станции «Тайга», завел большую конюшню. С той поры для всех дедовых детей, а было их восемь, лошадь стала понятием, мерилом благополучия, счастья, красоты. Высшим наслаждением для ребятни становились «прокатки» по тракту. Дед грузил всех в просторный шарабан и разгонял тройку. Копыта пожирали снежный наст, мчащиеся назад ели пугливо косились на летучее чудо, ветер и ямщицкий кнут нахлестывали плотные бока пространства, а оно охало, ахало, присвистывало. И когда сама дорога уже готова была взмыть в небо, дед в полный рост вставал с облучка и одной рукой останавливал тройку, так что коренник садился на круп! Да что пред таким чудодейством наши механические радости от скорости всяких там «мерсов»! Ее сиятельство Лошадь служила и эталоном красоты. Как рассказывала мне мама, она, гимназистка, однажды прихорашивалась перед зеркалом, готовясь к какому-то празднеству. В комнату влетел младший брат Шурка и, потрясенный зрелищем, выдохнул: — Соня! Какая ты красивая! Настоящий серый конь в яблоках! Я сказала про маму-гимназистку. Казалось бы, откуда на почтовой станции «Тайга» взяться образованным барышням? Но дед, сам овладевший лишь грамотой, дал всем детям высшее образование. Сыновей отправил в Томский университет, дочерей — за границу. Надо полагать, девицы эти были недурны и не лыком шиты. Судьба сибирских таежниц сложилась фантастически. Мамина сестра Лида стала певицей в парижской «Гранд-опера». Рима и моя мама в студенческие годы зарабатывали деньги, служа моделями в знаменитой фирме «Покен». А позднее Рима вышла замуж за некоего Джона О'Дрискола, занимавшего очень высокий пост в английской администрации в Индии. Мама всего-навсего закончила медицинский факультет Лозаннского университета. Что для дочери российского ямщика тоже немало. Правда, восхождению девиц способствовало одно немаловажное обстоятельство — судьба их старшей сестры Лели. Дед ухитрился выдать ее замуж за человека по фамилии Кузнец. Не знаю, корпел ли когда-нибудь Лелин муж в кузне, но меха предпринимательства раздувал с азартом и искусно. Владел хлебной торговлей на миллионы, серебряным рудником, еще Бог весть чем... Короче, был одним из самых богатых людей Сибири. Эксплуататор этот умудрялся как-то весьма гуманно и заботливо пить кровь из трудового народа. О чем свидетельствует такой факт: когда Кузнец умер, рабочие две версты несли на руках его гроб, украшенный венком из серебра с надписью: «Другу хозяину». На венок скинулись всем миром. Дед с зятем не только помогали всем Лелиным братьям-сестрам получить образование. О, эта непостижимая загадка российских богатеев! Они создали фонд помощи русским революционерам-политэмигрантам. Ответьте мне — зачем, почему?.. Во всяком случае, феномен Саввы Морозова — не единичное российское явление. И вот самое главное. В деревне Краснощеково дед с зятем начали строить город. Новоникола-евск. Ныне — Новосибирск. Теперь могу вернуться к истории обмена моего паспорта. Получала я паспорт до войны. Тогда каждый был вправе выбирать себе национальность. Честно говоря, я даже не задумывалась, какая национальность значится в паспорте родителей. Чувствовала себя русской, спросила: «Что писать?» Папа обсудил вопрос всесторонне: — Видишь ли, в царских паспортах графы «национальность» не было. Было «вероисповедание». Поэтому в советский паспорт «иудейское» перешло как «еврей». Какое вероисповедание у тебя? Никакого. По крови ты, как говорится, полукровка. Язык? Русский. Культура? Русская. Да и корни. Во всей семье только мой отец знал идиш. А в маминой семье — никто, ни слова. Как и основ религии, даром что бабушка числилась «субботницей». По-моему, ты, безусловно, должна получать русский паспорт. Отец мой был человеком неправдоподобной порядочности. Он искренне не представлял, как можно солгать, изменить нормам нравственности, как можно совершить какой-то поступок во имя выгоды. Его слово было — мой высший суд. Я поступила, как он советовал. Занимательнейшие метаморфозы происходили с этим самым «пятым пунктом» на протяжении советской истории. Не графа, а прямо-таки, как Лев Толстой, — «зеркало русской революций». И то: в первые годы после Великого Октября быть евреем считалось даже перспективным, помогающим общественному росту личности, ибо соответствовало установке «поддержка национальных меньшинств, угнетавшихся царским самодержавием». В годы, описанные мной выше, мрачная графа обращала паспорт в «волчий билет». Чудодейственные трансформации грянули в 80-е годы: евреям разрешили отбыть на «историческую родину». И тут уж русский люд стал правдами и неправдами добывать, а то и покупать еврейские паспорта. Шутили: еврей не национальность, а средство передвижения. В годы предвоенные национальность была просто самоощущением. И вот тогда, в 53-м, я сменила свой довоенный паспорт. Мало кто понял меня. Даже друзья говорили: «Ты — сумасшедшая. У тебя же грудной ребенок. С русским паспортом хоть дочку спасешь». Но у меня не могло быть отдельной судьбы от мамы, от отца, от Леши. В марте 53-го умер Сталин. Уже через месяц многое поменялось: выяснилось, что врачи-убийцы вовсе не убийцы, а прекрасные специалисты-исцелители; выпустили арестованных, уволенных взяли на работу. Вскоре кончилась и Лешина двухлетняя безработица. Нежданно-негаданно. Кто-то сказал ему, что на Центральной студии телевидения нужны работники. Он пошел. Попал, к счастью, не в отдел кадров, а прямо к директору. Была им тогда Валентина Николаевна Шароева, женщина пронзительного ума и независимого нрава. Назавтра Леша был зачислен в штат. И не рядовым сотрудником, а руководителем группы тематических направлений. Когда, годы спустя, уже подружившись с Валентиной Николаевной, я спросила ее: как же она так легко отважилась на порочный кадровый шаг? Властный директор ответила с обезоруживающей женской непосредственностью: — Я посмотрела: такой красивый! Так телевидение вошло в жизнь нашей семьи, властвуя в ней уже в третьем поколении. Я долгие годы поглощена им, наша дочь Ксения, режиссердокументалист, большую часть рабочей карьеры связана с ТВ, Лешина старшая дочь Лена — многолетний ответственный телетруженик, внучка моя Катя — ведущая авторских программ. Лешиной же стезей стала теленаука. Он был первым аспирантом факультета журналистики МГУ по специальности «телевидение», потом первым кандидатом наук в этой области, первым доктором, первым профессором. Итак, наша семейная лодка, не разбившись о быт, не треснула и под напором политических штормов. Видимо, маяковская метафора, подсунутая нам в виде приключения на батумской шхуне, оказалась пророческой. Мы жили, как большинство наших друзей — то трудно, то отрадно. Но всегда легкомысленно, что считаю важнейшим условием путешествия через бытие. Легкомыслие выразилось и в том, что в течение первых десяти лет совместной жизни нам не приходило в голову зарегистрировать наш брак. Наконец квартирный обмен побудил перевести грех в закон. Мы, наскоро забежав в какой-то подвальный чулан с табличкой «ЗАГС», осуществили тайную операцию. Но друзья прознали о случившемся, вечером поднавалил народ. Короче, грянула свадьба. Она не только пела и играла, она вершилась по всем возможным и невозможным обрядам скопом: килограмм риса был опрокинут на головы новобрачных, нас благословляли портретом Жерара Филиппа и требовали с жениха калым, гоняя его за очередной поллитровкой. Я сидела в фате из сдернутой с окна занавески, Леша щеголял цилиндром — шапокляком, историю которого я рассказывала в главе о Гердте. Девятилетняя Ксюша по-домашнему Куня, наблюдавшая пиршество с озабоченным любопытством, наконец спросила: — Что у вас тут происходит? — Да вот, мы с отцом решили пожениться. — Это хорошо, — одобрила она. Назавтра я услышала, как Куня интересуется у подруги по лестничной площадке: «А твои уже поженились?» Бедное мое дитя тоже стало жертвой родительского легкомыслия. Или безответственности. Рожденная вне законного брака, Куня в метрике в графе «отец» получила жестокий прочерк. Но, и сочетавшись этим законным браком, мы не озаботились метрику изменить. Произошло «признание отцовства», когда у Куни уже собственные дети успели подрасти. Наша брачная эпопея, Кунина «безотцовщина» были запечатлены мной в «Истории одного преступления». Я огласила стансы на нашей с Лешей золотой свадьбе. Вот они: Не флер д'оранж и не фиалки, Не Мендельсон, не пенье муз, А протокол об аморалке Скрепил порочный наш союз. Не знала я, что это значит – Отдать невинность без венца, И был ребенок этот зачат От аморального отца. Где в метрике законных дочек Фамилии вписывал писец, Там у моей малютки — прочерк Поставили в графе «отец». Ну а отцу — и горя мало, Ему младенцы — нипочем. Как подобает аморалу, Он прикрывался «строгачом». Рыдай, мой ангел, крошка-дочка! Анкеты наши загуби, Меня он сделал «одиночкой» И «безотцовщиной» тебя. Ему ребенок был обузой, И, безутешная, в слезах, Я умоляла профсоюзы Силком его доставить в ЗАГС. Но все напрасно. Вспомнить жутко. Он стал профессором потом, Когда невинная малютка Сама ходила с животом. Он посвящал себя науке, А у него под носом, тут Пошли бездедовские внуки, А дальше правнуки пойдут Но, все-таки меня жалея, Предвидя скорбной мой финал, Он к золотому юбилею Малютку все-таки признал! Нет, нет, я не собираюсь превращать эту книжку в летопись моего брака. Но и не отдать благодарного внимания Главному мужчине моей жизни не могу. Я воскресила истоки нашего союза, ибо они определили все последующие полвека. Там — камертон отношений, там их стиль и повадка. А может, и кое-какие прописи из того рецепта, которого требовали от меня интервьюеры. Можно было бы, конечно, ответить и самоочевидными сентенциями, какие обнародуют обычно супруги с таким пронзительным стажем. Скажем: «Брак это — труд без выходных дней». Или: «Если хочешь удержать мужа в семье, старайся, чтобы дома ему было красивей, удобней, интересней, веселей, чем где бы то ни было. И не учиняй драм на месте конфликтов будничного значения». Или: «Хочешь внимания к себе, будь изобретательно-внимательна к мужу». Все это так. Так и у нас было. Но главный феномен, не дающий союзу двух превратиться в совместное проживание, уверена, — иной. Необходимо, чтобы всегда, до старости, эти двое сохраняли друг для друга статус Мужчины и Женщины, даже когда возраст уже погасил страсть. Ах, как благодарна я Леше, что он не дал мне утратить этот статус! Изыски, придумки в ухаживании, так сказать, добрачного периода — дело обычное. Что там говорить, и меня впечатляло, когда, после возвращения в Москву из Батуми, еще не поселившись в моем доме, Леша провожал меня вечером: «Я буду стоять на той стороне улицы до утра. Когда бы ты ни проснулась и ни посмотрела в окно — я буду там». Но чтобы через 10, 20, 30 лет тебя продолжали восхищать мужские затеи — такое дорогого стоит! Еду из командировки домой. За сто километров от Москвы открывается дверь купе и входит муж. Добрался электричкой до последней остановки, чтобы встретить вот так. Уезжаю за тридевять земель, сама не знаю маршрута, а утром в гостинице звонок: «Доброе утро, дорогая». Лечу из Парижа в Москву. Пересадка в Праге. На весь аэропорт голос из репродуктора: «Госпожа Шергова, подойдите к бюро информации». Перепуганная, бегу, а там: «Звонил из Москвы ваш муж, просил передать, что любит вас и очень ждет». И еще, и еще, и еще... И еще, уже в старости, проснувшись, нахожу свежие цветы, так, без повода. Или какой-то милый подарок, о котором обмолвилась на днях и забыла сама. А новое платье встречалось удивлением, может, и не без лукавства, но таким желанным: «Возраст к тебе не имеет никакого отношения!» Стоп. Не надо думать, что ссоры, взаимные обиды, неудовольствия обошли нашу жизнь. Мол, этакая нирвана на одной благостной ноте. Конечно, нет. Все бывало. Да и каким уныльством был бы быт без всплесков и перепадов! Но ни разу ни его, ни меня даже не коснулась мысль, что возможно существование друг без друга, без единого дыхания и кровообращения. Разве сумею я должно отблагодарить Лешу за царский дар — мои девочки, наш женский клан? Дочка моя Куня. Горда не только ее фильмами, призами в Каннах. Ее ум, ее надежность, сознание того, что ни разу не могла упрекнуть ее в непорядочности, что не нуждалась я в оправданиях ее поступков всепрощением слепой материнской любви... Мои красотки-внучки. Работяги и остроумицы, подружки мои, разговоры с которыми не знают запретов на темы и возрастные нестыковки. Горда их успехами — Катиными на телеэкране, и Ле-лиными в ученых премудростях: крошка эта умудрилась закончить МГУ, Бостонский университет и Сорбонну. Да еще сочинительством занимается. Обычно люди, для которых поэзия — форма существования и взаимодействия с мирозданием, любовь свою обращают в строки. Случилось так, что в стихах я почти не говорила Леше о своих чувствах, о его непреходящей значимости для этого моего существования. Нет. Все-таки сказала, сказала, поняв и осмыслив все. А.Ю. И вот, перед итогами, мудрея, Я думаю, что, рифмой одержим, Над хищной сворой ямбов и хореев. Мой бич не щелкал именем твоим. Я думаю, что было все по ладу, Но я ни разу не гоняла в ночь Посылку недописанной баллады, Чтоб шла к тебе, поправ законы почт. Я думаю, что, все с тобой изведав, Я наши прегрешенья и дела В венки непогрешимые сонетов за эти годы так и не вплела. И что ты мне не рокот ледостава, Не колокол былины вечевой, Не триединство звонкой октавы, Ты — жизнь моя. А больше — ничего». Жизнь. А это, согласитесь, не так уж мало. И вот, жизнь кончилась. Слава Богу, до своего ухода из этого мира Леша прочел рукопись книжки. Я успела сказать ему необходимые слова. ПРОЗА АВТОР Едва призрачный бледный луч луны скользнул по надгробью, как озарилась надпись: «Здесь покоится Виктор Перевалов». Ах, как сладостно заныло под ложечкой! Ах, каким призрачным и каким бледным был этот луч! Даже это мелкое и, казалось бы, ничтожнейшее «едва» сообщало происходящему дурманящую шаткость. Но стоило только вспомнить, облечь в слова тот лунный миг, и Перевалов немедленно же изъял из мыслей и «призрачный», и «бледный», и «едва». Потом уничтожению подверглись «скользнул» и «озарилась». И осталось: когда взошла луна, она осветила надпись на надгробье: «Здесь покоится Виктор Перевалов». Смысл был тот же, однако нытье, уже в солнечном сплетении, а не под какойто там ложечкой, прекратилось. Но ведь хотелось чего-то неизъяснимого, томительного и томного, типа романса «Луч луны упал на ваш портрет». Типа романса. Типа. Это было в соответствии с привычным, освоенным. И само «в соответствии» встраивалось во фразеологическую конструкцию как бы само собой, без силовых приемов. Взять, к примеру: «В соответствии с решением обкома мы приступили к восстановлению первоочередных объектов». Там неподалеку, абзаца через три-четыре, можно было обнаружить и «типа»: «Возвели временные постройки барачного типа для жилья». Перевалову было раз плюнуть вспомнить почти любую фразу из этого своего сочинения, ибо не проходило дня, чтобы то тут, то там некий фрагмент не цитировался. То с трибуны зачтут. То по радио актер произнесет с задушевностью, вынутой прямо-таки из-под диафрагмы. Все на слуху — ежедневно и неизменно. И, разумеется, эти свои фразы Виктор Перевалов любил пламеннее и нежнее, чем слова о лунных лучах, давно утративших и призрачность, и ветхую бледность. А сегодня-то, сегодня. Едва (о, «едва») двинулся с перрона в город — багряный транспарант взошел перед взором, точно закатное июльское небо в очистительной работе ветров. Свежая его кровь заливала надземное пространство, пульсируя под толчками заблудившегося бриза (а может, какого-то иного воздушного порыва), и лишь неподвластные ветру белоснежные облачка букв плыли вереницей по просторам полотнища. Порядок букв образовывал слова, написанные им, Виктором Переваловым. Писались на безвестном листке бумаги. А взошли над землей заревом. И никого из снующих по вокзальной площади людей, обремененных чемоданами и сумками, или, напротив, налегке перебегавших площадь, не миновало зрелище. Он говорил с каждым. Он обращался к каждому. Он призывал каждого. Любому из них открывал премудрости бытия, до поры от того скрытые. А меж тем сам он, Виктор Перевалов, не спеша следовал к машине. Среди осененных его словами людей. А тем было и невдомек, что это его мысли пульсируют над головой толпы, пульсируют ало и настойчиво, как отворенная артерия. И ощущение невидимой власти стучало в висках Перевалова в такт мерному вздрагиванию кумача, переполосовавшего привокзальное небо. Так черта ли было в призрачном и бледном луче, озарившем надпись на могильной плите: «Здесь покоится Виктор Перевалов»? Но вспомнилось и — никуда. Однако к лучшему. Необходимо было содрать с памяти тридцатилетнюю коросту жизненных напластований, чтобы обнажилось все отчетливо, с подробностями незначительными, ему одному дорогими. Тем, которым не нашлось места, не дано было права присутствовать в Произведении. Но без которых для Виктора давнее время обращалось в «период», а не в кусок жизни. Подробности эти толпились некогда в комнате, оседали на письменном столе то сиреневым сумеречным снегопадом, то черной рваниной заводской копоти. Тогда, когда он только приступал к Произведению. Потом он все разогнал и осталось лишь нужное. И все. И ушло лишнее. И не вспоминалось, будто не было. И стал — период. Великий период, исторический... «В буфет бы сходить, пожрать надо», — подумал Виктор. Но тут же представил безводный аквариум стеклянного буфетного прилавка, где на мутное дно осели линялая курица с пупыристой, как у осеннего купальщика, кожей, заветренный ком вареного мяса, неизменные бутерброды с сыром, твердый пергаментный лоск которого свидетельствовал о сроках давности... Виктор Перевалов не поднялся с гостиничной койки. Тихо пропел вслух: «Луч луны упал на ваш портрет...» Ехали долго, торчали на всех разъездах. Пропускали воинские эшелоны, идущие к фронту. Вагоны выездной редакции несколько раз перецепляли от одного состава к другому. В Ростове-на-Дону застряли надолго, и редактор разрешил пойти в город. Виктор предложил Тане свое компанейство для прогулки. Он приметил Таню в первый же миг, когда личный состав выездной редакции собрался на перроне Московского вокзала. Приметил не один он, все мужское население редакционных вагонов сделало стойку на белокурые локоны. Эти локоны вертикально падали на Танины плечи, а надо лбом лежали рядком, как газыри, споротые с черкески. Как всегда бывает с людьми приметными, уже через два дня всем откуда-то стали известны подробности Таниной биографии: дочь московского профессора, студентка ИФЛИ. А в этом институте истории, философии, литературы только самые что ни на есть интеллектуалы обучались. Виктор тоже поступал, но срезался на химии, тогда вступительные были по всем предметам, но к лучшему — в Литинститут попал. Еще про Таню говорили: отличница, ей бы учиться, а она добровольно в ЦК комсомола — пошлите на ответственную стройку, хочу участвовать в возрождении промышленности. Да еще глаза, «как березовые листки на Троицу». Сравнение это принадлежало Таниной бабушке и очень шокировало Танины атеистические чувства, о чем она с возмущением сказала как-то Виктору. Так что заполучить Таню в попутчицы на прогулку казалось не просто. Но он обошел всех, предложил. И она сразу согласилась. Может, на успех предприятия повлияло то обстоятельство, что прочие мужчины были печатниками, наборщиками, корреспондентами. Виктор же назывался «поэт-литсотрудник». В соответствии со штатным расписанием. Значит, официально признанный поэт, в должности поэта. Конечно, и в Литературном институте, где учился Виктор, с первого курса принято было говорить о студентах «поэт», «прозаик», «драматург». И все-таки это было не то, не то. Не то, что поэт по штату. Виктор и Таня выпрыгнули из вагона на платформу. Из окна своего купе высунулся главный редактор «выездной» Тенгиз Давидович Махарадзе и крикнул им: — Расстегните пуговицы на пальто! Облегчите работу ростовским жуликам! Ростов с довоенных времен считался городом отчаянных воров и мошенников. Хотя, может, жуликов в нем было не больше, чем в других городах. Но — считалось. У всех городов свои легенды. Главный редактор Теигиз Давидович Махарадзе отпускал шуточки по каждому поводу, так как был всесоюзно известным фельетонистом центральной газеты. Веселый человек, вопреки бытующему мнению, будто все юмористы — люди мрачные. Веселости его права не нарушала даже тяжелая астма. Центральная газета, где служил Махарадзе, формировала и отправляла выездные редакции в районы, освобожденные от немцев. В Сталинград, на Северный Кавказ, в Запорожье... Эта ехала в Донбасс. «Надо полагать, фраза: "Города, как люди: у каждого свое лицо" родилась одновременно с изобретением Гутенберга и написана еще первым в истории цивилизации газетчиком. Думаю, после войны она снова возродится на всех газетных полосах мира. Эта фраза — одна из коронных в реестре газетных штампов. Но вот чудовищная превратность войны: уравниловка городских пейзажей. Руины все на одно лицо». Еще в вагоне, думая о прогулке с Таней, Виктор заготовил данный пассаж. Соображение интересное, как ему казалось, уже само по себе, должно в дальнейшей беседе получить новое развитие. Зоркость поэта выберет в каменных нагромождениях неприметные детали и даст нарисовать облик разрушения и непредсказуемой неповторимости. Такое не может не произвести впечатления. Разбомбленный Ростов не походил ни на один из разрушенных городов, мимо которых следовали редакционные вагоны. Улица была свободна от битого кирпича, асфальт тротуара и мостовой точно подметен могучей метлой взрывных волн. Целые, почти не искаженные коробки домов стройно обрамляли проезжую и прохожую часть. Проезжую, по которой никто не ездил. Прохожую, по которой никто не шел. Никто, кроме них. Они шли по странному некрополю, городу мертвых. Потому что внутри коробки домов были пусты, и проемы окон лишены стеклянного блеска, и человеческие голоса не населяли каменные утробы, и шаги их, идущих тут, обретали гулкость, как в ночном актовом зале. И эта внезапная непохожесть так ошеломила Виктора, что он забыл заготовленный пассаж, а мысль о некрополе чем-то не дозволялась к высказыванию, будто могла нарушить уставы загробного обитания бескрышных полых жилищ. Так и двигались они сквозь немоту поселения ушедших, сами лишенные плоти, обращенные лишь в звук собственных шагов. Потому чужие шаги и чужие голоса воспринимались как вторжение. Обернувшись, Виктор увидел метрах в десяти за спиной двух дюжих парней в одинаково надвинутых на лоб кепках. Парни взялись ниоткуда, может, из переулка, может, из руин. Оттого тут же пришло в голову: вот и ростовские жулики! Нет, скорее всего, бандиты. Таня тоже обернулась и взяла Виктора за руку. О, это было прекрасно! Разве сделала бы она подобное, не будь подступившей опасности! И как дала ему знать: ты — мой защитник! Но было страшно. Было страшно. Виктор знал это ощущение, не чувство, а именно ощущение железного, непроглатываемого кома, вбитого в глотку. На войне такое бывало, и не раз. Солдаты говорили, что, например, во время атаки или в сердцевине неистового боя страх часто покидает человека. Остается лишь исступление схватки. Но в боях Виктору участвовать не приходилось: он был всего лишь литсотрудником армейской газеты, ушедшим на фронт с первого курса Литературного института. Однако бомбежки, артобстрелы — тоже не сахар. Ведь шарахнуло же его так, что после полугодового лежания в госпиталях отпустили «по чистой». Но тот страх был иным. Может быть, беспомощным, но не стыдным. И какимто безответственным был тот страх. Сейчас кто-то снова вбил в горло, как в ствол старинной пушки, тяжесть чугунного ядра. Оно распирало шею, и, казалось, Таня может увидеть его выпуклое присутствие. Новое, неиспытанное чувство пришло теперь. Чувство! Чувство ответственности, боязнь оплошать. Она взяла его за руку, она искала защиты; восторг, ликование объяли сердце. Но и ком, ядро в глотке душили. Танины пальцы настойчивее вжались в его ладонь. — Спокойно, не оборачивайтесь! — шепнул ей Виктор. Шаги за спиной приближались, и голоса были уже отчетливы. — Какая мамзель на улицах Ростова! Ничего ножки, а? — сказал один из парней. Другой ответил с ленивым безразличием: — А тебе что, из них студень варить? — И, миновав Виктора с Таней, парни проследовали дальше. — Какая пошлость! — гневно прошептала Таня. — Отчего же? Он прав, я сам обратил внимание на ваши ноги. Виктор произнес это слишком громко: страх отхлынул от горла, ядро провалилось, обретя бесплотность. Осталась радость непосрамленного рыцарства. — Все равно пошлость. От вас я не ждала. Таня тоже, видимо, справилась с испугом. Ночью, лежа на верхней полке своего купе, Виктор улыбался в темноту и время от времени, беззвучно хихикнув, повторял: «Ничего ножки, а?..» — «А тебе что, из них стюдень варить?» Через четыре тонкие переборки в своем купе засыпала Таня, что наполняло вагонную тишину волнующим и обещающим смыслом. И даже фиоритурный храп Вениамина Грача не разрушал очарования вершащегося. Зрительный зал театра, где предстояло играть инсценировку Произведения, был опущен в репетиционную темноту. Лишь сцена взята в кинжальный перекрест юпитерных лучей. Декорации развалин завода, на котором разворачивались события пьесы, еще не установили. Но голый беспорядок обнаженных внутренностей кулис и случайность предметов на сценической площадке сами как бы возрождали облик былого хаоса. В зрительном зале, у одинокой настольной лампы, сидел режиссер Дмитрий Николаевич Громов. Поздоровавшись с ним прикосновением к режиссерскому рукаву, Виктор опустился возле. Репетировали сцену заседания парткома, на котором одной из основных героинь, каменщице Даше Колобовой, поручалось выступить с обращением к женщинам страны — приехать восстанавливать шахты и заводы Донбасса. — Можно мне? — Актриса, играющая Дашу, поднялась из глубины сцены. — Что у вас, товарищ Колобова? — отозвался актер, парторг ЦК. — Предложение. Мы, женщины, обсудили обстановку и вот что решили. Рук не хватает. Конечно, сейчас, когда мужчины на фронте, женские руки нужны повсюду. Но резервы в стране есть. Мы подумали, нужно обратиться с призывом: «Женщины! На восстановление родного Донбасса!» Мы уверены — народ откликнется. — Дельное предложение, — согласился актер-парторг. — Как, товарищи? — Труппа на сцене одобрительно загудела, и парторг адресовался к Даше: — Только ведь, товарищ Даша, нужно такие слова найти, чтобы дошли до каждого женского сердца. Сумеете? — Слова найдем. Со дна души достанем, — обнадежила Даша. Слова обращения доставал из собственной души Перевалов. Идея Махарадзе обретала плоть и размах. В первый день приезда редакции в город Угольный Виктор отправился знакомиться с обстановкой. Вытертая шинелька, еще на фронте выданная из фонда «БУ» («бывшая в употреблении»), немощно жалась к телу. Зимний беспокойный сквозняк без усилий протыкал кирпичные развалы. Что уж тут шинеленка! Однако знобило и от самого руинного пейзажа — неуют всегда холоден, обжитость греет. Останки заводской проходной, кое-как залатанные фанерой, встречали подходивших бессмысленно: забор вокруг комплекса еще не возвели, одни железные ворота торчали. Им хоть бы что! Витиеватый, загогулистый их орнамент пропускал ветер далеко, вплоть до мертвой шестой домны. «Похожа на шахматную ладью, лишенную возможности хода», — подумал Виктор. Хорошо бы записать, но холодно, руки, сунутые в рукава, одеревенели. На железном кружеве ворот красовался плакат: молодая краснощекая деваха держала наперевес, подобно воинскому автомату, шахтерский обушок. Тут же надпись в стихах: Мужчины на фронте, Женщины — в клеть! Скорей обушком Сумей овладеть! Какую еще клеть? — не понял Перевалов. Такую девку — в клеть? Девки в клетке, так сказать. Почти по Маршаку — «Детки в клетке». Нет, нет, жалко. Да еще краснощекую. Краснощеких теперь — днем с огнем. Все худые, голодные, глаза в темных кругах бессрочной работы... Ах, клеть! Это же шахта. В шахтеры зовут барышень. А кто же мастер стиха? Рассмотрел плакат поближе: выездная редакция другой центральной газеты. Ну и молодчаги, уже действуют. Ну и ну. На расчистке заводской территории орудовали женщины. Как раз те, неплакатные — худые, голодные, глаза в темных кругах бессрочной работы. Но странный все-таки народ — бабы. Стоило Перевалову подойти, заверещали весело, как у довоенного клуба: — Привет, солдатик! — Смотри, бабы, какого фриц для нас уберег! — Поиграем, милок? Лови мячик! — Одна кинула ему кирпич. Виктор от неожиданности еле поймал, даже согнул колени. — Не зашиби! — притворно громко прикрикнула на нее товарка. — С ним еще спать можно, отогреть только... Бабы захохотали, а самая старшая строго покачала головой: — Опять ты, Дарья, за свое. Слова приличного не скажешь. Но Дарью не унять: — Так я ж ему в комплимент... — Дальше она произнесла фразу, от которой у Виктора вспыхнули уши и перехватило дыхание. Спасла старшая, рассердившись не на шутку: — Замолчи, Дарья, кому говорю! Засмущала мальца и рада, лошадь. Разгоготалась! Дело делай. — Она взялась за ручку тяжело груженных носилок и кивнула Дарье на другую их сторону. — Да, товарищи женщины, — Виктор совладал со смущением, — нынче все дела вами делаются. — Делаются, да не переделаются, — вздохнула старшая. — Бабы какой год пуп рвут, а работа все руки тянет. Дарья, подхватив носилки, лихо свистнула: — Не робей, тетя Зина! Баб по России без счету. Мы загнемся, другие понаедут. Только свистни, — она сама присвистнула, — особенно если объявку сделать: на дюжину баб по такому кавалеру выдавать будут по карточкам. Дарья мускулисто тряханула носилки, кирпичный бой заскрежетал, но не осыпался. Дарья и была Даша Колосова, ставшая впоследствии героиней Произведения. — Ну, успеха вам, товарищи женщины, — неуместно сказал Перевалов, — не снижайте темпов работы. Понесли носилки. Дарьины чоботы четко, одно за другим, ставили зигзагообразное клеймо на снежно-грязной, как застиранное полотенце, тропке. Тетя Зина трудно управлялась с галошами, натянутыми на валенки, правая нога при каждом шаге соскальзывала с дорожки, оставляя на буром месиве широкие штрихи, будто вычеркивалось: еще шаг сделан, еще шаг... И уже без бодрости в голосе Виктор сказал: — Ну, пока, бабоньки. Непонятно почему, в тесном тамбуре, ведущем в вагончик редакции, дверь была зеркальней, как у платяного шкафа. Впрочем, обстоятельство это непонятно только сторонним. Редакционные-то знали историю. Когда старый купейный вагон переделывали для редакции, одну его часть отвели под кабинет главного редактора и сняли купейные перегородки. Так бесхозными остались двери купе, на внутренней стороне которых были зеркала. Несколько дверей было похищено населением Угольного и продано на городской толкучке. Одну Махарадзе сберег и велел установить в тамбуре при входе в кабинет. «Прежде чем предстать пред очи начальства, каждый сотрудник обязан заглянуть в собственную душу и определить, с честными ли помыслами он входит». Так возвестил Махарадзе. Махарадзе возвестил еще: «Честное дело — не частное дело». И еще. Нетрепетно, вдоль и поперек правя чью-нибудь рукопись, он отвечал безмолвием на протесты оскорбленного автора. Только большим пальцем тыкал в плакат у себя за спиной. Плакат гласил: «Мой дядя самых честных правил». (Правил — в смысле редактировал.) Но это между прочим. Речь о зеркале. О том, что Перевалов, идя к редактору, мог осмотреть себя в этом кочевом трюмо почти с ног до головы. Бывалая солдатская шинель, иссеченная ветрами фронтовых дорог. Ушанка, на сером бобрике лобового отворота еще видна вмятина от снятой звездочки. Синий сосредоточенный взгляд из-под черных, в одну сплошную линию, бровей. Чуть выдвинутый вперед подбородок — свидетельство сильной воли. Гибкая стройность фигуры. Таким увидел себя Перевалов. Да, еще. Чуть иронический прищур глаз, знак непокидающего чувства юмора. Может, правда, кто другой, исследуя данное отражение в зеркале, нашел бы для описания иные слова (шинель — «БУ>>, мальчишечья тощая долговязость, ухмылочка артиста школьной самодеятельности и прочее), но, следуя махарадзевскому призыву к честности, скажем: Виктор Перевалов обладал вполне привлекательной внешностью, можно даже признать — был красив. Зеркало также подтвердило: уши, заполыхавшие от Дарьиного заявления, почти угасли, а если и не совсем, то могли сойти за покрасневшие на морозе. Поэтому, войдя к Махарадзе, Виктор вместо приветствия раскинул руки и продекламировал: «Мужчины на фронте, женщины — в клеть» и — до конца. — По десять рублей за строчку, — сказал Махарадзе. — С тебя. В качестве штрафа за подобное творчество. — Не с меня, с соперников, Тенгиз Давидович! Последовал рассказ про плакат. И сразу вместо краснощекой девахи на нем представилась Дарья Колобова. Поэтому добавил: — Женщины бедные и так надрываются, куда еще их в клеть! Это же издевательство — такие стихи. — А ты создай достойное. Заодно убей соперника талантом, — сказал Махарадзе, и астма защелкала в редакторской груди. — Пусть Грач создает достойный плакат. Бениамин Грач был редакционным художником. Виктор подхватил воодушевленно: — Но это замечательные женщины! Они не теряют присутствия духа и оптимизма. Они даже уверены, что женщины со всей страны приедут на помощь Донбассу, если обратиться к ним с призывом! Махарадзе по своей обычной привычке заграбастал в огромную ладонь пухлое лицо и начал молча его месить. Потом сказал: — Пиши стих. Бениамин Грач резал плакат. Бениамин Грач резал плакат свирепо и плотоядно, изымая красноватые полоски плоти линолеума специальным ножом. Значит, правильнее было бы сказать, что Бениамин Грач резал линолеум, создавая выпуклости и провалы в изображении на будущем плакате. (В типографии линолеум покрывали краской и катали отпечатки.) Но Грач говорил: «Режу плакат». И Виктор говорил: «Режет плакат». Виктору очень хотелось овладеть различной профессиональной терминологией. Она не давалась. Даже название Грачевого ножа невозможно было упомнить. Заводской же лексикон, столь необходимый для корреспонденции, вовсе отторгался от сознания. В голову лезла только какая-то образная чушь. Бениамин Грач резал плакат на откидном столике их купе — купе, где жили Грач и Перевалов. Поверх столика лежал лист десятимиллиметровой фанеры. А как иначе уместился бы на куцем столике просторный лист линолеума? Сам Бениамин Грач был вырезан на красноватом листе оконного стекла, за которым набухал темнотой закат. Да, такое сравнение было уместным, более того, «локально оправданным», как учили Виктора в институте. Во-первых, потому, что закатное окно действительно напоминало лист линолеума. Во-вторых, потому, что темный силуэт Грача был тонко обрезан, врезан. И, наконец, Грач и в мирской жизни смахивал на силуэт, плоское изображение. Так был худ. Махарадзе говорил: «Из-за древка знамени вышел Бенджамен Грач». Он звал его Бенджамен. — Беня, — сказал Виктор, — ты сейчас похож на древнеегипетскую фигурку, нарисованную на терракоте. — Месье недавно из Древнего Египта? — осведомился Грач, не отрываясь от работы. — Или мадам Нефертити подарила месье в залог любви свою рабочую карточку? Или? — Глупо, — сказал Виктор. Глупо и обидно. Схожесть Бени с египетскими фресками обозначилась для Перевалова не сейчас. Позавчера, когда тот шлепал в заводскую столовую, вытаскивая из снежного талого месива длинные ноги. Почему? Во-первых, потому, что Грач смахивал на плоское изображение. Во-вторых, потому, что острые углы коленей и разведенные руки, точно щупающие воздух впереди и сзади себя вызывали в памяти пластику египетских изображений, виденных Виктором на лекции по эстетике. И, наконец... Почему нам что-то напоминает что-то, что-то мы с чем-то сравниваем? Дубина ты, Бениамин Грач. Тебе бы, художнику, оценить сравнение. Ладно, будем резать свой плакат. Стихотворной подписи пока нет как нет, а пошел второй день от махарадзевского заказа: «Пиши». Поймите правильно: подписи нет вовсе не оттого, что Виктор Перевалов не может соединить в созвучие четыре строки. Вон сколько вариантов испестрило бумажные обрывки. И отнюдь недурственных. Но нужно было создать нечто, открою-щее миру глаза на беспомощность соперника, автора мадригала в честь клети и обушка. Это, во-первых. Во-вторых. Рождался п-е-р-в-ы-й плакат Грач — Перевалов. Заявиться нужно сразу, выдать возможности на всю катушку. И, наконец. Нож Вениамина Грача извлекал из тусклого линолеума сильные, волевые черты прекрасной женщины с поднятой рукой, типа (типа!) «Родина-Мать зовет!» А в глаза лезли и лезли, и лезли широкие штрихи у заводской тропки, оставляемые тети-Зининой галошей. Метки: еще шаг, еще шаг... Окончательный, близкий к совершенству вариант подписи лег на стол Махарадзе к концу второго дня. Трижды переписанный набело. Пока редактор, погрузив в ладонь сдобные щеки, читал, Виктор с покорностью гения, ожидающего всемирного признания, стоял у стола, отвернувшись к окну. Махарадзе читал долго. Господи, что он, «Илиаду» изучал? — Нехорошо, Витя, — наконец высвободил лицо редактор, — плохое начало. Нечестно начинаешь. — То есть?.. Что вы имеете в виду? — Такого оборота Виктор не ждал. Чего угодно, но не такого. — А то. Плагиат. Маршак уже написал это однажды. — Он протянул Виктору обрывок газеты, где было напечатано четверостишие. И подпись под ним: С. Маршак. Можно было свихнуться: он, Виктор, ведь знал, что сам, сам перебирал слова, отбирая, расставлял, выдумывал, ничего из памяти, ничего из читанного. Откуда? Как? И как докажешь? Напечатано. Черным по белому. Боже, позорище! Все узнают, Таня узнает, все будут хохотать. Таня будет хохотать, все... И — стена неверия, и — не докажешь. И как могло быть такое — слово в слово. Ну, тема. Ну, строчка, наконец. Но — все? Слово в слово. Можно было свихнуться. Он чуть и не свихнулся. Два дня не выходил из купе, два дня ничего в глотку не лезло, хотя Бениамин Грач носил затворнику концентратовую кашу в алюминиевой миске. А через два дня Махарадзе милостиво признался: разыграл Виктора. Один из беловиков четверостишия Грач, того не помня, отдал редактору вместе с будущим плакатом, Махарадзе и наказал «тиснуть» текст в типографии, поставив подпись — С. Маршак. И сунул клочок Виктору. Тенгиз Давидович Махарадзе хохотал до кашля, целый ложечно-свистуличный оркестр трудился в груди. Бениамин Грач сводил брови «домиком», кончик носа (этот кончик носа всегда жил собственной, обособленной от лица жизнью), недоумевая, вертелся туда-сюда: «Кто бы мог подумать, что рядовой художник Грач поселится в одном купе с классиком? Или это сладкий сон? Или?» Таня: «Вам нет причин для огорчений. Подумайте — ваше творчество достигло высот Маршака». Но ведь узнала, все узнала. И темная смута из души Виктора не уходила. Казалось бы — ничтожное происшествие, анекдот редакционного значения. Повеселились, и делу конец. А вот для Виктора Перевалова в случившемся вдруг открылся некий назидательный смысл. Не сам собой открылся, устами Махарадзе Тенгиза Давидовича. — Если ты написал что-то, что могло бы выйти из-под чужого пера, значит, это все равно не твое. Безличный фонд. В журналистике безличность — не наличность. Запомни, юный друг, эту заповедь Евангелия от Тенгиза. Виктор запомнил. Помнил всю жизнь, даже в мелкой, проходной работе старался искать свои слова. Жаль, что такие редакторы, как Махарадзе, были не часты. Литературные поиски Виктора назывались или «не передающими масштаб творимых дел», или «элитарными изысками», или «не нужным народу самокопательством». И все-таки Виктор верил, что не теряет самобытности, мастерства. И в Произведении, где был максимально строг к себе, искал. Слова, фразу, абзац. «В буфет бы пойти, пожрать надо», — подумал Виктор Перевалов, лежащий на койке в гостиничном номере. Но, как мы уже указывали, с места не двинулся. Впрочем, через час голод-таки погнал в буфет. И отлично! Ибо в этом самом гостиничном буфете, склоненные над курицей-утопленницей, мы встретились не с каким-то Виктором Петровичем, а с Витькой, Витькой Переваловым, давним и некогда ближайшим другом моих студенческих лет. Нельзя сказать, что в последующие годы мы вовсе не общались, единая профессиональная сфера время от времени, хотя и не часто, соединяла нас в радостном «Здорово! Ну, как ты? Как семья? Что сочиняешь? Слышал — этотто?..» Но это уже была не дружба, а лишь интонация. А когда-то мы дружили с энтузиазмом упоения схожестью биографий, необходимостью обмена новорожденными строчками стихов и подробностями любовных эпопей, с неколебимой верой, что такая дружба — до гроба. Учились мы тогда в Литературном институте на отделении поэзии. Сейчас мне было известно, что стихи Виктор забросил, стал литературным критиком и трудится в одном из московских журналов. Что-то из его статей читала, что-то о его семье знала, но уже не было в моем знании пылкого позыва к постоянным встречам и долгим полночным телефонным разговорам. Однако, встретившись в гостиничном буфете смирного провинциального городка, в котором я тоже пребывала по делам служебной командировки, мы обрадовались друг другу искренне, с прежним жаром и, вроде перешагнув через полосу отчуждения, снова очутились в днях взаимной необходимости. Вечерами, покончив с дневными хлопотами, мы извлекали походные кипятильники, этот непременнейший атрибут жизни советского командировочного, затевали чаепитие и говорили, забивая подробностями вакуум безучастия долгих лет. И поскольку встреча наша угодила на тот момент, когда Виктор обратился памятью ко дням, образовавшим хронологию Произведения, а также и к событиям, в Произведении не отраженным, события эти он излагал мне. Надо признать, рассказчик Виктор был отменный, все виделось, все слышалось, будто с тобой самим происходило. Боюсь, даже не умудрюсь воспроизвести все услышанное равноценно Викторовому повествованию. Но вот что необходимо тут отметить. Конечно, не все события и действующие лица были изображены мне. Что-то было только помечено. И хотя на правах автора я могу и допустить, досочинить что-то, делать этого не стану, а просто буду указывать: произошло то-то и то-то. Впрочем, наиболее эпохальное читатель может узнать, прочитав Произведение. С меня хватило и отдельных эпизодов, рассказанных Виктором, так как они показались мне самыми важными, потому что открывали многое в моей собственной литературной судьбе. Это и побудило меня взяться за рассказ, ну и, конечно, то, что произошло с Виктором здесь, почти на моих глазах, обязывало стать, в меру сил, летописцем его жизни. Времяпрепровождение Виктора Перевалова в означенном провинциальном городе так же очерчено им в вечерних гостиничных беседах с иронической исповедальностью юных наших лет. Кое-что узнала я от жителей города. И теперь, когда драматизм происшедшего несколько поутих в моей душе, я могу снова следовать за Виктором Переваловым в дни его мятежных начал. Бениамин Грач шнуровал ботинки завязками кальсон. У такой методы было два резона. Во-первых, отсутствие ботиночных шнурков в промтоварных распределителях, как именовались тогда магазины, он не желал компенсировать применением обычной бечевки. Виктор, впрочем, советовал окрасить веревку типографской краской, что придало бы ей почти полную неотличимость от шнурка фабричной работы. Но Грач возражал: «Я, между нами говоря, не фраер, покинувший тюрягу. Веревка, вервие простое — их мода». Тем не менее, не это было главным. Шнурование ботинок кальсонными завязками таило в себе прямую утилитарность. Любые ботинки, не говоря уже о разношенных, какими и обладал Грач, «третьего срока носки», сваливались с его костлявых ступней. Завязки, плотно соединив два элемента одежды — ботинки и кальсоны, — намертво приторачивали один к другому. Система эта имела и свои пороки. Стыковка, выражаясь сегодняшним языком, означенных деталей грачевского гардероба производилась, за сложностью, один раз в сутки. Отчего днем, желая отдохнуть от очередного плаката, Грач валялся на купейной полке в ботинках. И Виктор злился. Злился не потому, что был педантичным поборником гигиены быта. Могла заглянуть Таня. Виктор всегда жил в ожидании такого момента. Легко себе представить, как была бы шокирована профессорская дочь. — Беня, ну что за босяцкая манера — валяться на постели в грязных чоботах! — сказал Виктор. — Месье недавно из Версаля? — Беня не шевельнулся, только кончик носа описал параболу. — Или месье принял магометанство, и привычка снимать обувь в мечети уже успела войти ему в плоть и кровь? Или? Этот диалог, с небольшими вариациями, повторялся почти ежедневно. И затухал, не приводя к результатам. Но сегодня Виктор взорвался: — А мне противно, понимаешь, противно! Я хочу жить в человеческих условиях. Понятно? И стоило ему закричать, как в дверь постучала Таня. Перевалов замер, потом кинулся, руками сбросил с полки длинные Грачевы ноги. Таня оказалась не Таней, а Тенгизом Давидовичем Махарадзе. — По какому поводу сражаются двое худых? Помните, худой мир лучше доброй ссоры. — Махарадзе никогда не упускал возможности скаламбурить. — Творческие разногласия. — Виктор ответил радостно: вошла ведь не Таня. — Ай-ай-ай! — пощелкал языком редактор. — И вот в тот ответственный момент, когда на первой полосе, где должны красоваться замечательные стихи о борьбе с чугунным козлом, еще конь не валялся. Бенджамен! Как вы рискнули выбивать поэта из вдохновенного состояния? И вообще! Что говорил ваш великий тезка Бенджамен Франклин? «Если мы не будем стоять вместе, мы будем висеть по одиночке». Прошу иметь в виду. Редактор задвинул дверь и прошествовал далее по проходу. Что правда, то правда. Никаких склок и раздоров в редакции Махарадзе не признавал. Они были ему противны. Особенно кляузы и жалобы коллег друг на друга. Однажды нервический зав. отделом информации Кутепов накатал Тенгизу докладную на своего литсотрудника, который дал в заметке цифры выполнения месячного плана с ошибкой на два и две десятых процента, так как получил сведения до окончательного подведения итогов соревнования. Редактор долго двигал кулаками щеки справа налево, астма посвистывала в горле. Протянул листок подателю: — Великий пролетарский писатель-гуманист Алексей Максимович Горький однажды заметил, что доносы в России всегда писались с орфографическими ошибками. Видимо, он имел в виду и вас. Я — не корректор. Я — редактор. И все. И все усвоили. И не жаловались. Хотя Кутепов в частных разговорах не раз поминал махарадзевскую беспринципность. Как я уже сообщила, Виктор в наших вечерних беседах не излагал историю жизни в Угольном с хроникальной точностью и опускал иные события вовсе. Но мне, путем вопросов, удалось установить связки между некоторыми эпизодами. Так я выяснила, что Виктор и Грач познакомились ближе с Дашей Колобовой и тетей Зиной. Узнали: вся семья тети Зины погибла во время бомбежки. Позднее тетя Зина подобрала четырех местных ребят-сирот. И всех их пустила жить в свою уцелевшую хибару Даша. Вот такое семейство образовалось. Однажды Даша и тетя Зина пригласили наших героев в гости. Те долго ломали голову: что отнести в подарок женщинам? Женщинам! Очень хотелось, чтобы подарок был чисто женским, воскрешающим убитое войной и невзгодами «вечно женственное». Какое-нибудь «свет мой, зеркальце», что ли. И тут Грач поднял тощий перст: «О! Именно. Зеркало. Как раз зеркало мы имеем. Или дверь из тамбура — не зеркало? Или?» Они двигались, неся на загривках дверь. Они двигались, неся на загривках крыши домов с пеньками просевших труб, малиновое солнце, запутавшееся в нечесаных клубках безлистых крон, голодную россыпь воробьиных стай — весь верхний мир, рушащийся в плоскую глубину зеркала и выныривающий из него, чтобы снова уйти в высоту. Они несли на загривках нищету черного мира, спаленного сумерками и непросохшей с осени сыростью. И огнем пожаров, сделавших свою работу кое-как: слишком много объектов пришлось пламени обмять — спешило, видно. Набухая темнотой, мир все тяжелел, уже не выныривал, а натужно выкарабкивался из зеркальной глубины. Оттого загривкам, плечам, спине становилось труднее. К комендантскому часу ноша стала почти неподъемной. И тут появился милиционер. — Откуда предмет? Куда следуете? — строго осведомился он, и Виктор замер от страха, сбился с ноги. Но Бениамин Грач невозмутимо ответил из-под зеркала: — Мы переезжаем. — Другое дело, — сказал милиционер. Он не ждал такого оборота. — Тогда следуйте. В Дашиной хибаре зеркальную дверь приставили к дальней стенке, сразу размножив предметы комнаты. Зажглось две коптилки, уместилось в темноте два стола, две Даши взялись причесывать волосы, а ребятни набилось — не сосчитать, целый табунок сбился у запотевшего стекла и дальше за ним. Только тетя Зина, как была, так одна и осталась. Шуровала у печки, зеркало ее не доставало. — Мамочка-мамуле! 1ька, ну скажи им, чего они лезут, — захлопала заячьей губой Катя, — чье день рождение, мое или ихая? Я первая должна смотреться. — Наглядишься, не ной! — Даша не оторвалась от собственного отражения, только несильно смазала по макушке беззубого Митю: — А ты, вообще, иди ложись. Что, вся температура прошла, как зеркало увидел? — Мое день рождение, — хлюпнула носом Катя. Так и было. Отмечался Катин день рождения. На столе, на газетке, лежал нарезанный хлеб, в блюдечке — немощно-фуксиновые кусочки постного сахара. Казалось, их сосулечная плоть вот-вот оплывет под пристальным взором коптилки. — Ну, все. Садитесь, — сказала тетя Зина. Она поставила еще и тарелку, где сутулилась какая-то коричневая масса, ловко приукрашенная вмятинками от ножа. — Пробуйте. Чистый печеночный паштет. Не отличите. — Много они твоего паштета видели! — Даша еще раз поправила волосы и подсела к столу на общую лавку, где уже разместились ребята. — Вот и увидят, — сказала тетя Зина. Виктор предложил женщинам две имевшиеся в наличии табуретки, но Даша только плечами передернула: — Да неужто? Как раз! Да разве мы с тетей Зиной такое допустим! Счастье-то какое: нам каждой по цельному мужчине к праздничку. Она засмеялась, откинув голову, и Виктор уперся взглядом в ее высокую, точно полупрозрачную, как стеариновая свеча, шею. Впервые Даша предстала перед ним без ватной «фуфайки», не упакованная в платки. И вновь, как во время первой встречи с Дашей, у него загорелись уши, готовые оплыть, как кусочки постного сахара под пристальным взором коптилочного фитилька. И кровь томительно ударила в виски. — Обратно за свое, — вздохнула тетя Зина. — При детях бы посрамилась. Кушайте паштет. — Охотно. Авек мои плезир, как говорят у нас в Париже, изыск, — откликнулся Грач. Он тоже смотрел на Дашину шею, но, возможно, данное умозаключение относилось и к паштету. Но тетя Зина не поняла: — Какой такой изыск? Дрожжи жареные. На пекарню ходила подсоблять, вот и отоварили премией — триста грамм отвалили. А их в любых жирах спассеруешь — от паштета не отличишь. Я-то паштетов переделала в жизни — будь здоров! Выяснилось, что тетя Зина до войны работала поваром в комбинатской столовой, на холодной разделке, но могла и на выпечке, ее и теперь в ОРСовскую столовую звали, но она не пошла. Даша говорила, что хоть детей накормим, а тетя Зина сказала, что сроду детей на ворованном не поднимала. Как у всех, так и у нас будет. И пошла разнорабочей. Только иногда ходила в пекарне помогать, когда там не управлялись. Все выяснилось. И про ребят тоже. Что Машутка — хозяйка, хоть в очередь отовариться пошли, хоть стирку поручи. Юрка тоже мужик надежный, но очень грубый, а Митька тихий, с придурью, только бы книжки читал, а где они, книжки, по военному времени? Одну в развалинах нашел и все читает с конца на конец и обратно, а Катька, та лиса подхалимистая, тетю Зину матерью звать не стала, у нее мамочка, говорит, красивенькая, молоденькая. А она ее сроду не помнит, до войны схоронили, так Дашку сразу — «мамочка-мамулинька». Без мыла влезет. Тетя Зина, вообще-то, таких детей не уважает, да что делать — уже свои стали. Все выяснилось. Все подряд, разговором, не обидно, весело. И праздник, как тому положено, вышел веселый. И еще — зеркало. Все — вдвойне, все — вдвойне. И две Даши. «Одна хохоча закидывала голову, стеариновая шея полупрозрачно светилась. Другая роняла на спину темный узел волос. И два фитилька коптилок плавили на столах две немощно-фуксиновые горки постного сахара. И даже выпить по глотку нашлось. Тетя Зина приберегла выданную по карточкам водку, не снесла на базар менять на харчи. — За что же пьем? — вскочил с поднятым стаканом Виктор. — За четырех хозяек! За цвет их лиц, за встречу в мясоед! За то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт! Выпили не сразу, обсудили тост. Сочли, что хозяек, и правда, четверо, потому как Машку и Катьку уже считать за работниц можно. Хотя какой цвет лиц по нынешнему времени? — Молодец, что мясоед помянул, теперь божий счет совсем позабыли, — сказала тетя Зина, — кварталы одни да пятилетки. А даст Бог, на тот год и верно к мясоеду с мясом будем. — В том случае, если поэт станет полубогом и составит протекцию ко Всевышнему, — вставил Грач. А Даша подмигнула Виктору: — Не робей, милок! Каждый парень бабе — бог! Ликующий восторг затопил Виктора: — Дашенька! Умница! Вы же — поэт, вы же — в рифму. Беня, ты слышал? В рифму! За вас, дорогие, за всех вас! — Удивительные женщины! — говорил Виктор Грачу, когда они возвращались. — Какое мужество: потерять всех близких, и ни слез, ни жалоб. И посвятить себя чужим детям! Такой народ не может не победить! Вот истинные героини эпоса. Если бы я владел, нет, правда, если бы я владел этим жанром... — Месье получил приз на конкурсе мелодек-ламаторов? — тускло осведомился Грач. Он шел сквозь разбавленное бессолнечным светом утро, шел своей походкой египетской фрески: одна рука брала у кого-то впереди него щепотку сырого воздуха, другая отдавала такую же щепотку кому-то, идущему за спиной. Бениамин Грач был глух к волнениям Виктора. Поэтому днем все пришлось рассказать Тане. Правда, почему-то о Дашином присутствии Виктор вообще умолчал. Все удивления и восторги были адресованы только тете Зине. Но, как ни печально, Таня тоже не поняла Перевалова: — Наша извечная расейская привычка к страданиям. Порой мне кажется, что трагедия вообще естественное состояние для русской женщины. А привычность отнимает реакции. Виктор не возразил. Перед глазами снова вспыхнула обнаженная Дашина шея, и снова жарко шарахнуло в виски. От одного воспоминания зарделись угли, что не осталось незамеченным Таней. — Боже, Виктор! Как это прекрасно! Только истинному поэту может быть свойственна такая восторженность, такое воодушевление, такое целомудрие чувств. Постарайтесь не утратить их до конца дней. Ах, Таня! Как прелестна была она в тот миг, как распахнулись глаза, точно окно в зелень сада, какая пастушья дудочка вывела каждый звук голоса! Красавица моя! Вся стать, вся суть твоя мне по сердцу. Вся хочет музыкою стать и вся на рифмы просится! Ни о какой Даше уже и помину не стало. ...К урочному часу приема пищи в заводской столовой Виктор обычно успевал так проголодаться, что процесс заглатывания «жиров», «круп» и прочего, обозначенного на продовольственной карточке, овладевал им целиком, заслоняя окружающую действительность. Видимо, поэтому Виктор и не сразу заметил, что Грач приходит в столовую с солдатским котелком, в котором обычно хранил тряпки для протирания линолеума. А, заметив, установил с удивлением: в котелок Грач складывал хлеб и второе, питаясь одним малонасыщенным супом. — На ночь, — пояснил Грач. — Ты что — Васисуалий Лоханкин? Но воруешь по ночам сам у себя? — съязвил Перевалов. Грач не дрогнул: — Представь себе. Однажды под вечер Грач вошел в купе, помахивая пустым котелком. И замер. — Идиот! — Грач хлопнул себя по лбу свободной рукой и полез во внутренний карман пиджака. От огорчения он забыл про котелок, и тот никчемно болтался в опущенной левой руке. — Идиот, — повторил Грач, будто утверждаясь в этой мысли, и протянул Виктору крошечный белый конвертик, вынутый из пиджака. — Маэстро, затрудните себя небольшой прогулкой... Это Мите: ну ты помнишь, ну мальчик у тети Зины, он никак не вылезет из болезни. Я достал ему стрептоцид. И — из ума вон. Вспомнив, наконец о котелке, Грач виновато и заботливо установил его на откидном столике, словно именно перед ним оправдывался в дурацкой своей забывчивости. Подробная ясность происходящего мгновенно открылась Перевалову. Трудно сказать, вознегодовал он или просто обиделся, но стало досадно: — Ах, вон оно что! Рыцари среди нас! Он, видите ли, голодает, чтобы носить еду бедным сиротам! Он достает им лекарства! И благородно молчит о своей самоотверженности... — Не дергайтесь, синьор. Я установил: эти дети не от тебя. — Неуместность и неуклюжесть шутки, которой Грач попытался затереть прорехи нелояльности в их дружбе, еще более воспламенили Виктора. И хотя было понятно, что никакие прорехи затиранием не ликвидируются, он выразился на такой манер: — Выходит, только ты способен на помощь, я, выходит, не могу ради ребенка отказать себе в лишнем куске хлеба? — Исключительно замечательно, — согласился Грач, — спеши осуществить порыв. Или ты отнесешь стрептоцид? Или? Виктор вырвал пакетик и двинул в хибару. Гневный шквал был тут же остужен колкой стынью, но Виктор и не заметил ее. Бежал, было жарко. Впрочем, торопился зря: никого в хибарке не оказалось, даже больного Мити, во всяком случае никто на стук не отозвался. А может, Митя вылечен предыдущими порциями стрептоцида? Беня же наверняка уже натаскал. Так или иначе пакетик остался дремать в кармане. — Слушай, — спросила я Виктора, — а что, по должности штатного поэта ты только подписи к плакатам сочинял? Стихи-то писал? — А то! Или? — усмехнулся Виктор. ...Позор, позор, позор... И через тридцать лет он возвращался к Перевалову не насмешливым лепетом усмиренных воспоминаний, а бил наотмашь в грудь, по щекам, даже не по щекам — по морде. Теперешний многомудрый и многоумелый Перевалов отмахивался: «Да ладно!.. Хреновина все это и муть болотная. Ну не смог. И понятно, что не смог — поэт, а тут шпаковки-поковки. А очеркистского опыта — с комариный хвост. Но как же она-то, черт ее подери, управилась? Казалось ведь: ленты-бантики. «Ах, ленты-бантики, ленты-бантики, ленты в кудри вяжутся...» Но не брало, не отгоняло давнего. Только вслух допевалась никчемная частушка: «Мой миленок ненаглядный предо мной куражится». А ведь и частушки этой тогда не было, услы-шалась позднее, потом. При чем тут? «Ленты-бантики» — такой виделась теперь Таня. Фу-ты ну-ты, шифонымаркизеты, профессорское чадо, белые носочки, туфельки — перепоночка на пуговке, нотная папка на шелковых шнурах болтается. Откуда ей-то смочь? «Мой миленок ненаглядный предо мной куражится». Куражился миленок, куражился. А как пред такой не куражиться? Махарадзе так и сказал: «Столько куражу — курам жуть!» И каламбур — не аи, и рифма сомнительная. Но тогда добило это Виктора. Ведь при Тане было сказано, перед ней, перед которой он куражился, полагая, что «Реквием аглофабрике» взметнет его, Виктора, победное знамя над головой возлюбленной. Иллюзорность победы была предречена уже самим строем образа. Прежде всего потому, что и к этому моменту в сознании Виктора укрепилось, что взмыть, взметнуться, реять может лишь знамя красное. Ну, алое, багряное, скажем. (Что впоследствии и было отражено в его творчестве, правда по другому поводу, но тоже метафорически. Однако об этом ниже.) В случае же победы над Таниным сердцем, воображением и судьбой, путем могущественного оружия — таланта, отлившего строки «Реквиема аглофабрике», знамени предполагалось реять белизной. (Белое знамя, как известно, само по себе — знак контрреволюции.) Но белым оно представало, ибо имя ему — фата. Свадебная фата. Ведь Таня мечталась лишь бессмертной возлюбленной, женой. И тут был заложен второй вариант несвершаемости. Откуда в те годы могла пригрезиться фата? Сроду он не видел никаких фат. Это уже когда дочка его во Дворце бракосочетания литургической поступью мендельсоновского марша вступала, как выразилась загсовская церемониймейстерша, «в ответственный период личной жизни и жизни нашего общества» — гипюровая зыбь фаты бежала от дочкиного затылка к растроганным стопам родственников и друзей. А тогда? До войны привлекли бы за буржуазное перерождение. Про военные времена и разговору нет! Да и мануфактура отсутствовала. Белая ли, какая ли. Поэтому, как вполне очевидно, поэтические несуразности могли бы насторожить Виктора изначально. Но тогда закономерности и правомерности литературы во всей их определенности и даже, можно сказать, директивности были Перевалову неведомы. Молод был, глуп. Ничего еще не знал студент Литинститута и поэт-литсотрудник выездной редакции, хотя и штатный. Неосведомленно мечтал: пусть другие сотрудники редакции, лишенные поэтического дара, пишут корреспонденции про чугунного козла в глотке домны, про проценты выполнения и трудности энергоснабжения. Он воссоздает зримое иначе, ему лишь доступным способом. Вот увидел умерщвленную бомбежкой аглофабрику. С фасада — неряшливые бетонные соты, слепленные пчелами-бомбами, утратившими в безумии сокрушения присущее пчелиной архитектуре чувство гармонии. Такое не воспевают — отпевают. Значит, реквием. Все сломанные ритмы этажей и проемов — в сломанность стихотворного ритма. Все паузы изъятых пространств — в паузы строф, в недописанность, оборванность. Уже виделось, слышалось, уже первые строчки пришли. Уже верил, знал: напишет такое, не чета стихотворным кубикам на бенджаменовских плакатах! И — конец неприступному профессорскому дитяти. Его. «Мое, — вскричал Онегин грозно». А почему, собственно, — нет? Виктор, как и большинство поэтов, музыкантов, художников, верил в чудесную силу искусства. Не только для ведения народа на новые подвиги, но и для покорения женского населения. И в последующие за описываемыми событиями времена наблюдал эту волшебную силу в действии. Сам ведь присутствовал при сцене, имевшей место в мастерской одного московского скульптора. В мастерскую была приведена знаменитая столичная красотка по имени Филя. О мощи ее красоты можно судить по такой детали: Филя слыла эталонной единицей женских прелестей, и любая девица, даже из посещавших Дом кино (самое заповедно-желанное место столицы), определяемая по шкале ценностей как «микрофиля», уже считалась хорошенькой. Привел Филю в мастерскую чемпион по теннису и тоже эталонный красавец, в отличие от которого хозяин мастерской, скромный скульптор, был просто уродом. Так вот, воздействие окружающего искусства было таково, что Филя тут же про красавца-чемпиона забыла и осталась проводить ночь под влажной стражей глиняных торсов. А потом объясняла: — У меня такие красивые руки, что один скульптор хочет лепить с них бюст. Или другой пример. Композитор. Физиономией и фигурой пострашней скульптора. Бросаясь в атаку на женщину, всегда шептал друзьям: «Мне только довести ее до рояля». И был прав. Чем же хуже поэт? Да еще молодой, да еще хорош собой. В рифму. Может, все так и вышло бы, может, «Реквиему аглофабрике» и прозвучать реквиемом Таничкиному девичеству, но черт дернул Виктора поделиться творческим замыслом с Махарадзе Тенгизом Давидовичем. Относительно, разумеется, поэтического опуса, а не его предназначения. Махарадзе слушал внимательно, даже не мигая. Потом сказал: — Гениально. А также архигениально, более того, конгениально. Напишешь. В девятнадцатом веке. Можно даже в начале двадцатого, примыкая па основании пристрастий к имажинистам или акмеистам. На выбор. Но самое лучшее — пиши в двадцать первом столетии, освобожденном от нашей прозы. А сейчас приступай к тому, что нужно народу и в то же время ему доступно. К очерку о работах в доменном цеху. Тут и грянул позор. В первой фазе: очерк вышел натужно-помпезным и при этом еще технически безграмотным, что и констатировал принародно Махарадзе Тенгиз Давидович. Вторая фаза позора была уже вовсе нестерпимой. Очерк поручили Тане. И она, как указал тот же Махарадзе, прекрасно справилась с заданием, точно изложив про взорванные колонны большинства печей, а также про то, как бронь горна фурменной зоны и заплечников деформирована и имеет разрывы. И еще: как сильно повреждена водопроводная сеть. Далее шло продолженное беседой с главным механиком сообщение о том, что в центральной котельной оккупанты взорвали все пять котлов: «Начали с воды. Группа энтузиастов-слесарей приняла обязательство: в кратчайший срок обеспечить завод питьевой и технической водой. Сложно! Чтобы пустить насос, нужны детали, а чтобы их выточить — электроэнергия. Заводские Черепановы и ползуповы додумались "скрестить" динамо-машину с паропутевым краном. Получилась "электростанция" мощностью в 20-30 киловатт. Первый ток!» Таня выслушала редакторские комплименты, смиренно потупив очи, не вскинув их победно на Виктора, даже когда Махарадзе сказал ему: — Учись, мой сын Науки сокращают. Как назло, Виктор не мог вспомнить, что именно сокращают науки. А ведь хрестоматийное, известнейшее. Но тут хоть убей, не помнил. Всю ночь с неотвратимой ритмичной изнурительностью к нему возвращался один и тот же сон: ему снился его очерк. Развороченные строчки были обожжены и покорежены. Слова, то сгрудившиеся битой мелюзгой букв, то разорванные и закрученные на концах в черные жгуты, валялись на бетонном полу в неприступности бессмыслия. Глаголы (почему глаголы? — но именно они), вдруг вздыбясь, уходили к потолку израненным рядом колонн, отделяющих печной пролет от разливочного. Но особенно странны были буквы «о»: они помечали зоркую черноту глазниц фурменных отверстий, следя за каждым движением Виктора, скрыться от их зрячей погони было невозможно. И всякий раз, прежде чем сну оборваться, в него входила Таня, простирала руки к словесному хаосу, и Виктор обнаруживал, что она держит в открытых ладонях чистую и холодную воду. Вода не расплескивалась. Как иногда бывает во сне, Виктор вдруг понимал, что и в дневном своем существовании Танины руки казались ему держащими не-плескающуюся воду. Может, оттого, что обладали беззащитной стеклянной хрупкостью. Но и во сне Виктор подумал: пожалуй, образ, ощущение отдают декаденщиной. Однако Тане хоть бы что. Держала воду и держала. И качала локонами: «Боже, как непристойно, какое мелкое жульничество! Ведь фурменные отверстия — мои. И печной пролет, разделенный с разливочным, — мой. Неужели у всех поэтов такой жалкий лексический запас?» Ее глаза, ее «березовые листки на Троицу», трогал лоск сочувствия и порицания. И было жаль, что клерикальная терминология неприемлема для советской литературы. Ведь был в самом цвете этих глаз некий смиряющий божеский знак. Иначе откуда бы взялось: «сатанинские очи фурменных отверстий тут же льстиво и застенчиво потупились». Виктора прямо-таки сводил спазм позора, и он бросался бежать, чтобы вырваться с территории очерка. Но вырывался только из сна. Потом засыпал, и все шло по-новой. Утром, долго не вставая, ждал, пока уйдет Грач. Думать при постороннем казалось невозможным — будто открыть тайное, заповедное. А Виктор думал. Он думал: «Да, не могу. Ну, обделили небеса техническим мышлением, не в силах запомнить даже термины. Хорошо, ладно. Но ведь могу иное — то, что не на день, не на год, то, что может понадобиться людям через полвека. Не технические подробности. Образ сокрушенного и вершимого. Кто захочет про технологию, пусть читает документы. Но ведь большинству важно "сквозь магический кристалл" образа увидеть облик и душу некогда сущего. А может "Реквием аглофабрике" заставил бы вздрогнуть чье-то не рожденное еще ныне сердце и чьито грядущие слезы омыли бы панихиду сегодняшних страданий?» Грач, как обычно, возился с кальсонными штрипками, впихивая их в замахрившиеся отверстия на башмаках. С грустью покосился на Перевалова. Может, конечно, грусть эта относилась к ветшающей системе шнуровки, но Виктор, почувствовав себя пойманным на размышлениях, смутился, ибо привычный анализировать стилистику произносимого или написанного, был и сам покороблен некоторой высокопарностью последнего пассажа этих раздумий. Потому сказал: — Нет, правда, ты тоже считаешь, что я должен излагать все простым суконным языком? Неужели поэзия обречена на примитив плакатных кубиков, которые мы с тобой тачаем? — Народу, синьор, нужны кубики, — повертел носом Грач. — И, послюнив штрипку, добавил: — А человеку — шнурки. — Нет, я серьезно, — вскочил Виктор, — скажи, ну скажи, тебе достаточно этой паркетно-линолеумной живописи? Ты не хотел бы создать нечто истинное? Хотел бы? Скажи, ну скажи! Грач довольно долго молчал. — Я хотел бы создать картину окружающей действительности в стиле Босха. Хотел бы, хотел. Ну и что? Или мои хотения имеют необходимый действительности смысл? Или? — Кто это — Босх? — спросил Виктор. — О бедный, бедный поэт! О несчастный интеллигент середины двадцатого века, эпохи войн и революций! — Наконец победив штрипки, Грач разогнулся. — Уже ни он, ни его дети не узнают, кто такой Босх. А между нами говоря, Бениамин Грач был исключен из художественного института как раз, понимаете ли, за «босховщину». И в процессе искоренения данного явления подвергся поношению на комсомольском собрании за насаждение декадентских настроений в советскую живописную школу. И что, заметьте, самое поразительное, ни один из присутствующих комсомольцев не хотел взять на веру тот факт, что Босх о декадансе понятия не имел, ибо жил в шестнадцатом веке. А, как известно, в прошлые столетия жили исключительно классики-реалисты, которых Бениамин Грач хотел еще и опорочить. Забавно, мон менестрель? Или? Перевалов не сразу вник в рассказ, так как был удивлен не столько его содержанием, сколько многословием Грача, отнюдь ему не свойственным. — Ну и что? — спросил он. — А ничего. Тебе ведь ничего не было. Махарадзе лишь указал на несозвучность со временем. И никаких оргвыводов. — Махарадзе действительно прекрасный человек — сказал Виктор, — и у него действительно прекрасное чувство времени, запросов времени. Почему-то стало обидно за Махарадзе. Тон у Грача был не тот. А ведь Махарадзе и правда никаких акций по поводу завала очерка не предпринял. — О! — Грач поднял длинный, сучковатый в суставах палец. — Самое настоятельное требование времени — идти рубать перловый суп с комбижирами. Ничто так не развеивает творческих сомнений, как перловый суп с комбижирами. По утрам. Когда они схлебали перловый суп с комбижирами, Перевалов пришел в редакцию и сказал Тенгизу Давидовичу: — Дайте мне задание, которое сейчас будет полезным стройке. — Напиши обращение к женщинам страны от их подруг из Донбасса, — сказал Махарадзе. — Пусть Даша Колосова его подпишет. Перевалов написал обращение к женщинам страны от их подруг из Донбасса. Даша Колосова его подписала. Обращение вызвало горячий отклик. В стране. В обкоме. И Махарадзе на летучке хвалил и благодарил. А по ночам Виктор все-таки обдумывал «Реквием». Или сразу бросал?.. Нет, нет, обдумывал. Еще довольно долго. Впрочем, «обдумывал» — не то слово, иное было с ним. А Таня — ах, как пленительно великодушна была Таня! Ни тени снисходительного сочувствия, когда говорила: «Вы думаете, я вижу свое призвание в воспевании фурменных отверстий? О Боже, абсурд! Но сейчас это необходимо. Профессия и судьба, Виктор, немыслимы без самодисциплины. Когда я чего-то не могу, я говорю себе — это необходимо, это нужно стране, нужно народу. И я делаю. Помните, Маяковский: на горло собственной песне. Только и всего. Вы же талантливы, вы все можете». Сказала: талантливы! Гипюровый флаг овеял белизной зрачки... Бениамин Грач не резал плаката. Плакат, нет, еще линолеум, смиренно приникший к листу десятимиллиметровой фанеры, лишь кое-где был потревожен бороздками изъятий, не слагавшихся в осмысленное изображение. Устрашающе багровый простор марсианской поверхности, черные бороздки марсианских каналов. И длинноносый Бениамин Зевс, нависший над Вселенной, которую еще предстоит лепить. Бениамин Зевс и трудился над сотворением вселенской планетной плоти, измельчая нечто белое лезвием одного из своих инструментов. Чиркнул где-то в недрах переваловского мозга мирозданческий образ, чиркнул, не подпалив бикфордова шнура ассоциаций, чиркнул и затух. Не до того было сейчас, не до того. — Ты очень занят, Беня? — спросил Виктор и сам услышал лживость интонации вопроса. — Скажу вам, как родному: абсолютно свободен бывает только Господь Бог, и то по воскресеньям. Если, разумеется, это Бог, заведующий христианским райотделом. — Грач не оторвался от занятия. — Я серьезно, Беня, — еще жалостней и льстивей попросил Виктор. — Какие шутки в наше ответственное время? И я серьезен. У других богов выходные по пятницам или субботам. — Беня! Ты можешь послушать стихи? — Виктор выдохнул фразу целиком, без пауз и цезур. Странное дело! У себя в Литинституте, где на всех подоконниках сидели поэты, читающие собственные творения собратьям, а также всем желающим, Виктор был одним из самых смелых — выносил па суд толпы, хоть и не тысячной, любое новое четверостишие, случалось, еще и из неоконченных стихов. А тут? Тут он робел и волновался, будто решалась судьба до конца дней. Перед единственным слушателем! От административной воли которого ничего не зависело, ибо административной властью Беня не был наделен. И никакой иной так же — кроме власти честного друга, способного вынести обвинительный вердикт. Бенин нос проделал движение, не предусмотренное геометрией Лобачевского, а брови приняли форму крыши восточной пагоды, что означало крайнее удивление. — Без вопросов. Онэ фраге. Я весь — слух. Но Виктор сразу не смог начать чтение, заторопился, забормотал: — Нет, правда. Ты пойми, для меня это — этап. Видишь ли, я понял, что все мои экзерсисы, вся эта « салонная болтовня, словесные игры, все никому не нужно. Махарадзе прав, сегодня имеет право на жизнь лишь «слово — полководец человечьей « силы». По Маяковскому. — О том, что и эта ссылка на Маяковского принадлежала не Махарадзе, а Тане, Виктор не решился сообщить. Впрочем, суть редакторских наставлений была той же. — Но я попытался, чтобы было и настроение, и интонация, и образ. Почему о главном для народа можно только «скорей обушком сумей овладеть!»? Почему? Важно, чтобы чувства народа были твоими, а твои слова — доступны народу. Я стремился... Обведя лучезарным взором купе, Бениамин Грач сказал: — Не вижу многотысячной толпы. Или мне изменяет зрение и мы на площади? Не надо спичей, маэстро. Произносите то, что у вас сочинено в рифму. Ведь в рифму? Надеюсь, буржуазные штучки с верлибром вам чужды. Или? — Ладно, слушай, — хрипло сказал Виктор и откашлялся, будто и правда перед принародным чтением, — называется «Знамя над домной». Знаменем было алое зарево над возрожденной домной. Такой вот образ. Ну и другие образы присутствовали. Все, как в стихах положено. Виктор смолк, ожидая приговора. — А ты знаешь, неплохо. Весьма неплохо, — сказал Грач. Грач только и сказал: «Весьма неплохо». Махарадзе Тенгиз Давидович сказал: «Молодец, поэт. Дадим на первой полосе». Стихи дали на первой полосе многотиражки. Стихи прочла на митинге, посвященном задутию первой домны, комсомолка Нина Соловьева, работник заводоуправления. Стихи процитировал в своем очерке корреспондент «Правды». Вот как все было Нет, не все. На домне был укреплен транспарант, и на нем красовались еще строчки Виктора. С грачевского плаката: «Слово донбассовцев — твердое слово: обещано к сроку, до срока готово!» Представляете? Нет, вы не можете представить, ощутить состояние, владевшее Виктором. Разве когда-нибудь вам приходилось видеть собственное слово, начертанное на домне, над землей, над миром? Нет? Значит, как бы ни было пылко ваше воображение, представить вы ничего не можете. А он пережил это неумелым восторженным юнцом. И вот — тридцать лет спустя, когда шел от вокзала по площади к машине. Когда багряный транспарант взошел перед взором, точно закатное июльское небо в очистительной работе ветров. Когда свежая кровь полотнища заливала надземное пространство, пульсируя под толчками заблудившегося бриза (а может, какого-то иного воздушного порыва), и лишь неподвластные взору белоснежные облачка букв плыли вереницей по просторам полотнища. Порядок букв образовывал слова, написанные им, Виктором Переваловым. Он обращался к каждому. Он говорил с каждым. Он призывал каждого. Любому из идущих по площади он открывал премудрости бытия, до поры от них скрытые. Конечно, всякий литератор мечтает о популярности, даже славе. Но слава словотворца не чета славе эстрадного певца, чьи физиономии носят фанатыпоклонники на майках и сумках, сделанных сметливыми умельцами. Слава литератора иная. Ее истинность — власть твоего слова над тысячами, миллионами людей. Власть сладостная, абсолютная, почти монархическая, власть эфемерного субстрата — слова. Без нее писательская участь скудна и уныла. С ней — оправдано все. Виктору Перевалову эта участь выпала дважды. Там, в Донбассе, у первой задутой домны. И теперь, когда создано Произведение. Значит, так. Грач сказал: «А ты знаешь, неплохо». Махарадзе сказал: «Молодец. Дадим на первую полосу». А Таня сказала... Таня сжала его руку, устремила к транспаранту глаза цвета березового листка на Троицу и шепнула: «Я горжусь вами, Виктор». И согласилась пойти вечером гулять. Но первым Грач сказал: «А ты знаешь, неплохо». Изумительный, мудрейший, тонко чувствующий Грач, как это было верно — прочесть ему первому! В порыве несдерживаемой благодарности Виктор рванулся к Вениамину, может, даже расцеловать, может, сказать... — Ну вот!.. — удрученно развел руками Грач. — Во что вы, пылкий трубадур чугуна, обратили мою панацею? Колени, живот Грача были заляпаны белым субстратом, сметенным Викторовым порывом. Нож (или иной инструмент) отлетел в сторону. — Прости, Беня! Давай я отряхну! А что это? — Перевалов смутился, перепугался. — Что? Или не ясно? Стрептоцид, белый стрептоцид для лечения всех страждущих. Вы не поняли? Или? — Но где ты достал стрептоцид? — Виктор, послюнив палец, попробовал порошок на вкус. — Но это же мел, обыкновенный мел, — сказал он обескуражено. — Мел, — без сопротивления согласился Грач, — мел, чисто белгородский мэл. Между прочим, именно так было написано на бумажке в окне нашего магазина в Ромнах: «Имеются в продаже чисто белгородский мэл и ватные адиала». Вы не знаете, почему мел и одеяла составляют торговый комплект? Интересно, правда? Вы не находите? — Постой, так Митю ты тоже лечил мелом? — вдруг осенило Виктора. — Мелом. И всех других. И многим помогает. — Грач был безмятежен. — Но ведь это — обман! Обман больных людей, их близких! Как ты можешь? — А разве Бениамин Грач торгует обманом? Разве Грач имеет с этого коммерцию и получает неблагородных денег? Или Грач имеет стрептоцид у себя под матрасом, а людям сует мел? Грач вручает им надежду. Или надежда не может лечить? Или? — Все равно нечестно, — не принял объяснений Виктор. — Махарадзе не допустил бы нечестности. И Таня не допустила бы, Таня тем более. А Таня согласилась вечером идти гулять. И это было главным, и нечего ей было знать про грачевские махинации с мелом. Так черта ли было в «Реквиеме аглофабрике»? Не ему, этому нелепому творению, назначался удел покорителя Таниного воображения. Забыть, выкинуть из головы, к такой-то матери! Смех подумать... Впрочем, не тут-то было. Случалось и раньше — строчка, замысел, взявшие зачатие от неприметного впечатления, подобно мимолетной пыльце, тронувшей пестик растения, обретали плоть завязи, набухающей жизнью, объемом. Касание, обращаемое в материю плода, идущего в рост. Случалось, обычно так и случалось. И он чувствовал в себе почти физическое вызревание стиха, когда вдруг, поправ аналогии природных естеств, все начинало вершиться сразу, подчиняясь пленительной и бездумной власти аномалий. Наливался плод, выбрасывались и выбрасывались новорожденные побеги строк, бесшумные взрывы цветения обнажали раскрывшуюся суть невнятного слова. Во всяком случае, так или примерно так все это представлялось Виктору, так ощущалось. А потом могли произойти стихи, все целиком, от гребенок до ног. А могли и не произойти, бросались, забывались, не то, ну и черт с ними. От «Реквиема» же избавления не было. Даже не от самого «Реквиема» как задуманного и придуманного сочинения. Дух, привидение какой-то метафоры, поселившейся в нем, шагу ступить не давало. Все следом, следом, чур-чур меня, а ему хоть бы хны. Как известно, привидение при первом знакомстве просто пугает, абрис же свой рассмотреть не дает. Это уже когда начинаешь с ним общаться обстоятельно и постоянно, поймешь повадки и установишь характерные черты внешнего вида, а также внутреннего содержания. И поскольку Виктору систематически не было спасения от реквиемного духа, он и пытался распознать облик мучителя. Почему бомбы — знак разрушения, предстали пчелами — знаком созидания? Близкая зримость образа: деформированный фасад аглофабрики. Напоминающий взбесившуюся архитектуру сот? Возможно. И все-таки не совсем то. Ему явилось некое сотворение вымороченного мира. Сотворение, созидание мира Войны. Бомбы и снаряды, работники Войны, созидали мир безмедовых ульев, ростовских полых кварталов, безлистых древесных крон. Особый мир, мир наизнанку. Сотворение этого мира было сродни сотворению мира привычного, тверди и хляби земной. Каждый знает, вопреки протестам атеистов, что Творец не корпел долгие годы, лепя горные хребты, засевая пустыни селекционными сортами растений. Начало мира было бесплотным. Ибо вначале было Слово. Слово и жест Творца. Бесплотный жест, возникновение стрелки на карте. А дальше — дикарский обстрел, остроносая саранча, летящая тьма стрел гигантских, сметающих с державной, надменной глади карты фронтов, просящихся, множащихся на картах дивизионных, полковых, превращающихся в покорную клинопись планшетных двухверсток, вытертых на сгибах. (Как настойчивость шипящих согласных дает услышать происходящее — щее!) И едва лишь разнокалиберный этот рой получает движение, как многотысячные сообщества судеб, умов, прозрений необоримых знаний и наивного невежества, непочатой любви и изуверившегося порока обращаются в плотную массу, численность, не дробимую на имена. Они — численность живой силы, покуда живая сила, в свою очередь, не обращается в численность потерь. Они приобщены к апокалиптической форме существования мира. А дальше, дальше?.. Что в сути этого существования, кто там правит бал? Что это — обыденная конечность. Или конечность обыденности, только и доступной нашему уму? Или смена форм существования бесконечности, где бесплотный жест и анонимная численность как раз обретают желанную плоть конвульсией бетонных сот? Только у всего этого иной смысл и иные названия, потому что они — там, за пределом. «О том не скажет ни природа, ни строчка зрячая твоя, а только опыт перехода в небытие из бытия». Вот что, единственное, покуда сказалось ему. О, черт! Не то, не так. Галлюцинация, непричастность земной плоти, даже не ощущение, а предсказание его. Слова, как быт, можно осязать, обонять, а тут — иные словари, грамматика невнятицы. «Бессмыслицы лицо оправить в речь не смею. Небытию у сущего названий вовсе нет. Поэт без слов... Что может быть страшнее? За что, за что такая кара мне! За что же мне? И не могу понять я. Но почему — ума не приложу — у этой немоты, у этого проклятья я вещий смысл на привязи держу?» Эти-то слова в строчки собирались, подчиняясь привычному приказу, держали ранжир, но стоило окинуть взглядом их строй, как непроницаемость запредельного становилась еще беспощадней. Что там, не в мире после твоего личного ухода, а в том опрокинутом, вывернутом преображении всего земного, явленном Войной? Войной не между армиями и государствами, а Войной с высшим доязыческим божеством, которому подвластно инакосущее, как тому Творцу, что трудился над сотворением мира, располагавшегося в зрении и сознании. Что там? Непривычность обыденности или смена форм присутствия во Вселенной? Что там в пределах владений Концов? А может, Начал? Тех Начал, что невообразимей и чудовищней Концов? И деться некуда: днем, ночью, настигает, вцепляется в мозг, не отдерешь, не сбросишь. Хоть кому-то рассказать, хоть чуть-чуть освободиться смыслом от бреда, понятным от непостижимости, ну не все, хоть самое простое... Он сказал Тане, беспечно, будто огласил подвернувшуюся под руку нелепицу: — Странно все-таки: человек делает жест, простой жест — проводит на карте стрелку. И десятки тысяч живых людей обращаются в единую общность мертвецов. — Кто проводит стрелку? — не поняла Таня. — Ну, человек, полководец. — Полководцев «вообще» не бывает. Бывают советские полководцы и гитлеровские полководцы. Разве вы не видите разницы? Он сразу сник: — Да, конечно, вижу... Разговор, хотя и получился не таким, какого жаждал Виктор, свое дело сделал: здравая очевидность освободила от наваждения. Впрочем, не насовсем. Еще возвращалась, возникала. Но постепенно обретая логическую четкость, меняя маршрут темы. Действительно, как только могло почудиться такое — бесплотный жест, война-созидатель, апокалипсис как форма существования, существования небытия? Война — в первую очередь противостояние идеологий, политических формаций, и одни и те же действия должны трактоваться по-разному. Ежу понятно. Куда его занесло? Куда его занесло? И почему этот златокудрый ангел, которому бы цены не было на роли кисейных барышень в их школьной самодеятельности, обладает таким ясным, бескомпромиссным умом, умением сразу во всем дойти до самой сути? «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин. И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен». Прекрасна, любимая моя. Прекрасная дама — воистину. Спустя месяц Виктор уже сам над собой посмеивался: что за бред может влезть в башку? Виктору вдруг представилось: он приходит в хибарку тети Зины и начинает читать свои рифмованные апокалиптические провидения. Ну и ну! Вероятно, именно в этот момент он уразумел: слова Махарадзе о том, что нужно народу и понятно ему, имеют вполне конкретный смысл. Но как сделать так, чтобы стихи могли помочь тете Зине и Даше, и всем на стройке? Однако, черт его знает почему, но еще долго Виктор просыпался ночью от болезненного толчка в сердце. Так бывает, когда тебя будит память о какой-то огромной утрате. И точно: он чувствовал себя обобранным, будто отняли у него что-то бесконечно дорогое, важное, принадлежащее ему и никому больше. И потеря грызла, грызла... Но! Происходило все это с Виктором во времена доисторические — с месяц назад. До повой эры. Ныне в календаре этой самой новой эры красное число, праздник, свидание с Таней. Виктор повел Таню на кладбище. Как ни странно, единственным нетронутым войной кусочком земли в Угольном было именно кладбище. Смерть пощадила смерть. Провинциальная неизменность карликовых двориков за железными оградами, скромные надгробья, древесные кроны, уже заплатанные новорожденной листвой. Сулящее время года — быстротечное детство листвы. «Быстротечное детство листвы, то что длится не дольше недели. Танцы с воздухом, игры в безделье, и тенями кропленные травы». Оттуда, из того дня, из того вечера оно еще долго возвращалось к нему этим зрением, этим ритмом, этой капелью тени на земле, тени, не стоящей черной лужей под густолистым летним древом, а свободной стайкой темных мазков пятнающей землю. Еще не стемнело. Еще доделывал свою работу закат. Еще не расстались с цветом голубые пики оград, красная звезда над обелиском братской воинской могилы, недавней, насыпанной холмом, и молодой плющ, повязавший раскинутые руки старого креста. И трава была зелена. Клочковатая, неровная, где щетинкой, где пучком, выбритая тупым лезвием заводского чада, приползшего и сюда. Тут было смиренно и беспечально, хотя, казалось бы, где же обитать печали, как не на кладбище? Но печален был город, там, за кладбищенской стеной, развороченное кочергой войны пепелище, неплотное скопление хибар-времянок, готовящихся заснуть под сутулым дозором терриконов. Закат кроваво свежевал терриконовые туши. Однако, ввиду того что время закатов, рассветов, сумерек и прочего регламентировано свыше, по истечении срока работу эту предназначалось продолжить негасимому свету домны. А на кладбище все было неизменно, только тени всюду росли. И Виктор с Таней шли по нечищенным дорожкам, наступая на бесплотные отпечатки молодой листвы и пружиня подошвами в листве прошлогодней. Скамеек вот только нигде не видать. Некогда почти у каждой могилки стояли лавочки, принимая гнет чьегото горя, помогая утешительным сборищам воспоминаний, вслушиваясь в голоса новых самодельных панихид. Пожгли жители Угольного все скамейки, пожгли, раскорчевали на топливо. Посовали в железные печурки времянок, и через гусиные шеи самодельных труб ушли дымом и горести, и воспоминания, и панихиды. В мир, в никуда. Наконец одну скамейку обнаружили. Чугунное чудище со спинкой, венчаемой по бокам загогулинами наподобие рогов горного козла. И на лапах с соколиными когтями, судорожно впившимися в траву. Видимо, кто-то уволок давным-давно, еще до войны, скамейку из городского сквера. Сейчас в ней там и надобности не было, так как сам сквер мог быть лишь угадан по скопищу запекшихся пеньков. Сели. Виктор расстелил на чугунных ребрах шинель. Впервые после той ростовской прогулки они были одни. Таня была возле, но становилась ли постижимей, или загадочность скрывала ее более обычного, Виктор понять не мог. А что все будничные черты и подробности жизни возлюбленной обретают тайну, непостигаемость — знаете сами. Впрочем, для начала беседы у Перевалова были заготовки. Сказал: — Вы слышите, как пульсирует тишина? Нет, правда, вы замечали, что у тишины есть свой музыкальный ритм? — Боже! — отмахнулась Таня. — Только, пожалуйста, без музыкальных ассоциаций! Меня немедленно начинает грызть скука: сразу — родители, долбежка на пианино этюдов Черни. Бр-р-р! О, вот и повод проникнуть в ее прежнюю жизнь, сразу, с первых слов: — Между прочим, не понимаю, как вас, такую юную, хрупкую, такую домашнюю, могли отпустить сюда? Неужели родители — ничего? — А что — родители? Мама — человек передовой, сознательный, а отец... Отец меня боится, он теперь слова не скажет. Он знает: виноват. — Чем же провинился бедный профессор? — А я вам не рассказывала? Провинился, провинился. Я ведь вовсе не сюда хотела ехать, я хотела на фронт, в тыл врага. И пошла в ЦК комсомола, и меня уже направляли в спецшколу. И вдруг — стоп машина, сообщают: не берут. Не могу вам передать, в каком я была отчаянии. Ведь это — недоверие. Не-до-верие! Правда, тут же предложили ехать с нашей редакцией. Понимаете, отказаться в такой ситуации немыслимо. К тому же все-таки возможность быть полезной стране. — Это из-за отца? У него что, в прошлом... — Виктор засмущался, тронув опасную для каждого тему. — Из-за отца, из-за отца. Но дело не в биографии. Он, оказывается, тайно от меня и мамы кого-то просил не посылать меня на фронт. К сожалению, узнала уже в день отъезда сюда. Ну, он получил скандальчик, уж все ему сказала. Кстати, о биографии тоже. Таня и сейчас гневно вздернула голову, непререкаемо затянула шнурки воротника пальто. Меховой помпон (шнурки от воротника имели на концах белые меховые помпоны) смазал Виктора по щеке, заставив вспыхнуть, потому что прикосновение помпона было как бы Таниным касанием. — Нет, не думайте, — успокоила Таня, заметив его внезапный румянец, — я говорю «биография» не в смысле какого-нибудь меньшевистского прошлого или причастности к оппозициям. Что вы! Боже! Он так аполитичен, что даже не мог бы примкнуть к уклону. Но научная деятельность! Я вам доложу... Впервые после той ростовской прогулки они были одни. Таня была возле; пушистый воротник, замечательные помпоны, кроличий пуховый беретик. (Беретики эти продавали до войны с рук, прямо на улице, стоили шесть рублей. Виктор помнил: соседская девчонка каждый день плакала публично на кухне, чтобы все знали — мать не хочет покупать берет, говорит, дорого, говорит, мала еще, наносишься.) И в этом нежном оперении — воротник, беретик — Танино лицо тоже словно из розового пуха. Смотришь, прямо сердце болит от восторга, от боязливой бережности к ней. И при этом — открытость, прямота, никаких девчоночьих недомолвок, тех, за которыми — ничегошеньки, ну ничегошеньки. Неужели закроется, замолчит, не пустит в свою жизнь? Хоть бы время так не спешило. Время спешило. Тени молодой листвы росли у подножья скамейки, быстротечное детство листвы устремлялось в зрелость, минуя отрочество. «Быстротечное детство листвы. То, что кончится раньше недели, — лишь прообразы взрослой модели, лишь предчувствие новой поры». — А что научная деятельность? — словно пробуя ногой холодную воду, сунулся Виктор продолжить разговор. — Ах, это у него всю жизнь. Увлекался педологией, они с мамой тогда еще в школе преподавали, она — историю, он — литературу. Ну вы же знаете, какую оценку партия дала педологии. Мама, разумеется, публично, через газету, критически оценила свои заблуждения. Он — ни в какую, мама даже хотела уйти от него, только из-за меня осталась. А теперь с этим единым потоком... — Каким потоком? — Единым. Теория единого потока, блуждающие сюжеты в мировой литературе и прочее. Он, видите ли, ученик и последователь Веселовского, а все псевдотеории Веселовского развенчаны. Так найди в себе мужество открыто отречься, признай заблуждения. Нет. Это, видите ли, стыдно, а быть проповедником чуждого учения — что, почетно? Теперь он вспомнил. Шамбинаго, профессор древнерусской литературы у них в институте, тоже ведь был учеником и последователем Веселовского. Дряхлый, всегда мерз, читал лекции в каком-то ямщицком зипуне, обращался к студентам: «Голубки!» Или: «Многоуважаемые». Или: «Многоуважаемые голубки». Первую лекцию начал: «Многоуважаемые голубки! В 1917 году я сошел с конвейера науки, чтобы посмотреть, куда он пойдет». На перемене все хохотали, смакуя каждое слово. Старик часто болел, особенно зимой, сдавать зачеты они ходили к нему на дом, где посреди заваленной книгами комнаты тот сидел недвижно в ветхом кресле, словно вмерз в нежилую стынь. Однажды Виктор застал Шамбинаго на кухне: старик лиловым пальцем тщился выманить из замерзшего водопроводного крана хоть струйку, хоть каплю воды. Мучительная жалость охватила тогда Виктора. Оттого, наверное, Танин отец представился сейчас тоже у мерзлого крана, в ямщицком зипуне. — Бог с ним, — пожалел его Виктор, — ну не хочет каяться, это, в конце концов, его дело. — Его? — вскинула голову Таня. — Что значит — его? Он что, независимый индивидуум, живет вне общества, идеи общества не имеют к нему отношения? Да, в конце-то концов, именно в конце концов, он что, отшельник из скита, у него нет семьи? Нет уж, позвольте! И мама, и я — она в институте, я в школе на комсомольском собрании — выразили перед товарищами нашу позицию. А как иначе? Разве вы могли бы поступить иначе? Мог бы? А действительно, как бы он поступил? Ему вопрос такой и в голову не приходил. Пожалел старика, вмерзшего в серую глыбу комнаты, даже над словами насчет 17-го года и конвейера науки всерьез не задумывался. Хи-хи, ха-ха, и все. Что же он такое: тряпка, недоумок? Вот девочка рядом, пушистый воротник, пуховый берет, а какая ясность, отвага убеждения. Родной отец, а поди ж ты... Но ничего не ответил, врать не хотел. Впервые после той ростовской прогулки они были одни. Таня была возле, теперь уже укутанная в темноту, совсем стемнело. В темноте она была возле, рядом. И, наверное, можно было ее обнять, может, и поцеловать. И испытать тот сильный удар крови, который шибанул в виски в Дашиной хибаре, когда шея ее засветилась, став похожей на полупрозрачную стеариновую свечу. И он обнял Таню и прижал к себе, готовый к ее гневному отпору. Отпора не последовало. Но не последовало и удара крови в виски, что крайне удивило Перевалова. Восторг в душе рос, а удара крови в виски не было. С Дашей было, а с Таней не было. Уже много лет спустя Виктор Петрович узнал, что ничего непостижимого в происходившем не заключалось, дело обычное, сексологи и сексопсихологи называют данное явление «блоковский комплекс», то есть благоговение перед обожаемой женщиной атрофирует эротические рефлексы, в то время когда иная, самая заурядная, способна, и прочее... Но все узналось — потом. А тут удивленный, озадаченный Виктор ничего не понимал, смотрел через Танино плечо на соседнюю могилу, над которой возвышалась прямоугольная плита памятника, растворившаяся в темноте. Но тут взошла луна, и едва призрачный бледный луч скользнул по надгробью, как озарилась надпись на нем. И Виктор прочел: «Здесь покоится Виктор Перевалов». Таня выпала из переваловских рук, ударившись о чугунные рога горного козла, которые венчали боковую часть скамейки, унесенной из бывшего городского сквера. Татьяна Васильевна, актриса, исполняющая роль Даши Колобовой, пойти вечером гулять не согласилась: «Ну что вы, что вы, репетиция, прогон другой пьесы, сил нет, сил нет». Перевалов огорчился. Положил он на нее глаз, наблюдая на сцене. Рослая, не обструганная по-теперешнему, в бедрах и груди женственная овальность. Овальность бедер источала призыв, особенно в походке. Сначала хотел даже сделать замечание: «Даша так не ходила». А потом решил — пусть ходит. После репетиции сказал: — Вы нашли интересное решение роли. Обычно женщин военной поры изображают мужеподобными. Хорошо, что у вас передовик производства, рабочий человек — женщина, женщина со всем запасом нерастраченной феминальности. В этом особый смысл: война отняла любовь, мужчин, но потенция в женщинах оставалась, жила. Благодарный взгляд метнулся к нему, неся одновременно ликование и тоску. Грузные от туши ресницы почти коснулись бровей. Брови темные, не правленные выщипыванием, гладкие до лакированности. Чистые. Но под глазами осыпь туши застряла в неглубоких морщинках. Морщинки эти канцелярскими «птичками» были воткнуты в уголки глаз, одно крылышко вверх, другое вниз, от туши почернели: у левого глаза верхнее, у правого — нижнее. Отсюда и ликование с тоской совместно. Глаза как с античных масок: левый — с комической, правый — с трагической. Не беда, утереть и — норма! Заговорила быстро, как-то разорванно: — А он все время: «Слишком современно, слишком современно». Боже! Перевоплощаюсь. Однако, видите, угадывается... «Кто это — он?» — не понял Виктор Петрович, а потому спросил: — Как, простите, ваше имя-отчество? — Татьяна Васильевна, конечно же, Татьяна Васильевна! — она удивилась, будто он интересовался очевидным. Ну вот, Татьяна, как та. В этом был некий знак. Но никаких золотистых локонов — черный пучок, гладкие волосы. (Что напоминало уже Дашу.) Этакая Эмма Цесарская из протазановского, еще немого, «Тихого Дона». Предвоенный идеал женской красоты. Ответственный секретарь армейской газеты, где служил студент Виктор Перевалов, капитан Д. М. Бутков как раз по данной причине смотрел «Тихий Дон» тридцать два раза, последний раз — в день призыва. Сходил в кино и прямиком на сборный пункт. Когда на фронте рассказывал об этом, прослезился. Виктора такая сентиментальность прямо-таки потрясла: капитан не плакал и над убитыми. По нынешним меркам «цесарская» красота из моды вышла, но вкусы Перевалова остались под стать идеалам капитана Д. М. Буткова довоенной поры. — Ну, раз вас зовут Татьяна Васильевна, — сказал Виктор Петрович, — вы не откажетесь вечером показать приезжему ваш город? Она отказалась, и Перевалов огорчился. Однако на миг, потому что тут же Татьяна Васильевна сказала: — Лучше я зайду к вам в гостиницу. В отель. В гостинице, в отеле, в зашарпанном переваловском «полулюксе», Татьяна Васильевна неосмотрительно тяжко рухнула в единственное полукресло, откликнувшееся скорбным мяуканьем рассыхающихся деревянных частей. По обе стороны кресла уронила сумки, стяговоалую, на длинном ремне «дамскую» и отечно-пухлую хозяйственную. Метнула (видимо, взор она всегда именно метала), так вот, метнула взор на натюрморт, украшавший письменный стол. Наличие письменного стола и обращало гостиничный одноместный в полулюкс. Да еще ванна. Да еще холодильник индивидуального пользования, в отличие от коридорного, одного на все нелюксовые номера. Тем, кстати, никто и не пользовался, так как продукты воровали постояльцы. В холодной утробе томилась одиночеством бутылка старого кефира с запиской «№ 203», придерживаемой аптечной резинкой. Необходимо объяснить и про походный натюрморт. Или «походный боекомплект», как называл Перевалов бутылку коньяку, коробку конфет «Ассорти», пять апельсинов, пять яблок — фрукты. Именно столько и в таком ассортименте закладывал он дома в чемодан, не полагаясь на командировочное снабжение в пунктах прибытия. А посещение номера дамами всегда планировалось. Одноразовое. Возраст не тот. И еще скатерка с вышитыми крестом в центре инициалами «В. П.». Скатерку клала жена, Раиса Федоровна. Разумеется, не для комфорта мужних свиданий, а для гигиены питания Виктора Петровича без покидания номера — в провинциальных буфетах грязь, антисанитария. А Раиса Федоровна была врачом эпидемстанции. Скатерка всегда годилась, приходилась к месту. И на этот раз тоже помогла скрыть пятна и разводы, походившие на увеличенных амеб на стеклышке под микроскопом. Пятна всяческие, кроме чернильных, что указывало на безработность письменного стола в его прямом назначении. Зато по характеру и абрису пятен можно было, как по геологическому срезу, прочесть штрихи жития прошлых постояльцев. Кто коньяком, вроде Виктора Петровича, разогревал дам, кто водкой местных поставщиков уламывал, кто чайком после трудовых будней хотел взбодриться, да по усталости бросал кипятильник на столешницу... Казалось, даже звуки былого тихонечко свиристели над столом леопардовой масти. Это очень возможно. Ибо, говорят, наука открыла: кожа предметов способна сохранять голоса времени наподобие магнитной пленки. — Боже! Какая люксозность! — оценила боекомплект Татьяна Васильевна. — Совершенно не завозят апельсинов. Всегда прошу из столицы, а он: «Витамины умирают через неделю, нам поставляют уже в пенсионном возрасте, лишенные...» А я обожаю, я южанка, учтите, южанка. Не понимает. А еще распинается: «Моя Кармен, моя Кармен...» — Какая же Кармен без апельсинов, — согласился Перевалов, — угощайтесь. Ощутив свою причастность к творению Мериме, а вероятнее — Визе, Татьяна Васильевна постаралась задвинуть ногой под полукресло хозяйственную сумку. Сумка не поддалась, отечное тело не лезло в щель, но вдруг опало, выпустив из горловины две пачки стирального порошка «Рапсо» и смутив Татьяну Васильевну. — Выбросили в шестом хозяйственном, исключительный порошок, можно вместо шампуня — голову, можно собак. Он всегда собаку. И стихи придумал: «Закупили мы "Рапсо", чтобы выстирать апсо». Порода лхасский апсо, слыхали? — Лхасский, тибетский, надо понимать? — попробовал догадаться Перевалов. — Он все с собакой, в стихах, кормить, на машине когда едет, собака на коленях. ГАИ уже указывала на нарушения. А он стихи: «Не катаем мы отныне ни медведя, ни кота, Пуфик едет на машине, ах, какая красота!» Представляете? Талант есть талант, что вы хотите! А талант — это все. — Согласен. Так за талант? — Виктор Петрович разлил коньяк в стакан и фаянсовый бокал с надписью «Гостиница "Полет"», изъятый из ванной комнаты. То, что Татьяна Васильевна ценила категорию таланта, очень обнадеживало. Уже может быть не командировочный флирток, а по «Кармен», опере, «Ты мой восторг, мое мученье». С ее, конечно, стороны. А женский восторг, поклонение дорогого стоят. Сразу представилось: идет Татьяна Васильевна по вокзальной площади, озаренная закатным пламенем транспаранта, по которому плывут облачка букв. Идет и думает смятенно: «Это его слова парят над миром! Боже! Вот кого послала мне своенравная судьба!» Ветра всех нравов и имен толкаются над площадью, распихивая друг друга в лестной надежде тронуть раскаленное полотнище, тронуть, обжегшись, отдернуть струю, но хоть зыбь, хоть белый бурунчик одной буквы взбудоражить па алом течении. Люди с запрокинутыми головами сомнамбулически пересекают площадь, твердят слова, уже знаемые наизусть, некоторые даже роняют сумки и чемоданы — до них ли? — не замечая, следуют дальше, подчиняясь чародейству слов. — А где вы живете, Татьяна Васильевна? — спросил Перевалов. — На Калинина. — Это, кажется, рядом с вокзалом? — Нет, что вы, совсем в другом конце, это от театра по Луначарского, потом Карла Маркса, а следующая — Калинина. Поперек. Значит, вдали от вокзала, жаль. — Но сначала все-таки Карла Маркса, — вдруг развеселился Виктор Петрович. — Конечно же, Карла Маркса, а вы как думали? Понимаю. Карла Маркса — престиж, у него тоже там с эркером, дореволюционная постройка, конечно, к актерам пренебрежение, никакой творческой атмосферы, общежитие барачного типа, начальство по Калинина и не ездит, один бюрократизм. Не понимают, что искусство — это все. И что смеяться? Уж от вас-то, от вас! Боже! — Да нет, — стал оправдываться Перевалов. — Я о другом. Просто вспомнилось про Карла Маркса. Я когда-то в нашей редакции в отделе писем работал. И вот когда разоблачили Берию, приходит письмо из Грузии, и обратный адрес: «Улица имени врага народа Берия». Берию-то заклеймили, а улицу переименовать не успели. Каково? А месяца через три приезжает в редакцию грузин: «Я вам письмо посылал. Помните?» — «Да, да, как, простите, ваша фамилия?» — «Карл Маркс», — отвечает. «Как это — Карл Маркс?» — «А мы раньше были Берия, у нас вся деревня почти — Берия. И колхоз имени Берия был. А теперь имени Карла Маркса. Значит, и фамилия у нас — Карл Маркс». Перевалов залился смехом, предавшись давнему воспоминанию, но Татьяна Васильевна сказала обиженно: — Даже вода с перебоями. Роль учишь, а на кухне: «Людмилу во второй состав перевели, с ней Динамов не может играть, у нее повышенная потливость. Вовка учительнице живое яйцо подложил на стул, пятна не отстирываются, особый материал, она из Ленинграда везла, теперь Туркиной — суд чести». Как вживаться в образ? Ну, скажите. Татьяна Васильевна покинула переваловскую площадь, поскольку жила совсем в другом конце города. Перевалов разлил по следующей. Его совсем не раздосадовало то обстоятельство, что Татьяна Васильевна рассказанной байки вроде и не услышала, вроде заряд попусту был пущен. Это в прежние времена Виктор Петрович для свиданий с дамами, даже «эпизодными», готовил занимательные истории и различные словесные развлечения, заговаривая женщину до кондиции. Сейчас уже предпочитал их собственный лепет. Татьяна Васильевна была в этом смысле — блеск! Она и договорила себя до нужной точки, простерла к нему руки: — Вы — изумительный! И ум, и красота чисто мужские. — Тут Татьяна Васильевна душой не покривила. Возраст пошел даже впрок Виктору Петровичу. С годами он не обрюзг, не осел, держал осанку. Шевелюра только, чуть поседевшая, стала голубой. Но вот брови, как были — черные, в одну линию, и синеву глаз время не размыло, не тронуло тусклостью. — Чисто мужские, — повторила Татьяна Васильевна. — Я уверена, вы должны быть талантливы, у меня чутье, я даже воду под землей могу почувствовать и любое нахождение, мне даже в исторических раскопках предлагали. Они говорят: «Врожденный артистизм!» У вас талант, вот не видно, а я чувствую. «Что значит — не видно, чувствую? — возмутился про себя Перевалов. — А пьеса? Она же играет в ней. Могла, слава Богу, установить наличие таланта. Слава Богу, всенародно признан». Но выяснять недоумения не пришлось. Татьяна Васильевна обвила руками его шею, метнув прямо в переваловские зрачки восторг и мечтания. На этот раз чувства были однородны, без всякой мешанины античных трагедий и комедий: тушь с ресниц не осыпалась. ...Одевалась Татьяна Васильевна не жеманясь, открыто, без всяких там провинциальных «отвернись!». Но Перевалов сам встал и, обернув бедра простыней, отошел к окну, подставил спину вершащемуся женскому облачению. Небрежно натянутая чернота ночи была наспех пришпилена к заднику неба тут-там звездными кнопками, кое-где провисая замятинами света, может, отблесками несильного земного освещения. И потому что ночь торопилась, многие кнопки, не удержавшись, свалились наземь, посверкивая неровной грядой городских огней. Неровная эта насыпь из огоньков была немощна в излучении, только себя и означала. От нее, от горизонта до подножья гостиницы, гладкую черноту городка (именно городком представал сейчас областной центр) размечали затертые пунктиры фонариков и неуснувших еще окон, тоже брошенные как попало, будто пропетляла по темноте вороватая компания, набив рваные карманы звездными кнопками. При всем при том все эти атрибуты городского освещения, даже соединив усилия, не были способны слиться в зарево, отчего и на четкость звезд влиять не могли. Прекрасно! Нынешние перенасыщенные светом города умерщвляют звезды, города лишены вольных звездных небес. Потому, даже невзирая на световые Замятины, черный полог пред взором отмечала некая неприрученность, почти дикая, почти степная. Захотелось вдруг шагнуть туда, за окно, взяв за руку одевающуюся за спиной женщину, увести в черноту, блуждать, собирая звездные кнопки. В общем, захотелось иной жизни. Вот она, степная небылица — До краев запахнутая тьма. Очи выжигают кобылицам Звезды бессарабского клейма Бубенцов столетних перебранка, Да крылами щупая межи, Ворон урожаи сторожит, И поет ленивая цыганка, Медленные плечи обнажив — вслух прочел он. Откуда-то явились эти давние переваловские стихи, забытые, покинувшие жизнь, что-то заныло возле сердца — жажда или незавершенность? Что-то оборвалось, что-то открывалось, обещая. — Вы находите — у меня цыганский тип? Он говорит — испанский. «Моя Кармен, моя Кармен», ах, я уже говорила, — сказала одевшаяся Татьяна Васильевна. Она продолжала обращаться к нему на «вы». Перевалов не ответил, но того и не требовалось. — Кармен! Каменщица Даша Колосова, вот что я есть. Он говорит: «Сыграешь Дашу, даю Катерину в "Грозе" и квартиру выбью». Он, конечно, чувствует, что виноват, из Саратова переманил, а никаких условий. Знал, что для меня искусство — все. Вы бы все-таки воздействовали, у вас же влиятельность, в театре все говорят — вы консультант Самого. Верно? Вам ведь только сказать мнение. — Я тебя провожу. Сейчас оденусь, — сказал Перевалов. — И не думайте, — запротестовала Татьяна Васильевна и, запихав «Рапсо» в хозяйственную сумку, двинулась к выходу: — Пока, до встреч. Она почти скрылась за дверью, когда Виктор Петрович окликнул: — Да, послушай, а кто это — он? Ты про кого все время? — Боже! Ну конечно же, Дмитрий Николаевич, наш главреж, Громов. И вообще, о жилищных условиях актеров, не только лично моих. Скажете? Боже! Ремень перетирается, качество! «Боже!» — этот всплеск-выдох уже был. У Тани, той. А больше ничего похожего. Ни-че-го. В широкую щель приоткрытой купейной двери был виден фрагмент соборного иконостаса с изображением Саваофа. Серебряные струи волос и бороды обильно обрамляли божественный лик, всевидящие глаза под черными бровями раздвигали пространство. На коленях Бога лежала раскрытая Книга Бытия, взбитые в плотную пену облака, вправленные в голубизну небес за саваофовской спиной, означали место пребывания Вершителя судеб. Звали Саваофа Роман Ильич Посохин. Числился он в выездной литературным редактором и имел странную кличку — Шестигранник, смысл которой был никому не ведом. Никому, кроме Махарадзе да Виктора. Виктор однажды допытался у Главного, в чем суть таинственного прозвища. Сейчас Виктор увидел Романа Ильича сквозь широкую щель купейной двери, замершего на фоне окна, за которым клубились облака, и поразился схожести зрелища с фрагментом иконостаса. Именно это ощущение и побудило Перевалова шагнуть в посохинское купе. Ощущение, побуждение неосознанное, схожее с дерзким стремлением приобщиться к тайне. — Входите, входите, Витя! — пригласил Посохин. Виктор не знал, о чем говорить с Романом Ильичом, всегда только «здравствуйте, до свиданья», и все. Сказал первое подвернувшееся: — Что читаете, Роман Ильич? — А, это «Философия общего дела». — Он погладил ладонью лежащую на коленях старую книгу. — «Общего дела»? — улыбнулся Виктор. — Вот уж не думал, что вас проблемы коллективного труда занимают. Махарадзе же вас именует — знаете? — «последним индивидуалистом». — Тем не менее, — в свою очередь улыбнулся Посохин, — сочинение Николая Федоровича Федорова как раз призывает к коллективному труду, глобально коллективному. — По созданию? — По созданию, созиданию обитаемой Вселенной, где найдут себе место все земные поколения и цивилизации, ушедшие и живущие. И дело живущих — общим трудом воскресить ушедших. — Воскресить? — не понял Виктор. — Но это же мистика, поповщина. — Ну, если хотите, поповщина, в смысле осознания человеком идеи Христа, когда человек, созданный по образу и подобию Божию, сможет сравняться с Создателем в одном из главных своих предназначений — сбережении сотворенного. — Как это? — ошалело спросил Виктор. Видимо давно лишенный заинтересованного собеседника, Посохин начал излагать федоровскую теорию, и чередой пошли непонятные, абсурдные, но почему-то завораживающие пассажи о вселенском Музее, заселении планет, регуляции природы, воскрешении мертвых, их реконструкции по малым частичкам. Все открываемое было Перевалову непостижимо, нелепо, но внезапно он ощутил в себе какой-то странный холодок, дуновение, переносившее его в некие иные миры, до того скрытые, отверзание неведомого. А значит — не существующего. Однако срок спустя он овладел собой: — И что же, вся эта нелепица издана? Издана в наше научное время? — Нет, что вы! Это дореволюционное издание. Разве они бы допустили такое. Это «они» неприятно резануло Виктора, он не решился спросить, кого Посохин имел в виду, но бдительно почувствовал крамолу в безобидном местоимении. Поспешил оборвать разговор, заводивший явно черт-те куда. — Простите, пойду. Грач ждет, плакат надо доделать. — Да, да, конечно, — согласился Посохин. Короткий, в общем-то, дурацкий разговор. И при этом чувствовалось — опасный. И сам Посохин, Саваоф этот самодельный, какую-то опасность источал. Недаром ни с кем из редакционных близко не сошелся, со всеми вежлив, но не близок. Может, с Махарадзе чуть контактнее, чем с другими, но ведь Махарадзе-то его знал давно, сам и пригласил в редакцию. Он пару раз и сказал: «Наш уважаемый шестигранник», «наш скорбный шестигранник». И пошло: шестигранник, шестигранник. Оказалось, Посохин служил прежде в редакции столичного еженедельника. Вообще-то он был переводчиком с греческого, латыни, особенно специализировался по Горацию. Но кому нужен в наше время Гораций? А пять европейских языков Посохина (мертвые языки не в счет) в международном отделе журнала были нужны. Для переводов отдельных материалов из зарубежной прессы, которую еженедельник получал по особому списку. Разумеется, материалы эти в самом органе не печатались, но были необходимы, так как им на страницах еженедельника давалась достойная отповедь. Тут как раз и действовал шестигранник. Лиловый этот знак стоял на всех заграничных изданиях, означая: из редакции не выносить, никому из «недопущенных» не показывать. Видеть подрывную закордонную прессу разрешалось человекам четырем-пяти во всей редакции. Другим, кроме Посохина, переводчиком был молодой парнишка, фронтовик вроде Виктора, отпущенный после тяжелого ранения. Парнишка этот однажды, нарушив запреты, взял домой американский журнал «Лук» — подобие нашего «Огонька». Но мало того что взял. Забыл в метро. Зачитался публикуемым в «Луке» детективом. А тут — его остановка, положил журнал на сиденье, а сам выскочил. Помеченный шестигранным клеймом «Лук» каким-то образом попал в Органы. Не в органы печати, а в Органы. Парнишка вскорости исчез, сгинул. Проще говоря, был посажен. Тогда Посохин сказал себе: «Не могу быть заложником шестигранника». И ушел из редакции. Безработного старика, лишившегося зарплаты, а главное, продовольственных карточек, пожалел Махарадзе. Взял в выездную. Все это вспомнил сейчас Перевалов. Отчего осадок от разговора стал еще противнее. Но — надо же! — ощущение холодка в груди, вхождения в неведомое нет-нет да и настигало Виктора... Один из наших с Виктором гостиничных вечеров был особенно прекрасным, размягчившим мне душу вконец. Тогда мы обрели друг друга в первозданной пылкости нашей юной дружбы, в твердом сознании того, что не прожить одному без другого ни дня. Может, так бы и случилось, если бы не события последующих дней. Но о них — своевременно. А тогда... Тогда к нам вернулся необходимейший компонент нашего студенческого бытия. Чтение стихов. В те, прежние, годы стихи были не просто делом нашей жизни, они были формой существования, причем существования всеобщего. Я уж не говорю о том, что каждое новое стихотворение, написанное одним из членов нашего поэтического братства, должно было немедленно быть прочитано всем. Каждая чужая строфа, услышанная, узнанная, обязана была стать всеобщим достоянием. Помню, как часто посреди ночи голосил телефон в моей коммуналке, и Саша Межиров или Семен Гудзенко обрушивали на мою не проснувшуюся еще голову водопад, камнепад чьих-то ритмов и ассонансов, берущих начало во фронтовом треугольнике письма от Бориса Слуцкого, Миши Кульчицкого или Сережи Наровчатова. Нашими учителями были классики поэзии 20-х годов — своенравного поэтического пика, ныне по невежеству не ценимого. Илья Сельвинский, Павел Антокольский, Владимир Луговской, Николай Тихонов, авторы «Орды», «Улалаевщины», «Санкюлота»... Учителей и учеников связывали особые отношения: мы благоговели перед их судом, но держались они с нами на равных, мол, в поэтическом содружестве все перед судом Времени — едины. Тогда еще свободно не издавались Мандельштам, Цветаева, тогда были изъяты из библиотек книжки «врагов народа» Николая Заболоцкого, Павла Васильева, Бориса Корнилова. Но меж нами они ходили в списках, каждый знал их. Мне повезло: один мой поклонник, известный официальный критик, дарил мне такие списки. На страницах газет и журналов он клеймил эти «чуждые и упаднические» стихи, но, будучи истинным знатоком поэзии, ночами перепечатывал и переплетал в изобретательной красоты обложки самиздатовские собрания поэзии. И дарил друзьям. О, подоконники Литинститута! О, ночные трамвайные остановки! О, скамейки Тверского бульвара военной и послевоенной поры! Сберегли ли вы наши голоса? Мне всегда кажется, что если однажды ночью я посещу эти заветные адреса, то найду там эхо строк — притаившееся, недоступное непосвященным. А какой потусторонней силой наполнены были для нас ученические, несовершенные наши строчки! Они умели бросить вызов всему человечеству, умели шепнуть невыразимое, умели врачевать раны и утолять беды. Они брались написать биографию поколения. Так, во всяком случае, нам казалось. Сейчас, вспоминая ощущения тех лет, поймала себя на том, что повествую о них с наивнопафосной интонацией, им присущей. Сегодняшний читатель, листая стихотворные сборники той поры, обнаруживает в них лишь официально-регламентированную дозволенность тем и форм да предписанную одовость в описании общенародных событий, желание поэтов «попасть в струю». Так и не так. Чтобы понять истинную суть литературы того времени, необходимо понимать психологию тех литераторов, которая объяснялась отнюдь не единственным стремлением стать «придворными». Все сложнее. Ведь и стихи, вовсе не предназначенные для печати, кажутся сегодня продиктованными мотивировками, чуждыми нынешним поколениям. А написаны они были, как говорится, «самой душой». Время, эпоха смотрелись в те стихи, диктовали их. Такими уж они были — время, эпоха. И простодушными, и лукавыми. И, как знать, может, когда-нибудь читатель, свободный от политических пристрастий, прочтет те стихи уже на иной лад, отдавая должное существу поэзии в них, и одолеет пониманием многомерность прямолинейности. Самое сложное для читателя, отделенного от описываемой поры десятилетиями и сменами государственных формаций, постичь механизмы действия автоцензуры, которая для поэта была могущественной и более непререкаемой, чем цензура официальная. В часы наших с Виктором вечерних бесед в гостинице я думала об этом непрестанно... Весна своенравничала. Один день теплый, другой — назад к зиме тянется. Виктор уже было шинель на третью полку своего купе закинул, а вдруг шинелькато опять понадобилась. Одевался, сунул руку в карман и, как на притаившееся существо, наткнулся пальцами на пакетик с мелом. Так... А если они ждали этот псевдострептоцид? Может, тогда не открыли, потому что все на работе, в школе, и Митя, бедняга, лежмя лежал? Но ведь стрептоцид — мел, чисто белгородский мел и ничего иного: а они-то этого не знали и верили. Как же он мог! Как забыл! Идти, идти сейчас же. Каяться, прощения просить. Немедленно. Впрочем, Митя давно здоров. Что это он с бухтыбарахты заявится? Нет, необходимо все объяснить. Виктор, сам того не замечая, искал доводы, чтобы убедить себя в непреложности похода в хибарку. Пошел. Даже заторопился. Он нервничал (с чего бы?) и непрерывно тискал пальцами пакетик с мелом, опущенный в теплую глубину шинельного кармана. Даже не просто тискал, а как бы держался за этот пакетик в готовности предъявить щуплую бумажную козявку пропуском, оправданием своего прихода. В чем, собственно, оправданием? Им же нужно, их детям спасенье, исцеленье нес. Из-за дверей метнулась Катя, полуразутая, двумя руками вцепившись под подбородком в накинутую шалашиком шаль. — Иди, иди... Мамка тама, ждет уж. — Как чувствует себя Митя? — Виктору подумалось, что Катина торопливость объясняется тем, что мальчик снова заболел: вот послали к ним за помощью. Но Катя заговорщически похлопала заячьей своей губой: — Убег уж. Со света полутьма опустошила комнату, и Виктору навстречу вышел только он сам. Вышел из глянцевого провала вагонного зеркала, объявляя тем самым: вот ты один на один с самим собой, а это значит, что предстоит что-то сделать, решиться на что-то. Свидание с собственным отражением ощущалось именно так. Но тут же за условной границей стеклянного обиталища жизни как бы установился тот праздничный стол, ребята грудились за ним, под пристальным взглядом коптилки оплывали слабые фуксиновые осколки постного сахара. И надо всем призрачно светилась высокая Дашина шея, стеариново-полупрозрачная. И снова стало жарко и застучало в висках. Даша вышла откуда-то из-за угла, может, из-за печки, непонятно откуда. Вышла, возникла, встала перед ним, уже не воспоминанием, а душным живым присутствием. Но вроде бы и бесплотным, потому что Виктор видел в том месте, где стояла она, только непонятное белое пятно, а над ним ее лицо, выступающее из какой-то плотной копоти. — Слава-те, Господи! Пришел, — сказала Даша, просторно крестясь. — Спасибо, милый! — Она в пояс поклонилась, и черная копоть облила ее всю, почти скрыв. А когда она наклонилась еще ниже и замерла так на миг, он увидел ее открытую шею и понял, что это — волосы, распущенные Дашины волосы предстали плотной копотью. И никакое она не белое пятно, а просто в ночной рубашке. Эта поза подсказала образ: склонясь, она моет голову в невидимом тазу. Ах, что за идиотская неотступная привычка вечно подбирать сравнения! И это — сейчас! В такой момент! Даша выпрямилась и сделала шаг к нему: — Ну что застыл? Жду ведь, видишь? Вложив все отчаяние перед неведомым и неминуемым, всю жажду спасения от него — тем более устрашающего, что и влекущего, — все обратив в каменную напряженность пальцев, упрятанных в карман шинели, Виктор впился в маленький пакетик мела, отрешенно покоящийся, как мы сказали, в той теплой глубине. Виктор не впился в пакетик, он ухватился за него, будто был тот не игрушечным конвертиком, а могучей скобой, на которой — повисни и не рухнешь в пропасть. И тут же различил разминаемую пудру мела, сочащуюся из образовавшейся в пакетике дыры. И снова ни к селу ни к городу в голове: пальцы-то заляпаны, как к Даше прикоснуться, измажешь всю?! Ну что за бред, при чем тут эти мысли? Впрочем, как раз эти мысли были последними, ярко обозначившимися. Дальше — пустота. А Даша, пригнув к себе, целовала Виктора в глаза, шею, губы, скорыми пальцами высвобождая его из шинели, расстегивая ремень, ошалело шепча: «Дождалась тебя, милок, дождалась. Я ведь тебя еще на дороге в окошко увидела, Катьку выгнала, я ведь на стройке в тот день, в первый, знала, что дождусь, не робей меня, милок, все, как надо, сама сделаю, ты иди только ко мне, ты иди только, ах, неуч ты мой, ах, пацаненок, а еще солдатик, а еще в шинельке, да не робей меня, не робей...» И сам не понимая, как это произошло, он оказался с ней, в ней, в топкой сердцевине ее горячего тела. Но в какой-то момент происходящее вдруг представилось ему как бы со стороны, и в глаза бросилась нечистая Дашина рубашка, уродливо вздернутая на животе, мокрые клоки в подмышках закинутых рук, едкий дух пота, точно настоянный на всех запахах хибарки, пресек дыхание, удушливо проникая в глаза, уши, грудь. Он увидел свои неряшливо и беспомощно спущенные брюки, из которых торчали синюшные в липком свете оконца ляжки, увидел набухшие весенней влагой ботинки, которые не успел снять. Ну и ну! Чистый Бениамин Грач, рухнувший в кровать, не снимая ботинок! Конечно, об этом тоже было нелепо думать. А что бывает «лепо» в такие моменты? Виктор выскочил из хибарки, так и не в силах унять эту скользкую дрожь. Его мутило, его опустошенное тело было чужим, отвратительным. Неужели так всегда, навсегда? Сладостная тайна, поэзия, голову теряли, самоубийства, необоримая тяга, наслаждение, наваждение, о, если б навек так было, клеопатровы ночи... Это? Это? Это? А как у других? Может, он выродок? Однажды на фронте был разговор. Тогда убило Диму Сверчкова. Кто-то сказал: «Жалко мальца, жизни еще не посмотрел, даже бабу не попробовал». И начали вспоминать. Кто как — первый раз. Говорили разное: «Я как бы родился. То дитем, а теперь мужиком, сила такая завелась — все сверну». «А я ничего. Ну, ничего. Как было, так и есть. Женили, и ладно. Все с женами спят, ну и я, думаю, буду. Ничего такого нет». «Во лопух! Нет! А что же есть? Да это самое главное и есть. Я, если хочешь, восемь раз в разведку к немцу схожу, если скажут: вернешься — баба твоя». И никто, решительно никто не признался, не рассказывал о скользкой дрожи, об омерзительности собственного тела, таком, что не хочется жить. Гнусные подробности свидания врывались в память, тошнило все гаже, наконец, вывернуло, мучительно, спазмами. Очнувшись, Виктор обнаружил, что держится рукой за пожарную кадку, установленную возле какого-то скороспело сбитого строения. Наклонил лицо к черной плотной воде. У самых глаз, морща, казалось бы, твердую поверхность, промчался водяной жучок, означая свой путь шеренгой крупных, увеличивающихся скобок, берущих начало в хвостовой точке насекомого и венчаемых овалом, образуемым самой крупной волновой скобой и кадочной стенкой. Все виделось ясно, как под микроскопом. Хотя, скорее, удалось подсмотреть в телескоп черноту Вселенной в миг, предшествующий сотворению мироздания, когда подвижная мысль Творца размечает орбиты грядущих светил. «Господи, о каких глупостях думаю!» — Виктор тоскливо тронул губами жучковый след, погрузил в воду лицо, холод сжал виски, сразу же оттолкнув, отторгнув. Стало легче. Провел пятерней со сжатыми пальцами ото лба к подбородку, стекающая вода струйками увлекла, смыла вязкую тяжесть, какой, оказалось, было физическое наличие ужаса и отвращения, владевшее им. И опять несуразица: полностью освободить от кошмара могли бы только стихи, запечатляющие все точно. Жизнь, переплавленная в строчки, освобождается от страдания, постижение стихом — самая могучая разгадка тайны. И для себя, и для других, кто проходит через подобное. Да, да, только стихи. Правда, Виктор тут же ужаснулся, устыдился этих мыслей. Стихи об этом? Нет, нет, разумеется. Для поэзии существует строго очерченный реестр тем, вырываться за барьер в запретные зоны — немыслимо. Вот если бы стихи о Тане... Но тут ударом, наотмашь: «Таня!» Таня. Как же теперь приблизиться к ней, обнять, коснуться рукой, но что рукой — словом? Прекрасная моя, чистая, красавица моя, вся стать, вся суть твоя, ладони, держащие неплескающуюся воду, метельное реяние фаты... Как же теперь? Малодушно подсунулось: а никак. Разве обязательно докладывать? Значит — скрыть, врать? Не врать, а лгать. Напялить на себя театральный костюм непорочности и разыгрывать пошлый водевильчик под титром «Ничего не случилось». Ничего не случилось? «Ничего не случилось, пожалуй, только шла кавалерия вниз. Впереди командир возмужалый, позади молодой гармонист». Он произнес вслух, опять же недоуменно устыдившись: «Господи, о чем я?» В тамбуре жилого вагона Виктор столкнулся с редакционной машинисткой Маргаритой Василь- евной, прямо в перину крепдешиновой груди влип руками, однако извинилась она: «Пардон». Пардон был сопровожден проницательной улыбочкой, понимай как знаешь, может, ей неловко, а может, все про него известно. Тогда — кошмар: Маргарита Васильевна сокупейница Тани. Значит, Таня сейчас одна? Без стука отшвырнул дверь. Моментальная магниевая вспышка взора подарила прощальный портрет возлюбленной. На вечную память: полы халатика в турецких огурцах чуть разошлись, открыв колени, нога на ногу, золотые локоны склонены к открытой книжке. «Печально кудри наклонять и плакать». С порога безотчетно, к ней в ноги, лицом приникнув к турецким огурцам. Кажется, так все и было. Еще мазнул мокрым чубом по Таниной обнаженной коленке, потому что она ласково ойкнула: — Ой! Мокрый... Откуда ты, прелестное дитя? Слов для ответа не было. Были, были слова, ворохи слов, груды, терриконы, тектонические нагромождения. Только звуком обернуться не могли. Невесомые Танины пальчики нырнули в его виски, зашевелились там, затрепетали стайкой бабочек. — Ну, правда, откуда ты такой мокрый? Может, был у русалки? Ну, говори, кто эта Жизель? Знала? Поняла? Догадалась? Слова прорвались: — Родная, любимая, единственная, прости! Я — грязное животное, я скот, скот, я сам не знаю, как это вышло... Пальчики окаменели, впившись в кожу Викторовой головы, и дальнейшее молчание, — точь-в-точь, как сказано Шекспиром. Продолжительность трагической паузы Виктор, разумеется, определить не мог. Столетие, вечность, бесконечность. А потом отвердевшие пальчики брезгливо, как мокрую крысу, сбросили его голову с колен. Таня поднялась, левой рукой придерживая полы в турецких огурцах. Правой открытой ладонью произвела жест, выдворяющий Виктора из купе, как бы совместно с окружающей его порочной атмосферой: — Убирайтесь! Я вас ненавижу, а себя презираю. И он убрался. Из купе. Покинуть вагон сил не было. Неразрешимый человечеством вопрос принца Датского «Быть или не быть?» перед Виктором не стоял. О каком бытие, каком существовании могла идти речь? Умереть, уснуть. И только. Только, только — как? Каким путем? Куда бежать — под поезд, в реку?.. Реки в Угольном нет. Да, но есть пожарная кадка. Голову — в черное нутро. Туда. — Кого я вижу! Или статуя Командора решает себе, не переквалифицироваться ли в Дон Жуана? Или? — Из их купе вышел заспанный Бениамин Грач. Вышел Бениамин Грач и все опошлил. Взял Виктора под руку и отвел в купе, где тот ничком повалился па полку Грача — карабкаться наверх не было сил, — разрыдавшись тупо, стыдно, по-мальчишески. — Это хорошо, что ты умеешь плакать. Это колоссально. Это нужно, это прямо-таки необходимо. Потому что, если человек не умеет плакать, скажем, даже фигурально, не умеет выдать рыдание души, человек никогда не станет поэтом. Все! Пиши пропало. Но ведь мы очень-таки желаем, чтобы ты стал поэтом. Желаем или?.. Милый, сердобольный Грач, вертоносый утешитель скорбящих, святой угодник местечкового захолустья! Если бы можно было раскрыть перед тобой всю бездну омерзения, позора, утрат, бездну, исходящую, точно кратер вулкана, огненной лавой боли, клубящуюся сонмами ядовитых видений, бездну, на смрадном дне которой барахталось тщедушное и непутевое Витино существо! Если бы! Если бы облегчить душу рассказом и смыть пониманием! Но — о чем речь?! Какие страдания юного Вертера, числящегося по штатному расписанию поэтом-литсотрудником выездной редакции, могли быть доступны унылому резателю плаката «Поднажмем чуток, будет домнам ток!» Тем более что насущная необходимость электроэнергии для нужд доменного цеха и та не вполне осознавалась Грачом. Что уж говорить о любви, страсти, о муках кровоточащего сердца. Грач, небось, женское тело-то видел только на занятиях по рисунку, когда мосластые или сонно-оплывшие натурщицы тусклым сознанием перекидывали причитающиеся за позирование рубли с кожемитовых сандалет на чайную колбасу. А любовь, любовь, вершитель совершенного, тот миг, «когда любовию и негой упоенный, в молчанье пред тобой коленопреклоненный, я на тебя смотрел и думал: ты моя!..» Понять такое Грачу? Вообразите только: Грач отправляется на свидание. Нет, представьте, представьте. Плоская черная фигура, заимствованная с египетской вазы, движется по терракоте закатного неба. Острые углы вздергиваются над горизонталью ночи, журавлиная графика. Одна рука отведена назад, ладошка обращена за застенчивым подаянием к кому-то, идущему следом, другая рука простерта Грачом перед собой. В ней, в кулаке зажата роза. Алая, красная, пунцовая, горящая. Горит, будто последний огонь в кострище. И линяло окрашивает терракоту неба вкруг себя. Фигура Грача черная, силуэтная, а роза горит. Ах, идиотство! Ну что за предательская склонность разглядывать картинки воображения или затевать игры в слова в моменты самые неподходящие. При чем тут Грач, спешащий на свидание? Такое горе, душа с телом расстается, а думаешь черт знает о чем! Но Грач-то карикатурен в такой ситуации. Что может понять Грач? Что можно ему объяснить? — Лично я, Витя, имею к тебе расположение, и убей Бог, чтобы я скрытничал в этом вопросе. Но в данный момент я еще имею на тебя и надежду: рядом с тобой, Витя, проковылял шанс. Шанс стать поэтом. Важно не позволить ему завернуть за угол. Ты меня понял? Бениамин Грач гнул свое. И каждая его фраза вызывала в Викторе новый и новый спазм рыданий. Новый и новый, пока он не заснул, обессиленный, полумертвый. Среди ночи разбудил Танин голос: «Я вас ненавижу, а себя презираю». «А ведь мне уже кто-то говорил эти слова, — ясно подумал Виктор. — Да, да, эти самые. Кто же? Ни с кем у меня подобного не было... Стоп! Да ведь это не мне. Это Печорину говорилось. Княжна Мери — Печорину». Он перевернулся па спину и улыбнулся в темноту. Слава Богу — в темноту. Грач не мог увидеть. «Стихи мои, бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда!» — тихо попросил Виктор. Признаюсь: слушая рассказ Виктора о его грехопадении, о разрыве с Таней, я испытывала корыстную радость. Наконец и мое повествование (о том, что я буду об этом писать, мне уже было ясно) вырулит на тряский и опасный маршрут страстей. Согласитесь, про любовные передряги и писать, и читать куда интересней, чем про самые вдохновенные подвиги созидания материального мира. Но я — раб условий, поставленных самой себе. Рассказывать могу только со слов Виктора или о том, что происходило в нем во время нашей встречи. Тут я пользуюсь разными источниками информации. Так вот, как автор данного рассказа я нахожусь в очень сложном положении. Дело в том, что повествование мое нежданно-негаданно достигло одного из самых драматических моментов. Событие, которое я имею в виду, подробно описано в Произведении, так как являет собой одну из главных героических страниц восстановления Угольного. Речь идет о выпрямлении домны № 6, похилившейся во время бомбежек и артобстрелов. Да, в Произведении все описано подробно, и я, не боясь быть уличенной в технической безграмотности, могла бы перенести весь процесс подъема в данное повествование. Однако сложности мои заключаются в том, что Виктор не пожелал излагать мне это событие, сказав только, что, когда выпрямляли домну, случилась трагедия: разбилась Даша Колобова. Кликнули клич добровольцам лезть на верхотуру, она вызвалась. Видимо, хоть теперь Виктор и бросил писать стихи, хоть и создал Произведение, в сокровенных уголках души он оставался поэтом. Чем иначе объяснить, что, рассказывая мне обо «сем случившемся, он не пожелал обрисовать впечатляющую картину подъема, а зацикливался на каких-то незначительных деталях? Поэзия, как известно, бог деталей. Детали же эти были таковы. За несколько дней до подъема домны в хибарке произошел скандал: кто-то из детей пустил на растопку письмо, полученное некогда Дашей с фронта. Узнав про сожжение, Даша кричала и плакала. Падая с верхотуры, Даша оборвала транспарант, опоясывающий домну: «Кадры решают все». Виктор на похоронах не мог заставить себя подойти к гробу проститься с Дашей. Вот сами-то похороны он мне описал довольно подробно. Хотя тоже со странными деталями. Так что, повторяю, могла бы я живописать те героические факты, и повествование обрело бы более оправданный и последовательный характер. Но это был бы уже рассказ об Угольном, а не история о литераторской судьбе Виктора Перевалова. Ведь не случайно же (хоть и не намеренно) возвращался он к чему-то, что изымал из общего течения событий. Так что я поступаюсь стройностью композиции, выписыванием характеров персонажей и, тем более, их числом. Чтобы понять все происшедшее, я обязана следовать прихотям Викторовой памяти. Дашу хоронили в настоящем гробу. Ведь это были первые официальные похороны в освобожденном Угольном. Погибших при бомбежках или во время боев за город торопливо укрывали мерзлой землей, домовитость гробов не соседствовала с бездомностью улиц. Позднее гробы сколачивали кое-как из уцелевших щербатых досок, тех, что не успели сжечь в ненасытных железных печурках. А тут стройуправление выписало свежий тес, и начальник ОРСа собственноручно отрезал кусок кумача из транспарантного запаса. Жаль, цветов негде было взять. Но тетя Зина намотала на проволочки цветастые тряпицы, и эти «розы» женщины вложили в угомонившиеся Дашины руки. Руки покоились одна на другой, и чистая правая прикрывала черные пятна вара на левой. Хотя товарки и обмыли покойницу, вар так и не удалось оттереть: падая, Даша угодила рукой в котел, никчемно стоящий на площадке под домной. Все было, как надо. Парторг произнес речь, отметив, что смерть Даши — героическая, можно считать, как на фронте, поскольку фронт проходит и здесь. Образно говоря. Шел разговор, что даже оркестр из областного центра запрашивали, но тот не приехал ввиду получения разнарядки на отмечание первой выдачи на-гора угля шахтой 18-бис. Потом, правда, разговор сменился: оркестр будто не дали, чтоб не сосредоточивать внимание народа на трудностях периода и даже на возможных при этом жертвах. Может быть и так. Во всяком случае, по этому же мотиву одному из корреспондентов московской газеты не позволили передать очерк о Дашиной гибели. Но Тенгиз Давидович Махарадзе в своей выездной многотиражке заметку про Дашу напечатал. Махарадзе есть Махарадзе. И музыка была. Взялись невесть откуда бас-геликон и турецкий барабан. Мелодия «Вы жертвою пали» давалась им с надрывом, можно сказать, не давалась, помечалась только, но барабан размеренно, порционно отвешивал удары, у могилы смолк, а развес пошел ударами земли. Сначала крупными, барабановыми, дальше — мелочевкой, в конце концов и беззвучной. В Викторе похороны и остались отпечатками звука. Зримое вернулось позже. Даша вся переломалась, но лицо было пощажено падением, в гробу лежала она, Даша. У гроба сгрудились все товарки и возглавляемая тетей Зиной ребятня. Ребята не плакали — уже всех родных отхоронили, обвыклись со смертью, видно, лишь перепуганы были. Но все исполнили по тети-Зининому наказу: подходили по очереди к гробу, кланялись в пояс и винились, кто в чем перед Дашей согрешил. Машутка кланялась низко, множественно, на каждое слово: — Тетенька Даша, это я тогда постный сахар взяла, а ты на Катьку подумала. Катя просила, как живую: — Мамочка, хорошенькая, любименькая, прости, мамочка, я же не знала, что тот листок — тебе письмо фронтовое, печка-то никак не горела, прости, мамочка... Юра резко тряхнул всем телом, треух слетел с головы, он полез за ним и откуда-то снизу, почти из-под гроба только и сказал: — Буду, буду. А Митя лишь беззвучно шевелил губами, что шептал — неизвестно, хотя тетя Зина все наклоняла его за плечи: «Винись, винись, ты самый виноватый». Сама тетя Зина, то и дело вытягивая шею, осматривала толпу, чего-то напряженно ожидая. Наконец меж людей пробилась запыхавшаяся Клавдия, одна из Дашиных подруг, сунула тете Зине маленький сверточек, та аккуратно положила его в гроб, перекрестилась, сама уже поясно поклонившись. Никто, даже распорядитель из завкома, не отважился выяснить, что за непорядок с какими-то сованиями непонятных предметов. Впрочем, на скудных поминках Клавдия разъясняла всем и каждому. Когда тети-Зинин дом разбомбило, хозяйка на работе была, а вся семья — в хате. Глафира, старшая дочка, как раз спала. Так из-под обломков и вытащили в одной рубахе, голоногую. Так и в землю положили. Не усмотрела тетя Зина, в беспамятстве была, что дочка на тот свет босая отправилась. Пеняла потом соседям, как такой грех допустили, а те: «Да ладно, тетя Зина, живым чулок негде взять, что уж тут». Но тетя Зина с той поры каждое воскресенье ходила на барахолку: свой хлеб не ела, только половину ребятам отдавала, хотела хлеб на чулки сменять, чтоб — новые. Однако, как назло, никто на барахолку чулок не нес. А тут такой случай. Дашины похороны. Тетя Зина задумала: «Скажу Дашеньке, передай там Глаше, сними материнский грех». И то ли Глаша, то ли Даша услышали, помогли: Клавдия на барахолке чулки выменяла, успела. И чулки нормальные, ненадеванные, Глаша не обидится. Да и Даше не стыдно такие передавать. Виктору Клавдия тоже объяснила про чулки. Почему-то история эта потрясла его не меньше самой Дашиной гибели. Он даже сказал об этом Махарадзе. Собственно, хотелось сказать об этом Тане, которая стояла рядом с Тенгизом Давидовичем, но к Тане Виктор теперь обращаться не решался. Однако Таня отреагировала, презрительно качнув локонами: — Боже, какое невежество, какая душевная тупость! Человек потерял всю семью, а печется о каких-то суевериях! Я порой думаю, что эти люди вообще не способны на серьезные переживания. Он больше о чулках никому не заикался. Никогда. Правда, описывая в Произведении подъем домны и Дашину смерть, Виктор испытал неодолимое желание вспомнить и историю потустороннего обряжания, но, разумеется, нелепость подобного стремления была очевидна. Какие уж материнские причуды: о самой кончине знаменитой каменщицы Дарьи Колосовой, героически выполнившей свой трудовой долг, равный воинскому подвигу, в Произведении остался один абзац, включая цитату из надгробного слова парторга. А в инсценировке и это ушло. Слишком масштабным было Произведение, чтобы вместить все его детали в двухактную пьесу. Нет, нет, в пьесе было. В репликах. Сняли уже на приемке спектакля. Так никто и не узнал, что хоронили Дашу в настоящем гробу, что начальник ОРСа не пожалел транспарантного кумача, что держала Даша в руках (с левой не оттерли вар, вот беда!) тряпичные цветы на проволочках, что музыка все-таки была. И что тетя Зина по душевной своей тупости пеклась о том, чтобы у дочки на том свете все было по правилам, как положено человеку. Но, если вдуматься, какое, собственно, значение имели все эти подробности для читающей публики? Да ровным счетом никакого. Для читающей публики не имело значения и то обстоятельство, что смерть Даши вовсе не была ни героическим поступком, ни несчастным случаем. Даша сама бросилась с домны. Затем и вызвалась туда лезть. То есть было это самоубийством — единственным спасением от любовной муки. Полгода назад пришел Даше фронтовой треугольник, в котором некий лейтенант Василий Треухов извещал ее, бывшую свою невесту, что судьба свела его с невыразимой красавицей Тосей из их дивизионного банно-прачечного отряда, что в данный момент Тося отправлена в тыл по причине беременности, а между ними (им и Дашей) в силу этого все кончено. Расстаемся, утешься, подруга, иногда о былом вспоминай. Знала истиную причину Дашиной смерти одна тетя Зина. И никому не рассказывала. Да никто бы и не поверил, что шалава Дашка, которая спит с кем ни попадя, говорят, даже со страхолюдным художником Беньямином, на такие чувства способна. Тем более — порешить жизнь через эти чувства. Так что публике, читающей Произведение, и эти сведения ни к чему. Бениамин Грач резал плакат. Свесившись с верхней полки (вторая, нижняя, в их купе была превращена в склад Грачевых материалов), Виктор увидел: Бениамин Грач резал плакат. Кровавые стружки, извлекаемые инструментом из линолеумной плоти, курчавились, потом, сброшенные отвергающей дланью Грача, усыпали пол буковками неведомого алфавита, что-то выписывая на нем. Восточная кудрявость букв уплотнялась в слово, письмена вершились, и оттого, что смысл их был нечитаем, каждый взмах руки художника сообщал новую, все новую значительность зашифрованной сути, требовал распознания. Виктор всмотрелся в испещренный грамотной стружкой пол, подыскивая шифр. В какой-то миг бурые письмена явились строфами стиха, подобно надписи надгробной на непонятном языке. Забились ритмом. И ритм уже становился подсказкой, но обессилел, ушел. А Бениамин Грач резал плакат. Бениамин Грач резал плакат с остервенелой придирчивостью столяра-краснодеревщика, осаждая безликость материала, заставляя его принять ритуал преображения. Работа. Всевековая работа мастеровых. Бениамин Грач резал плакат. Безголосую крикливую картинку, которую Виктору предстоит увенчать рифмованным заклинанием, чтобы, оттиснутая редакционной машиной, она превратилась в сотню близнецов, сталкивающихся нос к носу с тружениками комбината то тут, то там, наставляя и призывая. А еще — кто-нибудь сопрет из типографии пачку плакатов, пойдут они, располосованные на восьмушки, гулять кульками по бедственным рыночным прилавкам. Потому что бумаги в городе нет, взять негде. Бениамин Грач резал плакат. И было в этом действе и то, и другое, и третье. И то, и другое, и третье виделось Виктору-то так, то эдак, то сразу одновременно. Потом от неудобства позы заныла шея, и Виктор улегся на спину, уткнувшись взором в близкий потолок. Шорох руки Грача, сметающей линолеумную стружку, вернул воображению пол в чернокнижных письменах. Подобных надписи надгробной на непонятном языке. Подобных надписи загробной. Загробной, оттуда, на языке иного мира, буквами, строфами запредельности, письменностью, недоступной живым, излагалась тайна бытия. Может быть, ритуал всеобщего воскрешения. Здесь, рядом. Сделать перевод на язык русского стиха, и — исполнишь главное назначение поэзии, станешь помазанником искусства. Воля твоя, сила твоя, царствие твое. Равенство твое небесам. Откуда ни возьмись, точно уплотненные слова, составленные из курчавых стружечных букв, сложилось четверостишие. Не как всегда словом, строчкой кривой, а сразу строфой. «Но есть иные откровенья, последних истин благодать, где суть, расторгнувшую звенья, метафорой не разгадать...» Ритм, еще не четкий, начал возвращаться. Но ясности его биения Виктор не дождался, спрыгнул с полки, сунул ступни в башмаки. Не шнуровались, зараза, путалась шнуровка, хорошо Грачу с притороченными, а эти — никак. Наконец совладал, выскочил и прямиком в купе Родиона Ильича. Сидя у откидного столика, Посохин читал. Как Таня в тот раз, кошмарный. В час разрыва. А, черт с ней, до того ли сейчас! Спешно, захлебываясь, поперхиваясь словами, выложил, затараторил про пол, письмена, подход к загадкеразгадке. Родион Ильич будто ждал вторжения, не удивился: — Загадка? Философия и поэзия, а они суть братья, не решают загадки мира, они ищут их. Они братья, мой юноша, ибо их инструмент — воображение. Инструмент, отмыкающий небывалое. — Небывалое? А как же реальность? Что же, реализм уже не искусство? — Виктор почувствовал, что говорит не про то, попробовал объяснить, но сбился. Не беда, похоже Родион Ильич уловил несообразность. — Отчего же? Реальность, ее порядки и закономерности изначальны. Но деятельная мысль должна уметь преступать их, только тогда мир является нам небывалым, сотворением неведомого. А как говорил уже знакомый вам Николай Федорович Федоров: «Всякое художественное произведение — проект новой жизни». Идея вообще не субъективна, но и не объективна, она проектна. Высшее благо, как и свобода, составляют проект. — А если этот проект — чушь, неумь? — Не беда. Все равно он — вариант выбора. Человечество должно иметь выбор. Выбор путей, выбор проектов, выбор постижений. На вопрос «Быть или не быть бытию» может дать ответ только многовариантность человеческих идей, где носитель каждой идеи — личность. Быть или не быть личности равнозначно быть или не быть бытию. Вновь ощущение бесплотного инопланетарного блуждания зазвенело, забилось где-то в груди, потом в голове. Виктор даже не очень вдумывался в слова Посохина, может, и не мог сейчас овладеть до конца их смыслом, но радостное недоумение, сопровождающее исход из привычности, росло и росло. Захотелось прочесть пригрезившуюся только что строфу об иных откровениях и беспородности усилий метафоры, но постеснялся оказаться школяромнедоумком, сказал лишь: — А если прочту, если сложится? Если найду метафору-ключ? — Тогда вправе уверовать: поэт! Тогда — беседа с потомками. — Почему же с потомками? Мне нужно сейчас, с живущими. Как это так: главные слова — под замок? Что за бред, простите! Махарадзе — «пиши через сто лет!» Вы — «не поймут, не примут!» Родион Ильич улыбнулся: — Я не сказал — через сто лет. И не сказал — не поймут, дружок Кто-то поймет, примет, а впрочем, вряд ли, отучены от неординарности мышления, воспитаны на прописях. Да и не в этом дело. Не напечатает никто. Простонапросто не напечатает. А если как менестрель пуститесь по дорогам вещать поэтические откровения, засадят в каталажку. — Но почему, почему? Я же не контрреволюцию проповедую? — Ах, милый мой, милый, нормальный юноша! Разумеется, нормальный разум не может принять линию за бесконечность: они, видите ли, подобно господину Угрюм-Бурчееву, начертивши прямую линию, задумали втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир. А что не линия — крамола. Он опять произнес свое безымянное «они», в первой беседе так испугавшее Виктора. Испугало и сейчас. Они? Кто — они? Это же — все, народ, основание и вершина его жизни, их всеобщей жизни, вне которой нет его, Виктора, потому что иначе он не может, не желает существовать. Как это «они» может быть ему враждебно? А вдруг Посохин как раз и проповедует контру? Нет уж, увольте... Но протест вышел вялым, каким-то извиняющимся. — Да я вообще, не только насчет содержания. Я и про форму. Почему форма должна быть одинаковая? Стихи, так ямбовые или хорейные кубики... Я в институте как-то написал стихи тактовиком. Знаете — изобретение раннего Сельвинского? Он у нас семинар вел. Так меня потом на всех собраниях за формализм склоняли. Говорю, мы так профессией овладевали, писали во всех размерах упражнения. А мне — одно дело упражнения, другое — поэтическая практика, ты в сегодняшнюю литературу тащишь формализм. Ну почему? Почему тактовик — формализм, верлибр — западно-буржуазная стилистика? Почему только кубики? И чтобы тропы, гипербола или синегдоха какая-нибудь — только от сих до сих? Какая в них-то опасность? Речь вышла длинной, однако Родион Ильич слушал не прерывая. Зажал в кулак обильные струи бороды, черные брови смяли лоб грубыми складками, глаза печально усмехались. — Все очень просто, Витя, все просто, как огурец. Одинаковомыслие только тогда тотально, когда примитивно, когда сведено к элементарности формул, не требующих осмысления. И выражены формулы должны быть простейшим, одноклеточным способом. Всякая непривычность и опять-таки личность форм сама по себе уже взывает к размышлению, движению мысли. Разве это не опасно? О! Еще как опасно! Сегодня — собственные размышления, завтра — несогласие с утвержденной конструкцией. Сегодня — личностность, завтра — желание разрушить единство массы. Конечно, да здравствуют кубики, как вы выражаетесь. Конечно, долой тропы! Он замолчал, нагнулся к Виктору, взял за плечи и с таинственностью веселого заговора произнес: — Да, и вот еще что, они просто недуюгут допустить того, что непонятно им самим. Непонятно? Значит — опасно, а вдруг там черт-те что. А что это за умник выискался: говорит, а мне непонятно. Значит — и народу непонятно. А если народу понятно, выходит — народ умней меня? Но фокус в том, что им и не может быть понятно, они ведь ограниченные, невежественные люди. Всего-навсего. — Кто это — они? — решился наконец спросить Виктор. — Престол. Команда. И их идеологическая обслуга. — Но я же не против нашей идеологии! — снова запротестовал Виктор. — И прекрасно. Вы верите? — Верю. — И прекрасно. «Разве я не мерюсь пятилеткой», хотите сказать? Мерьтесь. Коли верите, мерьтесь. Убежденность всегда заслуживает уважения... Если не превращается в слепой фанатизм. Сам не зная почему, Виктор спросил: — Родион Ильич, а как вы считаете, Махарадзе честный человек? — Честный, безусловно, честный. Вне всяких сомнений, убежденный и честный. Все еще во власти беседы с Родионом Ильичом, смятенный, в чем-то иной для самого себя, с чувством отторжения от выведенной или издавна воспринятой надежности всеобщего устройства, Перевалов стоял и отрешенно глядел, как Грач резал плакат. Если описывать состояние Виктора сегодняшними представлениями, можно было бы сказать, что домашнему купе была сейчас отведена роль некой камеры, где человек проходит процесс акклиматизации после возвращения из космической невесомости к мирскому быту. При этом хотелось задержать в себе вольность галактического парения, хотя и было очевидно, что земные установления этому чужды, неудобны, а может, и враждебны. Конечно, сбивала с ног, обескураживала, да и пугала, что уж тут лукавить, пугала посохинская свобода выражения мыслей и оценок. Не вовлечением в ересь, а естественностью речи о неположенном, невозможном. Но как раз невозможность и чаровала. Виктор как бы приглашен был во владения невозможного, того, к чему рвалась неконформированная душа, но мозг знал: нет, таких обиталищ не существует. И вдруг — есть! Вспомнил, как друг, студент консерватории, упал в обморок, впервые услышав Вагнера. Вагнер-то, числящийся в любимых композиторах Гитлера, был для слушания запретен. Потому не существовал. Вагнеровское прочтение Вселенной было крамольно. Вот и грохнулся юный музыкант, неведением не укрепленный. Как сирой, недисциплинированной душе одним разом, одним духом принять весть об иных порядках мироздания и жития сущего? Да не весть, а отверстый вход. Для искушенных — вход, для непосвященных — бездна. Вергилий понадобился в поводыри Данте, чтобы прошествовать по кругам откровений. Какой же спрос с бедолаги пианиста, уверовавшего в непогрешимую единственность консерваторской учебной программы? Виктор в обморок не упал. Да ладно!.. Так ли, эдак ли. Грач во всех этих катаклизмах Витиной нестойкой субстанции (о, вот, пожалуй, словечко «субстанция» на месте!) был пришей кобыле хвост. Резал плакат и резал. Да не резал! Да никакой не плакат! Как тряпку с открываемого пред толпой монумента кто-то вдруг сдернул с Викторова невидящего взгляда завесу мыслей, переживаний, и открылось... Поборов плоскую однотонность листа, презрев ходульность материала, жизнью смерть поправ, светилось Дашино лицо. Белая, чистая паутина линий, бороздок, проторенных в тяжелой красноте линолеума, владела всеми красками теплого бытия. Восходило, светлело, стояло в зените прекрасное лицо женщины. Даши. Даши и не Даши. Потому что, потому что... И покаяние риверовской Магдалины, и обреченная охранительность взора рафаэлевой Мадонны, и лукавая непорочность Весны Боттичелли, и даже отважный зов Свободы Делакруа — все было в этом лице. (Институтские лекции по истории искусств профессора Тарабукина опрометью, наперегонки, кинулись в мозг Виктора.) Даша и не Даша. Но, конечно, Даша, потому что было в ней все, поименованное выше. Только, как выяснилось, знал об этом один Бениамин Грач. Бениамин Грач, производитель напольных икон, резатель плакатов «Мадам, подержите мой обушок! Воскрешенная, расшифрованная Даша завтра будет размножена редакционной машиной, чтобы открыто глядеть в глаза всем жителям города с каждого угла, с каждой стены. И никто не посмеет располосовать лист на осьмушки для рыночных кульков. Потому что каждый узнает то, что знал один Бениамин Грач. — Беня, ты что... — ошалело начал Виктор, но выговорить главное не смог. Договорил Грач спокойно, как само собой разумеющееся: — Да, да, я любил ее, вот в чем штука. Я все пытаюсь сообразить: какой срок отделял этот эпизод от следующего? В рассказах Виктора они шли впритык, но, видимо, интервал был. Впрочем, нет нужды высчитывать: для Виктора-то события шли без передышки. Виктор вошел в «кабинет» Махарадзе, репетируя про себя интонацию — небрежную, подчеркнуто обыденную, с которой был намерен произнести: «Увы! Очеркист из меня не получился, но вот — новые стихи. Думаю, на первую полосу сгодится». Но звуком фразе обернуться не удалось. Может, легким первым хрипом, откашливанием. У махарадзевского стола стояла Таня. После разрыва Виктор старался не сталкиваться с ней, во всяком случае избегал ситуаций, когда можно оказаться лицом к лицу. Потому и сейчас попятился. Но Тенгиз Давидович закричал, именно закричал: «Давай, давай, входи!» Непредвиденный этот крик, как и рука редактора, спазматически комкающая на груди рубашку, сразу сообщили: происходит что-то трудное, скандальное. И даже то, что Таня не сидела на посетительском стуле по другую от Махарадзе сторону стола, а стояла, напряженно, упруго вытянувшись, придавало атмосфере наэлектризованность. В сторону Виктора Таня даже не обернулась, будто был он бестелесен и неразличаем. Виктор же отметил мгновенно и увеличение четко: Танины щеки пылали, по одной металась родинка, металась, точно плохо прикрепленная, локоны раскачивались в меняющемся ритме. Похоже Танина голова была заключена в невидимый колокол, и локоны множественными языками бились, силясь извлечь некий звук, возможно, слова, Таней произносимые. Один локон, развившийся, мертвой плетью свисал вдоль позвоночника. Это запечатлелось отчетливо. Все же прочее, что последовало, было почти лишено зримых подробностей и оставляло впечатление подобия пьесы, где обозначены только реплики с незначительными ремарками. Или протокол собрания. Хоть участников двое, все равно собрания. И сколько бы потом Виктор мысленно не обращался к этой сцене, она сохранила этот пьесно-протокольный облик. Махарадзе. Это чушь, Таня, бред сивой кобылы. Ну, Кутепов — ладно. Бездарь, свихнувшийся на классовой бдительности. Но вы?! Таня. Прежде всего, я не понимаю иронии, с которой вы произносите такие понятия, как классовая бдительность. А во-вторых, Кутепов оказался прозорливее всех нас. И вас, что, вообще, недопустимо. К нему вы всегда относились без должного уважения. (Виктор понял: видимо, имеется в виду замечание Махарадзе, сделанное зав. отделом информации Кутепову относительно русской традиции писать доносы с орфографическими ошибками.) Махарадзе. Уважение есть производная... Ах (машет рукой и — Виктору), ладно, вот вы, юноша, чуткой душой поэта разгадайте это безумие. Может, правда я свихнулся? Таня. Очевидное не требует посредников, особенно тех, чьи моральные устои... Махарадзе (не слушая ее, Виктору). Кутепов, понимаете ли, накатал в инстанции бумаженцию, в которой утверждает... ох, бред... что смерть Даши Колосовой была продуманным диверсионным актом по срыву транспаранта с цитатой товарища Сталина. Что действовала тут какая-то враждебная группа. А в группу эту, видите ли, входил и художник Грач, ибо потом изобразил Колосову на плакате как героиню. О, каково! Виктор. Бред, действительно бред... Таня. Действия Грача, Тенгиз Давидович, враждебны уже потому, что он сделал примером, образцом для равнения на нее масс, человека безнравственного, падшую женщину... («Падшую, оттого что упала?» — подумал Виктор.) Таня. ...с которой сам находился в грязной связи. Виктор (еле слышно). Он любил ее... Махарадзе. Ну да? Правда? Грач... Правда?.. Таня. Вам, Тенгиз Давидович, насколько я теперь понимаю, ближе досужие россказни таких же, как Грач, аморальных типов, а не сигналы преданных делу людей. Что ж, закономерно. Махарадзе (его начала душить астма, но он все-таки выдохнул). И что же прикажете делать? Таня. То есть как — что? Собрать редакционное собрание, дать происходящему должную оценку. Вам самому, прежде всего. И протокол направить в те же инстанции, что и письмо Кутепова. Там должны понимать, что коллектив у нас, в целом, здоровый. А пусть Грач и ему подобные ответят перед народом. Махарадзе (после долгой паузы). Нет, Таня. Таня. О Боже! Так вы — трус? Беспринципный трус? Вы, который на Днепрострое своим телом... (Виктор вспомнил: еще до поступления в редакцию он слышал о Махарадзе замечательную историю. Тот был корреспондентом на строительстве Днепрогэса. Однажды не сложенную еще плотину прорвала вода, и рабочие своими телами закрыли пробоину. Среди них был и Махарадзе. Не рабочий, не строитель, журналист. А кинулся, как герой.) Махарадзе. Но ведь Грача посадят, Таня... Таня. А как, по-вашему, нужно поступать с врагами? Как? Подумайте. Она стремительно вышла из «кабинета», так и не взглянув на Виктора. А Виктора сжал, скомкал страх. Не тот страх, что железным ядром застревал в горле на фронте, не тот знобящий, но и ухарский страх, что испытал он во время прогулки с Таней по разбомбленному Ростову. Нынешний страх как бы уничтожил все его существо, обратил в ничто, не было мыслей, не было чувств. Только — страх. Страх коснулся его лица легким движением воздуха, когда мимо промчалась легкая, грациозная фигурка Тани, и, разрастаясь в холодный вихрь, страх этот объял все тело. Почему? Виктор сам не мог этого объяснить. Когда немного отпустило, Виктор сказал Махарадзе: — А может, стоит собрать собрание и сказать все как есть? — Бесполезно, — покачал головой редактор, — в такой ситуации никто не поддержит... К тому же, черт их знает, может, действительно какая-то шайка орудует. — Что стало с Грачом? — спросила я Виктора. — Мы с ним в тот же вечер уехали. Куда он потом делся — не знаю. А Махарадзе исключили из партии, хоть он и каялся. Правда, не посадили. Но в журналистике он уже не работал, года через два умер. — Странное дело. Люди телами затыкали пробоины, на фронте под пули шли, а встать на собрании и сказать правду боялись. Непостижимый феномен, — сказала я. — Непостижимый? А с тобой такого не бывало? — Конечно, бывало. Потому и непостижимый! По дороге в театр Виктор Петрович раздумывал: как поведет себя Татьяна Васильевна после вчерашнего свидания? Вдруг даст почувствовать окружающим, что заимела на автора некие права? Фамильярность в тоне, метание взоров, а то и того хуже — брякнет «ты»... Нет, «ты» не будет, она и я вчера «вы» да «вы». Но что-то может проскользнуть, актеры усекут, актеры народ ушлый. Не хотелось бы, нет, не хотелось. Конечно, в возрасте Перевалова интрижка с примой даже лестна. Но не для автора Произведения. Произведение должно сообщать творцу недостижимость для смертных, замыкать в атмосферный баллон исключительности. Вот, мол, прост, естественен, почти такой, как все, а существует в другом измерении. Ничего. Если сорвется Татьяна Васильевна, не обуздает женского тщеславия, можно поставить на место. Но как отмечал классик: «...я бури ждал, а дело обошлось довольно мирно». Или: «...у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она». Ни словом, ни намеком. Молодец Татьяна Васильевна! Коснувшись уже ритуальным прикосновением громовского рукава, Перевалов опустился в кресло, в пещерные сумерки зрительного зала. Громов кивнул: — Ко времени, ко времени, Виктор Петрович. У нас сейчас перерыв намечается. Поговорим. Но репетиция еще некоторое время продолжалась, и Виктор Петрович, вслушиваясь в голоса актеров, испытывал странное, неведомое ему прежде наслаждение. Сотни раз видел он придуманные им слова, обращенными в печатные знаки. Конечно, и в этом была своя радость. Слова, приняв обряд отчуждения, возвращались к нему в новом качестве всенародности, при этом от родительских прав автора не отказавшись. Те же, что написаны пером (машинки Перевалов не признавал, не чувствовал слов), а все же другие. Однако какое же чудо — твои слова, становящиеся поступками, душевными движениями живых людей! Сколько, оказывается, интонаций, оттенков может заключать в себе придуманная тобой фраза, когда ее произносит актер! Чудо, чудо! Из этой нирваны извлек Виктора Петровича один из актеров, вышедший на авансцену: — Не могу, Дмитрий Николаевич, тесно мне в мизансцене! Громов повел корпусом вправо, влево и уверенно отрезал: — Прекратите, Володя, рисунок мизансцены абсолютно точен. Но актер, гневно дернув плечом, нырнул в группу партнеров, разведенными руками показывая: тесно! — Ох, Динамов, ох, привереда — мизансцена ему тесна! А вот знаешь случай? Приехал на Киевскую киностудию знаменитый режиссер Марк Донской, пошел по съемочным площадкам. Заходит к одному мастеру, видит, там черт-те что, говорит: «Ну как вы мизансцены строите?» А украинский классик ему: «Марко Семенович! А я вообще безо всяких мизансцен сымаю!» Перевалов повернулся к первому ряду, откуда посыпалась на сцену эта веселая скороговорка. Чья-то щуплая фигурка означалась там силуэтом, потом подскочила к рампе, высветилась, разразилась хохотом. — Михаил Иванович, — поморщился Громов, — сколько раз можно просить: оставьте ваши байки во время работы! Вы мешаете, это выводит актеров из нужного состояния. Это помреж наш, бывший киношник, — пояснил он Перевалову, — никак не вытрясу из него киношных нравов. Не понимает: это — театр, театр! — Да я — к слову, Дмитрий Николаевич, — оборвал смех Михаил Иванович, — мизансцена ему тесна! А вон классики «вообще без всяких мизансцен». Продолжаем? — Нет, прервемся. Идите сюда, Михаил Иванович, блокнот возьмите, я продиктую замечания, — сказал Громов. Актеры, спустившись со сцены, окружили Громова и Перевалова. — Что хотите, Дмитрий Николаевич, не понимаю сверхзадачи сцены на площади. — Высокий блондин подвинулся ближе к Громову. — Чем мое поведение определяется? — Чем, чем, — не удержался и тут Михаил Иванович, — ори со всеми громче: «План, план летит!» Та же массовка, по сути дела. Сверхзадача! Вроде как со Станицыным случай был. Вводили в «Пиквикском клубе» актера одного на роль лакея. Он к Станицыну: «Объясните, пожалуйста, сверхзадачу спектакля, я зерно роли должен чувствовать». А Станицын ему: «Сверхзадача — крушение идеализма в Англии, а выходите из левой кулисы». — Михаил Иванович! — обреченно вздохнул Громов. Но тут выступила вперед Татьяна Васильевна: — Поддерживаю, поддерживаю. Я тоже не чувствую сцену. Произношу текст и произношу, а внутри — пусто, пусто. «А может, и правда, для нее искусство — все, — подумал Перевалов. — Странный все-таки народ — актеры. Зарплата нищенская, мыкаются по общежитиям, в спектаклях — на выходах, а подавай им сверхзадачу! Надо будет не забыть про жилищные условия местному начальству сказать пару слов». И, преисполнившись умиления перед чистым порывом Татьяны Васильевны, а также благодарности за тактичное сокрытие вчерашнего, сказал: — Может быть, Дмитрий Николаевич, стоит пересмотреть сцену, тут, наверное, и моя вина. — Я — за, я — за, — поддержал Громов, — побеседуйте с труппой, будьте любезны, опишите подробно обстановку. Кому, как не вам, участнику событий, знать атмосферу. Крайне важно, крайне важно. — И текст, — вступила вновь Татьяна Николаевна, — текст надо переписать, слова — набор, ассортимент какой-то, хочешь чувство, а только голос и все. Конечно, понимаю — Произведение, но ведь играть... — Ну-ну! — в протесте поднял руку Громов, видимо полагая, что дальнейшее развитие филиппики совсем оскорбит автора. Но Перевалов и не думал обижаться. Действительно, можно лучше, слова отнюдь не повсеместно человеческие. С веселой лихостью перебил Громова: — А что? Перепишем текст. Вообще всю сцену напишем заново. Я сам вижу: не то, общо, декларативно. — То есть как — перепишем? — с тревогой спросил Громов. — А так. Все подчистую. Мой текст, что хочу, то и делаю. Что я — не автор, что ли? Мой текст, хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю. Так ваш Островский говорил? — Так то — Островский, они, классики, все себе могли позволить. С классиков что — взятки гладки. Классики, они... — Громов вроде старался увести разговор куда-то в сторону. — Ничего, ничего, — похлопал его по плечу Виктор Петрович, — мы, современники, тоже не лыком шиты... Да, верно, к черту эту сцену! Придумаю что-нибудь совсем новое, чего и в романе не было. Нужно людские судьбы очеловечить. У меня уже есть кое-что на примете. Автор должен быть самокритичен. Актеры смущенно переглядывались. Татьяна Васильевна метнула недоверчивый взгляд: — Скажете тоже, смех слушать... А Громов, взяв Перевалова за локоть, деловито буркнул: — Пройдемте, Виктор Петрович, в мой кабинет. Нужно обсудить кое-какие детали спектакля. Они двинулись по проходу, но в этот момент им навстречу, грохоча эхом пустого зала, ринулась взволнованная билетерша: — Дмитрий Николаевич! Звонили из обкома, срочно просили приехать. — Простите, Виктор Петрович. — Громов развел руками. И к актерам: — Все свободны на час. В скверике перед театром на скамейках в полуденной праздности бездельничал июль. Не имея охоты, скажем, пересчитать ветерком листву старых лип или беглым дождиком обмахнуть пыль на скамейках, июль ленился даже зазвать городское население для прогулки по скверу. Похоже, хотелось июлю одного: мечтательной встречи со старшими своими собратьями былых, еще дореволюционных лет, когда в полдень пустел этот почти нетронутый временем сквер и патриархальная сонность наваливалась па раскаленные железные крыши, исходящие радужным маревом, на обмякшие спины лошадей у привоза, на пыльные кроны, до времени окрашенные этой пылью в цвет осени. Хотелось современному безалаберному месяцу только семейного сходства с теми усопшими уже июлями, что позабыты людьми неугомонного нашего века. Так и вышло. Плавились в синеве купола храма на бывшей Соборной, ныне Комсомольской площади, и золото их стекало на серо-зеленые купола лип. Как потные конские крупы, лоснились бока дюжих чугунных шаров, для какой-то надобности установленных при входе в сквер. Даже невесть откуда забредшая сюда курица, казалось, нежилась в пыли, осевшей уже лет сто назад. Перевалов уселся на старинную скамейку, сохранившую прохладность во владениях древесной тени, и тоже отдался праздности. «Кто это сказал, — пришла мысль, — что поэтам необходима праздность? Не безделие, а именно праздность?» Пришла мысль и ушла. И думать не было желания — на то и праздность. Так, какие-то облачка промелькивали в голове. «Праздность... одного корня с праздником...» А ведь верно, праздничным было сейчас состояние его души, освобожденной вдруг этим старомодным июлем от сутолоки обычных забот. «Поэту... были когда-то и мы рысаками... За то, чтобы поэтом стал прозаик. И полубогом сделался поэт...» Перевалов распростер руки на спинке скамьи, и правая опустилась на загогулину, венчающую боковину. А ведь была уже где-то такая же, конечно, была, рога горного козла, кладбище в Угольном. Таня — розовый пух, белые помпоны. «Реквием аглофабрике». Война — созидатель антимира, юношеская наивная бредовина... Виктор Петрович усмехнулся: какая чушь лезла в молодую голову, да еще не отпускала! Виктор Петрович усмехнулся, но почему-то стало грустно, до комка в горле грустно. И жаль чего-то. Может, бесконтрольности фантазий. Как это тогда? Галлюцинация, даже не ощущение, а предсказания его... Мальчишеские выкрутасы. А вдруг — провидение? А? Если... Да пусть и чушь, но вольная чушь, неприрученная, берущаяся сама по себе. Для которой и слов-то привычных нет. «У этой немоты, у этого проклятья я речь свою на привязи держу». И захотелось вдруг Виктору Петровичу, захотелось... Вот чего захотелось: чтобы вышла из театра Татьяна Васильевна, та, с которой хорошо собирать звездные кнопки с насыпи огней, она, со стиральным порошком «Рапсо», со всеми ее глупостями и искусством, которое для нее — все. Конечно, никакой связи между тоской по временам «Реквиема» и Татьяной Васильевной, обремененной отечными хозяйственными сумками, не было. И быть не могло. А захотелось! Он решил ждать, придет, обязательно придет, что ей целый час там, в театре, без дела околачиваться? Что время терять, когда в шестом хозяйственном вдруг выкинут какой-нибудь нужный предмет? Он ждал. Но Татьяна Васильевна не вышла. Зато выбежал Михаил Иванович. Охваченный дневным светом, он стал еще более щуплым, будто смыл его свет, совсем обмылок человека. Заметив на скамейке Перевалова, Михаил Иванович тут же подскочил: — Ну, как вам спектакль? Как вам наш Станиславский? Гигант? А? То-то... Это как с Довженко Александром Петровичем случай был. Обсуждали картину одного, тоже в классиках ходил. Фамилию не называю. Шулькин, скажем. Так вот, Александр Петрович выступил и говорит: «Шулькин — это же горный орел. Он может залететь на самую высокую вершину... Нагадит там и улетит». Вот и наш вроде того. На репетицию вернетесь? — Нет, — сказал Перевалов. — Пойду в гостиницу. Надо сцену обдумать, новую хочу написать. — Тогда — привет. Побегу. Татьяна Васильевна просила в шестой хозяйственный заглянуть, может, что выбросили. Михаил Иванович захлопал подошвами по дорожной пыли, бесцеремонно нарушая полуденную праздность старозаветного июля. Перевалов, видимо, задремал. Не видимо, а точно — задремал. Иначе откуда бы взяться такой картине перед глазами? Взор упирался в срез водной махины. Как бы это объяснить? Ну, примерно такое видишь, когда рассматриваешь содержимое аквариума: за стеклянной стеной видна вся его внутренность от поверхности до дна. Только штука тут была в том, что никакой стеклянной стены не было, а вода при этом не выплескивалась на Перевалова, стояла недвижно, и сам Виктор Петрович вроде был внутри, а в то же время наблюдал со стороны. И набита была водная туша множеством предметов, людей и даже, как понял Перевалов, событий. Все плавало, бесшумно перемещалось. Огибая похилившуюся шахматную ладью домны № 6, карабкались куда-то Даша и тетя Зина, чьи валенки штришками сбрасывали водные струйки — одной нет, другой; парторг с Вениамином Грачом крепили к пустому пространству чугунные загогулины заводских ворот; негасимое окружающей водой пламя печки-железки втягивало треугольники фронтовых писем, а на каждом вместо адреса было выведено: «Люби меня, как я тебя, и будем вечно мы друзья»; летели и летели стрелы с фронтовых карт, формуя замороченный мир небытия, и многотысячные солдатские шеренги обращались в колонки цифр; амебно колыхалась митингующая толпа, осененная кумачом привокзального полотнища с переваловской цитатой из Произведения; опять летели стрелы, летели уже бомбами на здание аглофабрики, но звук их полета был пулеметный, ибо зачинал полет Сам, налегающий на пулемет, установленный на крыше паровоза, влачащего редакционные вагоны сквозь пространство, не имеющее дистанционной протяженности... На этом маскараде жизни присутствовала и будничная обычность — люди, события в затрапезе обыденных дел, не измененные карнавальной призрачностью одежд, такими, что когда-то предстали перед Переваловым. Точно такие, какими сохранила их память. Однако Виктор Петрович заметил, что и на них есть какая-то мета, знак, подобие маски или, может быть, плашки-надписи, из тех, что крепятся к музейным картинам, обозначая суть экспонируемого. И хотя зримого облика меты эти не имели, на лицах людских, действиях, поступках вроде бы читалось: «беда», скажем, «позор», «ложь», «бедность», «безъязычие», «предательство». И многое в таком роде. И все было в смешении с тем, иным фантасмагорическим, в общем кружении и проплывании. И все было открыто Перевалову для обозрения. Шло и шло, двигалось и двигалось. Но внезапно, а может, скорее, не внезапно, а постепенно, это только показалось ему что — враз, отмечено им было перемещение зримого, обрело иной порядок. Что-то стало выплывать наверх, меняя очертания или оставаясь неизменным, что-то так и продолжало странное бытие в нижних слоях воды. Но еще вот что: одни лица и предметы всплывали, не оставляя по себе знака в глубинах, а с другими происходила совсем уж полная ерундовина: как клетки, они делением раздваивались, одна часть уходила вверх, другая же первоначального местопребывания не покидала. Так длилось какое-то время, пока не состоялось полное отслоение верха от низа, и тогда меж ними как бы тоже простерся прозрачный стеклянный лист. Хотя, как и на фронтальной части воды, его в то же время и не было. Просто сама водная глыба знала: до такого-то предела существует, дальше — нет, движение, перемешивание, выплескивание запрещено, невозможно. Как было нами рассказано выше, все, привидевшееся Виктору Петровичу, происходило в полной тишине. Вероятно, оттого, что в водных глубинах земные звуки обычно отсутствуют. Он и принимал происходящее беззвучным, как положено. Чему же удивляться, что раздавшийся звук сразу уничтожил зрелище и разбудил Перевалова. Потому что он, конечно, спал. Звуком оказался ясный голос Тенгиза Давидовича Махарадзе, произнесший: «Литература и жизнь». Перевалов явственным взглядом обвел гостиничный номер. Ни о каком Махарадзе и помину не было. «Что за чушь? — подумал Перевалов. — И при чем тут эта фраза идиотская: "Литература и жизнь"? Что-то знакомое, кажется журнал какой-то так назывался. Точно, журнал. Или газета. Нет, та была — "Культура и жизнь". Александров редактировал. В интеллигентских кругах еще звали "Александровский централ". В точку. Уж кто попадал на страницы опальным, осужден был на заточение в хулу, молчание, а то и на жизнь. Жуткое дело! А "Литература и жизнь", все-таки, кажется, журнал». И опять услышалось, как Махарадзе это произнес. И воспоминание о звучании слов на этот раз без сомнений открыло, что голос-то был никакой не махарадзевский, а его собственный. Перевалова голос. Он это сказал. И не просто ляпнул ни к селу ни к городу, а окрестил этими словами странную водяную феерию. И даже почувствовал, что не было свершившееся представление неожиданным сновидением, а где-то и раньше гнездилось в подсознании, только облика и имени не имело. «Литература и жизнь», — произнес он теперь еще раз, но уже неспящим, осознанным голосом. Да, именно так существовали в нем эти субстанции. Или он в них. Только прежде четко не мог осмыслить. А ведь так. Бытие всегда заполняют события, люди, творимое рядом, и всегда очертания их обыденны, но и трансформированы фантазиями, ассоциациями, образны и затрапезны одновременно. Как тот карнавал жизни, что увиделся Перевалову. Казалось бы, такое смешение, образующее единое понятие «литература и жизнь*, и дает плоть, душу будущим сочинениям, из него образуемым. Когда-то так было с юношескими его стихами, когда-то в таком затвердевала завязь «Реквиема», но стала только подступом, нечетким ощущением, — когда грядущий плод может стать и откровением, и никчемной чушью. Вот и не узнал Виктор Петрович, что таил в себе «Реквием» — откровение или чушь. И никогда позднее уже не узнал. Потому что с сознанием произошла интересная штука, точь-в-точь как в сегодняшнем сне: бытие расслаивалось. Наверх всплывало то, чему предстояло перейти на бумагу. Какие-то события, явления имели поплавки для всплывания, какие-то незримые грузила держали в глубинах, что-то вроде бы и всплыло, но, отделившись от первоначального облика, становилось уже иным. И незримый лист разграничивал «литературу» и «жизнь». Верхнему слою, «литературе», многое уже становилось неположенным. Размышляя сейчас впервые о странных этих делах, Перевалов сначала успокоил себя: ну что ж, так и надо, нельзя же все без разбору и отбору на бумагу тащить. Но потом сам же себя одернул. Не о том речь, не о том. Раздвоение сознания устанавливало некую проходную, через которую в литературу пропускалось только то, что положено по неведомому списку. Не мозг даже, а подсознание стояло вахтером у той проходной. В литераторских кругах, бывало, коллеги сетовали: «Врем все. Думаем одно, пишем другое». Верно. Он и сам чувствовал это не раз. Грустное явление, стыдное, конечно. Только слишком уж просто: приспособленчество, желание выслужиться. Хотя, случалось, и в таком можно было себя упрекнуть. И, тем не менее — сложней дело, страшней. Вранье, двумыслие могло ведь касаться только политической трактовки описываемых событий, ну общественной их сути. А тут... За проходную не прорывались черты человеческих характеров, мотивировки поступков, подробности бытия. Да и это не все. Заказан был вход непредсказуемости ассоциаций, парадоксу, даже иной интонации, распорядку слов в строке, диктуемой стихией неразума. Коллеги же твердили: «Внутренний редактор, сидящий в нас самих, пострашней редакционного. Нужно истреблять внутреннего редактора». И это с ним было. Боролся. Истреблял. Хотел истребить. Но опятьтаки... Можно момент ухватить: внутренний этот редактор только перышко занес вычеркнуть или исправить, а ты его хвать за руку. Да беда-то другая: в отслоении литературы сплошь и рядом нет момента для ухватывания. Потому что только ясное сознание может указать: тут вот и хватай. Перевалов же сейчас понимал: литература, создаваемая им, представляемая им, была какой-то особой формой сущего, с жизнью, с неприрученностью воображения связанная, но только родством, а не тождественностью. Не родственники они были, литература и жизнь. Свойственники. У каждого свой надел. И за границы его — ни ногой. В литературной вотчине какие-то свои законы утвердились, такие, что над ними и не размышляешь. Мозжечок, подкорка или какая там иная хреновина сама обозначит: это нельзя, это не оттуда, этому — нини, это так, так-то, таким путем. Разве всегда хотел он врать, приспосабливаться, мысль обстругивать? Да нет же, нет. И сюжеты выискивал, образы и слова. Да и говорил-то по большей части о том, что взаправду его волновало. А поди ж ты! Выходит, ничего из нашептанного ему Богом не сказал. Первозданности не принял, обряд преображения по прописям вершил. В отслоенности. А ведь только там, в нерасчлененной махине бытия, где богатства нищей правды на зависть всем Крезам мира, где у правды этой один закон — бунтарская непокоренность твоего воображения, только там и берет исток литература. Должна брать. Все прочее — скупость, беда, болезнь. Так размышлял Виктор Петрович Перевалов, лежа в неснятых ботинках на покрывале жаккардового тканья в гостиничном полулюксе областного города. И мысли эти были непривычны, не характерны, можно сказать, для сегодняшнего Виктора Петровича. Более того, их строй, особенно в последнем пассаже, отдавал прямой литературщиной, которой Виктор Петрович брезгливо чурался. Что вполне правильно. И все-таки заключали мысли определенную сермягу. Потому что грусть, уже посещавшая его в данном городе, обернулась неодолимой тоской. Подползала под ребра и грызла, грызла нутро «Что же — жизнь никуда? Нарошечная какая-то жизнь? Ведь это патология — расслоение сознания. Тут ведь дело не в одной литературе. Значит, ничего всамделишного нет — ни нравственности, ни чувств, ни слов? Значит, и человека нет? Эфемерия, поручик Киже? — спросил себя Перевалов. И тут же ответил: — Ну и нет. Ну и что?» Тоскливая боль под ребрами стала физической Перевалов подтянул коленки к груди, поставив подошвы на покрывало, черт с ним. Захотелось крикнуть: «Обобрали! Ограбили!» Но не крикнул. Вкрадчивый стук раздался в дверь. «Кого еще принесло? Может, Татьяна? — Входите, — крикнул Виктор Петрович, неохотно сбросив ноги на пол. Вошел человек лет сорока, с лукавыми усиками и университетским ромбиком на радужном лацкане териленового костюма. Всплеснул руками: — О, да вы отдыхаете! Простите за вторжение... — Однако, нисколько своим вторжением не смутившись, прошел, опустился в скрипучее полукресло, задумчиво и осуждающе обвел глазами номер: — Ну что ж это они? В такую конуру запихнули московского гостя! Срам! Вот вам и исконное гостеприимство центральной России. Ну, не беда. В обкомовской резиденции уже заготовили апартаменты, достойные кисти Айвазовского, как выражался ваш собрат. А также пера будущего постояльца. — Посетитель был резв и раскован. — С кем, простите, имею честь? — мрачно осведомился Перевалов. — О, великодушно извините провинциальную нашу невоспитанность. — Гость вскочил. — Олег Валерианович Кураков, секретарь обкома. Ведаю, так сказать, духовной сферой. Идеологией, как понимаете. Николай Кузьмич, это наш первый, откомандировал опекать московскую знаменитость. Так что уж не взыщите, придется поднадоесть вам некоторыми заботами — Да не стоит беспокоиться. У меня все нормально. — Бросьте, бросьте, Виктор Петрович. Что, я не понимаю? Проживание на седьмом этаже этого нашего «Хилтона» областного масштаба — не седьмое небо. И Аристотель, объясняя устройство небесного свода, вовсе не его имел в виду, говоря о высшей степени блаженства. Увы, еще бедны мы, трудна жизнь-то людская. «Ого! — отметил Перевалов. — И Аристотель ему ведом. Новая партийная генерация вверх пошла. А недавно еще подлежащее со сказуемым в речах не уживалось». — Так что, уважаемый Виктор Петрович, собирайте багаж, или, как говорят англичане, «леггидж».Через полчаса заеду. — Да у меня и имущества с собой — кот наплакал. Покидал рубашки и — концы. Но вы зря, право. Мне тут хорошо. — Ладно, ладно, не скромничайте. Конечно, скромность украшает большевика. Но, как иронизирует народ, — портит коммуниста. «Ну и вольности не секретарские!» — снова заметил Перевалов, а гость, будто между прочим, бросил: — Да, кстати, тут ко мне Громов заезжал, рассказывал про инцидент на репетиции. Ну, что вы, мол, говорили о вашем авторстве Произведения. Успокоил я его, сказал — не так вас он понял. — Отчего же не так? — Что-то липкое начало подниматься внутри Перевалова. — Именно так. Я сказал, что Произведение писал я, потому вправе исправлять, переписывать... — Ну-ну, Виктор Петрович! Я понимаю, некоторое литературное участие и могло иметь место, но ведь автор-то известен. И неловко объявлять, что он присвоил чужой труд, свою фамилию поставил. — Никакого присвоения не было. Мне предложили, я написал, я знал, что официально авторство не за мной. Но почему я должен это таить? — Липкость подкатила к горлу. — Потому, — голос Куракова обрел твердость резолюции бюро обкома, — что это компрометирует та-ко-го человека, ставит под сомнение его способности, честность, если хотите. Вы этого хотите? Мы такого допустить не можем и не допустим. Может, продолжай Кураков в прежнем беззаботном духе, Виктор Петрович и опомнился бы, смирился, но новый тон секретаря мгновенно его взбесил. Угрожать решили, холуи пошехонские, как же, застращали! Издевательским шепотом проскрипел: — Допустите! Кому захочу, тому скажу, рот не замажете! Однако, надо понимать, и Олег Валерианович не лыком был шит, в психологии толк знал (может, и в университете на психологическом обучался), зря, что ли, духовная сфера была ему доверена. — Анекдот, ей-богу, анекдот! — захохотал Кураков. — Помреж этот театральный уже байки складывает. Громов рассказывал: бегает и всем болтает, мол, консультант наш никакой не писатель, а глава государства, инкогнито прибыл. Уже поставлен на главный пост, никто еще не знает, скрывает пока. Вот уж воистину — от великого до смешного один шаг! — Что тут смешного, бред какой-то... — попытался встрять Перевалов, но Кураков не дал: — Между прочим, высказывание это — «от великого до смешного» считается наполеоновским. Он и правда любил повторять фразочку во время бегства из России в декабре 1812-го своему послу в Варшаве де Прадту. Тот как раз и написал об этом в своей книге «История посольства и Великое герцогство Варшавское». Но изречение-то — вы знаете? — не Наполеону принадлежит. Француз Мармонтель первым сказал. А значится за Наполеоном. Потому что кто такой Мармонтель и кто — Наполеон! — Я не Мармонтель. Да и он не Наполеон, — оборвал Перевалов. — Вы о чем? — не понял Кураков, совершенно не понял. — Я о помреже, его дурацких байках речь веду. Ну да ладно, хватит. Дел полно, еще поговорим, через полчаса буду, собирайте вещички. Умчался, радужно играя териленовой спиной. «А чего, собственно, я так взыграл? — думал Виктор Петрович, снова положив ноги на жаккардовое покрывало. — Будто только-только мне сообщили правила игры, будто не знал, не играл...» Действительно, взбунтовался, будто ничего не было. Ни звонка в редакцию с предложением посетить ЦК в такой-то час, в такой-то день, ни движения по бесконечному коридору, где строй дверей, крашенных скучно-коричнево, держал на груди таблички: «тов. Иванов А. А», «тов. Петров Б. Б.», «тов. Сидоров В. В.». Только здесь и писалось «тов», в других учреждениях — одна фамилия. Ковровая дорожка, намечающая трассу движения, была тусклой, в проплешинах. (А представлялось: двери — мореный дуб, то ли алтарь, то ли боярский буфет, ковер — медвежья шкура, ноги по щиколотку тонут!) Обиталище референта кичилось аскетизмом, кабинет — клетушка, мебель массовая. (А мечталось: простор, что твоя Имперская канцелярия, всасывающая мягкость кресел, беспредельный лоск столов. Ах, референт Самого! Ах, аппарат приближенных!) Было, было. И референтское вскользь: «Разговор наш, разумеется, между нами. И характер вашей работы. Надеюсь на вашу скромность, сами понимаете». Понимал все Перевалов. Что не понять? Нужна книга воспоминаний Самого о восстановлении Угольного времен войны. Ведь Сам был тогда там секретарем обкома партии. И Перевалов, как известно, в тот период в выездной работал, материал знает, перо хорошее. Время героическое, требует запечатления. Что тут не понять? С Переваловым было так: каждое предстоящее событие, прежде чем свершиться, являлось некой сценой, составленной в театре воображения в декорациях, с диалогом и ремарками, как положено. Оттого, когда жизнь переиначивала предвкушаемое на свой манер, пусть даже улучшив ситуацию, Виктора Петровича брала оторопь, будто застигнут был врасплох. Не только премьеру, но, пожалуй, десяток спектаклей отработала переваловская игра ума на тему: «Первая встреча с героем и как бы автором Произведения». Расстилалась ковровая дорожка в коридорах ЦК, держали строй коричневые двери с табличками, аскетический кабинет помощника сберег все детали обстановки, проход в святая святых обрисовался. И так далее, включая обмен репликами, с учетом языковой характеристики персонажей. И — все насмарку. Никаких коридоров, приемных, кабинетов. Последовало приглашение на госдачу, расположенную в средней полосе России, завтра, обед с опекающим референтом. На встречу отправились лишь во второй половине дня, в места отнюдь воображением не предсказанные. Через лесопарк, к реке, а там никаких впечатляющих павильонов или, на худой конец, беседок, лишь деревянные мостки у самой воды, кабинки для раздевания да розовая будка-скворечник Купальня, другими словами. Референт окликнул кого-то: — Иван Спиридонович, где ты есть? Из розовой будки вышел мутноглазый старик в синем френче, галифе, с деревянной кобурой на боку, похожей на игрушечный рояль. «Кобура-то от маузера или парабеллума, хотя, скорей, от маузера. Неужто современным оружием обеспечить не могут?» — подумал Перевалов. — Спиридоныч, вот писатель тут из Москвы, знакомится с образом Нашего. Пусть с твоего наблюдательного пункта обозревает. Лады? — объяснил референт. И к Виктору заговорщеским шепотком: — Это наш начальник купальни, строгий юноша. — Проследование ожидается в отрезке 17.00 — 17.30. — Начальник купальни сверился с надвигающимся событием по изъятой из нагрудного кармана металлической полусфере — то ли личным курантам, то ли компасу. — Пройдите на причал, ожидайте. Референт тут же — фьють! — сославшись на какие-то неотложные дела, исчез. А Виктор Петрович проследовал к скамейке, осененной полосатым тентом. И она, еще кроме перечисленных предметов, присутствовала на мостках. Тент был оторочен оборкой-зубчиками, на каждом зубчике болталось по маленькому мохнатому помпону, и казалось, проведи по ним пальцем, помпошки зазвенят, забренчат, как колокольчики. Желание провести пальцем возникло сразу же. Перевалов и проделал это. И вроде услышал комариный перезвон. Потом еще и еще, с подголосками, цоканьем, первыми голосами и второй. — Не положено. Инвентарь, — возвысился за спиной голос. Начальник купальни, придерживая рукой кобуру, шагнул, встал возле скамейки. Уличенный в нарушении распорядка Перевалов засмущался: — Да, глупость, конечно, ребячество... Сколько ждать-то еще? — Проследование ожидается в отрезке 17.00 — 17.30 — Начальник купальни вновь сверился по металлической полусфере. — Считайте. — Выходит, минут сорок, полчаса... Да вы присаживайтесь. Старик не двинулся, и Перевалов теперь уже не только засмущался, а даже оробел: впрямь строгий юноша, пеший этот кавалерист. И робость, и смущение Виктора Петровича вполне объяснимы, ибо, как указывалось выше, предварительное воображение никакого такого старика на сцену не выводило. Какие к нему подходы, черт его дери? — Маузер, — кивнул на кобуру Перевалов, — к нему бы еще кожанку хорошо. — Не положено, — отрезал старик. — А вот как раз и положено. Вы знаете, как в Россию маузеры попали? Их еще в Первую мировую у шведов закупили вместе с кожанками, да так и не успели раздать армии. А в Гражданскую Красная армия склады захватила. Потому наши командиры в коже и щеголяли. И с маузерами на боку. Роскошная вещь — маузер, соединяешь с кобурой, и вроде винтовки получается, кобура-то деревянная, как бы ложе. Только вот патроны где теперь достаете? Маузеровских-то у нас и раньше не делали. Завязался разговор? Ничуть не бывало, вопрос остался без ответа. Впрочем, переваловская осведомленность в вопросах истории легкого стрелкового оружия, надо полагать, определенное впечатление произвела. — Отдыхайте, — уже миролюбиво разрешил старик, — с приближением доложу. — Он проследовал в розовую будку, оставив Виктора Петровича один на один с простирающимся перед взором ландшафтом или, возможно, пейзажем. Река, мощеная голубым булыжником мелких волн, казалась недвижной. Деревья на том, противоположном, берегу сличали точность своих очертаний с отражениями, росшими в воде вниз головой. Сентябрь раздал деревьям яркое разнообразие одежд: кому алую рубаху навыпуск, кому кольчугу из латуни, на кого зеленую плащ-палатку накинул, на кого темную шляпку с перьями нахлобучил. Деревья так и кинулись в реку, не обронив, не потеряв ничего из дареного едва занявшейся осенью. Водно-земные двойники срослись изножьями, разделенные четкой линией воды, словно весь берег был огражден бесконечной шеренгой картиночных игральных карт. Блаженный легкий перезвон, тот, что услышался от прикосновения к помпошкам, шел в душу, и Виктор Петрович подумал, что уже давным-давно не являлась ему окружающая действительность в ее образной подробности, когда река мощена- голубым булыжником, а берега, скажем, означены картинками игральных карт, неведомых преферансистам или мастерам бриджа. Когда разложен вдоль реки пасьянс его, Перевалова, собственной жизни, и пасьянс этот обязан сойтись. Правда, тут же Виктор Петрович внутренне поморщился от скудости и будничности ассоциаций, припомнив, что именно преферанс в последние годы сопровождал все его выезды на пленер. Пошел с мостков в сторону, в траву. Снова четко зазвенело, затикало, словно кто-то неподалеку «вынул часы, возможно, начальник купальни достал загадочную полусферу. Но нет. В травах трудились кузнечики и мураши. Особенно отчетлив был отсчет секунд вблизи пушистого листа лопуха, на котором натруженно вздулись зеленые жилы: нелегкая, знать, работа — ковать время. Значит, время куется тут. Куется? Почему куется? «Кузнецы часы заводят, надевают все ботинки... тащат звонкие минуты от былинки до былинки, до широкой наковальни пухового лопуха...» Так, так, недостает строчки после «ботинок» с рифмой к «лопуха», что же там нужно, что нужно?.. Бог ты мой! С чего бы это повело его? Уж и не помнил, когда видимое оборачивалось строчкой, ритмом, рифмой... А кровь выстукивала: «До широкой наковальни пухового лопуха». Не-е-т. Пухового может читаться — пухового. Хотя что-то в этом есть: пуховая наковальня. Многосмысловость парадокса, сращение контрастов. И все-таки — нет. Шерстяного лопуха, так точнее. До широкой наковальни шерстяного лопуха. — Пройдите, пожалуйста, на причал. — Из кустов возник человек в черных сатиновых трусах с матерчатым свертком под мышкой. — Почему это? А я вот не желаю, я здесь желаю, — вздрогнув от неожиданности, огрызнулся Перевалов, не то раздражился, что странный купальщик указывал, где гулять. Вторгся, обалдуй, в сладостный полузабытый процесс стихосложения. Гад. — Пройдите, — повторил тот и поправил сверток под мышкой. В белое вафельное полотенце, заклейменное траурным инвентарным знаком, был завернут какой-то твердый предмет. — А я, может, искупаться желаю. Вы же вот желаете купаться. Жара, хоть сентябрь. Это Перевалов бубнил уже от злости, успел ведь смекнуть, что пришелец из кустов никакой не купальщик, а охранник. «Конспираторы хреновы, — выругался про себя Виктор Петрович, — маскарад устроили, пушку в полотенце запихнул и думает — порядок, никто не распознает. Старик, тот хоть без туфты. Кобура на боку, службу несу. Глядите». Поэтическое настроение опоганилось, развеялось. Ожидание сразу стало скучным, долгим. «Пойти со стариком побеседовать. "О подвигах, о доблести, о славе. О Шиллере, о славе, о любви". О башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о королях и о капусте. О пистолетных патронах. Надо ему сказать, что к маузеру подходят патроны от "ТТ". В раму окна розовой будки была вставлена картина внутреннего бытия: старик сидел на струганной скамье возле струганного же чистого, молодого столика. Перевалов прилепил лицо к стеклу. Услышав шорох, старик положил руку на кобуру. «Пальнет еще сдуру». — Перевалов отпрянул от окна, стараясь, тем не менее, держать начальника купальни в зоне обзора. Стариковская ладонь оглаживала детский рояльчик. Отстегнул стражник кобуру, переместил ее на стол. Перевалов замер, впился взором. Степенно раскрыв грозный деревянный футляр, где положено было покоиться маузеру или парабеллуму, старик вынул из кобуровой утробы толстый бутерброд. Принялся уважительно его сжевывать. Виктор Петрович захохотал и шагнул в будку: — Так вот какой системы ваш пистолет! (Как же сразу не заметил, что рукоятка из кобуры не торчит!) Старик ни слова, ни звука, зло зыркнул на Перевалова, зажевал торопливей. Чтобы разогнать неловкость, Виктор Петрович сказал: — А знаете, что значит «парабеллум»? «Парабеллум — готовь войну». Из латыни: «Хочешь мира, готовь войну». Вы, надо думать, хотите мира. Потому кобура на боку? — Привычка, — достойно отрезал старик — Думаете, я весь век при купальне состоял? Увольте. Я в охране самого товарища... — он бдительно смолк. Вынул часы-компас: — Время. Скоро проследование. Они прошли к мосткам. Старик двигался натужно, подагрически не отрывая сапожных подошв от земли, будто торил в тропке песчаную лыжню. Идя следом, Перевалов видел, что синий френч сник беспомощными дряблыми складками, как детский воздушный шар, из которого выпускают воздух. Мостки пахли «Зверобоем». «Совершеннейший вкус сливок», — пришел на память гоголевский Ноздрев. — И часто Сам здесь купается? — спросил Перевалов. Старик ответил неохотно, понимая, что может разгласить гостайну. — Пока не приходилось. У них другие места для досуга, а также отдыха. Они здесь уважают на уток охотиться. Поэтому купальню держим, если когда пожелают. Но пока не приходилось. — Я знаю. Хозяин предпочитает юг. — Виктору Петровичу стало до смерти обидно, что отставной телохранитель и не мыслит переваловской причастности к небожительству верховных властей. Захотелось показать, что и он вхож: — Мы с ним на новой крымской даче работать будем. Старик, в свою очередь, видать, почуял, что Перевалов подозревает его в нынешней отстраненности от придворных таинств, обиженно зашевелил усами: — Новая крымская не принята. Работнички! Полгода в горах дорогу к даче долбили, а вывели таким путем, что машина у подъезда не той стороной останавливаться должна. Передал — блевать пришлось. Потом — другое. Комиссия приехала замерять шум от моря. А там децибелов больше нормы. Мешают умственной деятельности. Работнички! В наше время им бы за эти децибелы объяснили, что следует. Децибелов посчитать не могли! — Слово «децибелы» старик произносил на все лады, то как бы с тремя, а то и четырьмя «л». Уж если это, мол, ему известно, то, надо понимать, что — в курсе. — Им бы в наше время... Участь строителей, пренебрегших децибелами, осталась не уточненной, так как властный рокот мотора надвинулся с реки. Минута, две, и водную целину вспахал еще невидимый лемех, а затем в зрелище с лета взвился военный катер, испещренный праздничной суетой солнечных бликов. Вспарывая голубую брусчатку воды, катер обнажал серые глубины, скрытые поверхностью, принимая на свои победные бока отнятую у реки лазоревость. На носу катера был закреплен крупнокалиберный станковый пулемет, над которым высилась массивная фигура в брезентовой робе. Гипнотическая сила исходила от внезапного видения. Каково? Стремительность монумента, подвижная скульптурность, несоединимые сознанием. Отверделость робы, подбитой ветром, каменная четкость капюшона, горизонтально притороченного к шее над спиной пулеметчика. Капюшон этот, тоже плотно набитый ветром, упруго подрагивал, подобно тормозным парашютам за хвостом истребителя, садящегося на палубу авианосца. Что сообщало и катеру боевую всепогодность. Воинственная дрожь прошла по переваловскому телу, чуткое предчувствие упоения в бою. И точно: стоило катеру выйти на траверс мостков, как из прибрежных кустов вымахнула плотная, но в то же время рваная стая уток, будто их кто специально высвободил в этот миг из заточения. А может, действительно специально выпустил. Человек у пулемета всей массой объемистого тела налег на орудие, пулеметный ствол завертелся туда-сюда, точно нос длиннорылой твари, вынюхивающей добычу, и — застрочило, закосило!.. Утки рушились в реку, утопая, всплывая, пузыря поверхность маленькими кочками тел. А пулемет сыпал гневную скороговорку, а пулеметчик тяжелым телом все выдавливал из машины эту смертную болтовню. Мелькнуло и унеслось. В полном обалдении взирал Виктор Петрович на присмиревшее поле брани, на безмогильный утиный погост. — Уже? — прибежал запыхавшийся референт. Локтем референт с охранительной значительностью прижимал к телу красный прямоугольник. — Уже, — сказал Перевалов. — Ничего, вернутся, — успокоил референт и плотнее притиснул алую папку. Именно папка находилась под локтем. Катер действительно вернулся. Умиротворенный, обретший беспечность прогулочного. И пулеметчик в обмякшей робе уже не смахивал на несущуюся скульптуру, а был заурядным поселянином, вернувшимся то ли с рыбалки, то ли со сбора грибов. Зато сошедшее с катера окружение, как и те, что ждали на мостках, соблюдали торжественную выразительность момента. Хотя с некоторой веселой льстивостью. Непроизвольность льстивой улыбки зафиксировал на своем лице и Виктор Петрович. Он впервые видел Самого живьем. Не на портретах, не в кино, не на телеэкране. Рядом. — С удачной охотой! — приветствовал прибывшего референт, тут же представив Перевалова. Охотник-пулеметчик радушно пожал руки Виктору Петровичу, стоящему чуть в сторонке старику и, что-то смекнув, воскликнул: — Иван Спиридоныч! Ты ли это? Откуда? Тут? — Так точно, тут! Служим, — громко отрапортовал начальник купальни. До этого мига все внимание Перевалова было, разумеется, сосредоточено на прибывшем, но скосил глаз на голос старика, и все — сановный знакомец, референт, окружение, все пропали, растворились. Необычайное явление сотворилось на глазах Виктора Петровича. Не было рядом старика в поникшем синем френче, в неподъемных от земли сапогах. Фигура его импульсивно распрямилась, похоже, внутри был вставлен металлический метр, раскрытый одним резким движением, безвольные складки френча мускульно напряглись, крепкая ляжка подрагивала с готовностью жеребца на скаковом старте, легкой кистью руки выверена безупречность расположения козырька фуражки над лишенным возраста лицом, в замызганных глазах, как на переводных картинках, проступил цвет. Не было старика, не было, вот был — а нет! — А ты все орел, Иван Спиридонович, — похлопал его по плечу Сам. — На прошлой охоте я тебя с дистанции не разобрал. Был ты тут? Был, был. Орел! Я ведь тебя еще по старым временам помню, прямо тебе скажу, побаивался я тебя, да и все мы боялись, как увидим — что-то под селезенкой заскребет. Это я тебе честно говорю. Складки стариковского френча округлились уже атлетически. — Служба! — кавалергардски щелкнул каблуками начальник купальни, показалось даже, звон шпор раздался. А Сам не мог уняться: — Вот она, старая закалка! Это хорошо, что тебя на покой не отпустили, а то, знаешь, нынешние-то мои: все менять, всех менять, а нам такого народа, как ты, Иван Спиридонович, во как не хватает! Ну, бывай, счастливо тебе. — Он обеими руками подержал плечи старика. — Так. Теперь с тобой, товарищ писатель. Где же нам покалякать поудобней? Там, на даче, небось, уж посол этого, как его, дожидается... — Буркина-Фасо, — подсказал референт. — Во, во, я его все время Абрау Дюрсо кличу, — согласился Сам. — Не мудрено и перепутать, — вставил свое слово и Виктор Петрович, — я о таком государстве и слыхом не слыхал, по-моему, и нет такого... Но референт корректно пресек: — Нет, так будет, со временем... В политике необходимо предвидение, которое как раз и отличает... — мягкий жест в сторону Самого. — И государство будет, и посол. Ходящий по Москве анекдот чиркнул в уме Перевалова: «Сообщение ТАСС: "Вчера советский руководитель принял французского посла... за английского"». И, будто подслушав эти мысли, Сам засмеялся добродушно и, как говорится в ТВ-программе, от всей души: — Государств наплодилось, государств! Особенно — «третий мир»! Не упомнишь. Однако надо уважать: освободились от колониализма, вот на даче решил принять, пусть чувствуют поддержку могучего Советского Союза. Верно поступаю, как считаешь, писатель? Перевалов не успел ответить, референт перехватил внимание Самого, раскрыл папку, алые крылья ее распахнулись с плавностью лебединых в балетном адажио. Мастерски была раскрыта папка, с грацией и в то же время с неукоснительностью, предписываемой содержащимся внутри. — Прошу прощения, — сказал референт, — но ведь еще Министерство обороны с МИДом вызваны. — Ох, черт, — воскликнул Руководитель, — я и забыл! А нельзя их на потом, на после отпуска? Не вздохнешь ведь. — Увы! — Всем видом референт отобразил понимание трудной жизни шефа. — Мидовец отбывает в Женеву, куда ж ему без установок. — Ладно, скажи приму после этого, Абрау Дюрсо... Нет, вот что, — лукавая придумка сверкнула в руководящих глазах, — давай их сюда. Пусть писатель поприсутствует. Надо же ему нас, так сказать, в действии, за работой понаблюдать. Как это у вас, писак, называется — войти в образ? Точно? А? — Мысль блестящая, — несколько растерялся референт, — только тема разговора... так сказать... — Ничего, свои люди. Да и сознательный же гражданин писатель наш, поймет. Роток на замок. Сознаешь, писатель? Где же нам расположиться? — Руководитель обвел взором пляж. — Во! К Ивану Спиридоновичу пойдем в будку. Как в полевых условиях будет, на КП. Примешь, Спиридоныч? — Так точно. Разрешите готовить помещение? — Молодой старик, играя налитыми складками френча, рванул к будке аэродромной поступью почетного караула. В полязгивании кованых каблуков прослушивались литавры «Прощания славянки». — А ведь точно — КП, штаб мой напоминает, — мечтательно проговорил Руководитель, когда за струганным столом разместились Сам, пожилой, могучего сложения Маршал и моложавый представитель МИДа с усталым умудренным лицом, хрупкий. Севший чуть поодаль Перевалов мог через окно, теперь уже с обратной точки, видеть Начальника купальни. Стоял, как на карауле, руки по швам, кобура не шелохнется, приклеена к телу. — Докладывайте, слушаю, что у вас? — пригласил Руководитель. Маршал кашлянул: — Да вот, опять просят огород им прирезать. — Видно было, что Маршал отважился позволить себе несколько вольную стилистику беседы, рассчитывая расположить Самого. Мидовец принял предложенную манеру: — Да уж не огород, товарищ Маршал, целую пашню. — Ну и докуда решили пахать? Объясните товарищу Руководителю, — сказал Маршал. — До Урала, никак не меньше. — О чем вы? Говори толком. — Руководитель поводил глазами от одного собеседника к другому. — Та же проблема — зоны доверия, — пояснил представитель МИДа. — Он хотел продолжить, но Маршал перебил: — До Урала! Ну и аппетиты у них, товарищ Руководитель! Им палец дай, всю руку отхватить норовят. Один раз под эти их зоны доверия полосу в 250 километров вдоль границы отторговали, теперь до Урала подавай? Вам что, Пентагон платит? — Маршал усмехнулся, считая, видимо, это обращение к Мидовцу удачной шуткой. Тот дернулся, но сдержался, лишь упрекнув тихо: — Товарищ Маршал! — Спокойно. Без драки. Разберемся в обстановке. — Руководитель построжел. — Докладывайте мотивы, — обратился он к Мидовцу. — Партнеры дали нам в качестве зоны доверия всю Европу. Нам необходимы еще и определенные пространства акватории. А мы им в ответ — приграничную полосу в 250 километров. Какого соглашения можно достичь на этих условиях, какие тут зоны доверия? И о каком доверии, вообще, может идти речь? — Верно, — согласился Руководитель. — Доверие. Доверие сегодня в международных делах — все. Нам без доверия невозможно, мы должны за доверие бороться, мы всех впереди должны идти в отношении доверия. Но Маршала не просто было укатать: — Конечно, доверие, понятно. Но я честно, по-солдатски скажу, товарищ Руководитель. Опасаюсь: больно доверчивые мы стали. А у меня вообще к возможному противнику доверия быть не может. Служба такая. Я, конечно, извиняюсь. Кривить не приучен. — Он припечатал к столу гигантскую пятерню. — Но ведь мира без доверия не получишь, — попытался возразить Мидовец. — Как же нам очередной раунд переговоров вести? — Дипломатические раунды — одно, безопасность Родины — другое, — отрезал Маршал. — Я лично Родиной в дипломатические игры не играю. Можем мы обезоруживаться, товарищ Руководитель? Не можем. Не имеем права перед народом. — Верно, — согласился и с ним Руководитель. — Безопасность Родины — это, понимаешь, дело святое. Тут держи ухо востро. Доверие доверием, а народ с нас за оборону спросит, ох как спросит! — То-то и оно, — поддержал Маршал, понимая, что получает единомышленника. — Доверие!.. Каким же только путем? Вот вопрос. Зоны доверия, инспекции на местах... Что вы еще там в своем МИДе надумали? — Вот как раз решить вопрос об инспекции на местах, вопросы контроля. — Контроль — это важно, — подобрев к Мидовцу, кивнул Руководитель. — Контроль — это ключевой вопрос, мне со всех стран об этом пишут, информируют о постановке вопроса. С экспертами также обсуждали. Есть мнение, большой политический выигрыш в международном масштабе можем иметь. Как бы наша инициатива. Маршал взорвался, даже присутствие Руководителя не помогало самообладанию: — Что же выходит? Мы что, туристическое бюро? Путешествуйте, господа, по нашим военным объектам, мы вам еще и лимузины подадим. Так, что ли? — Но ведь и мы получаем доступ к инспекции, — не сдавался Мидовец. — К тому же всем известно, что со спутников сегодня видно все в подробностях. Мгновение Маршал молчал, затем сказал почти уверенно: — У нас все не разглядят... Над нашей территорией облаков больше. — Синоптики гарантируют? — осведомился Руководитель, и, когда Маршал утвердительно качнул головой, завершил: — Ладно, вы, товарищ дипломат, езжайте в свою Женеву. Мы тут посоветуемся еще. Установки передадим. Сейчас — все, дел полно, посол дожидается, вот с писателем покалякать нужно. Выйдемте, а то в этой вашей землянке в три наката живым сгоришь. Маршал откозырял, дипломат откланялся. Руководитель с Переваловым и референтом (оказывается, он тоже находился в будке, но как-то бесплотно) вышли во владения предвечернего сентября, где надвигающийся закат с тщанием ученикабогомаза крыл каждую травинку, каждый листок сусальной позолотой. Уселись под тент с помпошками-бубенцами. Помалкивали колокольчики, никто их пальцем не касался, да и какие могли быть перезвоны при речах Руководителя. А он доверительно опустил руку на переваловское колено: — Значит, так: товарищи посчитали, что будет полезно, если я в литературной форме поделюсь своими воспоминаниями о некоторых героических этапах советской истории. Я, понимаешь ли, во многом имел личное участие. Так... — Он задумался на миг, и тут же встрял референт: — Для молодого поколения это будет иметь огромное воспитательное значение. Бесценный материал, бесценный. — Бесценный-то бесценный, — не возражал Сам, — да где время взять? Государственные дела, они, знаешь!.. Да еще в международном масштабе. Ты сам наблюдал только что. Я, конечно, мог бы самостоятельно, баловался писаниной в свое время. Но сейчас, сам понимаешь... Вот товарищи и подсказали — тебя привлечь. Перо бойкое, к тому же, говорят, ты в военное лихолетье в Угольном работал. Помнишь меня? Я тогда на обкоме был. Какими делами ворочали! Ворочали, ворочали! Ожило тут же. И зрелище военных разрушений, и даже слова, которыми некогда хотел Виктор Перевалов это зрелище запечатлеть: руины аглофабрики — неряшливые бетонные соты, слепленные пчелами-бомбами, утратившими в безумии сокрушения присущее пчелиной архитектуре чувство гармонии. Отчетливо увиделось: взорванные колонны доменных печей, разодранная бронь горна и заплечников... И накрененная Шестая. — Да уж, дела делались, — ностальгически подтвердил Перевалов, — неведомые прежней истории дела. Вот сколько веков человечество ломает голову над загадкой Пизанской башни, а там у нас Шестая домна тоже под наклоном была. И выпрямили. Выпрямили! И запустили. — Было дело, свинья не съела, — подмигнул Сам, — а меня-то помнишь? — Еще бы не помнить, — развел руками Перевалов и подумал: «Да я тебя всего раз из толпы на митинге и видел». — Вот и ладненько. Я, понимаешь, в короткие часы досуга товарищам койчего рассказывал, а этот мой пострел, — кивок на референта, — на магнитофоне зафиксировал. Ну, разрешил я ему. Говорит, складно получилось, увлекательно. Он тебе все отдаст, ты валяй обработай хорошенько, как у вас, писателей, положено. — Может быть, стоит и документы того времени привлечь, чтобы полнее была панорама событий? — рискнул посоветовать Привалов. — А как же! Надо масштабно дать. Они тебе всю документацию подготовят. Проси что надо, заказывай. Они сыщут, у меня аппарат толковый, грамотные ребята. — Спасибо за доверие. Постараюсь, как могу, — сказал Виктор Петрович. — Вот давай и потрудимся вместе для народа. А сейчас, извини, время поджимает, посол ждет, надо еще обмундирование сменить. Счастливо! Желаю успеха! Встреча с Самим закончилась. Единственная. Возвращаясь в Москву, Перевалов размышлял: «Конечно, сероват деятель-то, примитив. А как же это вышло, что взошел такой странищей заправлять? Впрочем, может, есть в нем некий светлый мужицкий ум. Может, я чего-то главного не понимаю. Дядя-то он и вправду симпатичный, без фанаберии, похоже доброжелательный. Другой бы в его- то положении — ох-ох-хо! И, смотри пожалуйста, к государственным тайнам допустил. Запросто так доверился, в порядочность, значит, верит. Нет, мужик неплохой, определенно неплохой. К тому же действительно участвовал в событиях важнейших. Военное восстановление — это вам не хрен собачий. Материал достойный. Да и что выпендриваться перед собой: лестно ведь — тебе, а не комуто предложили». Виктор Петрович усмехнулся этим мыслям, однако невольная улыбка тут же напомнила о другой, той, неконтролируемой льстивой, что засек он на себе во время беседы с Самим. Стало стыдно, мерзко. Перевалов замотал головой: «Нет! Нет! Невозможно. Этак в холуя недолго обратиться». Представилось, как, зажимая под мышкой красную папку, подскочит он к Руководителю, как взмахнут в его сноровистых руках алые лебединые крылья. «Нет! Нельзя... А как бы другие братья-писатели? Отказались бы? Пожалуй, нет. Конечно, нет, никто бы не отказался. Ну и пусть, а я — откажусь. А интересно, какой был бы "реагаж", если бы узнали, что мне предложено?..» В школьные годы, в невнятном уже детстве, забавлялся переваловский класс хитрой игрой. Хитрой, потому что не расшиши какие, не «морской бой», а наука. Учитель физики Платон Семенович показал, объясняя про магнитное поле. Подкладываешь под бумажный лист магнит, сыплешь сверху металлические опилки, и пошли, пошли блошиные бега: пока все блошки не расположатся по силовым линиям. Вот и играли — у кого быстрей. Играли все, а названия игре не придумали. И на тебе. Бумажный лист небывалых размеров, нарисованный загогулинами уплотняющихся тропок, распростерся сейчас перед Виктором Петровичем, наблюдаемый как бы с птичьего полета, с высокой надземной точки. Иными качествами была наделена новая ипостась листа, качествами, выявляющими то обстоятельство, что дело отнюдь не в простом увеличении размера, а в смысловой значительности перемен. Прежде всего, сама собой упразднилась безыменность блошиной мельтешни на тетрадочной страничке, требуя наречения процесса. Оно и явилось: визуализация векторного поля. Это на железных блошек можно было глазеть, то есть осуществлять глазение. Здесь — визуализация, никак иначе. Намагниченный железный кус получил титул «источника дивергенции». Что ни говорите, а само звучание слова несло в себе ритуальность помазания, что музыкальным строем напоминало инаугурацию. Чародейский научный лексикон взялся не с бухты-барахты. Надеемся, читатель помнит, что военной порой, работая на восстановлении металлургического завода в Угольном, поэт-романтик Виктор Перевалов пережил профессиональную драму: не мог совладать с технической терминологией. Что и повергло его в позор, воспоминания о котором и тридцать лет спустя пламенем зажигали уши. Загадочность, замурованный смысл научных слов с тех пор неодолимо влекли Перевалова. Трудностей здесь было навалом. Выучишь, овладеешь, поймешь — и вдруг бац! Как, скажем, на этапе всенародной борьбы с космополитизмом и преклонением перед Западом. Слова-инородцы были тогда окрещены в купели неподкупного патриотизма, и для всей науки заведены новые святцы. Вольтметр стал напряжометром, амперметр — токометром, а эта самая «дивергенция» получила исконное имя расходимость. Потому запомнилась особенно крепко, потому сейчас сразу и подсунулась. Не я, конечно, потому, что не кургузый магнитик, а лишь источник дивергенции имел право размечать своей силой гигантский бумажный лист. Лист-то лист, но можно было опознать в нем и вестибюль ЦДЛ. По отдельным признакам. Лестница справа, приглашающая на второй этаж, администраторский столик по другую руку, впереди, за ковровым лугом, зазывные сумерки ресторанного входа. А посередке — источник дивергенции, он. Перевалов. А вокруг курсирование писательских тел, выписывающих замысловатые маршруты. Один собрат идет кратчайше, льнет в разнополюсном сращении: «Виктор Петрович, милый, кого вижу, над чем трудитесь?»; второй однозарядно отлетел за пределы поля: «Слыхали? Перевалов-то? Где же писательское достоинство?» (А самого аж крючит от зависти); третий вокруг да около выписывает робкие спирали: «Витя! Куда пропал? Пообщаться бы!»; четвертый, перечеркивая конкурирующие трассы, порывом, напрямик, прямиком: «Слушай, а тебе соавтор не требуется? Там же материалов тьма, я мог бы с документами пошуровать...»; пятый... Пятый своей траектории не сформировал, так как суетливое тщеславие всего этого видения вновь брезгливо покоробило Виктора Петровича. Правда, точно желая успокоить, отогнать противность чувства, что-то внутри шепнуло, подсказало: в грядущее сочинение можно ведь вписать самые нужные обществу, самые благороднейшие мысли. Мнимый властительный автор в них ни уха ни рыла, додуматься бы не мог, а народ их как катехизис будет зубрить, законом жизни станут, в учебники войдут! Он, Перевалов, подарит всем идейную благодать. И все-таки — нет, не будет, откажется. Пусть другой, кто хочет, пусть другие, не ты. Ведь писать от имени кого-то — значит стать им, с его обликом, речью, манерами... Но! Но, но, но... Действительно, возможно обратное: сделать так, чтобы Тот говорил от твоего имени, ну, не от твоего имени, а твое. Сделать его этаким актером, лишь произносящим чужой текст. Если не выйдет? Как же быть, как же быть?.. Захотелось восстановить образ «двойника». Но перед глазами почему-то вырос Начальник купальни. Синий его френч все набухал и набухал мощью, готовой распороть ткань, детский рояльчик у бедра, плотно набитый бутербродами, искрился глянцем истинного концертного инструмента, и даже на фронтоне зазолотились буквы, подобно, предположим, надписи «Стенвей» — «Парабеллум». Фигура старика росла, росла и вскоре заслонила собой все видимое пространство. ...Хочу сообщить читателю: хотя финал этой истории разыгрался во время моего пребывания в описываемом областном городе, он не был рассказан мне Виктором. Когда все свершилось, я, потрясенная и удрученная, пыталась восстановить картину событий, допрашивая очевидцев. Тогда мне и в голову не приходило относиться к узнаваемому как к материалу для повествования. Просто мне необходимо было знать, что и как произошло с Виктором. Но когда я решила написать все, с чем вы уже познакомились, добытые сведения крайне пригодились, хотя, конечно, некоторые психологические подробности поведения моего друга, а теперь и героя пришлось конструировать воображением. Олег Валерианович Кураков ворвался в номер совместно со стуком в дверь: — Дилижанс, запряженный шестеркой, ах, нет, четверкой, горьковские ретрограды никак не перейдут на шесть цилиндров, да, четверкой запряженный дилижанс системы «Волга» — ждет! Позвольте ваш «леггедж»! — Нет, нет. Не могу, я тут уже привык, да и номер телефона Москве передан этот, — запротестовал Перевалов. — Да ерунда! Дадим команду, вас автоматически будут переключать. Тут и условий для работы пристойных нет. — Не поеду. Все. Кураков очень обиделся, развел руками: — Воля ваша. Решительно? — Решительно. И снова истаял в Куракове юношеский беззаботный кураж, снова голос пропитала обкомовская значительность: — Ну что ж, прощайте. Единственно, о чем прошу иметь в виду, это и личная просьба Николая Кузьмича... Никаких дискуссий о вашем участии в создании Произведения. Ни в театре, ни в частных беседах. Ваша роль всем известна: вы были на месте событий, вы знаете обстановку. Вы — консультант. — Я автор, — сказал Перевалов. — Вы консультант, — с особым нажимом повторил Кураков. — Автор и герой известны стране. Иначе на обложке книги значилось бы не его имя, а ваше. Но вашего там нет. Или я не заметил... по рассеянности? И никто не заметил? Как недавно, когда очнулся от сна и размышлял над его странным смыслом, Перевалов почувствовал, что липкая жижа поползла по пищеводу к горлу, в ребра впилась тоска, и совсем-совсем уже по-звериному, истово захотелось заорать: «Обобрали! Ограбили!» Впрямь стало невыносимо: отбирали последнее, до паперти, до подаяния доводили, до полного истребления жизни, до нуля. Но он не заорал, сказал еле слышно: — Иди ты к такой-то матери. Сей минут. Я тебя в упор не вижу. А ну... Шепот этот, шелестение шорохом же выдули Куракова из номера. Виктор Петрович рухнул на постель. Сколько времени пролежал он так, что вертелось в голове, понять он не мог. Но внезапно рывком вскочил и, не запирая номера, даже двери не захлопнув, вылетел на улицу. Июль раскаленными руками хотел было откинуть Виктора Петровича обратно в нежный сумрак гостиничного вестибюля, где прохлада нашла надежное прибежище, да раздумал. Ленив был июль. Даже не позаботился хоть что-то поменять в угоду движению времени. Ничто не изменилось с тех счастливых минут, что провел Виктор Петрович в сквере перед театром. Плавились в синеве купола храма на бывшей Соборной, ныне Комсомольской площади, и золото их стекало на серо-зеленые купола лип. Как потные конские крупы лоснились бока дюжих чугунных шаров, для какой-то надобности установленных при входе в сквер. Даже не поменявшая позы курица, казалось, нежилась в пыли, осевшей уже сто лет назад. Бездельничал июль, не имея охоты, скажем, пересчитать ветерком листву старых лип или беглым дождиком обмахнуть пыль на скамейках. Но с поспешностью металлических плашек вокзального справочного автомата листалась листва на липах, клубы пыли вздымались со скамеек, золото соборных куполов брызгами достигало неба, точно прохудившуюся соборную кровлю прорвала водопроводная струя. И курица взорвалась всем изобилием пера и пуха. Все закипало, летело, мелькало. Потому что сквозь июль на всех парах мчался Виктор Петрович Перевалов, заставляя город нестись мимо глаз, как в кино при ускоренном показе. Город, отдышавшись, замер привокзальной площадью. Замер и Перевалов. И едва вступил он на тамошний горячий асфальт — багряный транспарант взошел перед взором, точно закатное июльское небо в очистительной работе ветров. Свежая его кровь заливала надземное пространство, пульсируя под толчками заблудившегося бриза (а может, какого-то иного воздушного порыва), и лишь неподвластные ветру белоснежные облачка букв плыли вереницей по просторам полотнища. Порядок букв образовывал слова, написанные им, Виктором Переваловым. И никого из снующих по вокзальной площади людей, обремененных чемоданами и сумками, или, напротив, налегке перебегавших площадь, не миновало зрелище. Он говорил с каждым. Он обращался к каждому. Он призывал каждого. Любому из них открывал премудрость бытия, до поры от того скрытые. Прекрасные мысли, благороднейшие, так необходимые юношеству. Он исполнил свой замысел: сказал то, что люди должны знать, понять. При чем тут Тот, самозванец? Перевалов, не спеша, двинулся по площади. Шел среди этих осененных его словами людей, а тем было и невдомек, что это его мысли пульсируют над головой толпы, пульсируют ало и настойчиво, как отворенная артерия. И ощущение невидимой власти опять застучало в висках Перевалова в такт мерному вздрагиванию кумача, переполосовавшего привокзальное небо. Волоча в каждой руке по ребенку, остановилась рядом женщина в безрукавном платье и финских сапогах до колен. Ошпаренные солнцем руки алым подошедшим тестом выпирали из проймы, шпильки-каблуки ушли набойками внутрь, под подошву, будто искали там хоть малой тени. Мягкое сострадание тронуло душу Виктора Петровича. Женщина, беспомощно оглядывая площадь, подняла глаза к транспаранту, и этот взгляд ее совсем уже умилил Перевалова. — Между прочим, это ведь я написал, — улыбнулся он женщине. Та быстро обернулась и тоже расплылась: — Ой, так вы все знаете! Как на Калинина проехать, подскажите. Свекрухакорова ничего толком сроду не объяснит. — Я не здешний, — обиделся Виктор Петрович и обругал про себя: «Дура межсезонная!» Но беззлобно обругал. Что с такой взять? Пошел дальше. С краю площади приютилась автобусная остановка. Железный карточный домик, две карты по бокам, одна сверху. «Опять преферансный образ в башку тычется», — отметил себе Перевалов, но так, мельком. Не до того было. Оглядев разомлевшую стайку ожидающих, Виктор Петрович выбрал мужчину плакатного вида, каких изображают, призывая к максимальному сокращению потерь электроэнергии. Встал рядом. Лица их обоих казались обращенными к кумачу. — Какой транспарантище размахали, — сказал Перевалов, — не думал, когда писал, что слова мои на площадях заговорят. Мужчина странно покосился, вероятно не поняв, о чем речь. — Мои, говорю, слова. Я это написал, — пояснил Перевалов. — А я — это. — Мужчина мотнул головой на железную карту-боковушку, где было выцарапано традиционнейшее для заборной письменности слово. — Глупо, — сказал Перевалов. — Глупо и пошло. Перевалов хотел немедленно уйти, но тут подсунулась какая-то старуха, из тех, что всегда встревают в чужие разговоры. — Чтой-то он тебя так, милок? Вроде стоишь стоя, не пристаешь, а он тебе: «глупый». — Да вот гражданин утверждает, что это он лозунг сочинил, — пояснил плакатный мужчина. — Ну и ладно, ну и Христос с ним. Теперь многие сочиняют. Саконтиков наш, с кабельного, вот на всех сочиняет — и кто выпивает без праздников, и кто с чужой женой загулял, на всех. Христос с ним, ты — без внимания, — посоветовала старуха плакатнику. К счастью, подошел автобус, всосал в раскаленную утробу раскаленную людскую массу вместе со старухой и мужчиной. И хотя остановка опустела, Виктор Петрович стремительно покинул ее, точно само пространство здесь стало свидетелем позорного неверия в его слова. Он шел почти слепо, ибо какая-то колдовская сила не позволяла ему отвести взор от алой ножевой раны, располосовавшей небо. Так и ткнулся кому-то в грудь. — Зачитались? — спросил веселый молодой голос. Перед Переваловым стояли парень с девушкой, одетые в одинаковые джинсовые костюмы. Обнимали друг друга за талии. Смотрели доброжелательно, радостно. — Да нет, — радостно же откликнулся Виктор Петрович, — я фразу эту наизусть знаю. — Молоток! — одобрил парень. — Отличник «Ленинского университета миллионов»? У вас там все такие прилежные? А у нас вот — сачок на сачке. Им и так, и сяк, и по радио, и пантомиму для морских львов «по мотивам» демонстрируют, и на небе напишут — не секут. — Да нет, у меня особые основания. Дело в том, что это я сам писал, из моего сочинения цитата. Парень и девушка переглянулись еще радостней. — А «Юрий Милославский», случайно, не ваше сочинение? — спросил парень. — Есть господина Загоскина, есть еще одного автора, возможно, и третий вариант существует? Молодые люди закатились довольно издевательским смехом. Гнев бросился в переваловскую голову, но он сдержался. — Вы что же, полагаете, что это он сам все сочинил, в нем литературный талант открылся нежданно-негаданно? Парень глубокомысленно сдвинул брови, показывая, что обдумывает ответ: — Нет, нет, не берусь утверждать. Стилистический анализ, пожалуй, свидетельствует обратное: в указанном произведении «коммунизм» и «социализм» фигурирует без мягкого знака, а также начисто отсутствуют «сиськи-масиськи». Девушка порицающе, даже с испугом глянула на него, но парень не утратил серьезности: — «Сиська-масиська», Аленушка, это — личностная транскрипция слова «систематически». И тут уж молодые люди прямо-таки вдвое сложились от хохота. И пошло. Город пустился в бег, в пляс; дома, купола, привокзальные киоски, само приземистое здание вокзала понеслись, замелькали, слились в задыхающейся скачке. Хотя сам Виктор Петрович, в отличие от первого его состязания наперегонки с городом, на этот раз оставался неподвижен, точнее — недвижен. Минут пять, может, больше. А далее — его сорвало, увлекло, понесло. Бежал по площади, натыкаясь на прохожих, сбивая, отталкивая, не слыша поношений. Налетел на стоящий грузовик-фургон. Замер. И вдруг, вскочив сначала на подножку машины, перелез на капот, потом выше, на крышу фургона, мягко, пообезьяньи. Вся площадь была в обозрении, и все увидели его — волной прошло: «Гляньте, мужик на машину лезет! Чего это его? Что это там?» Кумач разрезал непорочную небесную синеву. — Товарищи! — закричал Перевалов. — Видите? Читайте! Это — мои слова! Это я написал! Не верьте, товарищи, что Он — автор. Это я писал, от слова до слова! Вокруг машины народ стал сплачиваться теснее, кто-то отпускал шуточки, кто-то обложил нецензурно, кто-то позвал: «Эй, милиция, шагай сюда, тут алкаш или псих выступает!» Перевалова стащили с крыши, поволокли, он отбивался, голосил уже сорванной глоткой: «Я написал! Вам будет за это! Мои слова! Учить их будете, как "Отче наш"! Я — автор!» Однако ничего этого Виктор Петрович уже не помнил. Знающие же люди утверждают, что все последующие годы, пребывая в определенном медицинском учреждении, он промолчал, произнося в ответ на любое к нему обращение одну-единственную фразу «Я — автор». Но, может, знающие врут. Для знающих вранье — дело обычное. ЛЮБОЙ I Когда елки и сосны вышли им навстречу, сразу обнаружилась разница в повалке и стало очевидно — кто есть кто. Елки, скажем, с усталой обреченностью уронили руки, и снег на покатых их плечах клочковато застрял в хвое, как вата в прорехах черной стеганки. Сосны — ни-ни. Прямо-таки спортсменская осанка. Загорелый тренированный торс, скатанные ветром бицепсы горизонтально раскинутых ветвей, нерастраченный груз сугробиков в каждой ладони. Неудивительно, что Платон Николаевич предпочитал сосны. От самой речки вдоль дороги были расстелены пологие снега, точно полотнища только что в той речке, в горластой проруби, отполосканные. — Боже! Какое все-таки неизбывное чудодейство — лунный свет! — восхитился Платон Николаевич. — И с ухмылкой: — И надо же — светит эта самая луна всего-навсего отраженным светом. — Как вы сказали? — осведомился Петька. — Отраженным светом, говорю, — уже засмеялся Платон Николаевич. Но Петька не отступал: — В каком смысле? — В прямом. — Платон Николаевич несколько подрастерялся. — В научном, как известно. — Тут он поскользнулся, но Петька ловко поймал локоть спутника, упрятанный в рукав просторной, на лисьем меху шубы Платона Николаевича, и не дал тому рухнуть. Собственно, в этом Петькино назначение и заключалось: остерегать Зубова на прогулке, как наказала тетка Нюрка. Придя в устойчивость, Платон Николаевич заговорил о чем-то другом, но Петька вернулся к прерванному: — Вы насчет луны заметили в «отражении света», как это понимать? — Петя, не дурите меня! — ошарашенно встал Зубов. — Возможно ли, чтобы человек со средним образованием... Вам сколько лет? — Двадцать один, — сообщил Петька. — Двадцати одного года от роду, в середине нашего просвещенного столетия, не знал, что луна светит отраженным светом?.. Петька не смешался, пожал плечами: — Не доводилось. Что тут такого? Объясните. Не погасив недоверия, Зубов пояснил физические свойства явления. Петька только охал: «Надо же! И что же?» Дальше — больше, дошли до того, что земля вертится. Тут уж Петька вовсе пришел в восторженное ошеломление. «Обалдеть можно! Ну и ярмарка, карусели-яблоки». — У Петьки для обозначения чувств были свои слова. Однако Платон Николаевич снова не поддался и твердо сказал: — Вы смеетесь надо мной, Петя. Но тот со всей душой настежь выдохнул: — Да клянусь чубариком, Платон Николаевич! Просто я всю жизнь пронаходился в Ступине. У нас это как-то не было. Когда возвращались на дачу, Петька попросил: — Можно, Платон Николаевич, я вас каждый раз, то есть пока я тут, на прогулку вместо тетки Нюры водить буду? От вас вон сколько новенького узнать можно. Так и гуляли они весь месяц, пока Петр Никаноров, школьный учитель физкультуры из Ступина, вместе с пятилетней сестренкой Нинкой гостил у своей тетки Анны Егоровны, домработницы Платона Николаевича Зубова, профессорамикробиолога, и его жены Корнелии Платоновны Зубовой, тоже профессора и тоже микробиолога. И Петька, то есть Петр Никаноров, выражаясь старомодно, преклонил колени перед необъятностью познаний нового знакомого, а также перед величием души его. Величие души (а наличие таковой мы утверждаем без всякой иронической интонации) Платона Николаевича было распределено, в основном, между двумя сферами его существования: наукой и любовью к супруге Корнелии Платоновне. Впрочем, и на других хватало. На то оно и величие. Что касается науки микробиологии, в те годы, о которых сейчас речь, в конце сороковых, считавшейся, вообще-то, лженаукой, наподобие алхимии (только с буржуазным душком), автор способен сообщить лишь самые общие сведения. Поскольку научно не искушен. А вот о Корнелии Платоновне рассказ может быть правдивым и подробным, так как с супругами Зубовыми судьба свела накоротке: в дачном поселке жили забор в забор. Сколько раз по утрам автор наблюдал, как, выпустив из кустов птичью стаю, облепленный затем разноголосым щебетом виолончельный бас Платона Николаевича будил Корнелию Платоновну «А-у-а, Нелл-ли-и!» Зубов никогда не придумывал для жены никаких ласковых имен, нашпигованных суффиксами. Только — Нелли. Зато через четыре, шесть, восемь «л». Сегодня утром, как тогда, сорок лет назад, мой сосед, выпустив из кустов птичью стаю, бросил кому-то призыв, облепленный птичьим щебетом. И хоть с соседом этим (не то что с Зубовым) я отношений никаких не поддерживаю и хоть давным-давно ни самого Платона Николаевича, ни Нелли уже нет на земле, отголосок прошлого, незначительный, мимолетный, вдруг вернул мне все события тех давних лет. И вот я сижу на состарившейся своей даче, окруженная нестареющим августом, и пишу рассказ о Зубовых. О птичьей стае, о кусте и о том, как Нелли распахивала окно. Нелли распахивала окно и замирала в его проеме — щеками, телом, волосами, шелковым пеньюаром, излучая золотисто-розовое свечение, которое победно могло соперничать с колористикой Ренуара на небезызвестном портрете Самари. Заключенная в раму резных оконных наличников, Нелли сама казалась прямо-таки картиной. Впрочем, и в любом ином обрамлении жена всегда воспринималась Платоном Николаевичем как образ какого-нибудь великого полотна. И каждый раз при созерцании этого видения сердце Платона Николаевича сжимал мучительный восторг. А в последние годы и — страх. Страх от подстерегающей его повсюду потери. Дело в том, что Зубову исполнилось к описываемому моменту семьдесят лет, а супруги своей был он старше на двадцать. Двадцатилетняя студентка потрясла некогда бытие еще молодого красавца-профессора, и он, оставив сверстницу-жену (правда, бездетную), соединил жизнь с предметом грез. Во втором браке у Зубова тоже детей не было. Отчасти и потому, что Нелли выступала во всех амплуа — и жена, и бессмертная возлюбленная, и обожаемое дитя. Первые десять-пятнадцать лет все было безоблачно и разница в возрасте супругов окружающими не отмечалась. Тем более что Зубов был могучего сложения, поддерживаемого велосипедными прогулками, лыжами и лаунтеннисом. (Теперь вы понимаете, почему отдавал он предпочтение соснам. Видел в них как бы свой флоровый прототип, выложенный природой.) Но в последнее десятилетие все чаще и чаще то тот, то другой человек, познакомившись с Зубовыми, вопросительно, а того хуже, без тени волнения, говорил Зубову: «Ваша дочь?» или: «Ваша очаровательная дочка». Заблуждению этому способствовало и отчество Корнелии Платоновны, так умилявшее прежде Платона Николаевича. И каждое утро Зубова вынимал из сна толчок в сердце: сегодня она его покинет. Это неминуемо. Ее, нестареюще прекрасную, наверняка уже ждет счастливый молодой соперник Зубова. Однако Корнелия Платоновна вовсе не собиралась покидать мужа, хотя чувство к нему давно уже окрасилось чисто дочерней нежностью. Но есть тут один нюанс. Нелли явилась в этот мир для любви. И всегда, без пауз, была в кого-нибудь одуряюще, точнее — одуренно, влюблена. Сизый дурман мечтаний постоянно вихрился над золотисто-розовой головкой Нелли подобно призрачному дыму, реящему вокруг осеннего костра павшей листвы, этого живописного аутодафе листопадов, на которые обрекала их поэтическая инквизиция зубовской дачи. Вот какой витиеватый литературный троп подпустил автор, путаясь в эпитетах и согласованиях для, казалось бы, простого сообщения простой истины: Нелли была влюбчива! Но нет, нет. Это было бы не о ней. Ибо сама Нелли была и поэтична, и живописна, и вензельна в чувствованиях и словосочетаниях. Таким образом, Корнелия Платоновна являла собой — как бы это поточнее изобразить? — вот — персонаж дореволюционной открытки на тему. «О, замри мое бедное сердце», но персонаж, изъясняющийся при этом на языке декадентской зауми. (Ох! Услышал бы Платон Николаевич это наше наглое заявление про открыточный персонаж! О, Нелли-то, рафаэлевско-грезовско-ренуаровскогойевско-и-прочее Нелли!) Представляете: склонясь над своими колбами-ретортами в лаборатории, Нелли неожиданно произносит в пространство: «Как хрустально далек бывает взор, пронзающий вектор жизни!» Платон-то Николаевич понимал, что речь тут шла о Стишове, последнем увлечении жены. Стишов нынче в институтском буфете, не растормозившись со вчерашнего крупного поддатия, ткнул бутылкой кефира в бюст Корнелии Платоновны, окатив ту горячим чаем. Но понимал подобные пассажи Нелли, знал их смысл только Зубов. Аспиранты, младшие, а порой и старшие научные сотрудники зубовской лаборатории, бывшие поочередно предметами поглотительных, хотя и безгрешных, устремлений Корнелии Платоновны, судили о ее надземности непроницательно. Говорили: «Дура все-таки наша мадам. Слова нормального сказать не может. А туда же — в науку. И надо же, чтобы шефу такая утица кудахчущая досталась. Шефу! Гений ведь. Гений. А про собственную бабу — ни бум-бум». Еще говорили, что и кандидатскую, и докторскую Корнелии Платоновне писал, конечно, муж На этот счет, вообще, ни у кого сомнений не было. Потому что все, относящееся к науке, Корнелия Платоновна делала как бы между прочим, чтобы занять себя в минуты, свободные от любовных мечтаний. А между тем в научном тандеме супругов Зубовых гениемто была как раз Корнелия Платоновна. И Зубов это тоже знал. И именно Корнелия Платоновна однажды, подняв на мужа мерцающий взгляд Магдалины с полотна Риверы, произнесла фразу, которую автор в силу указанной выше научной неграмотности не берется воспроизвести. Именно эта фраза, развеяв липкий мрак безуспешных догадок, открыла Зубову путь следования к истине. Стало ясно, в каком направлении идти, чтобы создать противораковую вакцину. Супруги Зубовы работали над созданием противораковой вакцины. И первые, начальные удачи уже посетили их. Последние годы, имея квартиру в Москве, Зубовы почти безвыездно круглый год жили на даче — исключительно из соображений здоровья. Даже осенне-летние поездки на юг были отменены, так как врачи не рекомендовали Платону Николаевичу в его возрасте этот географический регион. Нелли — та тосковала о море в Гаграх и пальмах в Гаграх, но позволяла себе деликатно выражать это ностальгическое чувство лишь перебором рояльных клавиш, когда напевала модную тогда песенку с вышеуказанным текстом: «О, море в Гаграх! О, пальмы в Гаграх!» И еще: «Как часто на Ривьере встречались, в счастье веря...» Вообще-то она любила романсы исключительно старинные. Мне хорошо работалось, волнующим и щемящим сердцем было мое свидание со знакомыми прошлых лет. Свидание через годы, через смерти. Это счастье, что памяти и перу подвластны годы и смерть. Мне хорошо работалось до вчерашнего утра. До того момента, когда разверглось: в Москве — путч, чрезвычайное положение. Из Москвы позвонила невестка: под окнами дома — танки, внучки побежали их фотографировать, какой-то офицер наорал на них, прогнал. Мой сын Вадим с другом Николаем пошли к Белому дому строить баррикады, тысячи людей пошли туда защищать демократию. Девочки плакали: все говорят, что путчисты будут брать Белый дом штурмом. Вадима могут убить. Но он сказал: «Я не смогу жить, если в эти дни не буду там». Я извелась, не знала, куда деть себя. В Москву одна добраться не смогу — не пускают больные ноги. Сегодня, чтобы отвлечься, пробую работать. Иначе свихнешься. Пробую представить, как Зубов с Петькой возвращались с прогулки. Когда Платон Николаевич с Петькой вернулись с прогулки, во время которой Никанорову открылось, что луна светит отраженным светом, и более того, что земля вертится, Корнелия Платоновна сидела за роялем и, устремив в ночное окно взор, сопранно сообщала: Теперь зима и те же ели Покрыты инеем стоят, А за окном шумят метели И звуки вальса не звучат... Платон Николаевич, уже скинувший на руки Петьки шубу, краснощекободрый, потер озябшие руки и лукаво шепнул, целуя Нелли в висок: — Да! Где ж этот вальс, старинный, томный? Где ж этот дивный вальс? — Мираж, остекленевший в душе, мой друг! — уточнила Нелли. — Ужин, пожалуйста, Нюра. — А то без вас не знаю, — отрезала из кухни Анна Егоровна. — И этот тоже разгулялся! Сказано профессором — пятнадцать минут и ни грамма больше. А он полчаса — вон по стрелкам смотрела — парняга какой выискался. Семьдесят годов, а все туда же. Анна Егоровна, вообще, была строга с хозяевами. Такую манеру она завела, еще будучи нянькой Нелли. Мужа ее воспринимала как дополнение к воспитаннице и потому специального с ним обращения не учредила. Но и Зубовы, и все их знакомые знали, что Анна Егоровна любила своих хозяев больше, чем родных. Впрочем, слово «хозяева» мы употребляем, скорее, следуя стереотипу в определении традиционных производственных отношений. Применительно к данной малой общественной структуре оно не точно, даже ошибочно. Хозяйкой в доме была, по существу, Анна Егоровна. Она ведала не только бытом и порядком, но и всеми финансами зубовской семьи. Зарплата супругов складывалась в ящик секретера, стоявшего в гостиной, и Анна Егоровна сама составляла текущий и перспективный бюджет, говоря в нужный момент: «Надо Платону костюм новый справлять, ходит, как бармалей какой». (Хотя Платон Николаевич всегда был безупречно элегантен.) Или: «Месяц-то дешевый нынче вышел. Вон сколь осталось. На книжку ложу». Таким образом, Зубовы были как бы изъяты из сферы земных забот, что их в высшей степени устраивало, ибо Платон Николаевич даже не мог представить, что какие бы то ни было реалии кроме науки и Нелли требуют приложения сил, а Корнелия Платоновна... Ну, недаром же все о ней говорили: «С придурью. Не от мира сего» и прочее. Хотя порой Корнелии Платоновне хотелось показать мужу и окружающим, что она печется о домашнем уюте и знает толк в тонкостях кулинарии. Вот и сегодня. Нелли вышла к калитке встретить из города мужа. В этот самый момент мимо проходила соседка, врач-дерматолог Нина Зиновьевна. Вид соседка имела спортивно-победный, поскольку была облачена в лыжный бумазейный костюм малинового цвета и нагружена двумя авоськами. Из одной торчали головы миниатюрных мороженых крокодилов со зловещим оскалом, типичным для рыб вида осетровых. — Боже! — воскликнула Нелли. — Что это? — В совхозном продмаге стерлядь дают, — объяснила соседка, — завезли жуткое количество, а народ не берет, не понимают. Такой деликатес, подумать только! — Разумеется, разумеется! Стерлядь! Литература, литература, волжские пароходы, «Славянский базар»! — Нелли была потрясена и тут же попросила Нюру отправиться в совхозный продмаг: «И побольше, пожалуйста!» Ей уже рисовалось: в воскресенье на дачу приедут сотрудники лаборатории. И — Стишов. Обед. Стихи Лохвицкой «Я хочу умереть молодой». Она, Нелли, читает вслух. Одета: сиреневый труакар, на плечах лиловая шаль. Волосы зачесаны наверх. Лишь на шее два золотых завитка. Где, в каком доме Стишов встретит все это? Часть стерляди можно приготовить сегодня на ужин. Как репетиция. На ужин Нюра подала котлеты с жареной картошкой. — А стерлядь? — подняла брови Нелли. — Уже разобрали? — Не разобрали. Кому она сдалась, твоя стерлядь, — буркнула Нюра. — Так в чем же дело? Я мечтала о стерляди. Нюра глянула, как на недоумка: — А ты лицо-то ее видела? Как всегда под взглядом Нюры Корнелия Платоновна сникла, но уже через минуту, держа в руке высокий бокал, примостилась на ручку кресла с веселостью Саскии кисти Рембрандта: — Прошу всех к столу! Я поднимаю бокал за пришествие в тихую нашу обитель рыцарей и детей! Петька (рыцарей, видимо, представлял он) налил всем, чокнулся с Нелли: «Со свиданьицем!» Нинку же, игравшую в углу и представлявшую детей, Анна Егоровна за стол не пустила: «Нечего ей. В кухне нахваталась». — Нелли! Саския моя! За твое очарование, — сказал Платон Николаевич и беззвучно поцеловал своим бокалом бокал жены. Тут Нюра ударила ладонью по столу: — Обратно чокаются! Сколь говорено: муж с женой не чокаются. Денег не будет. А потом сами: «Нюра, деньги, Нюра, у вас же». А что Нюра? Печатная машинка? — Оставьте, дорогая! Не бедствуем же! Ваше здоровье, мой милый наркомфин! — Платон Николаевич улыбался Нюре. Но Анна Егоровна не унялась, бубнила: — Не бедствуем! Забедствуем, когда полжалованья раздавать будете. Что верно, то верно. Под всякими благовидными предлогами Зубовы всегда старались всучить какие-то деньги малооплачиваемым сотрудникам лаборатории. И не только в лаборатории, всем было известно, что у Зубовых можно одолжить и забыть, что взяли. Потому что они и сами забывали о долге. ...Звонила невестка. О Вадиме никаких известий. Из сообщений по телевидению тоже ничего нельзя понять. Надо продолжать работать. Все-таки легче. За ужином шла веселая, беззаботная болтовня. Правда, в какой-то момент Платон Николаевич заговорил с Нелли о науке, развивая некую идею, которая была темой диссертации Стишова. Нелли мечтательно слушала, и в ее глазах трепетала нежность женщины с полотен Греза. И хотя грезовские дамы были далеки от проблем микробиологии, Корнелия Платоновна обронила некую научную фразу, заставившую Платона Николаевича замереть, как пред непостижимостью вселенной. — Нелли! — прошелестел он. — Ты — титан! Зубов начал вдохновенно развивать подкинутую женой идею, но Нелли замахала розовым лепестком ладони. — Платоша, Платоша, научные дискуссии не интересны нашим собеседникам. И бестактны. Не так ли, Петр Тихонович? Петька же поощрил Зубова: — Давайте, давайте. Я очень даже интересуюсь. Только объясните. — Наша лаборатория, Петя, занимается изучением материи на молекулярном уровне. Мы полагаем, что многие злокачественные заболевания возникают именно там. И, открыв их природу, можно создать действенную защиту. Вот мы сейчас работаем над попыткой противостоять раку, этому глобальному недугу века, — тут же откликнулся Зубов, и Петр включился без промедления. — Так это ж черт-те что! Силища-косилища! У нас вон военрук, сорок лет мужику, говорят, рак всех внутренностей! — Да, для человечества это сейчас... — Платоша, — упрекнула мужа Нелли, — и Анне Егоровне это вовсе безынтересно. И тот извинительно вскинул руки: — Ты права, дорогая. Просто мне не дает покоя мысль, что Стишов топчется на месте, а диссертационный срок истекает. Нужно же помочь человеку. Мы недаром выше упомянули о великодушии Зубова. Терзаясь ревностью к Стишову, он искренне (и более того, как раз потому что терзался) искал пути разрешения научной задачи. Что и говорить, и Корнелии Платоновне очень хотелось помочь бесталанному соискателю, да и сам по себе разговор о Стишове, каких бы сторон его существования он ни касался, был ей желанен. Но! Правила приличия есть правила приличия. — В другой раз, милый. Нелли повернулась в кресле, грациозно отставив ножку движением танцовщицы в воплощении Дега. — О! — Платон Николаевич глянул на напольные часы. — Семь. Последние известия. Включите, пожалуйста, радиоприемник. Написала про радиоприемник и чертыхнулась, ни черта, ровным счетом ни черта из телевизионных сообщений так понять и невозможно. Невестка сказала, что они слушают «Свободу» и какое-то «Эхо Москвы». Но у меня на даче нет радио. Невестка звонит регулярно. Забавная подробность: наш дачный телефон, то и дело барахлящий, в дни путча работает безотказно. Влияние тоталитаризма на средства связи? Жаль, нет радио. В дни Зубовых радио было главным источником информации. Телевидение еще в дома не вторглось. Так. Платон Николаевич сказал: «Включите, пожалуйста, радиоприемник». Событиями на планете Платон Николаевич интересовался неукоснительно. — Говорит Москва, — возвестил приемник. — Московское время девятнадцать часов. Передаем последние известия. — С большим подъемом... — подхватил диктора детский голос. И все, замолчав, уставились на играющую там Нинку. Анна Егоровна тут же обрушилась на племянницу. — Во! Научились талдычить! Пять годов — и туда же. Нинка заревела. Платон Николаевич схватил на руки плачущего ребенка и смеялся, целуя мокрые Нинкины щеки. — Нет! Это превосходно! Тотальное овладение стереотипами устами всех возрастных категорий... Кстати, Нелли, я понял! Стишову мешает именно традиционность мышления. Стереотип в подходе к задаче. Нужно повернуть... — «Мысль робеет в безвестности чуждых субстанций, и подступы к ней заметают странности ближних», — пресекла зубовскую тираду Корнелия Платоновна, почувствовав, что муж, того и гляди, задумает обвинить загадочный и непознаваемый стишовский интеллект в пошлой заурядности. Она вновь села к роялю, вновь устремила в ночное окно взор. Правда, теперь уже излучавший задумчивую проникновенность глаз на портрете Рокотова... Теперь зима, и те же ели Покрыты инеем стоят, — пела Нелли. А ели и правда стояли покрытые инеем. И лунный свет, несмотря на то, что был всего лишь отраженным, люминесцентно вычерчивал озираемый светилом мир. Там властвовала снежная тишина, изредка нарушаемая беззлобной перебранкой вспархивающих птиц. И состояние ночи запечатлевала чистота Неллиного сопрано. Автор очень любил слушать Нелли. Наслаждение, когда поют чисто. II Относительно Петькиного неведения (земля, мол, крутится, а луна светит отраженным светом) Платон Николаевич сохранил сомнения. Сомнения. Не более того. Он счел бы не корректным заподозрить кого-то в преднамеренном вранье. Но и поверить, что в двадцать один год человек слыхом не слыхивал про очевидное... — невероятно. Возможно, именно тогда в сознании Зубова родилась эта формула, ставшая годы спустя рубрикой популярной телепрограммы. Хотя утверждать безапелляционно зубовское авторство не беремся. Зато можем присягнуть: Петька действительно не знал ничегошеньки об указанных явлениях природы и мироздания. И удивляться тут нечему. Часы, положенные детям и подросткам для школьного обучения, Петр Никаноров проводил в основном за двумя занятиями: гонял кирзовый футбольный мяч на ближайшем пустыре и осуществлял всяческую неквалифицированную трудовую деятельность: подрабатывать было надо, матери помочь. Отец воевал. Но, считаясь лучшим центр-форвардом района, Петр был из класса в класс перепихиваем. А потом армия. А потом снова школа — физрук. Но даже не в этом суть. Суть в том, что кроме жизни — активной и пассивной — в качестве болельщика, а болел Петр и за район, и за область, и за республику, и за «Спартак», в целом — ничем Никаноров не интересовался. Не то чтобы считал, а как-то естественно ощущал, что все прочее — мура, существующая по необходимости. Скажем, из всего вдохновенного многоцветия поэзии народов мира Петя знал и любил повторять лишь стих В. Дыховичного, венчаемый строчками: «Не знаю кто, не знаю как, а я болею за "Спартак". И прибавлял: «В яблочко врезано. Врезана железина». О том, что его собственные особые слова часто рифмовались, Петя, конечно, и не подозревал. По поводу Петькиных познаний, особенно в педагогическом коллективе ступинской средней школы, ходило много шуточек. Биологесса Клавдия Павловна характеризовала Петьку с точки зрения преподаваемого ею предмета: «Такие примитивы, как наш физрук, размножаются спорами». Правда, физичка Нина Николаевна тут же наглядно подхихикивала: «Ну уж!» И была права. Насчет возможностей Петькиного размножения. У математика Натана Моисеевича было свое. Он, желая признать свою некомпетентность в каком-либо вопросе, говорил: «В этом деле я — Петро». Что значило: не секу, чисто. Уж на что литераторша Лиля Петровна, и та па Петьку не глядела. Мы говорим «уж на что», так как любой молодой мужчина в жизни Лили Петровны имел повышенную значимость. Заброшенная по распределению из московской родительской квартиры в ступинскую глушь, Лиля Петровна круглосуточно (точнее — круглогодично) оплакивала свое надвигавшееся стародевичество, отчего карие ее глазки были постоянно припухшие и напоминали изюмины, проклюнувшиеся в сдобной булке. Носик же, от слез темно-розовый и блестящий, в свою очередь, смахивал на марципан, то есть казалось — покрыт цветной марципановой глазурью. Эти кондитерские сравнения в отношении Лили Петровны вполне уместны, ибо уже упомянутый выше математик Натан Моисеевич, говоря о ней, щелкал пальцами: «Пончик!» Так вот, Лиля Петровна, чье полное имя было Лайонель, данное ей родителями, не подозревавшими, что имя это мужское, тоже впала в общий скептицизм по поводу Петьки. И скептицизм этот не давал ей возможности разглядеть Петькины завидные стати. Правда, физичка Нина Николаевна не раз осуждала ее: «Не с ученостью жить. Где мои 25! Уж я бы...» Что касается учености, то тут Нина Николаевна была чистосердечна, она-то и без учености существовала, недаром, объясняя ученикам разницу между переменным и постоянным током, сообщала: «Постоянный ток бьет постоянно, а переменный — то ничего-ничего, а то как даст!» Интерпретируя таким образом начертанную на плакате синусоиду. А вообще-то к Петьке все относились хорошо за легкий нрав, доброту и безотказность: кому дров наколоть, кому урок подменить, вместо кого на продленке посидеть... Петька, Петька. Да и рукастый. Вот сломалась, к примеру, квартальная водоразборная колонка, так Петька эту чугунную дуру в два счета до ума довел. И вообще. Господи! Слава тебе, слава! Кончилось. Путч подавлен, все страхи позади. Вадим дома. Голодный, мокрый — они там под дождем орудовали, и есть было нечего. Девчонки весьма горды отцом. Да и я тоже. Как я эти дни пережила, не знаю. Наверное, все-таки работа — великий лекарь. Хотя понимаю, никому, кроме меня и моих сверстников, не интересны события, которые я взялась описывать. И почему взялась? Все с куста и птиц пошло-поехало. И уже не остановишь. Но ведь в литературе сплошь да рядом так и бывает: какая-то подробность тянет за собой целое повествование. И сейчас бросать уже неохота. Интересно вспоминать все, что было с Зубовыми и Петькой. Месяц в доме Зубовых произвел в Петькином существовании переворот. Нет. Это автор, поддаваясь неистребимой привычке к стереотипам в квалификации состояний, употреблял этот самый «переворот». Можно, разумеется, сказать и «революция», «катаклизм» или еще какое словечко из того же смыслового ряда. Все — не то. Потому что с Петей произошло превращение, подобное тому что испытал герой известной читателю сказки Ершова «Конек-Горбунок»: окунули в чан Иванушку-дурака, извлекли Ивана-царевича. Не подумайте, что автор тут проповедует монархические категории в качестве идеала. Тем более что речь идет о годах, когда автора за одно поминание высочайшего титула уже обвинили бы в попытке реставрации самодержавия. Просто сибирскому учителю и стихотворцу Ершову удалось то, что автору не под силу. А с Никаноровым случилось нечто сказочное. Вообще-то ехать к тетке Петя не хотел. Со стариками незнакомыми лялякай. Нинку нянчи — дома надоела. Тетка Нюрка запилит, мать на сестрин характер сроду жаловалась. Однако в Москву прошвырнуться за теткин счет... Чего ж не прошвырнуться. Жалко только — зима, даже на «Динамо» не посидишь: открытый стадион, в футбол зимой не стукают. Но от отпуска две недели осталось плюс школьные каникулы. На физкультуре биологичка обещала подменить, она волейболом увлекается. Поехал. Зубовы предложили жить на их городской квартире. Но Анна Егоровна обиделась: «Сколь лет обормота не видала, заявился в кои веки и — глаз не кажет. Живи на даче, со всеми». Вообще-то Петька первые дни приезжал за город только ночевать, днем по Москве мотался. Но так день, другой и — наскучило. Чего в ней особенного, в Москве-то? По магазинам давиться? Или того смешней — в музее каком отсвечивать? Ну, раз сходил в кино, еще сходил. Так и в Ступине тоже сходить можно. Знакомых нет. Хотел девчоночку какую-никакую прихватить — москвички понимают из себя. Одна: «Вы, случайно, не интурист? Речь, похоже, иностранная. Что значит по-русски ваши «елки-свистелки»? Другая: «Куда вы меня пригласите: колхозные трудодни совместно зарабатывать? А расплачиваться палочками в табеле собираетесь? У вас ведь, кажется, там такая система оплаты?» Во! А при чем тут колхоз? Он ведь, кажется, из райцентра. Само собой видно. И ясно сказано. В общем — шли бы они... А тут — воскресенье. Тетка говорит: «Хозяева дома, обед, ни в какую Москву не езди». Он и ос:тался. И больше в столицу уже не поехал. А вышло так. Как, собственно, вышло, Петька и сам не понял. Но сотворилось это самое «кунули в чан» в первый же день, совместно проведенный с Зубовыми. Чудеса? Вот вам и чудеса. Завтракали поздно, что-то около одиннадцати. Петька несколько задержался, колол дрова на участке, потому сказал, входя: — Извиняемся. Топориком побаловался. — Ну что вы, Петр Тихонович! — встрепенулась навстречу Корнелия Платоновна. — Извиняетесь? Вы? Не отнимайте нашего амплуа: мы должны каяться, что вместо воскресных постижений столичной праздности обрекли вас на колку — как, Платоша, правильно: колку или рубку? — дров. Садитесь, дорогой, мы ждем. Позвольте вашу тарелку. И Платон Николаевич: — Да, Петя. Низкий вам поклон. Спасли старосветских псевдопомещиков. А то Анне Егоровне трудно, я уже, увы, не гожусь. И человека найти — проблема. Если бы не вы, зарастать нам инеем. Платон Николаевич встал и, обняв Петра за плечи, усадил рядом с собой. Анна Егоровна не одобрила зубовские восторги: — Ладно, нечего! Уж прямо — целуйте его, спасителя нашего. Силу-то нагулял на материнской шее, а деть некуда. Пусть хоть раз дело сделает. — Уж на шее, скажешь тоже, теть Нюр! — обиделся Петька. Анна Егоровна, ведь и правду сказать, неправа была. И Зубовы сразу заступились: «Вы несправедливы, Анна Егоровна. Вы же сами рассказывали, какой он прекрасный сын и помощник». Это и было первым «погружением в чан». Пожилые ученые люди разговаривали с Петькой столь уважительно, так искренне восхищались его нехитрыми природными достоинствами, будто Петькина сила, молодость, простое выполнение домашних обязанностей было чем-то необыкновенным, рождающим чуть ли не почтение. С Никаноровым никто никогда так не говорил. Да еще ежедневные прогулки с Платоном Николаевичем, беседы о порядках мироздания. Застольные разговоры, вроде бы и не всегда понятные, но волнующие кровь. И вот грянули в физруке перемены. Перемены эти были столь разительны, что привели педагогический коллектив ступинской средней школы прямо-таки в восторженное недоумение. Уже в первые дни после возвращения от Зубовых состоялся в учительской разговор. — Военрук-то наш, бедняга, совсем доходит. Говорят, дни остались, — посетовала физичка Нина Николаевна. — Да, рак — противник непобеждаемый, — согласился грустно математик Натай Моисеевич. И тут вступил Петька: — Рак нужно лечить на молекулярном уровне. А то сами запускают, сами потом удивляются. Не вижу логики. Отметим: выражение «Не вижу логики» стало теперь у Петьки постоянной присказкой, свидетельствуя о неотступном стремлении к анализу. Все смолкли, Лайонель Петровна подняла припухшие глазки на закатанные рукава Петькиной ковбойки и не могла не согласиться с утверждением физички Нины Николаевны, что если могучий мужской бицепс обтянут кожей, нежной, как у девушки, то это — обалдеть! Так что логика в Петькином суждении была бесспорной. Сила аналитического мышления физрука выразилась и в том, что назавтра Лайонель Петровна появилась в учительской, облаченная в платье из креп-сатина цвета морской волны (воротник — стоечка, рукав — японка с ластовицей, грудка — сатин на блестящую сторону), волосы распущены по плечам, а надо лбом — ровный ряд локонов, четкий, как газыри с парадной черкески. Именно о таких солисты казачьих ансамблей пели: «Газыри лежат рядами на груди, алым пламенем пылают башлыки. Красный маршал Ворошилов, погляди на казачьи богатырские полки!» Приводим куплет полностью, так как башлык у Лайонель Петровны тоже имелся, правда не алый, а серый. Папин. Бывшие гимназисты тоже башлыки когда-то носили, не только казаки. Вот какова была сила Петькиного преображения. Чудо! Чудо. И Петька, взглянув на Лайонель Петровну, выдохнул: «Ах, печка-задвижка, красота-то какая! А то в зипуне да в зипуне. Не вижу логики!» III Корнелия Платоновна умерла. Корнелия Плато-овна умерла от горя. Признаться, именно такая кончина казалась мне закономерной для Нелли, ну, может, от любви еще, но уж никак не от старческой немощи или какой-нибудь уремии. Это было бы не в образе, безвкусно. Однако предугадать характер горя, сведшего Корнелию Петровну в могилу, тоже, казалось, невозможно. А вышло вот что. В Москву прибыл прославленный американский микробиолог Джеймс Д. Джеймс. И конечно, первым делом захотел посетить лабораторию Зубовых, так как имена наших героев и для заграницы были не пустой звук. Гостя приняли, как надо, Платон Николаевич над каждой колбой-ретортой произносил пространную речь, мелодический строй которой удачно сочетал приподнятость восточного тоста с агностической ритуальностью загадочного Ордена Духотворцев. Корнелия Платоновна мурлыкала по-английски свои сентенции, которые в приблизительном переводе означали: «Преображение распада непостижимым вторжением духа не есть ли преображение роста зла?» При этом Нелли грациозно склонялась к очередной колбе-реторте, и каждый раз из крахмальной лузы выреза в ее кипенном халате выкатывался шар правой груди, оправленной в голубой креп-жоржет. В палевых розах. Траектория выкатывания этого шара внимательно отслеживалась профессором Джеймс Д. Джеймсом, заставляя восклицать: «Вандерфул! Экстраординари!» Что в точном переводе означало: «Чудесно! Необыкновенно...» и относилось, надо полагать, к результатам научных исследований, так как при этом Джеймс Д. Джеймс присовокупил: «О! Еще шаг, и вы избавите человечество от рака!» Так что все было тип-топ. В заключение Джеймс Д. Джеймс и Платон Николаевич обменялись книгами, сделав на них дарственные надписи своими авторучками: Зубов «Союзом», Джеймс Д. Джеймс «Монбланом». Чего же больше? Так нет. Растроганный Джеймс Д. Джеймс предложил и ручками обменяться — на память. — Между прочим, — заметил американец, вертя в пальцах изумруднополосатый «Монблан», — эти ручки имели лучшую рекламу. Однажды фирма «Паркер» напечатала рекламу в журнале «Паримач»: Эйфелева башня, у подножия лежит авторучка «Паркер» и надпись: «Если вы сбросите нашу ручку даже с этой башни, она останется цела». И что же «Монблан»? В очередном номере рисунок: Эйфелева башня, а у подножия ручка, разбитая вдребезги. И надпись: «Если вы сбросите "Монблан" с этой башни, он разобьется. Но, если вы не будете этого делать, ручка будет безотказно служить вам до конца ваших дней». А? Вандерфул! — Американец гордо хохотал, точно сам был автором остроумной рекламы. Смеялись и Зубовы, потому что действительно остроумно выдумал «Монблан». Смеялся и Станислав Стишов, находившийся тут же. Теперь-то, когда Корнелии Платоновны уже пет на земле, можно признаться, что траектория голубого шара в палевых розах была предназначена вовсе не заморскому гостю, а Стишову, он ведь, как помните, был объектом чувств Корнелии Платоновны на данном отрезке времени. А также объектом волнений Платона Николаевича. По поводу бесталанности сочиняемой Стишовым диссертации. Но, в общем, все было тип-топ. И никто бы в ум не взял, что за этим последует. А... Через неделю на общем собрании института под гневный ропот зала Стишов рассказал, что Зубовы, пороча честь советского ученого, продали американскому империализму почти готовую противораковую вакцину. Мало того, за тридцать сребреников — за заграничную ручку. Мало того, вакцину-то добывали при помощи микробиологии, которая, как известно, буржуазная лжепаука. И последовал разгром. Разгром в прямом смысле слова: в лабораторию Зубова явилась делегация защитников чести советской науки, вооруженная железными прутами, и побила все колбы-реторты, все как есть. Возглавлял делегацию, как и сам разгром, Станислав Стишов. Надо же! В дни путча сидела и работала целыми днями, хотя изводилась из-за Вадима и, вообще, от всех черных мыслей. А теперь, когда все в порядке, не могу усадить себя за стол. Вчера почти весь день проторчала у телевизора. По всем программам передают хронику событий. Я даже не представляла, что столько удастся снять! Особенно жадно, конечно, разглядывала съемки у Белого дома. Думала, увижу в толпе Вадима. Вадима не увидела, хотя пет, кажется, это он мелькнул рядом с Николаем. Того-то сняли крупно. Коля был великолепен. Какое у него, оказывается, прекрасное лицо — вдохновенное, красивое, чистое. Впрочем, не у него одного. Поражало обилие прекрасных молодых лиц, освещенных и освященных отвагой свободы. Это уже совсем новые люди, избавленные от пороков и неполноценности. Скажем, нашего поколения. Какой же это чудотворный феномен — свобода! Подумать только, за несколько коротких лет он сумел создать эту великолепную толпу, которой неведомы наши страхи, наше малодушие, жесткая нетерпимость прежних дней! И лица, лица... Вот девушка — прямой прообраз Свободы на баррикадах Делакруа. Сказала про прототип холста и, конечно, вспомнила Нелли, ее житие на великих полотнах. Нелли, которую оставили в дни разгрома лаборатории, когда научная банда, возглавляемая Стишовым, била железными прутьями оборудование. Дальше — больше. В широкой печати была организована кампания по изобличению продажных антипатриотов. Известный советский драматург сочинил пьесу «Честное имя» (о честном имени советского ученого и о том, как иные готовы его продать за авторучку), пьеса прошла по всем сценам Советского Союза и была экранизирована. Тут у читателя может возникнуть закономерный вопрос: чего это автор, еще несколькими страницами выше выписывавший подробности мирного зубовского быта, теперь, когда дошел до событий истинно политических, начал чесать скороговоркой, через запятые? Может, автор не в курсе дела? Может, питается слухами? Отнюдь. Автору все известно досконально. И художественных деталей при желании мог бы набрать сколько угодно. Например, автор мог бы привлечь внимание читателя к такому штриху событий: когда Стишов замахнулся железным прутом на очередную колбу-реторту, Корнелия Платоновна вдруг заметила на его побелевших пальцевых фалангах буквы татуировки — по букве на каждом пальце, — образующие какие-то слова. И показалось ей, что слова эти «Нелли» — в верхнем ряду, а снизу еще что-то. Вероятно, «люблю». И стало Корнелии Платоповне дурно от мысли, что непатриотический, даже антипатриотический поступок Зубовых был предательством святой сти-шовской любви. Она продала эту любовь за авторучку «Монблан». Так ни справедлива ли расплата? Однако лишь пелена чувств, застлавшая взор Корнелии Платоновны, могла сложить синие буквы в такой порядок. На самом-то деле, в пору службы на флоте, Станислав Стишов, как и другие члены экипажа, попросил вытатуировать на пальцах свое имя: «Слава». Став же ученым, надписи этой стеснялся, как изобличающей примитивность запросов. И тут кто-то подсказал: «А ты снизу протатуируй еще ВКП (б)». Это и было сделано при содействии другого отставного моряка. Так что вовсе не «Нелли, люблю» значилось на стишовских пальцах, а «Слава ВКП (б)!» Что на фалангах, побелевших от гнева и физического напряжения, всеми читалось особенно отчетливо, всеми, кроме дуры Корнелии Платоновны. Мог бы автор сообщить и ряд занимательных подробностей, пожелай он описать премьеру спектакля «Честное имя», на которую собралась вся творческая Москва, а ученых свозили даже специальными автобусами, снятыми с рейса № 18. Но это при желании. А вот желания-то у автора как раз и нет, а есть лишь грусть и противность. Поэтому ограничиваюсь уведомлением о фактах. Главный из них: Корнелия Платоновна умерла от горя. Горем, конечно, был разгром лаборатории. Но горше того горя была преданная любовь. И муки сомнений, кто кого предал — Стишов ее или она Стишова. IV Снега забинтовали зубовскую дачу своим стерильным материалом плотно, прочно, почти загипсовав. То ли стремились снега сберечь и укрыть болезное это жилище от посторонних вторжений, то ли хотели придать бревенчатому дому мирность, не потревоженную внешними бурями. Может, и так. Главное, что сплетни и пересуды не дотянулись до несчастных обитателей дачи. Кстати, замечали вы, что именно снега способны сообщать домам особый смысл, награждать заключенную там жизнь скрытым загадочным течением? Засветился огонек в окне под насупленной белой крышей, и уже мерещится проходящему мимо путнику — тайное свидание оговорено в доме, нашел себе приют одинокий беглец или празднует там удалая компания вечное Рождество... Таинственность зубовской дачи была и того непроницаемей, ибо в жизнь хозяев не вела даже привычная тропинка от калитки. Запорошило, а новую ничьи шаги не торили. Вот в этом-то и дело. Платон Николаевич дачи вообще не покидал, Анна же Егоровна выходила из дому только задами участка, чтобы не быть никем встреченной. А как же соседи? Неужели никто и не пытался войти, утешить хозяина, сказать так нужное в горе слово? Нет. Никто. И не потому, что поселок был населен исключительно жестокосердными людьми. А от страха. Все боялись, что «контакты с антипатриотом» могут погубить. Ну, повредить зашедшему. Тут отмечу одну интересную подробность. Дачный этот поселок был поселением сибиряков-подпольщиков. Кто это такие? Объясняю для новых поколений: сообщество это состояло из персонажей, которые в глухую пору царизма в далекой Сибири устремляли свои революционные силы на борьбу с ненавистным самодержавием. Конечно, как и положено, почти все они были в предвоенные годы отблагодарены социалистическим строем. Все снова в Сибирь отправились, только подальше. Те, я имею в виду, кого сразу не постреляли. И произошло так, что дома этих бедолаг оказались как бы в чумном карантине для сослуживцев и знакомых. Дорогу туда забыли. Нет, нет, говорю — все. Не всех, разумеется, пересажали. Половину. Но уцелевшая половина была уже учена насчет «контактов». И к Зубову — ни ногой. И как же сосед-автор? Тоже забоялся. Ведь как восхищался Зубовыми? Забоялся, забоялся. Хотя и мучился от своего предательского малодушия. Но ведь и прочие соседи, вероятно, мучились. Отчего бы нет? Люди-то хорошие. И все-таки настал день, когда автор сказал себе: «Да какого же черта! Неужели полностью меня превратили в такое трусливое дерьмо? Пойду навещу старика». Заявление это, сделанное самому себе, звучало достойно и отважно. Тут бы встать и белым днем на глазах у всего поселка — к Зубову. Но, нет... Решил всетаки автор дождаться темноты и даже подумал, что надо бы слегка поплутать, чтобы наивная целомудренность снега не запечатлела маршрут от одной дачи к другой. Беда, вечер выдался лунный. Видимость для соглядатаев хорошая. Однако обошлось. Зато луна, которая, как выше было сказано, в наших местах светит только отраженным светом, свечением этим проделала подлинные чудеса. Все преобразила. Простой штакетник забора переделан был на точеные мраморные колонны, поверху изукрашенные искусной лепниной. Заурядные кусты у калитки обращены в сторожевых львов, которые стояли, поднявши лапы, как живые. А с самой калитки свешивалась белая диковатая борода, что делало калитку неотличимой от портрета писателя Льва Толстого времен ухода из Ясной Поляны. ...Они молчали. Анна Егоровна молча кивнула, открыв дверь, и ушла на кухню. Платон Николаевич, замешанный скульпторскими ручищами горя в одну бесформенную массу тела, смятых одежд, кресла, тоже молчал, не шевелясь. Да, именно такое ощущение вызвало зрелище: кто-то натискал, как гигантский кусок глины, этот коричневый ком, начал обозначать контуры кресла, а человека в нем лепить не захотел, надоело, бросил. Он молчал. Потому лопотать — чудно, беспомощно и бессмысленно, надо было мне. Что? Не помню, врать не буду. Сами представьте. Только один раз Платон Николаевич поднял голову, сказал без выражения: — Это я убил Нелли. Я обязан был проследить, чтобы газета не попалась ей на глаза... Это стало последним ударом, окончательно сразившим ее... Я не понимала, о чем он говорит, но расспрашивать не решалась. — Ее добил этот пошлый эпистолярий, — всхлипнул Платон Николаевич. — Какой? — вырвалось у меня. — Ну, Петино послание в «Правду»... И тут меня, как молнией, в лоб огрело: видела ведь в «Правде». Среди прочих поношений было опубликовано письмо педагога П. Никанорова! Он, Никаноров, близко знавший лжеученых и подметивший их буржуазные пристрастия, оказывается, давно предрекал предательский конец Зубовых. Никаноров-то — Петькина фамилия. А мне и ни к чему. Петька и Петька. Вроде и фамилии у него нет. Да и за педагога никто из нас ступинского физрука не держал. Ах, Петька! А назавтра Платона Николаевича не стало. Он умер. Он, как говорится, наложил на себя руки. Принял какое-то снадобье, привезенное из разгромленной лаборатории. И эта смерть тоже была закономерной: зачем было Платону Николаевичу оставаться на земле, на которой не существовало ни его науки, ни Нелли? Ни Нелли, ни Нел-лл-ли! V Среди прочих отличий от, скажем, Ступина наши подмосковные земли имели не только то, что тут луна светила отраженным светом, но и сезоны сменяли один другой с патриархальной заведенностью. Так после зимы, унесшей жизни Корнелии Платоновны и ее супруга, пришла весна, а на смену ей — лето. Лето сняло снежные бинты с израненной зубовской дачи, развенчав таинственность измысленного путником бытия, обнажило дряхлеющую неприглядность самого строения. Вот и забор уже явился не грациозной мраморной шеренгой колонок, а предстал изможденной очередью штакетин в чешуе скарлатинно шелушащейся старой краски. И калитку уже не спутаешь с портретом Льва Толстого времен ухода из Ясной Поляны. Скорей примешь за фотографию из журнала «Огонек», на которой изображен узник немецкого концлагеря в полосатом арестантском одеянии. Так что же удивительного было в том, что какой-то человек, решивший навести порядок, орудовал у забора ведром краски и маховой кистью? Но меня зрелище не просто удивило. Прямо мокрой тряпкой по сердцу шлепнуло. Не домом, не жилищем, хоть и опустелым, всходила каждое утро у меня перед взором зубовская дача. Саркофаг, склеп. Некрополь, обиталище мертвых. Мертвых, бесплотно длящих существование за этими стенами, этим забором. Отчего и мое соседство обрело неправдоподобие живой жизни, в которой люди готовят обед, стирают белье, отвешивают подзатыльники нашкодившим детям. Живут вроде бы не всамделишно, а, исполняя ритуалы, живут на околице кладбища, где прихоти сумерек запанибрата с обликами ушедших... И — вот на тебе! — кто-то маховой кистью, зелененьким по склепу, по саркофагу, по некрополю: дачку ремонтируем! — Привет соседям! — Человек опустил кисть. — Что это, палки-ковырялки, не видать вас вовсе? Тут я его узнала, но ответить не смогла. Что Петьку вовсе не смутило: — А я вот похозяйствовать решил. Зубовы-то совсем строение запустили. Что сказать? Ученые, в хозяйстве — ни фига. А мне уж положено. — Почему именно вам? — не удержалась я. — Как то есть почему? Дача-то ноне — моя. Они мне ее еще тот год отписали, когда я у них гостил. Платон Николаевич сказал: «Мы — бездетные, а вы, Петя, человек молодой и умелый. В ваших руках и наша память не пропадет». Уважали они меня. Я сказала то, что первым подумалось: — Так вы что же, из-за дачи помогали их в гроб свести? Петька побелел, потом покраснел, потом почти задохнулся от возмущения: — Да вы что? Вы что? Это же такая хреновина-бредовина была бы? Это же подлость была бы, подлость! Да кто же я бы был? Подлец, скот последний! Люди тебе дачу, тебе все, а ты их — в гроб! Я видела: гнев его неподделен, истин. — Так зачем же вы в «Правду» писали? — спросила я обескуражено. На секунду он задумался. — А хрен его знает! — К нему вернулась прежняя беззаботность. — Я и не писал вовсе. Приехали, значит, этот корреспондент и Сам из горкома. Вот, говорит, вам то есть, протест против продажности империализму. Подпиши, говорит. Наш родной город прославишь. И сам, говорит, в герои выйдешь. Знаешь ведь, если страна, говорит, прикажет быть героем, у нас, говорит, героем становится любой. Почему не подписать? Подпишу, елки-крутилки. Тем более — родной город. — Как же вы можете после всего, что случилось, пользоваться дачей? — не унималась я. Петька снова взмыл: — Как это — как могу? Что, теперь дачу в бесхозность? Люди честным трудом наживали, старались, а теперь — води-выйди: кошке под хвост, государству отдай? Не вижу логики. Тем более люди — исключительно замечательные, память их... Тем более — семейный я теперь, женился. Жена — москвичка, литераторша в нашей школе. В Москву переедем, и дача будет. Я и тете Нюре предлагал: живи с нами. В деревню подалась, не хочет со мной, дура. Я ушла. С террасы оглянулась. Петька с новым приливом энтузиазма махал по забору кистью, заливаясь на всю просеку: «Когда страна быть прикажет героем»... Пел, кстати, с абсолютной музыкальной точностью, ни в одной ноте не сфальшивил. Я постояла, послушала, я люблю, когда поют чисто. Я никак не могла написать концовку рассказа. Каких-нибудь два-три абзаца, а может, вообще, одна фраза. Не шло. Правда, и шум отвлекал. На террасе, прилегающей к моему рабочему кабинету, гуляла молодежь. Вадим и Николай с приятелями праздновали победу над путчистами. Гулянка шла с утра, я тоже приняла участие в общем нашем торжестве, но долго за столом сидеть не стала, пусть веселятся участники событий. Еще раз полюбовалась их лицами. Они были теми же, прекрасными, как и на площади. И вот сижу, пытаюсь работать, а не идет, не хочешь, а прислушиваешься к голосам на террасе. — Ну почему он не отсиживался в Сочи, в санатории, а тут же примчался? — Это голос Николая. — И что, теперь Кунаков, значит, может сесть в свое кресло, как ни в чем не бывало? Да он теперь до конца дней в бомжах ходить обязан... Да, да, я постараюсь... Что-то ответил Вадим, слов не разобрала. И снова Николай: — Пересажать? Может, и пересажать. А кого и расстрелять. Ну, не полстраны, а порядком следует. Вадим опять что-то сказал. Но, как на экране, я не могла рассмотреть его лица, сейчас не различала слов. Зато Николаев голос был четок, тот сидел ближе к двери, ведущей в мою комнату. — И уж, во всяком случае, про каждого надо знать — где был в эти дни и какие настроения испытывал. И сообщать, и делать выводы. И никаких поблажек. Ликующий хор поддержал его. Нет, под этот гвалт работать было невозможно. Я собрала листки и пошла на кухню — туда шум не доставал. Примостившись за обеденным столом, сидела, погружаясь в тишину и прошлое. Наконец пришла концовка. По просеке на велосипеде проехала соседка, врач-дерматолог Нина Зиновьевна. Одета она была в малиновые бумазейные шаровары от лыжного костюма. Со стороны передачи одна штанина была закатана до колена, открывая тучную белую ногу в тромбофлебитных венах, отчего нога казалась обернутой в карту могучего речного бассейна. Конечно, издалека, с террасы, мне не видна была эта белесая карта с синими реками, но Нина Зиновьевна разъезжала тут ежедневно, и ногу ее я знала. Поравнявшись с Петькой, Нина Зиновьевна оторвала от руля правую руку и покачиванием ладони приветствовала нового владельца дачи. Тяжелая авоська, висящая на ручке руля, мотнулась, стукнулась о колесо, и Нине Зиновьевне пришлось придержать ее. Содержание От автора Глава I. «Гигантский» (Ираклий Андроников) Глава II. «Не путай конец и кончину...» (Юрий Визбор) Глава III. Ремесло Музы (Александр и Ангелина Галичи) Глава IV. Легкая жизнь (Александр Каверзнев) Глава V. Простой рецепт (Зиновий Гердт) Глава VI. «Брызги шампанского» (Марк Бернес) Глава VII. Притча о водительских правах (Михаил Калатозов) Глава VIII. «Кочевать, никого не любя...» (Александр Вертинский) Глава IX. «Это иду я, Время!» (Роман Кармен) Глава X. Лев Толстой застольного рассказа (Иосиф Прут) Глава XI. Остров Утесова (Леонид Утесов) Глава XII. «Дальше — шум...» (Фаина Раневская) Глава XIII. Мечта поэта (Илья Сельвинский) Глава XIV. «Вольный дочь эфира» (Екатерина Тарханова) Глава XV. Обратная сторона Луны (Валентина Терешкова и Юлий Шапошников) Глава XVI. «Для чего пережила тебя, любовь моя…» (Святослав и Ирен Федоровы) Глава XVII. «Какое удивительство!» (Борис Чириков) Глава XVIII. Баллада о солдате-сверхсрочнике (Григорий Чухрай) Глава XIX. «Особые песни» (Клавдия Шульженко) Глава последняя, особая, но без которой не мыслю эту книжку. «А больше ничего…» (Александр Юровский) ПРОЗА Автор Любой