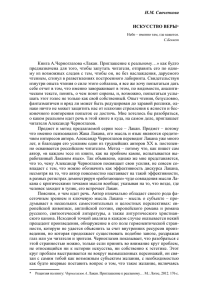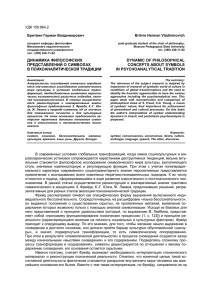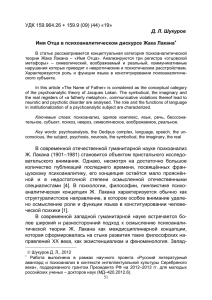картины мира - 100balov.com
реклама
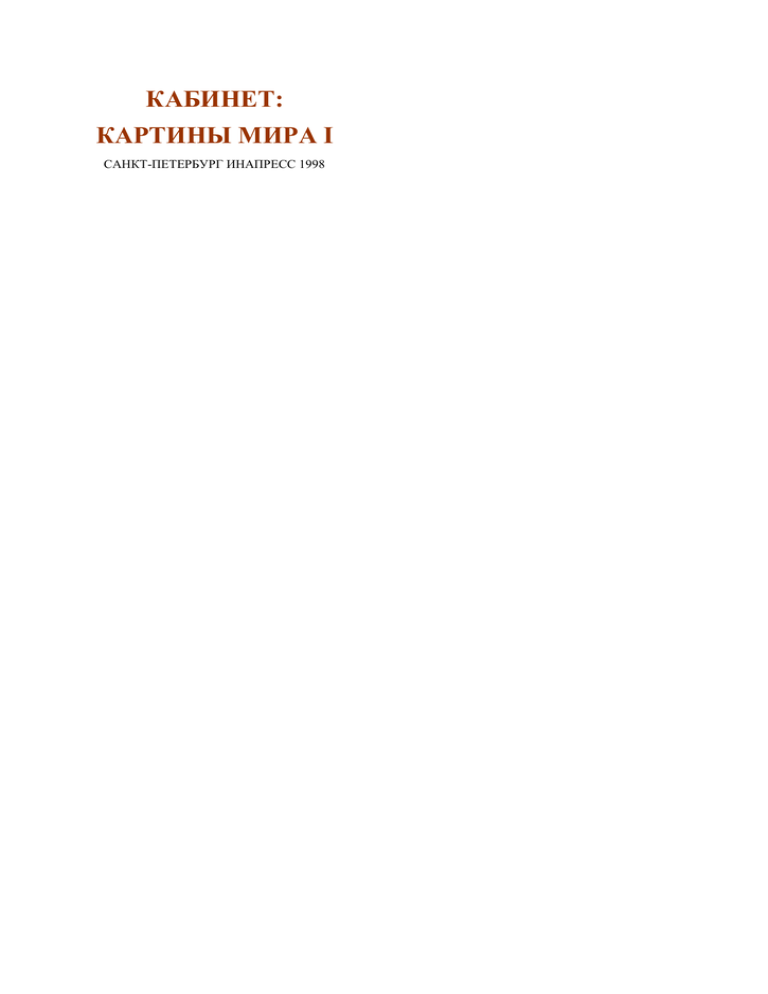
КАБИНЕТ: КАРТИНЫ МИРА I САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИНАПРЕСС 1998 ББК 88.4 К 12 УДК 613.88 КАБИНЕТ КАРТИНЫ МИРА Генетика критика лингвистика литература поэтика психиатрия психоанализ семиотика физиология философия цитология коллекция perversus РЕДАКЦИОННЬМ КАБИНЕТ Витор Мазин - главный редактор Сергей Ануфриев Сергей Бугаев (Африка) - гл. художник Славой Жижек Николай Кононов Дэвид Леви-Строс Браха Лихтенберг Эттингер Павел Пепперштейн Александр Покровский Виктор Самохвалов Рената Салесл Эндрю Соломон Виктор Тупицын Олеся Туркина Редакционная благодарность: Джейн Ломбард ISBN 5-87135-054-2 К а б и н е т : Ка р т и н ы мира СОДЕРЖАНИЕ Виктор МАЗИН. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ИЗ КАБИНЕТА ВИДНЫ КАРТИНЫ МИРА........ ......................... 3 Николай КОНОНОВ. [к картине мира]................................................................ ................................... 5 Павел ПЕППЕРШТЕЙН КАРТИНЫ МИРА.............................................................. .................... 6 1 Олеся ТУРКИНА. Виктор МАЗИН. КРИТИКА: ЛОВ ПЕРЕЛЕТНЫХ ОЗНАЧАЮЩИХ.......................................... ....... 82 Сергей БУГАЕВ (АФРИКА). В КАБИНЕТЕ ФЕЛИКСА ГВАТТАРИ..................................... 14 Феликс ГВАТГАРИ, Браха ЛИХГЕНБЕРГ ЭТТИНГЕР. ТРАНСФЕР, ИЛИ ТО, ЧТО ОТ НЕГО ОСТАЛОСЬ (перевод В. Мазина)............................ 21 Виктор ТУПИЦЫН. ФАРФОРОВАЯ СЛОНОМАТКА.................................... .......................... 30 3 Майкл МОЛНАР. СОБАЧЬИХ О ВИРШАХ СОБАКАХ И (перевод В. Мазина)..................... 38 Павел ПЕППЕРШТЕЙН. ЛЕД В СНЕГУ..................................................... ..................................... 47 4 Ирина ЗАЙЦЕВА. КЛИНИКА И ИСТОРИОГЕНЕЗ БРЕДА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ.................................... 67 Виктор САМОХВАЛОВ, ЕГОРОВ. Виталий БИОЛОГИЯ РЕБУСА............................................. 105 5 Жак ЛАКАН. СТАДИЯ ЗЕРКАЛА КАК ОБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЮ Я, КАКОЙ ОНА РАСКРЫВАЕТСЯ В ПСИХОАНАЛИТИ ЧЕСКОМ ОПЫТЕ (перевод Виктора Лапицкого)...................................................... ............................................................... 136 Ольга СУСЛОВА. ВВЕДЕНИЕ В ЧТЕНИЕ ЛАКАНА: "СТАДИЯ ЗЕРКАЛА"................... 143 Славой ЖИЖЕК. ВЛАСТЬ И ЦИНИЗМ (этологическое Самохвалова, введение перевод Виктора Виктора Мазина) .............................................. 162 6 Мелшпа ЗАЙЦ. ТЕХНОЛОГИЯ ДАЛЕКОГО КАК ТЕХНОЛОГИЯ БЛИЗКОГО (перевод Марины Майданюк)................................................................ .................................................... 176 Олеся ТУРКИНА, Виктор МАЗИН. ГОЛЕМ СО-ЗНАНИЯ3....................................................... 188 Сергей АНУФРИЕВ. В ИЛЛЮЗИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПАУКА (при участии редакции "Кабинета")............................................................... ........................................... 205 Анжелика АРТЮХ. КОЛЛАЖ И АВТОРСКИЙ ДИСКУРС.................. ................................. 214 7 Олеся ТУРКИНА. ПОСТТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО КАК МНЕМОТЕХНИКА............ 236 Рената САЛЕСЛ. ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПАМЯТЬ: ТРАВМА ДИСНЕЙЛЕНДА ЧАУШЕСКУ (перевод Ольги Сезневой)......................................................... ............................................................... 251 Сергей АНУФРИЕВ. ПРОБЕЛЫ И ПРОБЕЛА............................................... ............................. 270 Сергеи БУГАЕВ (АФРИКА). СЕМИОТИЧЕСКАЯ ГОЛОДОВКА.................................... 278 Виктор ТУПИЦЫН. BON VOYAGE................................................. ......................................... 283 авторы номера.............................................................. ..................................................................... 292 иллюстрации и иллюстраторы .......................................................................... ................................ 295 в следующем томе.................................................................. 298 instead of summary........................................................... ......................299 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: ИЗ КАБИНЕТА ВИДНЫ КАРТИНЫ МИРА Кабинет — пространство замкнутое. Так кому-то покажется. Кабинет — пространство открытое. Так кому-то покажется. В кабинетных пределах создаются описывающие мир картины. Закрываясь от внешнего мира, властелин кабинета преодолевает кабинетную гравитацию и оказывается на просторах вселенной. Там физик создает физическую картину, лирик — лирическую, химик — химическую, художник — художественную, философ — философскую, драматург — драматическую...: человек создает человеческую картину. Нет ничего странного в том, что все это — картины, ведь все это — представления; и каждое из этих представлений выстраивается по своим эстетическим законам. У Парменида своя эстетика, у Эйнштейна — своя, у Абу аль Низам — своя. Каждый человек имеет то или иное представление о мире, каждый ученый составляет то или иное представление о мире, каждый художник проливает свет на то или иное представление мира. Представления предстают, распространяются, воспроизводятся. Каждое представление при этом состоит из множества заново собранных фрагментов. Почему окружающий мир выглядит так, а не иначе? — Потому, что "в противном случае, некому было бы задать этот вопрос". Потому что в противном случае "нас бы не было" — так формулирует антропный принцип Стивен Хокинг. Вновь и вновь создаются Картины Мира, корректируются представления: Эмпедокл и Хлебников, Галилей и Опарин, Пикассо и Леонардо, Кун-цзы и Декарт, У Чэнь-энь и Эйнштейн, Фолкнер и де Сад, Малевич и Витгенштейн, Леруа Гуран и Пригожин формируют свои картины мира не только на основе уже существующих представлений, но и влияют на построение картин будущего мира. Разум претерпевает эволюцию. Изменяется именно в данном месте, в данное время, в данном символическом пространстве-времени. Элементы будущей картины мира начинают собираться в психической реальности младенца. По частичкам воссоздается образ матери, образ себя, себя другого, спроецированного, "внешнего". Мир реорганизуется. Мир воцаряется. Так волк отпускает на волю Красную Шапочку. Так распахивается окно перед Сергеем Константиновичем Панкеевым, и предстает его сновиденческому оку дерево с волками. Мир полнится представлениями. Волку предстоит спрятаться. Миру предстоит остаться. Стоит только представить. Лакуны мира заполняются продуктами грез, фантазий, представлений; и, наконец, можно приступить к общению с другими. Ведь именно ими задана наша картина мира. Ведь она совпадает 3 с одной из больших картин господствующих в данное время в данном месте, совпадает и... в той или иной мере всегда уже отклоняется от нее. Эти отклонения, эти репрезентационные перверсии конкретизируют ученые и художники, доктора и пациенты. Видимость? — спросит, показывая пальцем в небо, А. Да, — ответит ему Б., — ведь сегодня одна картина, завтра — другая. Сегодня одна перспектива, завтра — другая, — добавит В. Нет, — скажет Г., — небо незыблемо. Да, — скажет Д, обращая взор на картину Малевича. Нет, — скажет Е., погружаясь в ту же самую картину. Да, — скажет, задумавшийся о проекции и проекциях Ж.. Ну, нет, — ответит ему, наблюдающий развитие человеческого зародыша 3. Да? — удивленно пожимая плечами перед трубой телескопа, подумает И. Нет, нет, нет, — успокоит его проснувшийся К. Промолчит уснувший Л. Воспользовавшись молчанием сновидца, Сергей Бугаев пунктирно прочертит топографию жизни и деятельности Феликса Гваттари, в кабинете которого поставит Браха Лихтенберг Эттингер вопрос о трансфере, в то время как наблюдаемые Ириной Зайцевой-Пушкаш картины бреда укажут, с одной стороны, на мифоритуальный континуум, с другой — на двигательные особенности человека, с третьей — на архаические особенности его мышления; и все эти отражающие грани начнут мерцать в попытке Сергея Ануфриева вообразить картину мира восьмью глазами паука, пока доктора Виктор Самохвалов и Виталий Егоров, составляя ребус из слов и рисунков жителя Тробриандских островов, не восстановят его психическую картину; и уже совсем другой ребус, историю отношений слов и образов построит Сергей Ануфриев; а историю того, как собирает на кинопленке истории Олег Ковалев разберет на бумаге Анжелика Артюх; и совсем уже, какзалось бы, другую историю, историю памятников, Чаушеску и Ленина, ввергнут в вопрос о памяти Рената Салесл и Олеся Туркина; тем временем взору Майкла Молнара предстанет собака — объект для переноса глубоких чувств от отца к дочери, Анне Фрейд, и от дочери к отцу, Зигмунду Фрейду, в доме которого несколько десятилетий спустя прочтет свою лекцию о цинизме, иронии и власти Славой Жижек; и остановится над обрывом своего кабинета, представляя шизооптику парящих слономаток, Виктор Тупицын; а в это время Мелита Зайц прояснит, как формируемая бесплотной теле-технологией картина мира обретает достоверность за счет человеческого тела; воображаемого тела, которое возникнет на зеркале другого под взором Жака Лакана. которое отразится в анализе Ольги Сусловой; и которое в свою очередь выпустит на сцену театральную и виртуальную своего двойника, Голема Олеси Туркиной и Виктора Мазина; а в это время появятся у Хайдеггера и Андерсена весьма подобные (но отнюдь не подобным образом) вещи, мягкое падение, накопление и таяние которых будет созерцать Павел Поппер-штейн; вещи станут вещами, они остынут, замерзнут; замерзнет язык; наступит время семиотической голодовки (Сергея Бугаева), и, воспользовавшись паузой, совершит Виктор Тупицын марш-бросок в интертекстуальное странствие между жизнью и смертью. Вернувшийся из сновидческой реальности Л. понимающе улыбнется и припомнит что-то: ах, вот оно что: "Картины мира" — приложение к "Веселым картинкам", приложение к "Кабинету", приложение к представлениям читателей и зрителей... [4] Николай Кононов *** к картине мира Пятью пять и урка урке, Урывая в нем зверька, С чудной марсиевой шкурки Рвет четырежды шнурка. Лясы леса бычат бельма, Бая баюшки в бреду, Топливом Святого Эльма Заливая жар в дуду. Вот, на душеньку — волыну, На ее припухший бред Златошвейную урину Льет с цевницы Кифаред. Трижды три. Ответ: умойся. Я ли с лобзиком зыбей, С зыбким плещущим устройством. Отшатнись, придвинься, лей... Я ли школьником? Я? Я ли... Легким яликом юля На воздушном одеяле Умираю? Мрею... я... [5] Павел Пепперштейн КАРТИНЫ МИРА Посвящается картине Леонардо да Винчи "Мария и Анна сам-третья" Как проникнуть в тонкий ужас господина двадцать два? Как проникнуть в двадцать девять, где кружится голова? Ауф! Ауф! Как проникнуть? Как пробраться в тридцать семь? Мать над Мачехой склонилась. Бабушка стряхнула лень. В семь сорок поезд, поезд, поезд! В восемь тридцать — самолет. Унтер фрай лихт! Биттер леттер! Госпожа и теплый лед. Господин гроссмейстер Голем! Чья-то мать вам ставит мат. Математик обезболен, хуй запрятал в аппарат. В двести тридцать на перроне. Генерал Антон Твардов Тихо пиво пьет в "Перони", убивает комаров. Вот "Веселые картинки", вот журнальчик для внучат. Вдоль страниц проходит поезд, проезжает самокат... Что такое мир? — Вокзалы. Над вокзалами дымок. Над дымком пустое небо. В белом небе — фрекен Бок. Фрекен! Фрекен! Ваши плюшки нам особенно вкусны. Этот терпкий вкус корицы! Это брюшко! Эти сны! 18 апреля 1997 Санкт-Петербург полтора часа до отхода поезда [6] [7] 1 Олеся Туркина. Виктор Мазин КРИТИКА: ЛОВ ПЕРЕЛЕТНЫХ ОЗНАЧАЮЩИХ1* Посредством суждения критика выявляет механизмы порождения и функционирования эстетического объекта, в частности в общей сфере визуального. Критика находится в зависимости не только от особенностей кода данного объекта, но и от сосуществующих языковых игр. Критика проливает свет на отношения между различными знаками и кодами. Критика выносит суждение посредством контекстуальной проработки эстетического объекта. Критика производит дезорганизацию и реорганизацию в интертекстуальном пространстве, проецируемом на сферу межобразного. Функционирование эстетического объекта попадает в зависимость от критического дискурса. Распространение критического дискурса предполагает его конвертируемость в информационном пространстве. В стремительно меняющемся пространстве моды. Там, где производится лов перелетных означающих. Перелетные означающие не возвращаются. Мода — не новость. Она возникает на всегда уже проявленный знак. Вопреки своей модности мода — вчерашний день дня сегодняшнего. Только стабильный знак может быстро распространяться. Проявленный знак — признак модной тенденции. Дискурсивные потоки сменяют друг друга, наслаиваются друг на друга, формируя реплики уже ставших модными повествований. Постмодернизм, феминизм, неоколониализм, номадизм, киберфеминизм, поиски идентичности обретают свою символическую стоимость и утрачивают ее.* Обретают свою критическую силу и утрачивают ее. Скорость валори* Сокращенный вариант данной статьи под названием "Мода: лов перелетных означающих" опубликован для публикации в "Художественном журнале" № 18,1997; продолжение данной работы под названием "Как бы: лов перелетных означающих"2 написано для журнала "Художественная воля". 1 Так, понятие другой в ходе концептуализации редуцируется к тому-же-самому, а кристаллизация различения [differance] в виде понятия отнимает у него различающую способность. [8] зации и девальвации вводит эти дискурсы в режим функционирования информации. Информация не успевает построить присущую знанию картину мира. Семиотическое пространство в постоянном движении.2 Миграция модных знаков позволяет капитализировать время. Капитализация времени подразумевает ускорение в процессе захвата конкретных летающих означающих в силу моды на них. Эта процедура насыщает неофилические устремления, демонстрирует погоню за концептуальными новинками, осуществляет валоризацию текста, приносит доход. Неофилия адаптирует индивида к программам общества потребления и к высокой скорости проживания жизни. Однако, за неофилией неизбежно скрывается неофобия. Цена лова — постоянная тревога. Аллегория лова — фантазм уходящего поезда. Архивирование информации указывает на определенное знание. Архивирование и пересмотр информации создают условия для реорганизации знания, для эпистемологической эволюции. Демократический характер информации содействует возможностям смены критической парадигмы. Смена критической парадигмы востребована сменой характера визуальных образов. Новый эстетический объект, новый контекст его существования требуют иного критического дискурса.3 Критический дискурс находится под оптическим влиянием сменяющих друг друга эстетических объектов. Критический дискурс находится под влиянием эволюции смежных дискурсов - философского, психоаналитического, экономического, политического... Противоположный процесс не менее очевиден — информационная блокада знания: знание отвергается. Знание используется. Осуществляется лов перелетных означающих. Информация приносит прибыль. Она на службе. Операторы информации, такие как имена и маркированные понятия, отправляются на поиски символических отцов, этих фундаментальных, незыблемых означающих, которые позволяют критику реконституировать свою символическую идентичность, воссоздать свой символический образ через текстовые операторы фантазируемого другого; эти операторы функционируют как транзиторные объекты, конституирующие временную символическую идентичность. В этой реставрации логоцентризма проявляется иллюзия критической позиции, отчужденной от объекта описания и привязанной к зыбкой территории, которая выстраивается на захваченных по случаю4 летающих означающих. Зыбкость такой позиции не только в презрении к объекту 2 Наиболее очевидно это движение в сфере визуальных образов проявляется в рекламе, на телевидении, а также в политической, экономической, эстетической картинах мира в целом. Ответной адаптивной реакцией на это стробоскопическое мерцание может служить, например, синдром перепрыгивания с одного телеканала на другой (channel surfing). 3 4 Вопрос: до какого предела возможно описать эстетический объект Марселя Дюшана языком Дени Дидро? Разумеется, случай этот сверхдетерминирован как психическими особенностями критика, так и функционирующими в данном месте и в данное время дискурсивными потоками. [9] интерпретации, но и в отсутствии контекстуальной диспозиции. Дискурсивные интертекстуальные взаимоотношения отвергаются. Символический капитал, украденный у фантазируемого отца действует в со-знании, то есть не столько в психической реальности критика, сколько в совместном информационном знании, в коллективном дискурсивном пространстве. Ротация информации приводит к постоянному акту отцеубийства и немедленного выбора другого отца. Этот акт обнаруживает себя в высказываниях типа "Д. уже не моден",5 "Л. ничего нового не говорит", "То, что пишет Б., и так всем известно". Информационные потоки востребованы неофилическими интенциями, поддерживаемыми и стимулируемыми принципами потребления и использования. Информация обновляется. Информация служит тогда, когда она не повторяется. Повторение — не мать информации. Присущая знанию повторяемость отвергается. Летающие означающие заново присваиваются, образуя крипты, которые открывают доступ к текстовому коду. Сами крипты, разумеется, остаются закрытыми для умозрения самого критика семантическими гробницами. Мнимый критический дискурс становится не дискурсом критическим для другого, но таковым для самого себя. Тем не менее, визуальность криптограммы демонстрирует коллажную поверхностность письма. Коллажное мышление предполагает реконтекстуализацию захваченных означающих. Их положение представляется двойственным. С одной стороны, они стремятся вернуться к "родительским" контекстам. С другой — вступают в новые отношения с иными означающими, образуя еще одно семиологическое пространство. Их вертикальная (интертекстуальная) и горизонтальная (интратекстуальная) подвижность должна оживлять как критический текст, так и интерпретируемый объект. Время пользователей, пришедшее на смену времени потребителей модифицирует способ производства критического текста. Он организуется как референциальная сетка, растянутая вдоль захваченных означающих, как гипертекст, дающий возможность беспредельной реконтекстуализации. Однако, распознание кри(п)тического текста может происходить по захваченным означающим, устанавливающим вертикальные связи, точнее вертикальные намеки, десемантизированные аллюзии. Этим может пользовать мнимый критический дискурс. Задача сконструированного мнимого критического текста — установить вертикальные опоры. Горизонтальное освоение территории отвергается. 5 Такого рода высказывание звучит совершенно "естественно" в качестве различающего маркера определенного типа дискурса. Так, например, его агент, утверждая примат гоа-транс музыки, к которой он себя приписывает, над хард-кор техно, говорит: "Маэафака устарела, теперь в моде "отпусти меня, бабушка"." [10] Вертикализация критического дискурса очевидна в окружающем нас пространстве, где серии имен, понятий, цитат не выстраиваются согласно определенной стратификации. В автохтонной страте один автор может быть несовместим с другим. Мнимый критический дискурс отличается нестратифицированным использованием захваченных означающих, вводящих вертикальные намеки. Это связано и с тем, что постмодернизм был здесь воспринят, как некая текстовая разнузданность, как семиотический произвол. В постсовременной парадигме здесь гипертрофируется ирония как самодовлеющий модус текстового поведения. Ирония трансформируется в навязчивую необходимость относительно "неполноценного" объекта описания. Дистанцирование от текста отвергается. Вертикализация критического дискурса носит формальный характер. Мнимый критический дискурс отсылает не к контекстам как таковым, но к упаковкам контекстов, к клеткам с пойманными означающими, к клеткам, с посаженными в них символическими отцами, по подложному генетическому свидетельству предъявляющими вертикальные намеки. Налог на летающие означающие придает этому дискурсу характер информационной модности. В силу отсутствия динамики горизонтальных отношений между захваченными означающими критический дискурс замораживается. Смена одной моды другой не содействует движению критической мысли. Захват означающих служит контрэволюции.6 Статичность замороженного дискурса — катализатор аффирмативной критики. Захваченные означающие используются для мимикрирующего утверждения идентичности самого текста.7 Утверждающая присутствие символических отцов мимикрия скрывает страх отлучения; ее девиз — прими меня, съешь меня, что символически означает присвоение, усвоение перелетных означающих: "я тебя съем". Негативная ревизия дискурса отвергается. Аффирмативная критика не может проявить негативный характер эстетического объекта, который отклоняется от установленного порядка, от навязчивой визуальной тирании. Аффирмативная критика ангажирована не только иерархическими супрессивно-субмиссивными отношениями с эстетизируемым объектом, но и с господствующими макро-идеологиями. Негативная ревизия идеологии отвергается. 6 Под эволюцией здесь понимается как прогрессивное, так и регрессивное движение, направленное на приспособление к себе окружающего пространства. 7 А вместе с этим и сфабрикованной идентичности эстетического объекта. [11] Аффирмативная критика принуждена использовать мнимый дискурс, построенный на захваченных означающих, появление которых указывает на отсутствие отринутых дискурсивных порядков, на искусственно табуированные территории, хранящие информационный мусор, на кладбище отфантазированных отцов. Символическая толерантность отвергается. Эга консервативная тенденция усугубляется институциализацией как сферы визуальных образов, так и критического дискурса. Институциализация — вторичная обработка пойманных означающих. Институциализация здесь проявляется не в иерархизации уже действующих элементов семиозиса, не в содействии его эволюции, но в стремлении стереть существующее и установить свое полное господство над фантазируемой территорией. Представитель института — продукт идеологии больших рассказов. Представитель института — продукт всемогущества своей мысли. Представитель института скрывается на своем посту от страха перед отраженном в зеркале индивидом. Из дурмана своей иллюзии выходит он в жизнь, играя роль господина — директора, куратора, критика, художника. Представляется он всеинформированным.8 Его поведение — риторика властелина. Его навязчивое видение ~ сокрушающий его соперник, имеющий доступ к "более ценной" информации. Переход от знания к информации совершается не внутри тематических горизонтальных страт, а вдоль временных вертикальных осей. Информация оценивается по скорости обращения знаков. Обладание информацией приносит капитал. Она существует за счет того, что другие не знают. 9 Формула "власть — знание — сила" заменяется формулой "прибыль — информация — прибыль". Символический капитал — агент моды. Уже конвертированный знак подстерегает ловца. Семиотическая ловушка — отчужденный продукт критического дискурса. Институт — регрессивная проекция несостоявшегося будущего. Обретение временной символической идентичности — отказ от негации, от эволюции, от будущего. 8 Такое положение вещей стало наиболее очевидным в середине 1990-х годов. Схематически, достаточно условно можно выделить три периода, которые сменяют друг друга в отношениях между различными элементами художественной сцены Ленинграда — Санкт-Петербурга: 1) 1982 — 1989 — время художников, моды на художников, ниспровержения регламента жизни художниками; 2) 1989 — 1996 время критиков, кураторов и концептуальных выставок; 3) 1996 — ... — время бюрократии, институтов и фондов, пытающихся регламентировать художественный процесс, установить новый порядок. Впрочем, задача эта не может быть выполнена в режиме мультиплицированного бес-порядка, который проявляется как в сфере визуального, так и в семиосфере в целом. 9 Так в сфере моды нечто признается модным за счет того, что его сегодня нет ни у кого, а завтра есть у немногих. [12] Сергей Бугаев (Африка) У КАБИНЕТА ФЕЛИКСА ГВАТТАРИ Однажды, будучи во Франции, в Париже, я позвонил Феликсу Гваттари, который любезно пригласил меня остановиться у него с Жозефиной на улице Сан Совер. Именно в этом месте он прожил последние годы своей жизни. Я сразу же должен сказать, что никогда, ни тогда, ни сейчас не мог отдать себе в полной мере отчет в том, насколько фундаментален и существенен вклад Феликса Гваттари в мировую кладовую великого знания. Естественно, для того чтобы сейчас осмыслять жизненную событийность, иногда граничащую с приобретенным опытом, я со всей скромностью внутренне стремлюсь постигать это наследие, которое не является, впрочем, специфическим предметом данного воспоминания. Речь сейчас идет о чисто топографически-антропометрических замечаниях. Итак, я оказался на рю Сан Совер, то есть на улице Святого Спасителя, где помимо Феликса Гваттари жили и многие другие замечательные люди, в частности режиссер Вим Вендерс, с которым, насколько мне известно, Гваттари поддерживал какие-то отношения. Для того чтобы попасть на улицу Сан Совер необходимо было пройти через улицу Сан Дени, которую можно было бы сравнить с 42-й улицей в Нью-Йорке или Риппербаном в Гамбурге, однако эта парижская улица обладает своим историческим пафосом, поскольку это — Париж, поскольку это — родина той части знания, которое связано с тем, что представлено на лице Сен Дени в виде биологически активного субстрата, определенным образом появившегося в специфических географических условиях при поддержке определенного мифо-поэтического раздела французской традиции, которую, как считается, и завершал в определенном смысле тандем Гваттари и Делеза, тандем крупнейшего философа и крупнейшего представителя того вида деятельности, который объединяет две улицы, Сан Дени и Сан Совер. Такая вот странная топонимика. Речь, конечно, здесь идет не о каком-то конкретном святом по имени Дени, а о совершенно других процессах, протекающих в области импринтинга. [14] Речь идет о выявлении, грубо говоря, некой константы бессознательного. Если на протяжении научной истории результатом всех типов деятельности являлось установление определенных констант, как то в случаях со временем, мерами веса, длины, давления, радиации и так далее, то бессознательное на протяжении двадцатого века рассматривалось как некое до бесконечности расщепляемое понятие, которое никак не удается выверить в какой-то элементарной частице, которая бы это бессознательное конституировала в среде междисциплинарного кодекса в качестве условной единицы бессознательного. Как мне сегодня представляется, расщепление этого понятия было доведено до создания крайне раздробленной, крайне разветвленной системы констант в системе шизоанализа и описанной Гваттари вместе с Делезом в "Анти-Эдипе" и "Тысяче плато". Опыт Гваттари тем и уникален, что он осуществил важную смычку различных областей знания, выверив работу бессознательного в системах различных координат. Он работал врачом-психиатром, но одновременно был и философом, и биологом, и поэтом, и всем тем, что сам описывал, поскольку речь в его работах велась в том числе и о перевоплощениях, столь необходимых, когда исследуются раздробленности. Гваттари фактически не был психиатром в том смысле, в каком того требуют догматические представления; всех необычайно раздражала его вовлеченность в процессы мировой философии, эволюции, политики. Вспомним Тони Негри, с которым он вместе написал книгу; вспомним "Красные Бригады", с которыми так или иначе было связано европейское интеллектуальное сообщество. Тот факт, что он подвергался жесткой критике со стороны профессиональной психиатрической общественности за то, что вводил отдельные формы нетрадиционного лечения. Но о каком традиционном лечении может идти речь в психоанализе? Ведь каждый индивидуальный случай глубоко уникален хотя бы в силу своей историчности, в силу временной разворачиваемости каждого отдельного субъекта психоанализа в реальном пространстве, в котором он переживает реальные конкретные ситуации. Ведь каждый человек еще более уникален, чем весь спектр представлений о стохастических процессах, хотя, конечно, встречаются люди глубоко похожие друг на друга в своих ощущениях и переживаниях. Феликс Гваттари по-разному слушал больного. Иногда он его очень долго выслушивал, вслушивался в какие-то мотивы, в историю болезни; долго-долго слушал... человек долго-долго рассказывал... а потом в конце этого долгого-долгого рассказа Феликс вдруг начинал на пациента чудовищно орать, что в общем было ему совершенно несвойственно. "Что Вы здесь за ерунду несете! Безобразие! Время отнимаете!" Не знаю точно, что именно он там кричал, каков именно был поток речи, но, думаю, что-то вроде того. Не каждому понравится такое отношение к больному, но я не на секунду не сомневаюсь в том, что вся деятельность Феликса носила глубоко этический характер. Практикуя в роли клинициста, он ни в коем случае не мог нанести пациенту вред. *Antoni Negri, Felix Guattari. Le verila Nomadi. Per nuovi spazi di liberta Roma: Antonio Pellicani Editore. 1989. - прим. ред. [15] Мне посчастливилось познакомиться с некоторыми пациентами Гваттари, хотя их сложно назвать пациентами, скорее это просто люди, с которыми он находился в состоянии психоанализа. Кроме того, его смерть потрясла очень многих в связи с той колоссальной организационной работой, которую он проводил у себя на квартире. На проходивших у него семинарах, тесно связанных с деятельностью журнала "Химеры", который он основал совместно с Жилем Делезом,* присутствовали все, кого мы только можем себе представить. Среди его друзей были и художники. Его влияние на художественный процесс было необычайно велико, поэтому, по-моему, совершенно справедливо то, что после его смерти и после смерти Жозефины Музей современного искусства города Парижа устроил выставку "Весна любви", полностью посвященную им. В тот раз я был недолго в Париже. Через два дня после моего приезда Феликс улетел на семинар в Бразилию; он очень любил латиноамериканские страны и Японию. Жозефина познакомила меня со многими людьми, в том числе и с Джонотаном, американским пациентом Феликса, с которым я очень дружен и по сей день. Как-то я взял наугад с полки книгу. Это оказалась книга Стенгерс и Пригожина "Порядок из Хаоса". На первый взгляд труд этот едва ли можно было использовать в психиатрии, однако он был настолько тщательно исписан пометками, сделанными мельчайшим почерком на полях. Кроме того, на каждой странице было очень много подчеркиваний. Иногда над словами были надписаны другие слова, но поскольку они были на французском языке, суть их осталась от меня скрытой. Когда я приехал в Париж, Феликс и Жозефина очень обрадовались, мы ведь до этого в Ленинграде встречались и в Москве, когда они приезжали вместе с Шон Келли по приглашению журнала "Флэш Арт", который ему так и не заплатил какие-то там двести шарлатанских долларов, но не в этом дело. У него были свои мотивы очень интенсивно и с большим интересом реагировать на ситуацию в тогдашнем Советском Союзе. Феликс с необычайной силой был вовлечен в социальные и политические проблемы. У него была неудержимая тяга ровно в восемь часов вечера откладывать все насущные дела, усаживаться перед экраном телевизора и внимательно смотреть от начала до конца французский аналог нашей программы "Время". * Первый номер шизоаналитического журнала Chimere появился под редакцией Феликса Гваттари весной 1987 года. Начиная со второго номера "Химеры" редактировались Гваттари вместе с Делезом. - прим. ред. [16] Квартира находилась в старом французском доме, где мне выделили маленькую комнатку на втором этаже. Когда заходишь в дом, то попадаешь в прихожую, а оттуда по деревянной лестнице на второй этаж. Собственно в квартиру из прихожей можно было войти через две двери: через одну ты попадал в комнату, которая прилегала к кабинету Феликса, к кабинету, который совмещался с застекленной библиотекой, откуда можно было пройти в большую комнату; вторая же дверь вела прямо в эту большую комнату. В этой большой комнате и проходили семинары. Потом в каком-то чулане я нашел подвесную доску на штативе, на которой висел большой блокнот, на нем были какие-то графики и пометки. Эта доска использовалась во время семинаров. В одной из маленьких комнат, которая примыкала к кабинету Гваттари, и которая была размером где-то шесть квадратных метров, был какой-то стульчик, на полу лежал коврик под зебру, а на стене висела очень красивая картина художника Матта. Это была пастель или очень большая акварель, на которой были нарисованы структуры, судя по всему имеющие непосредственное отношение к исследованиям Феликса, к пузырчатой вагинальности бессознательного. Из этой маленькой комнатки ты и попадал в собственно кабинет Феликса. Кабинет был чуть ли не меньше маленькой комнатки. В нем стоял очень низкий стол и очень низкое старое кресло. Стол был завален бумагами, никакого компьютера не было, равно как не было никаких посторонних предметов, никаких фигурок типа Анубиса и Осириса, как у Фрейда, там не было. Коллекционерство в общепринятом смысле не было присуще Гваттари; он, можно сказать, коллекционировал отношения с людьми, знания, память, но не вещи. На столе лежали ручки и большое число простых остро заточенных карандашей (по остроте их можно сравнить с карандашами Иозефа Бойса, о чем свидетельствуют его рисунки). Еще в кабинете был маленький книжный шкафчик, метра два высотой со стеклянными дверцами и небольшим числом книг и папок. В самом углу стоял маленький диванчик и около него стульчик. Предметный мир кабинета был, таким образом, близок миру Джона Кейджа, может быть он был даже еще менее материальный: вещей здесь находилось значительно меньше, чем у Кейджа, который, как известно, от них всегда избавлялся, но уровень теплоты очага при этом был не меньший. Одевался Феликс, кстати, скромно, хотя и не так скромно, как Джон [17] Кейдж. Я его помню на протяжении четырех лет, и он всегда ходил в одной курточке, в одних брючках и в одной рубашечке. Это на самом деле глубинное подтверждение экологичности жизни и поведения человека в современной ситуации. Конечно, можно иметь двести курточек, двести штанишек и двести рубашечек, двести автомобилей и двести квартир, но это лишь формирует платформу для социально обостренных и взрывоопасных мотивов. Люди типа Феликса отдавали себе отчет в нецелесообразности нагнетания шумихи в процессе антропогенеза. Он демонстрировал то проявление глубокой экологичности в семантике поведения,* которое остается нам в наследство после ухода из жизни таких людей как Павлов, Менделеев, Якобсон, Берг или Марков. В большой комнате, там, где проходили семинары, стоял большой диван, заваленный подушками, стояло еще несколько больших кресел; здесь можно было уютно размешаться большой компанией. Между кабинетом и большой комнатой находилась библиотека до потолка заставленная книгами. Когда Феликс в первый раз показывал мне квартиру, мы зашли с ним в библиотеку, и там отдельно лежала стопка его книг, одну из которых он мне подписал и подарил. Эту книгу я храню с особой нежностью. Называется она "Что такое философия?"** Эту последнюю написанную совместно с Делезом книгу можно определить как своего рода нейрофизиологию текста. Гваттари был вовлечен в сложную сетчатку текстов, которые постоянно преобразовывались. Он, естественно, знал, что я не читаю по-французски, поскольку общались мы по-английски, но все-таки подарил мне свою книгу. Иногда я сидел в библиотеке и ночью; меня, конечно, больше привлекали книги с картинками. Вид у меня был в тот раз, так сказать, утеночный. Образ утенка я встретил в этой квартире: в ванной комнате, где Феликс обычно плавал, на самой ванночке, стояли маленькие плавающие предметики, среди которых был маленький заводной утеночек размером в три-четыре сантиметра. Ты его заводишь, и он плывет по воде. Я, как этот утенок, оказался в Париже. Феликс дал мне свою .карту, чтобы я мог путешествовать по столь сложному городу. Вся карта была также испещрена его пометками, какими-то значками, которые я не мог с полной ответственностью воспринимать. Отчетливо помню, как однажды утром я сбегал в магазин на улицу Сан Дени, где в одном из многочисленных замечательных кондитерских магазинов я купил коробочку пирожных. Феликс и Жозефина пили по утрам кофе, я же пью чай и люблю пирожные. В Париже огромное количество разных пирожных, и я решил перепробовать как можно большее число этого предмета моей страсти. Я решил, что, если в день буду съедать по два, то рано или поздно мне удастся перепробовать все, хотя все же я понимал, что ошибаюсь. Если соединить все парижские пирожные в единую линию, то получится дорожка до самой Луны. Кроме того, для того чтобы * Прочти по данному вопросу: F.Guattari. Les frois ecologies. P. Galilee. 1989 — прим. ред. ** G.Deleuze, F.Guattari. Qu'est-ce que la philosophie? P. Minuit, 1991 — прим. ред. [18] их перепробовать, пришлось бы потратить энную сумму дензнаков, вес которых будет составлять несколько тонн, и, естественно, я не мог перемещать с собой такое количество средств. Итак, я принес эту коробочку, поставил ее на стол, и Феликс тотчас закричал: "Гато! Гато! Гато!"* Он оказался таким же страстным любителем сладостей, как и я. С этих пор мы с ним вместе частенько сидели за пирожными. В доме животных не было, но биологическая активность на улице была необычайной. Несколько раз в день я выходил в магазин и попадал на улицу Сан Дени, на улицу залитую яркими огнями, призывающими тебя войти либо в порно-шоп, либо в кабинки для мастурбации, либо в магазины с полными боекомплектами для всех типов архаических или девиационных форм сексуальных отношений. Квартира Феликса и улица Сан Дени — это разные скоростные магистрали. Из всех щелей улицы Сан Дени моментально высовываются женщины, заманивающие тебя в маленькую каморку или комнатушку. По улице перемещаются люди по-видимому недавно переехавшие в Париж или туристы, которые ищут свою золотую рыбку. Как только более-менее привлекательный объект появляется, на него немедленно бросается целая толпа желающих. Все это ощущал и Феликс, перемещаясь по данной улице: сложный процесс адаптации организма к условиям городской среды и, с другой стороны, провокационные действия одних организмов в адрес других. Квартира же Феликса отличалась приглушенным спокойствием. Моя безответственность и, прямо скажем, политическая близорукость, связанные в тот период с попыткой, главным образом, адаптироваться к капиталистическому обществу, с одной стороны, и к распадающемуся обществу социализма, с другой, привели к тому, что я не изучил ни особенностей расположения книг на полках, ни деталей интерьера кабинета. Впрочем, я помню, что в одном углу библиотеки лежала стопка черных папок. Я взял одну из них и спросил, что в ней. Феликс сказал, что это один из написанных им сценариев, а таких папок был десяток или больше. На сегодняшний момент эти сценарии еще не нашли своих режиссеров, но не сомневаюсь, что найдут. Феликс живо интересовался искусством, в том числе и искусством кино. На примере Голливуда же мы знаем, что основной принцип работы над фильмом гласит: "Без знаний механизмов работы бессознательного в кинодело не суйся". Несколько раз у Феликса с Жозефиной были ужины, на которые приходили разные очень интересные люди. Среди них я запомнил человека по имени, кажется, Бернар Фромарже. Это было художник, который как-то два или даже три часа до ужина просидел у Феликса в кабинете. С этим человеком Гваттари связывали многолетние отношения. Отношения Феликса с Жозефиной были особенные, ведь он был на много лет ее старше; вообще его часто осуждали, говоря, что, мол, пожилой серьезный философ, ученый не должен жить с молодой довольно хулиганского поведения девчонкой. С другой же стороны, это был * Пирожные! Пирожные! Пирожные! (фр.) — прим. ред. [19] символ изменившейся ситуации в сообществе, где могут происходить любые типы взаимодействий, о которых сам Гваттари постоянно и писал. В этом обществе премьер-министр может быть одновременно преступником и реальным борцом за экологические права граждан. Таких людей как Феликс Гваттари можно перечислить по пальцам. Этот человек не стремился ни над кем доминировать, в отношениях с ним всегда присутствовало ощущение равенства, ощущение, которое у гомо сапиенс, как и у других приматов, практически не встречается, тем более, когда существуют возрастные, языковые, поведенческие условности. В отношениях с ним всегда присутствовала определенная детская радость, наивность, непосредственность и в то же время углубленность и прозрачность взгляда. Этот просветленный и отчетливый элемент взгляда проявлялся так же, как он проявляется у детей восьми-девяти месяцев. [20] Феликс Гваттари в беседе с Брахой Лихтенберг Эттингер ТРАНСФЕР ИЛИ ТО, ЧТО ОТ НЕГО ОСТАЛОСЬ или АНАЛИТИК ЖИВЕТ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ В 1986-88 я перевела несколько работ Лакана на иврит. Перевод этот сопровождался рядом статей, в которых я описывала развитие его теории, а также те перемены, которые теория эта провоцирует в психоаналитических кругах, начиная с 1950-х гг. Эта серия статей завершалась беседами о состоянии психоанализа во Франции "после Лакана", которые я взяла у нескольких аналитиков. Среди них был и Феликс. Особенно меня интересовало место трансфера на парижской аналитической сцене, которая отличается особой чувствительностью и особой жесткостью, если не сказать жестокостью. На этой теме я и сосредоточила внимание. Редакция израильского журнала по психотерапии, в котором появилась эта серия статей и переводов в 1989-90 гг.,1 решила, что беседу с Гваттари лучше не публиковать. Тогда я предложила ее журналу ассоциации лаканистов Израиля, но и те отказались. Тогда-то и появилось второе название — "Аналитик живет в постоянном страхе".2 Разговор состоялся у Феликса Гваттари в Париже, во второй половине дня 20 июня 1989 года. Б.Л.Э.: Изучая материалы семинаров Лакана, я обнаружила одно место, где ты говоришь примерно следующее: "Когда Лакан основал свою Школу и порвал с традицией психоаналитического движения, когда он сказал "я учреждаю, как всегда, один [школу, независимую от международного 1 Lichtenberg Ettinger, Bracha, Introduction a 1'etude sur les ecrits de Jacques Lacan, et la question: "Qui est analyste?", Parties I-V, dans Sihot - Dialogue, Revues israelienne de psychotherapie, Volume 3 №2, Mars 1989; 3:3, Juin 1989; 4:1, Novembre 1989; 4:2, Mars 1990; 4:3,Juin 1990. 2 Под таким названием в 1990 году в своей мастерской я сделала семь копий этого интервью на иврите. [21] психоаналитического общества...]", то совершил действие, которое легло на нас бременем, которое требует от нас своего рода возвращения к проявлению некоего ускользания от взятой им на себя ответственности. Когда Лакан окрестил нечто, берущее начало в частичном объекте, "объектом маленькой а", когда он ввел определенное обозначение, когда он признал себя отцом некой концептуальной реорганизации, то все мы оказались в трансферных отношениях с тем, что Лакан, так сказать, привел в действие в психоанализе после Фрейда. Как можно говорить после такого акта? Мне кажется, что результатом этого деяния стало своего рода торможение, которое почти все мы на себе испытываем; мы практически ничего не можем делать в сфере психоанализа, что выходило бы за рамки Лакана, что не следовало бы ему. Трудно говорить о том, чем собственно мы занимаемся в психоанализе, говорить о том узком месте, которое оставил нам Лакан..." Мелман на это тебе возразил: "Мне трудно понять, о чем ты говоришь. Я не вижу никакой проблемы, не вижу даже тени проблемы". На что ты сказал: "Это будет тянуться годами". Мне кажется, что с тех пор мысли о ситуации трансфера тебя не оставляют, что ты уже созрел для своего рода отхода от Лакана. Много воды утекло с той поры, и мне не хочется возвращать тебя к 1968 году, но не мог бы ты прояснить один вопрос: можно ли тебя сегодня хоть в какой-то мере считать "лаканистом"? Что же осталось от трансфера? [22] Ф.Г.: Сегодня я себя лаканистом не считаю. На самом деле, с тех пор много воды утекло, можно сказать, целая жизнь. Сегодня я себя располагаю совсем в другом месте. Тип дискурса, лакановский, юнгианский или адлерианский, не так уже важен. Все годится, все приемлемо. Я называю это положение "дискурсом референтов, производящих субъективность". Меня же интересует прояснение критериев, позволяющих преодолеть различия между различными типами дискурса. Я не верю в существование субъективности без продуктивности рассказа-текста. Содержание текста не самое важное. Главное - его повторение. Так повторяется семейный роман, например. Так действует повторение в фантазме. Более того, я не провожу различия между дискурсом Лакана, его практикой и социальными параметрами. Бессознательное, будь то в формулировке Лакана, или в любой другой интерпретации — не что иное, как модель производства субъективности, которая создается в определенном контексте и для определенного контекста, и которая будет измеряться в соответствие с его экзистенциальной функцией. На мой взгляд, в производстве субъективности соучаствуют индивидуальные, коллективные и институциональные инстанции. Б.Л.Э.: Как ты представляешь себе те эмоциональные состояния, которые обычно интерпретируются как моменты переноса, в частности, когда это перенос негативный, с точки зрения той оси, которая балансирует между теорией влечений и теорией объектных отношений. Ты ведь оказался столь чувствительным к последствиям негативного трансфера, к торможению, которое он за собой повлек. Ф.Г.: В своей работе я не концентрируюсь на переносе; моя задача заключается в том, чтобы помочь пациенту развить средства выражения и процессы субъективации, которые не могут проявиться без аналитической процедуры. Трансфер зачастую не что иное, как оппозиция анализу, чем лаканисты и манипулируют. Чувства пациента это результат процесса; они, на мой взгляд, являют собой знаки того, что происходит в самом аналитическом процессе, который не отмечен примитивной либидинальностью. Ля Борд* — это место, которое предлагает множество различных способов, позволяющих подойти к субъективации, не прибегая к созданию классической ситуации переноса. Если вернуться к твоему вопросу "что же осталось от трансфера", то можно сказать, что имеют место инстанции трансфера; и они имеют такое же отношение к частям тела, как и безличностные машины. Однако инстанции трансфера затрагивают как пациента, так и сооб* Название клиники, в которой работал Феликс Гваттари. — прим. перев. [23] щество заботящихся о нем лиц, затрагивает различные виды деятельности, в которых пациент себя проявляет, которые мы делаем возможными, которые мы поощряем, и которые участвуют в производстве различных очагов субъективации. Когда возникает так называмый "негативный перенос", когда появляется сопротивление, когда процесс не идет, тогда, на мой взгляд, можно анализ прервать. Я не согласен с тем мифом, согласно которому с появлением "негативного переноса" анализ продолжается как обычно. Аналитики просто утешают себя этим мифом. Речь идет о производстве новых очагов, а не об обнаружении ранее существовавших содержаний; я понимаю свою активную роль, а также роль других личностных и общественных элементов как каталитическую. Либо моя работа эффективна, и я — хороший катализатор, либо нет, и тогда процесс должен быть прерван. Б.Л.Э.: Но ведь аналитик, работая на определенной территории, подвергается непредвиденному риску. Нечто непосредственно связанное с его активным присутствием, с тем, что он не удаляет себя из окружения, может препятствовать работе с отдельными пациентами. Ф.Г.: В любом случае, даже в случае использования других видов терапии, если анализ не получается в течение шести месяцев, его следует прекратить. Это патогенный процесс. Б.Л.Э.: Твоя критика трансфера движется в нескольких направлениях. Прежде всего, ты его разлагаешь на несколько составных, направленных к индивидуальным, социальным, машинным и даже космическим инстанциям. Более того, ты не только распыляешь его между несколькими источниками, но еще и переносишь расположение его истоков в настоящее, то есть не рассматриваешь трансфер через возврат к прошлому, так что от этого понятия практически ничего не остается из того, что нам известно со времен Фрейда. Попытаемся упростить ситуацию, изолировать ее, сведя к отношениям доктор-пациент. С одной стороны, ты воздерживаешься от "лакановского" трансфера, который ты определил как манипулятивный, а, с другой, — по всякому отказываешься принять негативный трансфер, который длится бесконечно. Что ты делаешь на практике, когда оказываешься перед лицом пациента? Ф.Г.: В клинике Ля Борд у меня обширная практика, и я вовлечен в деятельность пациентов на социальном уровне. Стало быть, трудно говорить об изолированном трансфере. "Лицом к лицу" имеет место в лоне сложной институциональной системы. У меня ушло немало времени на то, чтобы освободиться от аналитического коллективного сверх-я. Аналитики живут в постоянном страхе. Они не дистанцируются от теоретических рассуждений и практики, они не берут на себя смелость быть инициативными. [24] Б.Л.Э. Иначе говоря, твоя вовлеченность в аналитический процесс означает, что не только пациент должен "быть продуктивным", но и ты обязан обновляться, обязан быть творческим. В тех трансферных отношениях, которые я называю матричными,3 я могу заметить в происходя - 3 Понятие матрица, для меня, связано с латинским matrix, означающим матку. Этим понятием мне бы хотелось не только указать на античный источник феминного/женского, но и предложить некий новый смысл. В нем звучит внутриутробное существование и фантазм материнского живота (Фрейд); оно указывает на реальные особенности материнского тела, на то, что матка находится внутри тела и имеет выход вовне, направлена к "пограничному пространству" совместного проявления активного и пассивного. Матрица это не символ некоего изначального пассивного приятия, невидимого, умопостигаемого, на котором запечатлены следы первичных, изначальных процессов, но понятие указывающее на пограничное пространство встречи я с неизвестным не-я, которые не сплавляются воедино, не отрицают друг друга, но совместно появляются. Это понятие обретает смысловые оттенки на уровне расширенною символического, которое включает в себя процессы субсимволического взаимодействия. Внутриутробная последующая встреча представляет, отражает и придает смысл реалиям внутренним и внешним, связанным с не-эдиповыми сексуальными различиями, проглядывающим сквозь женскую призму по ту сторону фаллоса. Оно может служить моделью разделяемого измерения субъективности. Cf. Lichtenberg Etdnger, В., "Matrix and Metramorphosis" (1991), Differences. 3:4, Indiana Univ.Press, 1992; "The becoming threshold ofmatrixial borderlines" (1992), in Traveller's Tales, Routledge, 1994. [25] щих во мне самой как в аналитике переменах, определенный прогресс лечения в матричном углу пространства взаимоотношений с пациентом, даже если у него какие-то проблемы. Порой возникает такая временная ситуация, когда у пациента прогресс вообще не наблюдается, и все оборачивается против меня; но все же, не смотря ни на что, есть продуктивное развитие, есть перемены, ведь мутации, которые происходят с каждым, кто задействован в матричных отношениях (метраморфозы4), в отношениях одного участника с другим, в отношениях в пограничном пространстве между ними, не обязательно носят синхронный характер. Ф.Г.: Да, но тогда для тебя процесс не представляется ни блокированным состоянием, ни выражением спроецированного на тебя индивидуального либидинального влечения. И если ты продолжаешь двигаться дальше, то не интерпретируешь происходящее как "сопротивление", не пользуешься такого рода истолкованием ни для оправдания отсутствия развития в ситуации, ни для объяснения продолжающейся враждебности, ни для отрицания чего-то там еще. Разве нет? Учитывая то, что ты предполагаешь производство и рост общей субъективной страты встречи, исходя из разделяемой [ее участниками] феминной/пренатальной страты в модели, опирающейся на гипотезу, согласно которой эта страта избегает эдиповой фаллократии, само понятие трансфера должно претерпевать трансформации. Разве не так? Б.Л.Э.: На самом деле, в переходе от фаллической страты к страте матричной, даже покой и расстройство различны в своей креативности. Так же, как и в живописи. Картина, как и сам творческий процесс, — не объект. Расстройство как творчество, как рассогласованное движение волн... Ф.Г.: И покой. На картине можно видеть, что частичный машинный объект участвует в накоплении сил для создания субъективности. Тем более что ты не нагромождаешь объекты ради некой "инсталляции", на полотне все смешивается, там, по ту сторону всякой интенциональности накапливаются силы. Здесь лишь частичный объект человека возбужден машинным частичным объектом, который появляется, так сказать, чтобы его обеспокоить, и именно вмеша- 4 Матрица это место раанонапрввленных процессов взаимного обмена и взаимотрансформации, которые я называю метаморфозом. В своей функции перехода к символическому метаморфоз не являет собой пути мужской эдиповой кастрации. Метаморфоз — творческий принцип. Отношения-без-отношений с другим, основанные на установлении расстояния-в-близости, осмысляющие и производящие дифференциацию в совместном появлении, сопровождают матричные аффекты, разделенные и проникающие исходя из минимального удовольствия/неудовольствия, открывая пространство внутреннего/внешнего. Эти отношения вызывают инстанции совместного возникновения смысла. Сf. Lichtenberg Ettinger, В., "Metramorphic borderlinks and matrixial borderspace". In: Rethinking Borders (Ed. J. Welchman), Macmillan, 1993; The Matrixial Gaze, Occasional Paper, Debt. Of Fine Arts, Leeds University. [26] тельство или расстройство само по себе становится "ритурнелем" и самой тишиной. На твоей картине, когда возникает исторический частичный объект в ходе процесса рассуждения о человекеиндивиде, или когда телесный частичный объект возникает в ходе процесса, которым занимается животный частичный объект, эти возникновения одновременно потрясают и производят эстетический опыт, становятся ритурнелем. Не смешивая искусство и терапию, анти-эдиповский шизоанализ работает с той комплексностью, которой фрейдовский анализ не давал никакого объяснения, и, значит, он ведет к иному эстетическому анализу. Ибо он не ограничивается ни индивидом, ни человеком. Размышления о трансфере должны принимать во внимание этологические элементы, бесплотные элементы, становление животным и становление растением, не-человеческие машины, машины культурной субъективации, такие, например, как масс-медиа, машины экологии окружающей среды. Все это имеет место в связи с тем, что бессознательные фантазмы связываются с машинами любого рода, включая и те, что появляются из прошлого. Так что трансфер относится к процессуальной комплексности, к тем возможностям, которые не прекращают развиваться. Акцент не ставится исключительно на прошлом. По ходу своей работы аналитик вновь находит себя, вновь придумывает себя, принимает на себя риск. Вместо интерпретации трансфера аналитик опирается на производство того, что может обнаружиться как новый полифонический очаг субъективности, как нечто такое, что нельзя заранее себе представить. Аналитик обращается к потоку настоящего и к будущему. Он ставит ударение на экзистенциальных территориях, а не на символическом лингвистическом означающем. Возвращаясь к вопросу, я бы сказал, что аналитик может потерпеть неудачу, но основанные на анализе предсуществующих структур "негативный трансфер" и "сопротивление" служат в первую очередь спасению чести аналитика. Б.Л.Э.: Кроме того, положение дел во Франции усугубляется развитием теорий, опирающихся на структурализм, на замыкающихся в пределах лингвистического означающих; эти теории отказываются от рассмотрения внедискурсивных реакций и связанных с ними эмоциональных троп. Выражаясь твоим языком, они отбрасывают в сторону невербальные силы, трассирующие экзистенциальные территории и каналы "пафоса". Ф.Г.: Действительно, лингвистическое означающее не охватывает всю совокупность компонентов, направленных на производство субъективности. Говоря о предмете анализа, мне хотелось бы в целом отметить сдвиг с парадигмы научной к парадигме эстетической. По-моему, молодежь, которая пытается сегодня применить лакановские концепции на практике, просто безумна. Это абсурд. Это просто невозможно. С другой стороны, Франсуаз Дольто, например, умела работать, не задумываясь о терапевтической теории. И у нее это прекрасно получалось. [27] Б.Л.Э.: Что ты думаешь о разделении психоаналитиков во Франции на множество различных групп, на терапевтов и пациентов? Эта специфическая модель порождает новую ситуацию, которую можно почувствовать даже за пределами Франции. Ф.Г.: Уже во времена "Фрейдовской Школы" я говорил, что нужно сделать раскол ежегодным принципом. В "Фрейдовской Школе" у каждого была своя территория. Существовало огромное число различий и огромное число открытий. Однако к концу жизни Лакан, будучи старым и больным, перестал контролировать свои действия и мысли. ЖакАлен Миллер, занявшийся его рукописями, возжелал для себя всей полноты власти, захотел распоряжаться всем на свете. Раскол же — это средство обнаружения различий и средство для новых открытий. Более того, я даже думаю, что нужно стремиться к еще большей открытости, которая бы отличалась даже от той, что обнаруживается в моделях различных маленьких групп. Анализ должен выходить за свои пределы, становиться процессом, который будет задавать вопросы всем социальным структурам, семье, школе, сообществу. Если анализ это процесс производства субъективности, тогда мне хотелось бы, чтобы однажды все учительницы и директора стали аналитиками. Б.Л.Э.: В чем же тогда будет специфика анализа? Ф.Г.: Его смысл может заключаться в процессуальном направлении, в процессуальной открытости, в ритурнеле, понимаемом ни как означение, ни как вечно окаменевающее повторение, ни как фиксация, но как экзистенциальное само-утверждение. Б.Л.Э.: В твоем теоретическом продвижении нужно принимать во внимание виртуальные линии, которые, исходя из создания значения, ведут к будущему? Ф.Г.: Да. Ритурнель удерживает вместе частичные составляющие, не уничтожая при этом их разнородность. И среди этих составляющих виртуальные линии, рожденные самим событием, и обнаруживаемые в этот самый момент, момент рождения, как будто они уже были здесь; сам момент постигается как очаг темпорализации и мутации. Ритурнель придает тем самым новый смысл терапевтическому толкованию. [28] Перевод с французского Виктора Мазина [29] Виктор Тупицын "ФАРФОРОВАЯ СЛОНОМАТКА" 1. Веселие на Руси есть pity Летом 1975 года мы жили в Нью-Йорке на углу Ирвинг Плэйс и 19-й улицы, в четырехэтажном особняке престарелого психоаналитика, уехавшего на несколько месяцев в Италию. Моя жена Рита была беременна. Произошло это как-то случайно, ненароком, вскользь. В положении она находилась не более двух месяцев, но (тем не менее) называла себя слономаткой и питалась крупным белым виноградом, гармонировавшим с ее состоянием. В начале июля из Парижа приехал приятель с любовницей — членом ЦК компартии Франции. Они попросили приюта, и мы поселили их на втором этаже. Вручая им копию ключей, Рита повторила слова психоаналитика, произнесенные им в момент отъезда. "Делайте здесь, что хотите", — говорил он, садясь в такси, - "но только никогда не занимайтесь любовью в моем кабинете. Для меня это место встречи с либидо. А либидо и половой акт не совсем, знаете ли, одно и то же. Как фаллос и пенис"... В течение нескольких дней друг из Парижа и его дама пребывали в непрерывном соитии, напоминая два космических корабля в момент стыковки. В этой позиции они мигрировали с этажа на этаж, издавая экстатические вопли, приглушаемые только плеском воды в ванных комнатах, где они — изнемогая от усталости — занимались рекреационным сексом. Но на седьмые сутки, когда из-за переизбытка слизистых, слюнных и прочих биологических выделений над домом нависла угроза экологической катастрофы, они предательски вторглись в запретный кабинет. При выходе оттуда гостям был предложен выбор: 1) раз и навсегда прекратить посещения табуированной зоны; 2) вернуться в Париж. Их выбор пал на последний вариант. И понятно почему. Соблазн кабинета и его аура, инспирирующая инвестицию сексуальных фантазий — неподвластны контролю: означающее есть эрогенная зона означаемого. Хозяин дома оказался и прав, и неправ одновременно. Прав в том [30] смысле, что кабинет психоаналитика — это место свиданий с либидо. Неправ, поскольку в тех же терминах можно определить и "хронотоп" соития, сексо-поступок, как сказал бы Бахтин. Припоминается случай, произошедший со мной в Китае в конце 50-х годов. Учась в 8-м классе, я запустил химию и плохо написал контрольную работу. Чтобы избежать неприятностей, нужно было ночью проникнуть в пустую школу и исправить ошибки в еще непроверенной учителем тетради. Поздоровавшись с китайским сторожем ("Нихао, тунжи" — здравствуйте, товарищ), я поднялся наверх. И хотя дверь химического кабинета оказалась незапертой, возле нее топталась незнакомая мне школьница лет 15-и. Более часа ушло на маневры, в результате чего стало понятно, что наши цели совпадают. Моя сообщница призналась, что отвечая на вопрос — "какое обычное состояние серной кислоты?", она написала "микроскопическое", и теперь не совсем уверена в правильности своего ответа. Найти нужные тетради не составило труда. Но тут в корридоре послышались шаги. Мы ретировались под стол, заставленный колбами и спиртовками. В кабинет тяжелым шагом вошел учитель химии Александр Иванович. "Веселие на Руси есть пита", — промычал химик и, взгромоздившись на лестницу, начал искать спирт на полках шкафов. Александр Иванович был явно навеселе. То ли из-за огромного роста, то ли по другим необъяснимым причинам его взор ни разу не остановился на двух подростках, съежившихся под столом. От испуга девочка прижалась ко мне так близко, что у меня перехватило дыхание. Забравшись к ней под трусы, я углубил фалангу среднего пальца в девочкино влагалище. Она не шелохнулась. Но как только учитель вышел в туалет, девочка немедленно отдернула мою руку. "Если ты еще раз посмеешь это сделать, я закричу на всю школу", — прошипела моя соседка. "Ну и получишь двойку... Давай лучше я тебе стихи посвящу?", — предложил я извиняющимся голосом. "Ну что ж, посвисти", — ответила она. "Брожу ли я в бокал икая, младенца ль милого ласкаю", — произнес я, коверкая пушкинские строки. "Кого это ты называешь младенцем?" — возмутилась девочка. "Подростка ль милого ласкаю," — поправился я. "Сам ты подросток", — на этой ее реплике наши речевые отношения прервались. Но как только Александр Иванович вернулся в химический кабинет, я вернулся в девочкин. Приложившись еще раз к алкоголю, учитель погасил свет и отправился восвояси. Моя жертва тут же выпорхнула из-под стола и исчезла за дверью. Потом... потом я несколько раз встречал ее на переменах, но она всякий раз стрелой проносилась мимо, ни разу не остановив на мне взгляда. Через два месяца, в день нашего отъезда из Пекина в Москву я обнаружил под дверью пакет, а в нем — крошечного фарфорового слоника и записку: "Никогда больше этого не делай. L.L.O."1 В дальнейшем я, действительно, ничего подобного не делал, точнее — не делал без спроса. Что касается фарфорового слоника, то этот отпрыск фаланги моего среднего пальца разросся до размеров гигантской слонихи, прославившейся на весь мир своим пристрастием к рисованию. С 1 Наличие трех букв, составляющих инициалы L.L.O., объясняется тем, что родителями девочки были испанцы, бежавшие от Франко в Россию и потом посланные в Китай. Т.к. в сочетании L.L.O. второе (т.е. повторное) L прочитывается как ibid., то в результате получается слово LIBIDO. [31] ней мне еще предстоит встреча в финале (т.е. в последней части повествования), а пока... хотелось бы отдать должное предмету ее страсти — рисунку. 2. Рисунок как означающее. На рисунок можно смотреть с двух различных позиций. Достаточно, скажем, вспомнить свойственную детям страсть к раскрашиванию, т.е. заполнению уже готовой конфигурации цветовым объемом. В результате — цветовой или черно-белый плазмодий заключается в Бастилию контура, в смирительную рубашку ограничивающей его линии. Речь идет о воспитательном, дисциплинарном акте, в результате которого Enfant Terrible художественного видения мира обучается языку послушания: нерепрезентативное идет на компромисс с репрезентацией, а "оптическое бессознательное" корумпируется ментальным зрением. Венцом подобного обуздания является идентичность под названием рисунок. Изложенная точка зрения базируется на презумпции априорности красочного хаосмоса, чье становление" отождествляется с процессом рисования, кульминацию которого можно (уподобляясь Хайдеггеру, завороженному ботинками Ван Гога) анонсировать как "бытие". Но и оно в свою очередь обладает изначальной эйдетикой, тем набором репрезентаций, повиновение которым придает художественному жесту аффирмативный статус. То, что в данном случае подлежит аффирмации, это прежде всего осознание красочной стихией своего "гражданства" в пределах контура, воспринимаемого как феноменологическое "epokhe", посредством которого - если верить Гуссер- [32] лю — расчищается путь к "эссенциям". Адорно, критиковавший и Гуссерля, и Хайдеггера, считал, что полномочия идентитарного мышления распространяются на определения, ограничения, иерархизацию и другие способы размежевания между идентичностью и ее Другим. В этом смысле рисунок — порождение политики идентичности, которая — согласно Адорно — "универсальный механизм принуждения".2 К рисунку возможно и другое отношение, базирующееся на вере в самоценность буйства красок, не признающих авторитета лимитирующей геометрии вопреки ее амбициям восходить непосредственно к референтной эйдетике. В таких случаях красочная масса становится олицетворением телесности и автохтонности ("rhizome"). О ней приличествует рассуждать в терминах дионисийской (а не аполлонической эстетики), тем более, что по меткому замечанию Терри Иглтона — "эстетика возникла как дискурс тела".3 Как следствие — различия между контуром и его наполнением перепрочитываются в контексте взаимоотношений между сознательным и бессознательным (с учетом репрессии, которой Id подвергается со стороны Super Ego). Но еще в большей степени применим здесь анти-иерархический ревизионизм Делеза и Гваттари, именуемый шизоанализом. Следуя им, а также (отчасти) Лиотару, можно говорить о контуре как об "эдиповой" западне, попадая в которую, потоки желания подвергаются параноидальной фиксации, табуированию или — что то же самое — "эдипизации". В случаях, когда цветовая масса перестает регулироваться логикой различии и иерархии, она становится шизотелом". И хотя воля к репрезентации в таких ситуациях ослабевает, не следует думать, будто "нерепрезентативное" искусство соприродно шизоанализу. Шизоидное "тело-без-органов" не вооружено диоптрикой негаций и оппозиций и, следовательно, не видит своего отражения в диалектическом зеркале. Прямо противоположными свойствами обладает абстрактный экспрессионизм, являющийся антитезой контурного рисования и — по этой причине4 — утрачивающий возможность считаться шизоидной парадигмой. Что касается живописи Сезанна, то и ее интенции достаточно далеки от шизо-оптики. Сезаннизм решает проблему когнитивной адеквации внутренними средствами живописи: телесность краски берет на себя авторепрессивную функцию. Пространственная иерархия создается посредством мазков. И хотя контур как таковой отсутствует, идентичность насаждается жандармерией зеленых или синих тонов. Было бы ошибкой полагать, будто шизоидное рисование — "выход из положения". Шизооптика — такой же "позиционный" дискурс, как и все, что ей противоречит. На самом деле, — и контур, и наполняющая его масса —означающие (signifiers), оснащенные арсеналом мифологических клише и преисполненные честолюбивых амбиций.5 В каких-то случаях первому из 2 Theodor W. Adomo. Negative Dialectics. Continuum, New York, 1987, p.147 3 Terry Eagleton. Ideology of the Aesthetic. London: Basil Blackwell, 1990, p.l3. Шизoтeлo не внемлет ни тезам, ни антитезам. 5 Это особенно заметно на примере работ, выполненных в смешанной технике, включая коллаж и фотомонтаж. 4 [33] этих двух означающих вменяется статус "дополнительности" (Деррида), в других — та же участь постигает второе означающее. Выбор между ними — проблема перевода (translation). Оба они в равной степени вовлечены в процесс взаимного конвертирования и попеременного превращения из объекта репрессии в ее субъект. Не исключено, что соперничество мотивирующих рисунок идеологем — именно то, за чем с таким азартом наблюдает наше оптическое бессознательное. Рисунок — орнамент, составленный из фигур философского (метафизического) дискурса, подталкивающего "лексический артефакт" в направлении фундирующей его идеи. В то время, как для Соссюра слова ~ знаки, различия между которыми конституируют их смысл, Хайдеггер усматривает в "лексических артефактах" скрытые эссенции, характерные для "базисных слов" — таких как красота, Бытие, искусство, знание, история и свобода. Во "Введении в метафизику" звучит призыв к "реставрации сил", погребенных под различиями. Несогласие Хайдеггера с Гуссерлем касается, в основном, того — как осуществить эту реставрацию. Но попытаемся заглянуть туда, где покоятся примиряющие, позитивные, симбиотические универсалии, над которыми громоздятся "гнилые зубы" соссюровской негативности. Красота (одно из хайдеггеровских "базисных слов") предусматривает множество переводческих прочтений, — "лексических артефактов". Улыбка — один из них. Но что происходит в момент улыбки? Рот приоткрывается, обнажая (желательно ровный) ряд зубов. Зубы же — часть скелета; следовательно, полость рта — единственный регион тела, где "мертвое" беспрепятственно демонстрирует себя живому, деконспирируется... Обычно — лицезрение открытого перелома руки или ноги вызывает дискомфорт. С таким же замиранием сердца взираем мы и на кости истлевших предков, на их черепа и фаланги пальцев. Но при этом улыбка, обнажающая то, что с каждым из нас рано или поздно произойдет, а именно — смерть, воспринимается не как угроза или предостережение (что было бы естественно), а как нечто приятное, обнадеживающее. Словом, улыбка — пир во время чумы. Она ~ эсхатологический ракурс бытия: оскал смерти и — одновремено — "гений чистой красоты". "Гению приличествует ироническая полуулыбка", — писал Гегель. Пример с зубами наводит на подозрение, что хайдеггеровская "сокровенная архаика", соединяющая воедино соссюровские дифференции, — ни что иное, как слерть. Но если повременить с Хайдеггером и заглянуть в "глаза" знаку, то окажется, что его "эпохальное бытие" зиждется на небытии, на костях или святых мощах упраздненного "архаического" содержания, которое становится формой (означающим) в процессе "лексической артефикации". З.Шизо-секс. Известно, что такие "настоящие" художники как Сезанн, Пикассо и Поллок испытывали неприязнь к интеллектуальной рефлексии. Те же, кого с некоторыми оговорками принято считать интеллектуалами, довольствовались не самими теориями, а специально адаптированным [34] для них теоретическим товаром (пример — дзен-буддизм в интерпретации Судзуки, инспирировавший Кейджа и участников движения Флуксус). Поэтому, если следовать Сезанну, Пикассо и Поллоку, для которых природное было антитезой ментального, то в результате еще одного, решительного шага назад, к эссенциям — референтами живописного пространства окажутся не классики мирового искусства, а четвероногие, пернатые, чешуекрылые, земноводные и пресмыкающиеся обитатели зоопарка или природного бестиария. В этом контексте рисующая обезьяна, ослиный хвост и хобот слона - отнюдь не карикатурные образы, предназначенные для "опускания" авангардного искусства. Их смеховая проекция не исчерпывает ситуацию в том смысле, что истинными протагонистами референтного пространства живописи были и остаются "волшебники земли",6 мастера автохтонного художественного акта - обезьяна, осел и слон. Фокусируясь на этом последнем, расскажу историю, произошедшую не так давно в Африке во время съемок документального фильма. Съемочная группа, в которую входил один из героев книги Э.Лимонова "Это я, Эдичка" (в прошлом - плэй бой, а ныне доверенное лицо претендента на царский престол), неожиданно подверглась обстрелу с вертолетов. Все бросились в траву, расползлись по кустам; по приказу погонщиков залегли и слоны, груженые аппаратурой и запасами продовольствия. От страха у "доверенного лица" возникла эрекция, которую он тут же употребил в дело, совершив половой акт с первой подвернувшейся под руку (лежавшей рядом) слонихой. Ее реакция оказалась 6 "Волшебники Земли" — название одной из выставок в Музее Помпиду в Париже. [35] замедленной и выразилась двумя годами позднее в создании абстрактноэкпрессионистскои картины, написанной хоботом, который она окунала в ведра с красками. (Теперь с ней в соавторстве работают художники Комар и Меламид). Что касается "доверенного лица", то по возвращении из путешествия у него была обнаружив неизвестная врачам венерическая болезнь, а также гепатит — намек на то, что отношения со слономаткой осуществлялись не какими-то отдельными органами, не фалангой среднего пальца,7 не генитально и не орально, а всем телом, "телом-без-органов". Шизо-секс — вот как это можно назвать! История фарфоровой слономатки и другие, смежные с ней сюжеты не претендуют на полную опись имущества, — на инвентаризацию "лексических артефактов" в доме свидании с либидо. И это с учетом того, что текст — воображаемое пространство, место над обрывом, зарезервированное для интеллектуального риска. История фарфоровой слономатки и другие, смежные с ней сюжеты не исчерпывают породившую их парадигму "кабинетности". И это с учетом того, что кабинет — воображаемое пространство, место над обрывом, зарезервированное для интеллектуального риска. Нью-Йорк / Москва, 1995/1996. 7 В англоязычных странах показать фалангу среднего пальца означает послать на хуй. [36] пропуск…. Жак Лакан СТАДИЯ ЗЕРКАЛА КАК ОБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЮ Я, какой она раскрылась нам в психоаналитическом опыте.1 Введенное мною на предыдущем нашем конгрессе тринадцать лет назад понятие стадии зеркала, в дальнейшем более или менее вошедшее в обиход французской группы, представляется мне достойным быть лишний раз предложенным вашему вниманию: сегодня — в особенной связи со светом, который оно проливает на функцию я в рамках предоставляемого о нем психоанализом опыта. Опыта, о котором надо сказать, что он ставит нас в оппозицию любой философии, исходящей прямо из Cogito. Быть может, среди вас кто-либо вспомнит тот аспект поведения, из которого мы исходим, освещаемый следующим фактом сравнительной психологии: человеческий детеныш в том возрасте, когда он на короткое, но все-таки еще заметное время, превзойден шимпанзе в орудийных способностях мышления, уже узнает, однако, в зеркале как таковой свой образ. Узнавание, о котором сигнализирует иллюминационная мимика Aha-Erlebnis2, в которой для Кёлера выражается ситуационная апперцепция, существенная фаза мыслительного акта. В самом деле, этот акт, далекий от того, чтобы исчерпаться, как у обезьяны, единожды приобретенным контролем над бессодержательностью образа, тут же возобновляется у ребенка в серии жестов, в которых он в игровой форме испытывает отношение принятых на себя образом движений к его отраженному окружению и этого виртуального комплекса к удвояемой им реальности, а именно, к своему собственному телу и лицам или же объектам, которые находятся с ним бок о бок. 1 Доклад, прочитанный на XVI международном конгрессе по психоанализу в Цюрихе 17 июля 1949 г. 2 Ага-переживание; радостное переживание признания. [136] Произойти это явление может, как известно со времен Болдуина, начиная с шестимесячного возраста, и его повторение часто задерживало наше размышление в присутствии захватывающего зрелища грудного младенца перед зеркалом — он пока еще не овладел ходьбой и даже и стоячим положением, но, подхваченный человеческой или искусственной поддержкой (то, что во Франции называют trotte-bebe), превозмогает в ликовании занятости путы этой опоры, чтобы задержаться в более или менее наклонной позиции и восстановить, дабы его зафиксировать, мгновенный облик образа. Вплоть до восемнадцатимесячного возраста активность эта сохраняет для нас тот смысл, который мы ей придаем — и который в не меньшей степени выявляет вплоть до настоящего времени остающийся проблематичным либидинальный динамизм, чем онтологическую структуру человеческого мира, каковая вписывается в наши размышления о параноическом сознании. Здесь достаточно понимать стадию зеркала как некую идентификацию во всей полноте смысла, придаваемого этому термину анализом, а именно, как трансформацию, происходящую с субъектом, когда он берет на себя некий образ, — на чью предрасположенность к этому стадиальному эффекту достаточно четко указывает использование в теории старинного термина имаго.3 Ликующее приятие своего зеркального образа существом, еще погруженным в моторное бессилие и зависимость от питания, каковым на этой стадии инфанс4 является младенец, отныне в образцовой ситуации проявит, на наш взгляд, ту символическую матрицу, в которой я оседает в первоначальной форме, прежде чем объективизироваться в диалектике идентификации с другим и прежде чем язык всесторонне не воссоздаст ему функцию субъекта. Эту форму, если мы хотим заставить ее войти в знакомый регистр, стоило бы, впрочем, назвать идеальным я, в том смысле, что она будет еще и источником вторичных идентификаций, чьи функции либидинальной нормализации мы распознаем под этим термином. Но важным пунктом здесь является то, что эта форма задолго до социальной определенности располагает инстанцию эго на линии вымысла, никогда не подлежащей изменению для отдельного индивида, — или, скорее, которая лишь асимптотически воссоединится со становлением субъекта, каким 3 4 От лат. imago — изображение, образ, вид, мысленное представление. От лат. infans — дитя, ребенок; а также и безмолвный, немой, неговорящий (в том числе по младости лет). [137] бы ни был успех диалектического синтеза, посредством которого он должен растворить в качестве я свое несоответствие своей собственной реальности. Дело в том, что целокупная форма тела, посредством которой субъект опережает в мираже созревание своих возможностей, дана ему лишь как гештальт, то есть во внешности, где, без сомнения, форма эта более устанавливающая, нежели установленная, но где, помимо того, она ему является со статуарной рельефностью, которая ее выкристаллизовывает, и в симметрии, которая ее инвертирует, в противовес к завихрению движений, его, как он ощущает, оживляющих. Таким образом, этот гештальт, содержательность которого должна рассматриваться как связанная с родом и видом, хотя движущий ее стиль еще и не признан, двумя этими аспектами своего проявления символизирует ментальное постоянство я и, в то же время, предвосхищает свое отчуждающее предназначение: он еще чреват соответствиями, которые соединяют я со статуей, на которую человек проецирует себя, как и с призраками, его подавляющими, с автоматом, наконец, в котором в двойственном отношении стремится завершиться мир его изготовления. В действительности, для этих имаго, а наша привилегия — видеть, как вырисовываются в повседневном нашем опыте и в полутьме символической действительности их завуалированные лики, — зеркальный образ является, кажется, порогом видимого мира, если мы полагаемся на расположение в зеркале, представляемое в галлюцинациях и во сне имаго собственного тела, идет ли речь о его индивидуальных чертах, пусть даже недугах, или его объектантных проекциях, или если мы замечаем роль зеркального аппарата в появлении дубля, в котором о себе заявляют психические, впрочем гетерогенные, реалии. Что гештальт способен на формообразующие действия на организм, засвидетельствовано биологическим экспериментом, самим по себе столь чуждым идее психической причинности, что ему никак не решиться сформулировать ее как таковую. Он все же признает, что вызревание гонады у голубки в качестве необходимого условия требует взгляда на ей подобную особь вне зависимости от пола оной, ~ и столь достаточного, что искомое воздействие на индивидуума достигается простым помещением его в поле отражения зеркала. Так же переход в потомстве саранчи одиночной формы к экземплярам формы стадной достигается путем того, что индивидуум подвергается на некоторой стадии исключительно визуальному воздействию подобного образа, если только он оживляется движениями, не слишком отличными по стилю от движений его вида. Факты, вписывающиеся в разряд гомеоморфной идентификации, которую мог бы охватить вопрос о смысле красоты как формативной и как эрогенной. Но представленные как случаи гетероморфной идентификации случаи миметизма интересуют нас здесь лишь поскольку они ставят проблему значения пространства для живого организма, — поскольку психологические концепции кажутся не более неподходящими, чтобы пролить на это некоторый свет, чем забавные усилия, предпринимавшиеся для того, чтобы свести их к так называемому основному закону адаптации. Напомним только молнии, которые заставила засверкать мысль (тогда молодая, свежепорвавшая с социологической епархией, где она была [138] сформирована) Роже Кайуа, когда под термином легендарная психастения он включает морфологический миметизм в одержимость пространством в его дереализующем действии. Мы сами вскрыли в социальной диалектике, структурирующей как параноическое человеческой сознание, причину, которая делает его более автономным, нежели сознание животного, от поля сил желания, но также и детерминирует его в той "малости реальности", которую отвергает сюрреалистическая неудовлетворенность. И эти размышления побуждают нас признать в манифистируемом стадией зеркала присвоении пространства действие на человека, преманентное даже этой диалектике, органической недостаточности его природной реальности, если мы действительно придаем какой-то смысл термину природа. Функция стадии зеркала оказывается для нас отныне частным случаем функции имаго, каковая — установить отношение организма с его реальностью, или, как говорят, Innenwelt'a с Umwelt'oм5. Но это отношение с природой искажено у человека неким рассыханием организма в своих недрах, первичным Раздором, знаки которого обнаруживают болезни и отсутствие моторной координации послеродовых месяцев. Объективное понимание анатомической незавершенности пирамидальной системы, как и гуморально-гистерезисного последействия материнского организма, подтверждает этот взгляд, который мы формулируем как данные истинной специфической родовой преждевременности у человека. Отметим по ходу дела, что как таковые эти данные признаются эмбриологами под термином фетализация, чтобы определить превосходство так называемых высших аппаратов центральной нервной системы, и, особенно, коры головного мозга, которую психохирургическое вмешательство приводит нас к мысли представлять себе как внутриорганическое зеркало. Это развитие переживается как временная диалектика, решительно проецирующая формирование индивидуума на историю: стадия зеркала есть драма, внутренний посыл которой стремительно развивается от недостаточности к опережению — и которая для субъекта, пойманного на наживку пространственной идентификации, измышляет фантазмы, постепенно переходящие от раздробленного образа тела к форме, каковую мы назовем ортопедической для его целостности, — и, наконец, к водруженным на себя доспехам некой отчуждающей идентичности, которая отметит своей жесткой структурой все его умственное развитие. Так разрыв круга от Innewelt'a к Umwelt'y порождает неразрешимую квадратуру инвентаризации эго. Это раздробленное тело, которое я в качестве термина допускаю таким образом в нашу систему теоретических отсылок, регулярно является в снах, когда аналитический импульс соприкасается с некоторым уровнем агрессивной дезинтеграции индивидуума. Оно появляется тогда в форме разъятых членов и экзоскопически представленных органов, которые окрыляются и вооружаются для внутренних преследований, навсегда запечатленных в живописи визионером 5 Внутреннего и внешнего мира (нем.) [139] Иеронимом Босхом на их подъеме в пятнадцатом веке в воображаемый зенит современного человека. Но эта форма осязаемо проявляет себя с органической точки зрения в направлении охрупчивания, определяющем фантазматическую анатомию, явную в шизоидных или спазмодических симптомах истерии. Коррелятивно формирование я символизируется в сновидениях укрепленным лагерем, и даже стадионом, — распределяющим от внутренней арены до внешней своей ограды, до своего окаймления из строительного мусора и болот, два противоположных поля борьбы, где субъект запутывается в поисках надменного и далекого внутреннего замка, форма которого (подчас встроенная в тот же сценарий) захватывающим образом символизирует оно. И точно так же, уже с ментальной точки зрения, найдем мы здесь реализованными те структуры оборонительных укреплений, метаформа которых возникает спонтанно и как выход самих симптомов субъекта, чтобы указать на механизмы инверсии, изоляции, удвоения, аннулирования, перемещения — навязчивого невроза. Но построенные только на этих субъективных данных, сколь бы мы их ни раскрепощали от условий опыта, которые заставляют нас принять их через посредство языковой техники, наши теоретические попытки остаются уязвимыми для упрека в том, что они проецируются в немыслимое некого абсолютного субъекта: вот почему мы искали в основанной здесь на поддержке объективных данных гипотезе направляющую решетку метода символической редукции. Она устанавливает среди защит эго генетический порядок, который отвечает сформулированному Анной Фрейд в первой части великого ее труда обещанию и относит (вопреки часто выражаемому предубеждению) истерическое торможение и его повторы к стадии более архаической, чем навязчивую инверсию и ее изолирующие процессы, а этих последних — к предваряющим параноическое отчуждение, которое датируется виражом от зеркального я к я социальному. Тот момент, когда завершается стадия зеркала, через идентификацию с имаго подобного и драму первоначальной ревности (столь хорошо подчеркнутую школой Шарлотты Бюлер в фактах детского транзитивизма) кладет начало диалектике, отныне связывающей я с социально разработанными ситуациями. Именно этот момент и заставляет решительно опрокинуть все человеческое знание в опосредованность желанием другого, устанавливает его объекты в абстрактной эквивалентности через [140] соперничество другого, и делает из я тот аппарат, для которого любой позыв инстинктов будет опасностью, даже если он и отвечает естественному созреванию, — причем сама нормализация этого созревания отныне зависит у человека от культурного посредника: как случается с сексуальным объектом в комплексе Эдипа. Термин и понятие начального нарциссизма, которыми доктрина обозначает свойственное этому моменту либидинальное вложение, в свете нашей концепции вскрывает у своих изобретателей глубочайшее понимание латентностей семантики. Но она освещает также динамическую оппозицию между этим либидо и либидо сексуальным, которую они пытались определить, когда ссылались на инстинкты разрушения и даже смерти, чтобы объяснить очевидную связь нарциссического либидо с отчуждающей функцией я, с агрессивностью, которая при этом высвобождается при любом, пусть даже и самой самаритянской помощи, отношении к другому. Дело в том, что они коснулись той экзистенциальной негативности, реальность которой столь живо выдвинута современной философией бытия и ничто. Но эта философия ухватила ее, к сожалению, лишь в пределах самодостаточности сознания, которое, чтобы вписываться в свои посылки, приковывает к определяющим эго недооценкам иллюзию автономии, которой она и доверяется. Игра разума, которая, чтобы питаться главным образом заимствованиями из аналитического опыта, достигает кульминации в претензии на утверждение экзистенциального психоанализа. В конце исторической затеи общества — больше не признавать за собой иных функций, кроме утилитарных, и в тревоге индивидуума перед концентрационной формой социальной связи, возникновение которой, кажется, вознаграждает это усилие, экзистенциализм осуждает себя на оправдание тех субъективных тупиков, каковые и в самом деле отсюда проистекают: свободы, которая нигде не утверждается так аутентично, как среди тюремных стен, требования ангажированности, в котором выражается бессилие чистого сознания превозмочь какую-либо ситуацию, войяристкосадисткой идеализации сексуальных отношений, личности, каковая реализуется только в самоубийстве; сознания другого, которое удовлетворяется лишь гегелевским убийством. Весь наш опыт восстает против этих утверждений, постольку поскольку он не дает нам принять эго в качестве центрированного на системе восприятия-сознания, в качестве организованного принципом реальности", в котором формулирует себя наиболее противоречащее диалектике сознания сциентистское предубеждение, — дабы указать нам, что исходить надо из функции незнания, характеризующей его во всех структурах, столь сильно изложенных Анной Фрейд: ибо если Vemeinung6 представляет его явную форму, воздействия его остаются по большей части скрытыми, пока не будут освещены неким отраженным светом в плоскости неизбежности, где проявляется оно. Так понимается та свойственная образованию я инерция, в которой можно видеть самое расширительное определение невроза, — как и присвоение субъекта ситуацией дает самую 6 Отрицание (нем.) [141] общую формулу безумия, и того, что ютится в стенах лечебниц, и того, что оглушает землю своим шумом и яростью. Муки невроза и психоза суть для нас школа душевных страстей, как коромысло психоаналитических весов, дающее нам, когда мы исчисляем наклон их угрозы целым общностям, указание к смягчению городских страстей. В этой точке стыка природы с культурой, упрямо прощупываемой антропологией наших дней, только психоанализ признал узел воображаемого рабства, который любовь должна всегда вновь развязывать или разрубать. Для такого дела альтруистическое чувство ничего не сулит нам, насквозь проницающим агрессивность, которая лежит в основе филантропической, идеалистической, педагогической и даже реформаторской деятельности. В надеждах, которые мы сберегаем от субъекта к субъекту, психоанализ может сопровождать пациента до самого экстатического предела "Вот это ты", где ему раскрывается шифр его смертной судьбы, но не единственно в нашей власти практиков подвести его к тому моменту, где начинается истинное путешествие. Перевод с французского Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je (J.Lacan. Ecrits I. Ed. du Seuil. 1966. pp.89-97) Арнаут Скард — Лапидуса. [142] Ольга Суслова ВВЕДЕНИЕ В ЧТЕНИЕ ЛАКАНА: "СТАДИЯ ЗЕРКАЛА" история создания История создания "Стадии зеркала" имеет свою интригу. Ее узел завяжется в 1936 году, на 14 Международном Психоаналитическом Конгрессе, где Лакан предпримет первую попытку представить вниманию психоаналитической общественности свою концепцию, однако, не увенчавшуюся успехом. Официально посвященный результатам психоаналитической терапии 14 конгресс IPA в Мариенбаде (место проведения было выбрано Анной Фрейд, с тем, чтобы быть как можно ближе к Вене, где находился больной Фрейд) на деле был раздираем противоречиями, проявившимися в противостоянии немецкой и британской школ психоанализа и ставших реальной темой многочисленных дискуссий1. Председательствующий Эрнест Джонс и "второй человек" Британского Психоаналитического Общества Эдвард Гловер были заинтересованы в том, чтобы перенести центр притяжения психоаналитической мысли на английскую почву. Конфликт оформился в противопоставлении позиций Мелани Кляйн и Анны Фрейд и очерчивал их различные подходы к проблеме детского психоанализа. Мелани Кляйн, поддерживаемая Джонсом, отстаивала необходимость создания области собственно детского психоанализа, основанного на использовании специальной техники — игры, лепки, рисования, вырезании, аппликации, — тогда как Анна Фрейд, строго придерживаясь позиции отца, отводила этой практике место в педагогике и не видела возможности вывести детский психоанализ в область, свободную от влияния и участия родителей.2 Действительно, новаторство Мелани Кляйн шло вразрез 1 Неспокойная обстановка конгресса была обусловлена также и временем, на Германию наступал фашизм и Немецкое Психоаналитическое Общество (DPG) переживало не лучшие времена. См. подробнее E.Roudinesco "Histoire de la psychanalyse en France.2 Paris, Seull, 1986.P.165-177. 2 См.: Е. Roudinesco "Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un systeme de pensee"Paris, Fayard.1993. P.151. [143] с методами, предложенными Фрейдом в случае с "маленьким Гансом", но именно изменение практики анализа детей, привело ее к созданию оригинальных концепций: введению понятия частичного объекта, описанию "параноидной" и "депрессивной" установок, обоснованию архаичных фантазмов в доэдиповой стадии. По большому счету, увлеченное своими страстями психоаналитическое сообщество просто не заметило этого "маленького француза, который был никому неизвестен. Никто не знал, кто он таков, никто не читал и строчки его публикаций, и кому какое было дело до того, что парижская интеллигенция видела в нем будущего мэтра французского психоанализа"3. Его выступление было прервано после десяти минут, и никто никогда не узнает, что же именно он хотел тогда представить в своем докладе. Лакан не отдал текст выступления в сборник материалов конгресса и, лишь повторив4 представление "стадии зеркала" на 16 конгрессе в Цюрихе в 1949 году, опубликует его, очевидно, заметно преобразованным, отредактированным, дополненным, таким каким мы располагаем им сегодня — под названием "Стадия зеркала как формообразующая функцию Я, которая открывается нам в психоаналитическом опыте". Тем не менее, на протяжении всего периода с 1936 по 1949 год, в различных своих статьях и выступлениях Лакан будет ссылаться, делать выводы и развивать понятия из уже "введенной" им "стадии зеркала". Так, первая, написанная сразу после Мариенбада, статья "По ту сторону принципа реальности" (1936) будет посвящена определению функции imago и той роли, которую она играет в конституировании области психического. В статье, вошедшей во французскую энциклопедию, "Семейные комплексы в формировании индивида" (1938) Лакан будет подчеркивать приоритет функции воображаемого в процессе образования человеческой личности, которая структурируется, проходя череду бессознательных репрезентаций или образов (imagos), определяющих идентификационную модальность признания (reconnaissance) и заблуждения (meconnaissance) в семейных комплексах. Расширяя и осваивая пространство доэдипового членения, Лакан введет понятие "комплексов": первичный "комплекс разделения" (отлучения от груди), оставляющий в душе каждого индивида тоску и страстное желание слияния с материнской грудью, сменится "стадией зеркала", в течение которой разовьется способность индивида обрести воображаемую целостность, затем последуют комплексы ревности и борьбы за признания и только потом, собственно, начнется Эдипов комплекс в своем классическом варианте. Лакан продолжит прояснять функцию imago и отчуждения, признания и желания другого (desir de l'autre) в работе "По поводу психической причинности" (1946), где ссылаясь на Гегеля подчеркнет, что субъект конституирует свою идентичность, идентифицируясь с образом другого, 3 Ibid., P.160. 4 И первые строки его выступления будут настаивать на повторении : "Введенное мною на предыдущем нашем конгрессе, тринадцать лет назад, понятие стадии зеркала, в дальнейшем более или менее вошедшее в обиход французской группы, представляется мне достойным быть лишний раз предложенным вашему вниманию.. ."(ст.зерк.136) [144] который удерживает в нем чувство самости (себя). В статье "Агрессивность в психоанализе" (1948) Лакан выведет нарциссизм и агрессивность напрямую из "стадии зеркала", рассматривая нарциссизм в качестве необходимого присвоения чуждого я, рождающегося из эротического пленения образом другого, а агрессивность как присущая человеческой психике составляющая, рождающаяся из "противоборства" с другим.. Мариенбадский конгресс помимо уверенности, что необходимо "идти своим путем" (добиваясь сначала признания и почтения на родине, где он действительно вскоре станет кумиром, с которым уже нельзя будет не считаться) даст Лакану импульс обратиться к изучению работ Мелани Кляйн, которые он оставлял без внимания вплоть до 1937 года. В них он найдет не столько ответы на свои вопросы, сколько единое проблемное поле, уверенность, что занимается действительно актуальными проблемами, он ощутит некоторую общность с размышлениями Мелани Кляйн, хотя и пойдет по пути создания своих собственных оригинальных концепций. В период между двумя войнами, Лакан параллельно Мелани Кляйн займется "конструированием" структуры субъекта и поля воображаемого, проблемой структурализации объектных отношений, архаической ролью эдиповой связи, параноической позицией сознания человека. "Лакан как и Мелани Кляйн, но исходя из других позиций, поставил под сомнение доктрину о конституциях, которая искусственным образом разделяла норму и патологию, как и она, он заменил историю болезни исследованием истории субъекта, решив работать с полем психозов, как и она, он был озабочен разрешением загадки воображаемой жизни человека, используя самые архаические в объектном отношении элементы, и в конечном итоге, как и она, он подошел вплотную к работам Фрейда, рассматривая их в качестве конститутивных, и которым он придал новый импульс. Но, если Мелани Кляйн совершила "свой поворот" в лоне фрейдовской мысли, используя наработанный Фрейдом инструментарий, то Лакан всегда больше опирался на знания, являющиеся внешними фрейдизму: психиатрию, сюрреализм, философию. И необходимо отметить, что без этих постоянных "вылазок" в пограничные области, он не смог бы читать так Фрейда, как он это делал, начиная с 1936 года."5 Действительно, сходство в позициях Лакана и Мелани Кляйн трудно не заметить. Лакан, создавая свою концепцию "стадии зеркала" исходит, в той же мере, что и Мелани Кляйн, из второй топики Фрейда, дополненной дуализмом влечений к жизни и влечений к смерти, как и она, делает акцент на работе функции imago: "объект всегда есть образ (imago), то есть образ реального объекта, который субъект интегрирует в себя, по механизму интроекции придавая ему статус фантазма"6. Общность позиций Лакана и Мелани Кляйн обнаруживается и в противостоянии ego-психологии, которую он будет неустанно критиковать в дальнейшем. В противовес поиску и описанию механизмов сопротивлений и защиты ego, как это делала Анна Фрейд, Ibid., Р.155. Ibid., P.154. [145] 5 6 Лакан будет определять развитие и становление человеческой психики, исходя из уверенности, что ego (moi) создается не в результате действия принципа реальности, а в результате череды идентификаций, в которых главную роль играет функция imago, структурирующая moi, создающая поле воображаемого и позицию другого. И все же, несмотря на это "сходство", которое будет обнаруживаться, скорее, в прошедшем времени, среди "предтечей", среди тех, кто действительно повлиял на Лакана и подвинул к созданию "стадии зеркала" станет его знакомство с работами ученых из "пограничных областей". Безусловно, свое вдохновение Лакан будет черпать из тщательного перепрочтения Фрейда7 , и вместе с тем, из философии Гегеля, с которой он познакомится на семинарах Кожева, из исследований эмбриолога Болька, биологов Харрисона и Шовена. Особую заслугу в рождении "стадии зеркала" стоит приписать работам психолога Валлона, из которых Лакан позаимствует это понятие, но по странному стечению обстоятельств8 имя последнего во время написании статьи у него подвергнется глубокому вытеснению. В 1931 году в "Психологическом журнале" появилась статья Валлона "Как развивается у ребенка понятие о собственном теле"9, представлящая результаты "опытов с зеркалом". В ней Баллон исследует то, каким образом ребенок, сталкиваясь с реальностью, осуществляет принятие и осознание ее, как появляется у ребенка "понятие" реальности, одним из конститутивных моментов которого становится появление "понятия" собственного тела: "Речь идет о том, чтобы узнать как ребенок становится способным узнавать в качестве собственного свой экстероцептивный аспект, который зеркало дает ему наболее полным и очевидным образом."10 Факт, что ребенок в возрасте шести месяцев начинает эмоционально реагировать на свой собственный образ в зеркале, подтолкнул психологов к проведению ряда экспериментов для установления, когда именно ребенок начинает узнавать свой образ в зеркале, понимать, что этот образ его собственный, и, в конечном итоге, догадываться, что это только образ. В своей статье Валлон 7 С 1936 года Лакан займется кропотливым пере-прочтением фрейдовских работ, интерпретацией понятий и исследованием обнаруженных им лакун. Смысл пере-прочтения будет состоять в прямом обращении к мысли Фрейда, свободной от толкований и интерпретаций (будь-то Левенштейна или Пишона). Это будет началом "возвращения к Фрейду", которое Лакан объявит состоявшимся много позже в 1955 году в выступлении "Фрейдовская вещь или Смысл возвращения к Фрейду в психоанализе". 8 Обстоятельства действительно будут довлеть в ту минуту над Лаканом : в 1949 году он повторит не первоначальный (Мариенбадский) текст выступления, но развитую, измененную, "более или менее вошедшую в обиход французской группы" (ст.зерк.136) собственную концепцию "стадии зеркала", и, соответственно, будет настаивать на оригинальности. Справедливости ради необходимо отметить, что в других своих работах, где он будет так или иначе излагать "стадию зеркала" Лакан исправит "положение вещей" и отошлет к "предшественникам" — Лермитту, Больку, Харрисону, Шовену и др. См.: J.Lacan "Propos sur la causalite psychique"//"Ecrits", Paris, Ed.du Seuil.1966. P.184-193. 9 H. Wallon "Comment se developpe chez 1'enfant la notion de corps propre"//Journal de psychologie.novembredecembre 1931,t. XXVIII.p.705-748. Цит. по: В. Ogilvie op.cit.,P.101. 10 H. Wallon Цит. по: В. Ogilvie op.cit., P.101. [146] описал опыты с зеркалом как своего рода "испытание", которое ребенок необходимо проходит на пути "взросления" и которое становится решающим моментом в завоевании ребенком нормальной "взрослой" связи с собственной реальностью и реальностью вообще. Это "испытание", в результате которого ребенку "удастся объединить свое я в пространстве" положит начало образованию в психике ребенка области воображаемого и впоследствии — области символического: "понятие собственного тела является частным случаем психогенеза, но во время его формирования, оно опережает другие, так как является наиболее необходимым в последующем развитии сознания. Оно уйдет с первого плана, как только, со своей стороны, положит начало другим возможным разработкам".11 В исследованиях Валлона от внимания Лакана не мог ускользнуть и тот факт, что Валлон, ссылаясь на Дарвина и поддерживая идею о том, что индивидуальные трансформации в субъекте происходят по пути "естественной диалектики" посредством разрешения противоречий и конфликтов, использовал геглевскую диалектику в интерпретации психических фактов "в противоположность французской традиции, которая рассматривает сознание статично, делая его видимой частью предсознательного. У Валлона опыт с зеркалом означает диалектический переход от визуального (speculaire) к воображаемому и затем от воображаемого к символическому." 12 Этот вывод отметит Лакан, связав для себя развитие идей Дарвина и Гегеля, но все же ошибочно сошлется в "стадии зеркала" на Болдуина, который был действительно известен во Франции как широкий популяризатор идей Дарвина. В своей статье Лакан не "потрудится" сослаться на Валлона, опустив весь конкретный материал, описывающий опыты с зеркалом, отчасти потому, что будет рассматривать его исследования как факты в череде фактов. Точно так же он отнесется к результатам исследований этологов Харрисона и Шовена, известных своими исследованиями роли образов в животном мире, и вытекающими отсюда анатомическими и психологическими изменениями (овуляция у голубки или изменение цвета, формы и поведения у саранчи). Очевидно этот исследовательский материал будет рассматриваться им в качестве "руды", которую еще необходимо переработать и проинтерпретировать, то есть совершить ту "интеллектуальную революцию"13, которая возможна только в рамках психоаналитического опыта, важность которого Лакан всякий раз будет подчеркивать. Действительно, все прочитанное им, в том числе статьи Валлона, все пойдет в "переплавку", которая будет настолько значительна, что привнесенный смысл Лаканом преобразует открытие Валлона радикальным образом, начиная с того, что вместо "испытания" появится "стадия", 11 [bid. E.Roudinesco "Histoire de la psyshanalyse en France." Paris, Seuil, 1986. P.157. 13 "Многочисленные факты подобного рода отмечены теперь биологами, но интеллектуальную революцию, необходимую для полного их понимания, еще необходимо совершить. Эти данные биологов оставались неизвестными вплоть до 1936 года, когда я на Мариенбадском конгрессе ввел понятие стадии зеркала как одну из стадий развития ребенка"// J.Lacan "Quelques reflexions sur l'Ego" Цит.по : В. Ogilvie op. cit., P.100. 12 [147] вместо "позитивного генезиса" — "негативная диалектика", вместо психологии — психоанализ. "Стадию зеркала" Лакан впишет в контекст психоаналитических проблем, сделав ее краеугольным камнем своей последующей теории. Он "концептуализирует опыт Валлона с тем, чтобы дополнить теорию Эдипа, которая, по его мнению, не позволяет объяснить тот способ каким субъект предполагает себя в своем отражательном образе при создании своего воображаемого ego (moi), доминирующего в нарциссической структуре." 14 "стадия зеркала" В первом приближении, в "стадии зеркала" Лакан пытается прояснить для себя период, предшествующий Эдиповому комплексу, то есть ответить на вопрос, что происходит в психике ребенка с самого его рождения, с момента его появления на свет. Но вместе с тем, круг затрагиваемых Лаканом проблем очерчивается значительно шире. Тот факт, что ребенок рождается "несостоятельным" в физическом отношении, поглощенным в моторную дискоординацию для Лакана становится изначальным пунктом рассуждения: "Объективное понимание анатомической незавершенности этой колоссальной системы, как и гуморальногистерезисного последействия материнского организма, подтверждает этот взгляд, который мы формулируем как данные настоящей преждевременности рождения у человека. Отметим по ходу дела, что как таковые эти данные признаются эмбриологами под термином foetalisation15, чтобы определить превосходство так называемых высших аппаратов центральной нервной системы, и, особенно, коры головного мозга, которую психохирургические вмешательства приводят нас к мысли представить себе как внутриорганическое зеркало" (стад.зерк. 139). "Преждевременность" своего рождения или же "нехватку человеческой реальности", ребенок будет компенсировать быстрой и безусловной ассимиляцией внешнего ему мира. Недостатки физического развития, которое будет отставать от опережающего развития психики, Лакан будет рассматривать как недо-статок именно стати, которая выкристаллизуется в результате психической работа! ребенка. Телесные "очаги", через которые просачивается информация о внешнем мире, на первых шести месяцах будут существовать у него дисперсно — автономно, эрогенно и фрагментарно. Этот до-зеркальный опыт младенца Лакан назовет "раздробленным образом тела"16, подчеркивая, что первичный опыт "себя" ребенку дается в частях и фрагментах, 14 E.Roudinesco "Histoire de la psyshanalyse en France." Paris, Seuil, 1986. P.157. 15 foetalisation (от латинского "foetus" — зародыш); в качестве прояснения этого термина цитата из другого произведения Лакана "По поводу психической причинности" : "Феномены, хорошо известные анатомам, проявляющиеся, с момента рождения человека, в моторной нескоординированности и неустойчивом положении младенца, и которые, безусловно, связаны с процессом foetalisation, в котором Больк усматривает причину высшего развития мозговых пузырей у человека." // J.Lacan "Ecrits", Paris, ed.du Seuil, P.186. 16 To, что память об этом опыте "раздробленного тела", будет храниться в недрах психики подтверждают исследования снов, архаические табу и ритуалы и наиболее наглядным образом - психоаналитический опыт : "Это раздробленное тело, которое я в качестве термина допускаю таким образом в нашу систему теоретических отсылок, регулярно является в снах, когда аналитический импульс соприкасается с некоторым уровнем агрессивной дезинтеграции индивидуума. Оно появляется тогда в форме разъятых членов и экзоскопически представленных органов, которые окрыляются и вооружаются для внутренних представлений, навсегда запечатленных в живописи визионером Иеронимом Босхом на их подъеме в пятнадцатом веке в воображаемый зенит современного человека. Но эта форма осязаемо проявляет себя с органической точки зрения по линиям ломкости, определяющих фантазматическую анатомию, явную в шизоидных или спазмотических симптомах истерии."(ст.зерк.139) [148] которые выделяются и обнаруживаются ребенком в силу их инаковости. Первичными объектами желания, которые соединяют в себе восприятие и усилие добыть из этого восприятия информацию о внешнем мире для ребенка станут грудь, экскременты, поток мочи, взгляд, голос, образ. Таким образом, первоначальное восприятие ребенка еще должно будет связать свой телесный опыт со "значимыми" окружающими его объектами (являющимися для него частичными), с сенсорным воздействием, которое они производят. При увеличении сенсорной информации, визуально-слуховые столкновения с реальностью могут являться причиной путаницы, но вместе с тем, именно они формируют то, что Лакан называет "буквами" (lettre) (абстрактными означающими) тела в дозеркальную стадию идентификации. Так называемые "литеры" отливаются чувственным откликом младенца на прикосновения, взгляды, звуки, образы. Человеческое тело эротизируется посредством ранних реакций-соприкосновений с внешним ему миром. В "буквах" Лакан узнает действие языка, который создает и оформляет бессознательное: "буквы" выступают как локализованные означающие. Это можно понять, как то, что "буквы" — это "очаги" инаковостей на постоянно изменяющейся физической поверхности человеческого организма, создающие разность чувствительных потенциалов младенческого тела. Эрогенные зоны, которые выделял Фрейд — рот, анус, гениталии — становятся таковыми, в силу того, что они оказываются выделенными из соседних, прилегающих к ним, превосходством выполняемых ими функций в раннем детстве. Поэтому позднее они играют ключевую роль во влечении и сексуальном желании. В свете этой теории, по всей видимости, подобными "эротическими органами должны являться также глаз и ухо.17 Другими словами, ребенок еще не ощущает целостности и индивидуального единства на дозеркальной стадии. "Природный механизм" обеспечит ребенку лишь идентификацию с образом человеческой формы, вернее, человеческого обличия. "Здесь происходит первый захват образом, в котором прорисовывается первый момент диалектики идентификаций. Он связан с феноменом Gesialt, очень ранним у ребенка восприятием человеческой формы, формы, которая, как известно, фиксирует на себе его интерес первых месяцев, подобно тому как начиная с десятого дня — человеческое лицо."18 "Что Gestalt способен на формообразующие действия на организм, засвидетельствовано биологическим экспериментом, столь самим по себе чуждым идее психической причинности, что 17 18 См. : Е. Ragland-Sullivan "Jacques Lacan and the Philosophy of Psychoanalysis" Chicago, Illinois, 1986. P. 19-21. J. Lacan "L'agressivite en psychanalyse"// "Ecrits"Paris, Ed.du Seuil, 1966. P.112. [149] ему никак не решиться сформулировать ее как таковую. Он все же признает, что вызревание гонады у голубки в качестве необходимого условия требует взгляда на ей подобную особь вне зависимости от её пола, — и столь достаточного, что искомое воздействие на индивидуум достигается простым помещением его в поле отражения зеркала. Так же переход в потомстве саранчи от одиночной формы к экземплярам формы стадной достигается путем того, что индивидуум подвергается на некоторой стадии исключительному визуальному воздействию подобного образа, если только он оживляется движениями не слишком отличными по стилю от движений его вида." (ст.зерк.138) Соответственно, на до-зеркальной стадии ребенок "автоматически" проходит, как и все животные, "формообразующее действие Gestalt", заканчивающееся призанием принадлежности к особям своего же вида, но специфика человеческого сознания проявляется в выходе за природные рамки. "Стадия зеркала", отсутствующая у животных, продвинет его дальше к признанию обладания собственным, индивидуальным телом, к конституированию субъективности. "Наиболее значимым фактом, который выносит ребенок из до-зеркальной стадии — и это не есть "завоевание ребенка", а "исправный ход природного механизма" — является "непоправимая (неустранимая в дальнейшем)" символизация тела, которая далее будет продолжена в стадии зеркала, и которая скрепит телесную идентификацию с человеческим образом."19 И Лакан в своей "стадии зерала" займется исследованием собственно этого момента, захватывающего и изменяющего психику ребенка. С первых строк своего текста Лакан обозначает "место, из которого говорит" и в каком свете он будет интерпретировать понятие стадии зеркала — "который оно проливает на функцию я в рамках делаемого о нем психоанализом опыта. Опыта, о котором надо сказать, что он ставит нас в оппозицию любой философии, исходящей прямо из Cogito." (ст.зерк.136) Как замечает Б.Ожильви в своем исследовании "стадии зеркала": "Эта ремарка имеет в виду философию Сартра, которая располагается в рамках "иллюзии автономности", рожденной Я в отношении сознания, даже если она полагает идею ничто в центр своих рефлексий. То, что вплетается в субъекта без его ведома и чем он не призван овладеть, открывается ему в зеркале; это столкновение не вытекает ни из какого "понятия", ни из какого прогресса в сознании, ни из какой психологической зрелости, которая позволила бы субъекту объединить все свои функции. Напротив, то, что отражается в заглавии — это частность и узость этого образования — функция я (je), факт того, что субъект говорит я (;е), то есть говорит в качестве я (moi), которого он рассматривает в качестве целостности, но которая ничего не позволяет предположить о его ценности, его пространстве, его месте и его эффективной значимости."20 Действительно, становясь в оппозицию любой философии, вытекающей из Cogito, Лакан противопоставляет не столько 19 Е. Ragland-Sullivan op.cit., P.21. 20 В. Ogilvie op. cit., P.102 [150] Декарта Гегелю, сколько исследования Фрейда классической психологии. Его интересует не то, когда обретается человеком адекватность содержания сознания, но каким образом она обретается, что происходит в бессознательном в момент этого "обретения". "В самом деле, этот акт, далекий от того, чтобы исчерпаться, как у обезьяны, единожды приобретенным контролем над бессодержательностью образа, тут же возобновляется у ребенка в серии жестов, в которых он в игровой форме испытывает отношение движений, принятых на себя образом, к его отраженному окружению и этого виртуального комплекса к удваиваемой им реальности, а именно, к своему собственному телу и лицам или же объектам, которые находятся с ним бок о бок".(ст.зерк.136) В "опытах" с зеркалом Лакан выделяет захваченность ребенка постоянно возобновляемой игрой с зеркалом, ее многократность, выявляющую "либидинальный динамизм, вплоть до настоящего времени остающийся проблематичным".(ст.зерк.137). "То, что подтверждает феномен узнавания, предполагающий субъективность, это линии торжествующего ликования и игра с местонахождением, которая характеризует к шестому месяцу встречу ребенка со своим образом в зеркале. Это поведение явно контрастирует с безразличием, проявляемым животными, тоже замечающим свой образ в зеркале, как шимпанзе, например, когда они испытывают тщетность этого объекта, и это проявляется тем рельефнее, что происходит в возрасте, когда ребенок в своем инструментальном интеллекте репрезентирует отставание от шимпанзе, которую догонит только к одиннадцати месяцам". 21 Обобщим. Для Лакана в ситуации с зеркалом важным оказывается то, что ребенок, обнаруживающий в возрасте шести месяцев образ в зеркале, немедленно ввязывается в систематическую игру с ним, явно получая удовольствие от этой игры-исследования, из чего можно заключить, что интерес к этому объекту у ребенка либидинально окрашен. "Если ребенок криком и мимикой манифестирует свой избирательный интерес именно к этому объекту и то, что он тотчас признает в образе нечто, что касается непосредственно его, является ему в качестве реальности, которая скоординирована, с-аккомпанирована, с-ассоциирована каким-то образом с его собственным поведением (жестикуляцией, мимикой и т.д.)"22. То, что образ в зеркале повторяет его собственные движения и мимику приводит ребенка в настоящий восторг и дает основание говорить об "узнавании" себя в зеркале: "Узнавание, о котором сигнализирует иллюминационная мимика Aha-Erlebnis23, в котором для Келера выражается ситуационная аппер21 J. Lacan "L'agressivite en psychanalyse"//"Ecrits"Paris, Ed.du Seuil, 1966. P.112. В. Ogilvie op. cit., P.103. 23 Aha-Erlebnis (буквально: "ага! — переживание") — понятие, введенное психолингвистом Карлом Бюлером (1879-1963). Подчеркивая, что основным содержанием сознания является не сенсорный образ, а "интенциональная мысль", Бюлер отмечал, что в сознании образы предметов уплорядочены определенной "схемой, служащей для отображения". Непосредственное схватывание отношений, закрепленных в этой схеме в символической форме, сопровождается эмоционально-аффективной реакцией "вновь-узнавания" — ага-переживания. (См.: К.Бюлер "Теория языка" М.,1993. C.XII.) 22 [151] цепция, существенная фаза мыслительного акта", (ст.зерк.138) По всей видимости, в психике ребенка в этот момент происходит открытие возможности связать между собой разрозненные, фрагментарные переживания собственного тела, которыми он располагал на до-зеркальной стадии, в единое телесное пространство. Скоординированность движений с изображением, связанность внутренних ощущений с видимым целостным образом, становятся толчком к началу психической работы, свойственной исключительно человеку. Зеркало24 лишь проявляет, делает оче-видным этот процесс — работу по сцеплению "телесных очагов" в единый конгломерат, в целостное переживание. "Эту активность необходимо проинтерпретировать как настоящее производство опыта, которую совершает ребенок; как рождающийся в эксперименте успех по связыванию двух совершенно различных вещей — перцептивной "внутренности", выражающейся некоторым набором движений, и их визуализации почти графической в модификациях его образа."25 Ребенок узнает (впервые) и признает (навсегда) свой образ. Он присвоит его, "поверив", что этот образ его собственный. "Это развитие переживается как временная диалектика, решительно проецирующая формирование индивидуума в историю : стадия зеркала есть драма, внутренний посыл которой стремительно развивается от недостаточности к опережению — и которая для субъекта, пойманного на наживку пространственной идентификации, измышляет фантазмы, постепенно переходящие от раздробленного образа тела к форме, каковую мы назовем ортопедической для его целостности, — и к, наконец, водруженным на себя доспехам некой отчуждающей идентичности, которая отметит своей жесткой структурой все его умственное развитие." (ст.зерк.139) Соответственно, целостный образ тела станет для ребенка той устанавливающей формой, которая формирует представление о себе. Ребенок будет пленен ею — захвачен и очарован. "Дело в том, что целокупная форма тела, посредством которой субъект опережает в мираже созревание своих возможностей, дана ему лишь как Gestalt, то есть во внешности, где, без сомнения, форма эта более устанавливающая, чем установленная, но где, помимо того, она ему является 24 Роль зеркала может выполнять любая гладкая поверхность, гладь воды, поверхность металла и.т.д. Вместе с тем, в культуре зеркало становится не простым объектом среди других объектов, с ним связано много традиций и верований, живущих и по сей день — закрывать зеркала, когда в доме покойник, разбить зеркало — к несчастью, в зеркалах не отражается нечистая сила. Выделим особо — запрет смотреться в треснутые или разбитые зеркала, в то время как, игра с кривыми зеркалами, изменяющими, но не ломающими изображение — скорее, развлечение, доставляющее удовольствие. В детской культуре двойник, выходящий из зеркала, тень человека, страна "Зазеркалье" становятся особой темой для фантазий, сказок, историй. Безусловно, на протяжении истории человечества в психическом отношении "выигрывали" те культуры, в которых существовало зеркало — для дикарей, очарованных своим изображением в зеркале, оно становилось столь магическим, сколь и желанным в неравном" обмене с европейцами. Можно предположить, что разница в психической конституции различных культур обусловлена особенностями отношения к образу (запрет в мусульманской и иудейской культурах на изображения Бога, человека), — в психическом развитии человека это необходимо скажется на процессе конституирования Другого и в диалектике желания. 25 В. Ogilvie op, cit., P.103. [152] со статуарной рельефностью, которая ее выкристаллизовывает, и в симметрии, которая ее инвертирует, в противовес к завихрению движений, его, как он ощущает, оживляющих. Таким образом, этот Cestalt, содержательность которого должна рассматриваться как связанная с родом и видом, хотя движущий ее стиль еще не признан, — двумя этими аспектами своего появления символизирует ментальное постоянство я (je) и в то же время, предвосхищает свое отчуждающее предназначение: он еще чреват соответствиями, которые соединяют я (jе) со статуей, на которую человек проецирует себя, как с призраками, его подавляющими, с автоматом, наконец, в котором в двойственном отношении стремится завершиться мир его изготовления" (ст.зерк.202) Если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения "либидинального динамизма", то он откроет нам реальную, бессознательную пружину "принятия образа на себя". К шести месяцам Libido у ребенка, по всей вероятности, достигает такого "количества" и "качества , что может отклоняться от приносящих прямое удовольствие удовлетворения физических потребностей в сторону конституирования собственно психической реальности. Это становится возможным в силу того, что к этому возрасту у ребенка скапливается часть либидинальной энергии от неудовлетворенных немедленно (по принципу удовольствия) влечений и потребностей, не реализованных по разным причинам, а по преимуществу в силу естественного роста ребенка — увеличению и усложнению его потребностей. Происходит постепенное отдаление матери, разрыв симбиотического единства. Ребенок теряет объект любви, который постоянно находился рядом и его тревога и беспокойство направляется на поиск замещающего объекта, которым он мог бы обладать так, как он когда-то обладал матерью. Этот объект "постоянства и неизменности" будет найден ребенком в своем собственном образе. Объект, приносивший когда-то удовольствие, но впоследствии утраченный, конституируется в представлении, "замещая" реальный объект и полагая, тем самым, возможность существования отсрочки. Действие этого механизма начинается, по мнению Лакана, именно в тот первый момент, когда симбиотическое единство с матерью "вытесняется" у ребенка в область представления и замещается собственным образом. Это замещение становится возможным в силу действия (а именно зарождения его у ребенка) механизма отрицания, в том Фрейдовском смысле26, когда невозможность обнаружения объекта по принципу удовольствия отрицается, тем самым переводясь в область вытесненного. Конституирование самого пространство вытеснения, у Лакана будет происходить посредством появления "места" Другого. Безусловно, и функция суждения, столь явно проявляющая отрицание, и позиция субъекта будут обретены ребенком много позже — в момент вхождения в область собственно символического, в область языка, культуры, где прорисуется "фигура" Другого. Но сама возможность этого будет подготовлена приобретенным ребенком особым психическим механизмом работы с "реальным'. Таким образом, "первейшая и ближайшая цель пробы на реальность состоит не в том, чтобы 26 См. З.Фрейд "Отрицание" //Ad'Marginem. Венера в мехах. М.,1992. С.365 -371. [153] найти в реальном восприятии объект, соответствующий представленному, но в том, чтобы вновь найти его, убедиться в том, что он все еще налицо"27. Таким постоянным подтверждением и обретением объекта, всегда наличествующим и претерпевшим изначальную воображаемую трансформацию — трансформацию, происшедшую вследствие "запуска" механизма представления у ребенка — становится образ его тела, а в более общем смысле — его собственный воображаемый, фантазматический образ, всегда либидинально окрашенный или "загруженный" теми вытесненными влечениями младенческого опыта отлучения от матери. Этот образ возникнет на границе внутреннего и внешнего. Он будет производиться ребенком изнутри, но в то же время, восприниматься им в результате "присвоенности" и "захваченности" как нечто внешнее. Его собственный образ будет изначально отчужден от ребенка, так как в скорости он "откроет", что это только образ (к тому же, обратный). "Эту форму стоило бы, впрочем, назвать ideal ego (Ideal Ich), если мы хотим заставить ее войти в знакомый регистр, в том смысле, что она окажется к тому же и источником вторичных идентификаций, чьи функции либидинальной нормализации мы распознаем под этим термином. Но важным пунктом здесь является то, что эта форма задолго до социальной определенности располагает инстанцию ego (moi) на линии вымысла, никогда не подлежащей изменению для отдельного индивида, — или, скорее, которая лишь асимптоматически воссоединится со становлением субъекта, каким бы ни был успех, диалектического синтеза, посредством которого он должен растворить в качестве я (jе) свое несоответствие собственной реальности." (ст.зерк.137) Подобным образом произойдет конституирование всего предметного мира, окружающего ребенка, этот же механизм повторится, когда ребенок "присвоит" себе язык. Можно сказать, что в "стадии зеркала", Лакан ищет ответ на вопрос о возникновении у человека способности конституировать поле реального, то есть "производить" всю ту предметность, которую мы привыкли считать окружающим миром. Психическое становится для Лакана пространством конституирования субъективности, которое управляет и задает возможность осуществления границы реального. Окружающий мир, ощущение "себя" — реальность внутренняя и внешняя не существуют для ребенка в готовом виде. Их надо будет создать, вобрать в себя, сконструировать в психике и первым "предприятием", которое захватит ребенка целиком, будет конституирование образа себя, через присвоение своего телесного образа. В результате этой плодотворной психической работы ребенок создаст ту "символическую матрицу, в которой я (jе) осядет в первоначальной форме, прежде чем объективироваться в диалектике идентификации с другим и прежде чем язык не воссоздаст ему всесторонне функцию субъекта."(ст.зерк.137) Для Фрейда "внешнее", "объективное" тоже устанавливается в результате психической работы: "Противоположность между субъективным и объективным существует не с самого начала. Она устанавливается только благодаря тому, что мышление обладает способностью 27 Iid.,C.368. [154] воспроизводить в представлении нечто раз воспринятое, делая его вновь наличным, в то время как объекту вовсе уже нет необходимости быть налицо"28. Речь здесь идет о том, что влечение направляет свою энергию не на какой-то реально существующий объект, поиски его в реальном, а на психическую работу представления, которое координируется с раз уже воспринятым. "Внешнее" рождается в результате первичного разделения "воспринятого" — то, что не поддается преобразованию со стороны субъекта (будь то невозможность "обладать" объектами и отнесение их к разряду "плохих", будь то раздражения, действующие извне, и от которых необходимо уклониться) будет относиться к "внешнему", не важно находящемуся неосредственно в наличии реальности или лишь сохраняющегося в представлении. Лакан, поддерживая позицию Фрейда, подчеркивает, что "внешнее" субъекту будет изначально конституироваться внутри него, в области представления, вместе с тем оставаясь действительно внешним, в силу того, что воспринимается как отчужденное. "Внешнее" станет не столько ограничивающим человека пространством, сколько введенным в его, "человеческие" рамки. Это будет произведено самим субъектом, в том смысле, что каждое восприятие будет оформлено и укоренено в психическом. Для Лакана пространство "внешнего" будет конституироваться наряду с внутренним изначально воображаемым, формообразующим способом. И здесь решающую роль играет, действительно, "стадия зеркала", функция которой "оказывается для нас отныне частным функции imago, каковая — установить отношение организма с его реальностью, или, как говорят, Innenwell'a с Umwelt'ом." (ст.зерк.139) Важным выводом становится то, что "субъект не предшествует миру форм, которые его очаровывают: он конституируется ими и в них. Внешний мир не снаружи субъекта, но внутри его, другой уже в нем. Не существует внешнего или ощущения внешнего, так как субъект изначально располагает в себе это пространство, которое управляет впоследствии его отношением ко всему реальному внешнему миру."29 Весь же "окружающий мир" будет принят человеком "на веру"30, как это произошло с первым в его психоистории (фантазматически) целостным объектом человека — принятием своего собственного образа.31 28 См. З.Фрейд"Отрицание"//Аd'Маrginem. Венера в мехах. М.,1992. С.368. В. Ogilvie op. cit., P.106. 30 Это особенно явно произойдет при "присвоении" ребенком языка, когда он будет принимать слова как нечто адекватное его собственному переживанию реальности. Здесь позицию Лакана отчасти можно сравнить с позицией Витгенштейна, основателя философии языка в 50 годы нашего столетия, который утверждал, что реальный мир в большинстве своем не проверяется и не удостоверяется восприятием, но принимается на веру в силу конвенционально поддерживаемых языковых связей. (См. Л.Витгенштеин "О достоверности"//"Философские работы (часть I)" М.,1994.) 31 "Обретение мира" следует понимать не как создание конкретной предметной реальности, сколько установление связи с этой предметной реальностью. Лакан скажет, что "стадия зеркала" формирует в нас позицию параноидального сознания, которая дает преимущество собственному образу обретенной реальности, не предполагая, что "видение" реальности может существенным образом отличаться от "видений" других. Прикрепление своего образа реальности к реальности "вообще" (то есть реальности, кажущейся в качестве таковой другим) выражается в твердой убежденности в правильности и непоколебимости собственной позиции, соответствующей якобы "ходу вещей", якобы реальности. Продолжая эту логику, в шизоидных "растождествлениях с собственной реальностью" можно увидеть установление "особых" связей с реальностью, выражающиеся в отказе собрать свои образы в целостность и "мир" в единство. 29 [155] Таким образом, одно из существенных для психоистории человека следствий из "стадии зеркала", будет состоять в признании ребенка, что образ, дающийся ему в зеркале — его собственный и он целостен, он постоянен, и вместе с тем, что это именно образ. Встретив в зеркале свое отражение, ребенок пройдет путь от восприятия его как нечто чуждое ему до принятия его в качестве своего собственного. Этот путь Лакан описывает столь важными для его теории понятиями признание (reconnaissance) и заблуждения (meconnaissance)32. Заблуждение будет ответом-реакцией, на разрыв симбиотического единства с матерью. Ребенок будет принужден вернуть "в себя" объект "постоянства и неизменности" — найти (вновь найти) то, что навсегда потеряно. "Вместо" матери ребенок создаст образ себя, интерес и захваченность которым не ослабнет до конца жизни 33. Этот образ себя станет спасительным пространством для психики ребенка, в которое он ускользнет от давящего на него страха, рождающегося в результате потери матери, от страха быть маленьким, рассогласованным, неловким, от всех тех давящих, дезинтегрирующих влечений, поднимающихся из глубин бессознательного. Он произведет взамен другой объект, приносящий ему удовольствие, но уже трансформированный — подвергшейся первичному вытеснению и замещению. Подобно игре с катушкой — ребенок измышляет ситуацию, в которой из неудовольствия творит удовольствие и защиту — в нее он ловит свой страх и, как результат, ловится сам. "Вот существо проблемы: поведение ребенка перед зеркалом кажется нам более показательным, чем те реакции в игре, в которых он сам себя отделяет от объекта, и которые в луче своего гения схватил и описал Фрейд в "По ту сторону принципа удовольствия""34 В зеркальной игре ребенок почувствует "власть" над своим собственным образом, он сам сможет удалять его, приседая, скрываясь из поля отражения зеркала и вновь его "приближать" к себе, появляясь в зеркале. "Именно в проблесках своей интуиции относительно порядка психического, Фрейд обнаружил ценность этих игр в "сокрытие", которые являются первыми играми ребенка. Все замечали их, но никто до него не разгадал в них повторяющийся и освобождающий характер, в котором ребенок берет на себя все разделение и отделение от груди, как таковые. Благодаря ему мы можем рассматривать эти игры как выражение тех первых вибраций этой постоянной волны отказа (отлучения), которая будет повторяться в истории психического развития."35 32 meconnaissance — функция неведения, заблуждения. У Лакана она играет свою существенную роль как в стадии зеркала, так и в дальнейшем, являясь "основанием", которое попирает "принцип реальности" К внешней реальности мы так или иначе приспосабливаемся, в то время как внутренняя и собственно "наша" реальность — это пространство вытесненных желаний, место Другого, из которого управляется наше сознание. 33 Из этой либидиналной захваченности своим образом Лакана выведет впоследствии (см. "Агрессивность в психоанализе") первичный нарциссизм, присущий всякому нормальному человеку. Лакан, четко разделяя аутоэротизм и нарциссизм, отнесет первое к до-зеркальному опыту, а второе — к следствиям "стадии зеркала". Наслаждение не от своего тела, но от образа себя, вот от чего умер Нарцисс, и вот в чем судьба человека! 34 J.Lacan "Quelques reflexions sur l'Ego" // Цит. по: В. Ogilvie op.cit., P.106. 35 J.Lacan "Propos sur la causalite psychique"//"Ecrits", Paris, Ed. Du Seuil,1966. P.187. [156] Отчуждение от матери выльется в принятие ребенком чуждого образа себя, но который, пройдя "воображаемое признание" будет восприниматься им как нечто "исконно" внутреннее. Вместе с тем, "найденный" образ себя никогда не сможет восполнить первоначальную утрату единства с матерью и человек никогда не удовлетворится и не смирится с "приобретением" до конца, запущенный "нехваткой" он устремится по долгому пути идентификаций, чтобы найти себя. "Образ тела, следовательно, является структурирующим моментом идентичности субъекта и которая характеризуется как первичная идентификация. Таким образом, это овладение идентичностью от начала до конца поддерживается воображаемым измерением, так что ребенок начинает идентифицироваться с чем-то виртуальным (оптическим образом), который им не является, но тем не менее который он признает в качестве такового. Речь, собственно, не идет ни о чем другом, кроме как о воображаемом признании, которое удостоверяется через объективные факты."36 Собственно, в этом существо "драмы" (ст.зерк.139). Драма отчужденности и неравенства себе, разыгрываемая в "ликах" нарциссизма и агрессивности37. "Парадоксальная формула, ценность которой в том, чтобы рассматривать человека как нечто большее, чем его собственное тело, и который (человек), в то же время, ничего не может сказать о своем бытии."38 Драма, рождающая чувство острой экзистенциальной "заброшенности"39, "тоски" и "тревоги". В стремлении к идентичности, ребенок будет обладать идентификациями. В стремлении прийти к себе, человек будет существовать в чем-то радикально другом — в образах себя, которые будут сменяться по механизму вторичных идентификаций, повторяющих опыт обретенный в "стадии зеркала". Так как функция imago и "трансформации, производимые субъектом, которые он берет на себя" являются чисто психологическим объектом и собственно идентификацией "во всей полноте смысла, придаваемого этому термину психоанализом" (ст.зерк.139) Единственное, что будет удерживать в человеке "ментальное постоянство" — это цельное ощущение себя, стягивающее воедино мозаику идентификаций, и позволяющее не смешивать себя с 36 J.Dor "Introduction а 1а lecture de Lacan"Paris, Ed.Denoлl,1985. P.101. He затрагивая тему нарциссизма и агрессивности в данных комментариях "стадии зеркала", тему, непосредственно вытекающую из нее, я отсылаю читателя к работе Лакана "Агрессивность в психоанализе , в которой агрессивность и нарциссизм будут исследоваться им с особой тщательностью. Возможно, комментарием Агрессивности в психоанализе" мы продолжим наше "введение". 38 J.Lacan "Propos sur la causally psychique"//"Ecrits", Paris, Ed. Du Seuil,1966. P.187-188. 39 "заброшенность" (понятие, введенное М.Хайдеггером с тем, чтобы подчеркнуть "закинутость" человека в этот мир наряду с чувством "неприкаянности", сопровождающее приход человека в мир), "отчужденность", "абсурдность", "тоска" — ощущения, свойственные современному человеку, были актуализированны экзистенциалистами — современниками Лакана. В первый период своего творчества (до 50 гг.) Лакан будет восприимчив к идеям экзистенциалистов, как раньше, в начале двадцатого века - к идеям сюрреалистов. Впрочем, широта и глубина понимания современного ему, всегда будет свойственна Лакану, это обогатит, украсит и разовьет его мысли и выделит, в конечном итоге, из ряда многих — просто талантливых психоаналитиков. Лакан, бесспорно, станет культурным явлением Франции. 37 [157] другими. Этот опыт ребенок приобретет на выходе из стадии зеркала, хотя до двух с половиной лет будет сохранять следы "детского транзитивизма". Так, глядя на другого малыша, ребенок будет смотреться в него, как в себя, заражаясь реакциями и копируя его поведение."Эта захваченность imago человеческой формы, в большей степени, чем Einfuhlung, отсутствие которого все подтверждает в раннем детстве, в период между шестью месяцами и двумя с половиной годами преобладает над диалектикой поведения ребенка в присутствии его собственного подобия. В течении всего этого периода, будут отмечаться эмоциональные реакции и артикулированные свидетельства нормального транзитивизма. Ребенок, который бьет, называет себя побитым, а тот который видит как другой упал, плачет".40 По ходу отметим, что ребенок не отчуждается от своего образа, как отчуждается рабочий от продуктов своего труда у Маркса. Ребенок не приходит к какой-то "ложной" идентичности, в силу того, что не существует никакой другой — истинной. Ребенок научится различать и не смешивать себя с другими, но это не значит, что он будет "в согласии" с собою. Субъект изначально формируется во "внешности" по отношению к себе, конституируя свой образ на границе внутреннего и внешнего, тем самым создавая Другого в себе самом. "Именно этот момент и заставляет решительно опрокинуть все человеческое знание в опосредованность желанием другого, устанавливает свои объекты в абстрактной эквивалентности через соперничество другого, и делает из я (jе) аппарат, для которого любой позыв инстинктов будет опасностью, даже если он и отвечает естественному созреванию, — причем сама нормализация этого созревания отныне зависит у человека от культурного посредника, как случается с сексуальным объектом в комплексе Эдипа." (ст.зерк.140) Соответственно, одним из основных выводов, который сделает Лакан из "Стадии зеркала" будет заключение, что в субъекте конституируется область изначального отчуждения, формирующая в нем разделенность внешнего и внутреннего. Открытие Лакана примечательно тем, что нивелируя дуализм субъект-объектного разделения: субъект обретает себя посредством создания мира форм в которых осуществляется, а объект является условием и результатом его психической активности, Лакан вводит разрыв в саму позицию субъекта. И "разрывать" субъект будет действие бессознательного — вытесненными влечениями, смещениями и наслоениями. Соответственно, в "стадии зеркала" ребенком будет обретено то конститутивное пространство психики, которое впоследствии на выходе из зеркальной стадии и после освоения языка, займет Другой. Лакан очерчивает собственно антропологический горизонт человеческого желания, соглашаясь с Кожевым, комментирующим Гегеля : "...антропогенное Желание отлично от животного Желания (конституирующего природное существо, существо просто живое, не обладающее иными чувствами, кроме чувства собственной жизни) тем, что оно направлено не на реальный, "положительный", данный объект, а на некоторое другое Желание."41 Желание, таким образом, 40 J.Lacan "L'agressivite en psychanalyse"Paris, Ed. Du Seuil, 1966. P.113. [158] будет рождаться в пространстве Другого, который будет "подсказывать", "подталкивать и, собственно, формировать все поле человеческого Желания. Фрейд, вводя понятия влечений и динамику бессознательного, положил начало рефлексиям о принципиальной "ненасыщаемости субъекта внешне-объектным содержанием - в том числе нормами и устоявшимися, принятыми значениями слов"42. Вместе с тем, в смыслопорождающей активности бессознательного, Фрейд увидел напряжение и конфликтность, рождающуюся в результате столкновения "природности" влечений и "нормативности" культуры. Для Лакана культура возникает в сам момент формирования субъективности, как то, что единственно дает ему состояться в качестве такового. "Человек не адаптируется к реальности, он адаптирует ее под себя. Ego (moi) создает новое соответствие реальности и мы стараемся лишь сохранять спаянность этого удвоения."43 После написания "стадии зеркала" линия этого исследования будет Лаканом развита и продолжена. Но траектория рассуждения уже будет задана "открытием" понятия "стадии зеркала". Именно в отношении субъекта к себе как к другому Лакан увидел основание бытия человека и тайну его конституции. Пространство отчужденения проникает в субъекта в самый момент зарождения его структуры, проявляя все положительные и негативные следствия этого проникновения. Человек сталкивается с культурой не в процесс обнаружения запретов или ограничений на его желание, он творит эту культуру как единственное пространство, произведенное им самим и для него же. "Отчуждение" от себя есть результат включения в собственную психическую структуру чего-то истинно внешнего, чем и "представляется", в конечном итоге, для человека культура. "Все выходит из стадии зеркала у Лакана. Быть может, он больше ни о чем больше и не думал. Теперь Лакану оставалось только основать школу. 41 А.Кожев "Введение в чтение Гегеля"// "Новое литературное обозрение" N13. М.,1995. С.61. 42 Ю. Дорохов "Психоанализ и современная культура"// "Silentium" СПб.,1991, С.107. 43 J. Lacan Цит.по Е. Roudinesco "Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un systdme de pensee"Paris, Fayard.1993. P.160. 44 C.Clement "Vies et legendes de Jacques Lacan Paris, Grasset, 1981 P.103. Склоняясь к излюбленной "фигуре речи" Ж.Батая - комментарию к к комментариям, хочу отметить мое сознательное уклонение от позиции автора. Очарование языка и мысли Лакана столь велико, что трудно не сооблазниться тем, чтобы говорить от лица и голосом Лакана, стремясь проследить в изгибах его мысли чистоту и безупречную ясность, которой хочется поделиться с другими. 45 [159] Славой Жижек ВЛАСТЬ И ЦИНИЗМ* I (Выступление Славоя Жижека в Венском музее З.Фрейда состояло из нескольких герменевтических кругов, в центре которых прорастало то, ЧТО собственно он говорил, но об этом лучше может сказать он сам, и это является предметом особой интерпретации. Интересно, как был вписан текст его выступления в окружение и поведение окружающих, важно также то, КАК он это говорил. Две комнаты содержали около двух десятков людей, пять стульев и стол, уставленный бутылками с сухим белым австрийским вином крепостью 7,5 градуса, дегустирование которого началось до доклада. На стульях вдоль стен расположились старейшины, аналитический народ стоял преимущественно с бокалами в руках. Славой выглядел всклоченным, обильный пот лился по его лицу, он часто вздыхал и трогал руками шею, что выдавало высокий уровень скрытой тревоги. Говорил он стоя, зажав в руке несколько листков, демонстрируя в речи то, что Эуген Блейлер называл "полтерном". В русском варианте это означает скороговорку, в которой благодаря большой скорости речи проглатываются окончания. Обычно полтерны связаны с несоответствием скорости мысли и речи, речь не успевает за мыслью. Он постоянно поправлял пиджак, ворот рубахи и осматривался, но поскольку он не запивал свою речь вином — это была не алкогольная абстиненция, а скорее "полевая" тревога, характерная для людей лишенных своей территории. Это эмоциональное состояние, впрочем, близко соматической тревоге при сердечно-сосудистых заболеваниях. * Данная лекция была прочитана в Венском Музее Фрейда 10 марта 1995 года. Запись сделана С.А.Бугаевым. [162] II "Вы знаете, он очень устал, он только что с поезда Париж-Вена, в который он сел в день перелета из Нью-Йорка", ~ шепнула мне Лидия Маринелли, переводчик книг Славоя. "Он так много работает",- добавила она. Нетрудно было заметить, что окружающих все больше интересовало, как говорил Славой, а не что он говорил. Пожилой господин, сидевший справа от меня первые минуты прислушивался к речи, а затем начал присматриваться к докладчику. Слушатели, стоящие полукругом, все дальше отодвигались от докладчика, желая рассмотреть его со всех сторон. Сразу несколько человек стало проверять содержимое своих карманов, притрагиваться к волосам и горлу: Славой индуцировал своей тревогой окружающих. Потом он неожиданно прервал свою речь и после аплодисментов сел на стул. вынул из кармана две таблетки и выпил их. Странно, что к нему никто не подошел с вопросом. Но он выглядел уже по-другому. Его состояние теперь напоминало релаксацию после сверхсильного напряжения. Суетливость сменилась резкими размашистыми движениями. Он был Тенью, а теперь ее спрятал. Жижек сдавал один из бесконечных экзаменов, на которых доказывал, что он ~ Другой. III Если это не имеет отношения к тому, что он говорил, то лишь по двум причинам: 1) описание страдает неполнотой и неточностью; 2) токсический, тревожный фон поведения искажает понимание контекста речи и. возможно, тревога необходима нам для того, чтобы замаскировать контекст. В.Самохвалов) Я бы хотел поблагодарить Общество Зигмунда Фрейда, в первую очередь фрау Ингрид Шольц-Штрассер за приглашение. С моим прошлым выступлением здесь все было в порядке. Надеюсь, не разочаровать вас и на сей раз. Мне бы не хотелось задерживать вас слишком уж долго, так что постараюсь уложиться, скажем, в полчаса. Если это нормально, тогда я начинаю. Поехали. Как всякий хороший словенский националист, я, конечно же, начну с одного письма Фрейда, где тот упоминает Словению. Фрейд говорит о своем посещении расположенных на берегу [163] Средиземного моря южно-словенских пещер, которые называются Шкотскими. Вам, конечно, известно, что спуск в средиземноморские пещеры для Фрейда служил метафорой входа в преисподнюю бессознательного. Что же случилось там с Фрейдом? Во время этой подземной прогулки, в середине фантастического погружения в мрачную вселенную средиземноморской пещеры его поджидал весьма неприятный сюрприз. Там, в сумерках, прямо перед ним стоял... Наверное, вы уже догадываетесь кто... - Доктор Карл Лёгер.* Фрейд был просто потрясен. Думаю, он столкнулся с материализацией своей собственной теории, а именно с двумя ее моментами. Вам, разумеется, хорошо известно, кем был Лёгер — правый христианский демагог, популист, пользующейся дурной славой антисемит и т.д., короче говоря — хозяин. И, конечно же, все происходящее здесь событие разворачивается вокруг игры слов Leuger, Liege,** luegen.*** На мой взгляд, в этом месте важны две вещи. Прежде всего, Фрейд был против всякой новомодной чепухи, типа "нужно только заглянуть в потаенные глубины собственной души, и там вы столкнетесь с истиной". Нет, заглянув глубоко внутрь себя, столкнешься с Leuger, Liege, luegen. Bo-первых, ничего глубокого там не найдешь. Во-вторых, ничего там не найдешь, помимо хозяина, хозяина-лжеца, хозяина-самозванца. Таково, так сказать, сообщение. То, с чем столкнулся в тот раз Фрейд, Лакан впоследствии назовет, используя свою игру слов, perversion и version du pere.**** Дело здесь не в том, что есть некая общественная сила, которая подавляет наши глубоко скрытые инстинкты и т.д., а в том, что бессознательное — хозяин, и хозяин этот отвратителен. Что я имею ввиду? Теперь — самое интересное. ** Карл Лёгер [Karl Leuger] был губернатором Вены как раз в то время, когда Фрейд писал "Толкование сновидений". Губернатором Лёгер стал в 1897 году; проводимая им политика будет понятна, если напомнить, что Гитлер считал его "самым могущественным из губернаторов всех времен". В 1895 году император Франц Йозеф отклонил кандидатуру Лёгера на этот пост, что послужило для Фрейда поводом к настоящему, сдобренному хорошей сигарой, празднику. — прим.. перев. ***Die Liege (нем.) - кушетка. - прим. перев. **** lugen (нем.) — лгать. — прим. перев. **** perversion (фр.) - перверсия, version du pere (фр.) - версия отца. - прим. пер. [164] Сейчас я приведу другой пример, по-настоящему омерзительный случай из моего собственного опыта, который демонстрирует отвратительность власти. В середине семидесятых я был призван на службу в Народную Югославскую армию. Внешне картина выглядела так: маленькие бараки без специального медицинского оборудования. В этом помещении, которое служило местом сна простых солдат, находился и медбрат. Раз в неделю из расположенного неподалеку военного госпиталя приходил доктор и проводил несколько часов, консультируя больных. В том же помещении рядом с умывальником находилось большое зеркало, под раму которого солдаты вставили вырезанные откуда-то фотографии полуобнаженных девиц, известные как типичные образы, использовавшиеся для мастурбации в допорнографические времена. Когда раз в неделю появлялся доктор, мы усаживались на скамью у стены напротив умывальника, и он начинал свою работу; не в частном порядке, а, вызывая солдат одного за другим по очереди. Пока он обследовал одного, остальные наблюдали за происходящим. Как-то я сидел вместе с другими на этой скамье и ждал своей очереди, а перед доктором стоял молодой полуобнаженный солдат, который жаловался на боль в пенисе. Этого, конечно, уже было достаточно для того, чтобы все, включая и доктора, начали грязно хихикать. Жаловался этот солдат конкретно на то, что кожа на головке его члена слишком тугая, так что, когда она сползает, то натянуть ее обратно ему не удается. Доктор велел ему снять штаны и продемонстрировать проблему (разумеется, публично). Солдат повиновался, кожа плавно соскользнула с головки. Доктор шутливо спросил, мол, в чем, собственно говоря, проблема? Солдат сказал, что проблема возникает только при эрекции. Мы продолжали за ними внимательно наблюдать. Доктор сказал: "Ну, хорошо, давай, начинай мастурбировать, добейся эрекции, а мы тогда проверим, в чем у тебя дело". Парень смутился и с красным лицом принялся мастурбировать перед нами, но, конечно же, вызвать эрекцию было не так-то просто. Здесь началось самое омерзительное. Доктор вынул из под зеркальной рамы фотографию полуобнаженной девицы и, держа ее перед лицом солдата, начал его уговаривать: "Смотри, смотри, какая грудь, какая пизда, давай, мастурбируй. Ну, ну же, давай, давай, что же ты за мужик такой!" Все мы, включая доктора, конечно же сопровождали этот спектакль пакостным смехом. Солдат тоже смущенно хихикал из чувства солидарности с нами и продолжал мастурбировать. Эта сцена вызывает у меня чувства близкие к богоявлению. Это — проявление власти, демонстрация аппарата насилия. Это — неразрывная смесь навязанного наслаждения и унижающего использования власти. Агент властной инстанции отдает суровые приказы, но одновременно и смеется вместе со всеми, и этот смех подчиняет нас ему, устанавливает между нами как очевидцами чувство прочной связи. Меня интересует здесь своего рода короткое замыкание, во время которого единственный агент властной инстанции вдруг начинает подмигивать нам из-за стола в жесте низкопробной солидарности, давая нам понять, что происходящее не стоит принимать всерьез, и укрепляет, тем самым, свою власть. [165] Я считаю, что критика идеологии должна сегодня заниматься изоляцией такого рода мерзкой стороны власти, поскольку эта мерзость вплетена в силовые структуры, замешана на них. Пойдем дальше. Как же все это действует сегодня? В одном из своих писем Фрейд пересказывает хорошо известную шутку об одном недавно женившемся человеке, которого его друг спрашивает, как выглядит его жена. В общем задает самый заурядный обыкновенный в духе мужского шовинизма вопрос человеку, который только что женился: ну как твоя жена? красивая? и т.д. Молодожен отвечает: лично мне она не нравится, но ведь это дело вкуса. В чем заключается парадокс такого ответа? Дело в том, что этот человек сам не редактирует свое высказывание, он не говорит, что она ему не нравится, но он женился из-за денег и т.д. и т.п. Позиция этого молодожена, на мой взгляд, чисто кантовская. Главное в том, что, предлагая такого рода ответ, субъект претендует на то, чтобы занять некую универсальную точку зрения, с которой привлекательность появляется как идиосинкразия, как условная патологическая черта, которую в качестве таковой не следует принимать во внимание. Дело в том, что брак — символический акт, и мы исключаем красоту, а, значит, и патологические черты типа "нравится мне моя молодая жена или нет", которые не стоит принимать во внимание. Конечно же такая позиция высказывания невозможна. Это фальшивая позиция метаязыка. Я говорю о том, что человек сталкивается с такой невозможной позицией в том, что можно назвать миром современного постмодернистского изобилия. Я не могу привести пример из австрийской жизни, но я сталкивался с некоторыми подобными явлениями в Германии, где, по крайней мере читал о них, и особенно в Англии. Это явление уже распространяется и по Соединенным Штатам. Когда, например, скинхэдов, которые бьют иностранцев, или неонацистов, или расистов журналисты спрашивают: "почему вы так поступаете?" Что они на это отвечают? Они неожиданно начинают говорить как работники социальных служб, как социологи или социальные психологи. Например, недавно я читал в одной из английских газет интервью со скинхэдом, который избил иностранца. Когда его поймали и задали этот вопрос, он сказал: "Понимаете, дело в том, что в нашем обществе сокращаются социальные возможности, все меньше социальных гарантий, жизнь не безопасна, положение в семье все более патологично, нет настоящей власти" и т.д., то есть он в точности перечислил все клише поп-социальной, поп-психологической науки. Именно с такого рода ответами я столкнулся в интервью с Жириновским. Есть два взгляда на Жириновского, есть два клише, связанных с этим именем. Первое — такой демагог-популист может появиться только во времена глубокого экономического кризиса и отсутствия социальных гарантий; и второе — такого рода люди появляются только в результате патологической семейной констелляции. Однако, послушаем, что Жириновский говорит о себе самом: "если бы в России была здоровая экономика и социальные гарантии для народа, я бы потерял все [166] голоса, которые получил. Кажется, это моя судьба — у меня не было ни настоящей любви, ни настоящей дружбы" и т.д. Это — объективный взгляд на самого себя. Именно так и действует цинизм в сегодняшнем мире. Надеюсь, как я предвкушаю в своего рода Vorlust,* что вы уже понимаете то, о чем я скажу. Я говорю о том, что в классической критике идеологии сущестувует допущение, что идея заключена в тебе самом: ты можешь это сделать, если не знаешь, что ты делаешь; в тот же момент, когда механизм объяснен, ты уже этого сделать не можешь. В настоящее же время парадокс заключается в том, что люди прекрасно знают, что они делают, и продолжают это делать. С отвратительным примером такого рода логики я столкнулся в одном американском университетском кампусе, где один расист, который зверски набросился на черную женщину, защищался в суде, используя ницшеанскую, дерридианскую деконструктивистскую логику: "как вы можете обвинять меня в расизме, ведь если вы обвиняете меня в нем, разве вы не опираетесь на наивную метафизическую логику целостного субъекта, отвечающего за свои поступки, ведь уже Ницше сказал, что за действием нет субстанционального деятеля; разве вы верите в метафизический антитезис; я не автор своих поступков; это Большой Другой текста говорит через меня, как вы можете меня обвинять?!" Короче говоря, эти люди знают, как манипулировать. Перехожу к последнему примеру из моей серии. На мой взгляд, есть кинофильмы, которые передают такого рода циничный подход в чистом виде. Два последних голливудских фильма мне кажутся в этом достаточно наивном анализе очень интересными с точки зрения того, как функционирует идеология. Надеюсь, вы видели кинофильм "Скорость". Мне этот фильм представляется крайне интересным. Во-первых, в связи со старой голливудской формулой производства пары. Каждому известно, что Кину Ривз гомосексуал, так что возникает проблема, как его вовлечь в пару? Эта проблема разрешается только через стрессовую ситуацию. Во-вторых, еще более интересной мне представляется экономика фильма. (Вы знаете, о чем фильм? — Он об автобусе с заложенной в нем бомбой, который мчится со скоростью пятьдесят миль в час; если скорость будет снижена — автобус взорвется). До определенного момента, для вас, как и для водителя автобуса, ситуация опасная, стрессовая, безумная, вести автобус нужно как можно быстрей, не сбрасывая скорость. Но в какой-то момент ситуация, как мне кажется, переворачивается. В какой-то момент вы понимаете, что движение автобуса по просту говоря это метафора жизни: если ваше сердцебиение в какой-то момент становится ниже определенного порога, вы умираете. К сожалению, не могу больше задерживаться на анализе этого фильма. * Vorlust (нем.) — предудовольствие. В психоанализе предварительное удовольствие проявляется как своего рода предвкушение, зачастую самодостаточное, удовольствия конечного (терминального). — прим. пер. [167] Приведу еще один пример - пример сегодняшнего предельного цинизма. Этот пример из фильма Роберта Земекиса "Форест Гамп". Этот фильм кажется мне интересным потому, что он предлагает в качестве точки идентификации, в качестве Ideal-Ich, в качестве идеал-я некоего простака, что прямо намекает на глупость как ключевую категорию идеологии. Если вы видели этот фильм, то вам понятно, что главный идеологический подход к "Форест Гампу" строится на оппозиции героя (его играет Том Хенкс) и его вечной возлюбленной девушки (ее играет Робин Брайт). Гамп - блаженный невинный простак, как говорится, с благородным сердцем, который выполняет приказания своих начальников, не будучи обеспокоенным никакими идеологическими скандалами или фанатическим поклонением. Он проявляет минимум того, что можно назвать когнитивным картированием. Он захвачен символической машиной, в отношении которой у него нет никакой иронической дистанции. Он пассивный очевидец, участник великих исторических политических битв, значение которых он даже и не пытается понять. Он никогда не задается вопросом, почему он должен воевать во Вьетнаме, почему, его вдруг посылают в Китай играть в пин-понг и т.д. Его любимая девушка полностью погружена в идеологические страты последних десятилетий, в антивьетнамские демонстрации и т.д. Короче говоря, она участвует в истории и активно пытается понять, что же такое на самом деле вокруг творится. Первое, о чем следует помнить, Форест Гамп — идеология в чистом виде, поскольку оппозиция Фореста Гампа и его девушки не равна оппозиции надидеиологической нулевой степени социальной жизни и идеологическими стратами; скорее эта оппозиция проявляет трения между идеологией в чистом виде, бессмысленной идеологической машиной и теми антагонистическими противоречиями идеологии, которые делают хозяев невидимыми. Гамп, этот неторопливый автоматический исполнитель приказов, который даже не пытается ничего вокруг понимать, передает тело невозможно чистому субъекту идеологии, идеалу субъекта, в котором идеология беспрепятственно функционирует. Демистификация фильма показывает, что он представляет идеологию в чистом виде как неидеологию, как надидео логическое благодушное участие в социальной жизни. В конечном счете урок фильма таков: не пытайся понять, подчиняйся и все [168] у тебя будет хорошо. Его девушка, которая умудряется обрести способность своего рода когнитивного картирования социальной ситуации, терпит символическое наказание за свое первое незнание (как вы знаете фильм заканчивается тем, что она умирает от СПИДа). Форест Гамп открывает тайну идеологии: дело в том, что успешное функционирование вовлекает совершенно открытым образом тупость субъекта, тупость, которая в других исторических обстоятельствах оказалось бы безусловно губительной. Сегодня, например, в эпоху цинизма, идеология может позволить себе обнаружить секреты своего функционирования и после этого продолжать нормально функционировать. Иначе говоря, разоблачение тайной машинерии идеологии ни в коей мере не влияет на ее эффективность. Я пытаюсь показать, что, скажем, десять-пятнадцать лет назад подобная ситуация повлекла бы за собой губительные последствия, не такие, как, скажем, в фильмах Джерри Льюиса, в которых неудачник в результате получает все, а тупость — залог успеха. Сегодня эти параметры не могут быть разрушительными. Пойдем дальше. Мне кажется, мы можем столкнуться точно с такой же фальшивостью в позиции, которую занимает традиционный психоаналитик, предпочитающий, чтобы пациент был наивным, несведущим, незнакомым с психоаналитической теорией. Смысл в том, что если анализируемый не знаком с психоаналитической теорией, тогда он сможет проявить чистые симптомы, в которых бессознательное не осквернено рациональным знанием. Вот пример, который мне привел недавно в Анн Арбор один старый американский психоаналитик, между прочим, выходец из Вены. Он сказал мне: разве не здорово было когда-то, сорокпятьдесят лет назад, когда пациент приходил и говорил: "Прошлой ночью я видел сон, в котором убил дракона, затем углубился в густой лес, где нашел дворец, а во дворце...", а ты ему на это говоришь: "Ха-ха! Элементарно! Ты убил отца, а во дворце встретился с матерью и т.д." Он сказал мне, что проблема сегодня в том (может быть у вас, декадентов, здесь, в Вене все по-другому), что пациент прямо производит теорию. Он приходит и говорит: "У меня невроз навязчивых состояний". Симптом прямо налагается на его собственную интерпретацию. Невинность утрачена. Вот почему я согласен с фанатичными лаканистами, утверждающими (хотя звучит это совершенно безумно), что сегодня мы имеем не симптомы, которые потом по-юнгиански, по-лакановски, по-фрейдовски, по-аннафрейдовски и т.п. и т.д. интерпретируем, а перед нами уже находятся юнгианские симптомы, лакановские симптомы и т.д.. Симптомы больше не являются невинными. Если мы принимаем то, а лаканианцы именно так и считают, что симптом — это всегда послание Другому, расположенному в теле аналитика, тогда симптом как бы включает, налагает свою собственную интерпретацию. Симптом не невинен. Есть определенное знание, уже заранее приведенное в действие в симптоме. Иначе говоря, перед нами всегда симптом, который уже буквально * Autre с большой буквы (А), в отличие от autre с маленькой (а), означает неприсваемого, непоглощаемого, неподобного Другого. ~ прим. пер. [169] содержит в себе указание на определенное теоретическое направление возможной интерпретации. Вопрос, конечно, что же нам теперь делать? Что нам делать, если то, что я говорю, имеет место, если эта рефлексивная дистанция уже втянута в игру, если мы глубоко увязли в этой циничной игре — я знаю, что делаю, и, тем не менее, продолжаю это делать. Так, например, хороший пациент объясняет совершенно точно, почему у него невроз навязчивости, и продолжает при этом оставаться навязчивым невротиком. Я даже сомневаюсь в том, что это знание его хоть немного волнует, хоть как-то удерживает от навязчивого невроза. Напротив, оно создает благоприятные условия для этого невроза. У него невроз навязчивых состояний именно потому, что ему известно: теория, собственно говоря, и конституирует так называемую непосредственную психическую реальность. Так что же с этим делать? Конечно, искушение здесь велико — регрессировать, вернуться в век, так сказать, прямого несимволического вторжения. Можно подвергнуться непосредственному вторжению в тело, прибегая к своего рода райховской терапии, полагающей, что работы со словом недостаточно, что мы живем в век цинизма, что говорить теперь можно о чем угодно, и поэтому давайте займемся телом, обратимся к своего рода недискурсивной интеллектуальной интуиции, своего рода мистическому прозрению. Стоит нам сделать этот шаг или нет? Я, конечно, считаю — нет. Ведь здание психоанализа строится на том, что существует знание, толкование, производящие атаки на реальность, на том, что можно, как говорит Остин, не только создавать вещи, которые будут работать, но и разбирать вещи, заставляя их работать. Важная битва происходит в области философии, в сфере так называемой современной субъективности, поскольку за словами "знание больше не работает", "мы должны стремиться к непосредственному вторжению в тело", за всем этим стоит новая инициация картезианской субъективности. Нужно ли нам из нее выходить, или нет? Я говорю — нет. Каждый из нас имеет то, что я называю позицией Йозефа Геббельса. Я имею ввиду известную вам фразу "Когда я слышу слово культура, то хватаюсь за пистолет" (вы можете вспомнить разные вариации этого высказывания, например, слова из кинофильма Годара "Презрение", где кинопродюсер говорит, "когда я слышу слово культура, то хватаюсь за чековую книжку", или вы можете придумать свою версию, типа, "когда я слышу слово пистолет, то ищу свою культуру" и т.д.). На мой взгляд, позиция Иозефа Геббельса проявляется сегодня в заявлениях о том, что сегодня картезианская субъективность приходит к своему концу, что мы на пороге новой эры холистического подхода, что механистическая научная парадигма больше не действует... Все эти слова о том, что субъект рассеян, что целостный картезианский субъект больше не существует и т.д. постоянно звучат в виртуальных сообществах, в виртуальных реальностях, в генерированных компьютером универсумах. На мой взгляд правда, все как раз-таки с точностью до наоборот. Говоря со многими фанатиками [170] интерактивных медиа, я заметил, что они могут играть с CD Rom'ами, делать одно, другое, пятоедесятое, но настоящее психическое инвестирование [Besetzung] производится не здесь, а в конституировании так называемых виртуальных сообществ. Тысячелетия существуют, так сказать, реальные человеческие сообщества, и сейчас очевидно — невероятно мощное стремление организовать сообщества виртуальные. Интересно то, что в этих связанных экранами виртуальных сообществах, вы можете выбрать себе, сконструировать свою собственную идентичность. Например, вы можете быть гомосексуалом с афро-американским именем, но в виртуальное сообщество, в кросс-сексуальное сообщество вы можете войти, скажем, как гетеросексуальная испанская женщина. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что все ваши физические свойства заменяемы, а вот неизменным в субъекте остается именно cogito ergo sum, то есть картезианский субъект. Я считаю, что только там, в виртуальном сообществе достигаем мы уровня картезианской субъективности; мы не только не вышли за ее пределы, но еще только приближаемся к ней. Что же касается этических проблем, то здесь мы видим, как теория Лакана опередила свое время. Этические проблемы весьма популярны среди тех, кто входит в состав виртуальных сообществ. Скажем, вы — гомосексуал, разыгрывающий в виртуальном пространстве роль гетеросексуальной женщины. Допустим, кто-то в виртуальном сообществе относится к вам очень грубо, насилует вас и т.д. Является ли это преступлением, изнасилованием, или нет? Вопервых, обе крайности должны быть отброшены. Можно сказать, это не реальное насилие, а только виртуальное, и можно сказать, как это делает Катрин МакКиннан, что слова насилуют непосредственно. Мне кажется, мы должны утверждать то, что события, с которыми мы имеем дело в виртуальной реальности, не настолько отличны от тех, с которыми мы сталкиваемся в так называемой реальности обыденной. Мне кажется, виртуальная реальность помогает нам обнаружить то, что в нашей так сказать реальной реальности наша идентичность тоже в известном смысле виртуальна. Если вы — женщина, оскорбленная, униженная, изнасилованная, то, конечно, это физическая травма, но все-таки оскобление, унижение предполагают, что ваше идентичность была травмирована, ваша виртуальная идентичность, а не идентичность, непосредственно зависящая от вашего биологического тела, даже если и социально сконструированного. И опять же: почему люди так боятся виртуальной реальности? Мой старый тезис таков: не потому что мы входим в новую вселенную, в которой все по-другому и т.д. Нет. А потому, что подлежащие ей структуры, структуры, которые всегда были здесь, среди нас, теперь становятся видимыми. Вернемся теперь к изначальному вопросу о цинизме. Как нам с ним бороться? Я думаю, нужно противопоставить цинизм и иронию. Если наивно представить себе, что цинизм это плохой парень, а ирония — хороший, как мы должны их противопоставить друг другу? Фундаментальный жест цинизма, по-моему, заключается в разоблачении настоящей власти, чья единственная эффективность, как мне кажется, проявляется в принуждении, или в подчи- [171] нении кого-то под предлогом защиты кого-то другого. Вот пример типично циничного подхода: мужчина говорит женщине: "я всегда буду с тобой, я готов пожертвовать собой ради тебя" и тому подобные патетические слова; циничной будет такая ее мысль: "ха-ха-ха, он хочет просто использовать мою сексуальность, хочет моих денег" и т.д., то есть если за высокопарными идеологическими фразами она признает низкие, пошлые, прагматичные мотивы. Такова циничная редукция. Лучший способ определить иронию — просто сказать, что ирония противоположна приведенным примерам цинизма. Ирония, в противоположность цинизму, способна служить, идентифицировать через привязанность в высвобождающе отчужденном безразличии. Например, ирония способна показать, как негодяй, оскорбляющий, унижающий нашего сексуального партнера, открывает, выражает нашу неготовность принять наш долг перед нашей привязанностью. Фрейд, по-моему, очень удачно сформулировал это в "Я и Оно", сказав, что человек не только намного более аморален, чем думает, но также и намного более морален, чем полагает". Это — иронический жест. Легко сделать циничный жест, жест демистификации, разоблачения, выведения на чистую воду, говоря, мол, ты идентифицируешься с грязными властными мотивами, или, мол, за возвышенными фразами скрывается похоть. Проблема, по-моему, в другом. За поверхностным циничным отношением обычно скрывается глубокая, даже фанатичная привязанность. Мне кажется, что здесь вновь возникает вопрос о судьбе психоанализа. Обычно психоанализ принято квалифицировать, классифицировать, идентифицировать как проявление определенного цинизма. Психоаналитическая интерпретация, психоаналитическая практика включают акт различения низких мотивов, сексуальную похоть, неведение, агрессивность за очевидно благородными жестами духовного возвышения, принесения себя в жертву и т.д. Все это превращает психоанализ в цинизм в чистом виде. Вы говорите, мол, готовы принести себя в жертву своей родине, а психоаналитик в ответ на это, разумеется, обнаруживает подлежащие мотивы и заявляет: "ха-ха, это у вас бессознательный мазохизм, проявление агрессивности" и [172] т.д. Я думаю, что это еще не последнее слово. Все не только куда более загадочно, но даже просто наоборот. Психоанализ в своей сильной части говорит, что за человеком, который притворяется нормальным, циничным, практичным и т.д. находится символически мертвая зона, находятся непризнанные обязательства. В этом содержится, на мой взгляд, более радикальный парадокс психоанализа. Как вопреки хозяину, редактирующему обязательства в бессознательном, люди оказываются более моральными, чем они утверждают. Этот момент также объясняет и логику национализма. Вот что меня поражает: многие мои бывшие друзья, особенно из Загреба, Белграда, будучи пятнадцать-двадцать лет крайне циничными космополитами, вдруг стали фанатичными националистами. Это удачно показывает логику иронии. Легко сказать, что за этим национализмом скрываются поверхностные мотивы стремления к власти и т.д. Все скорее как раз-таки наоборот, что меня вновь и вновь заставляет удивляться. Тот, кого ты считал абсолютно циничным, рациональным, открытым человеком, становится вдруг фанатиком, фундаменталистом, подписывающим соглашение с нацией, всегда готовым это признать. Лакан учит нас как по-другому подходить к кантовской этике. Обычный подход таков: категорический императив это как бы тестирующая машина, хотя сам Кант об этом не говорил. То есть этим императивом мы тестируем реальность, насколько наше поведение относительно других универсально; я знаю, в чем заключается мой долг и т.д. Думаю, не на это был нацелен Кант, поскольку в этом случае ответственность по-прежнему перекладывается на другого. По-моему, Кант более радикален. Обычный гегелевский упрек Канту, что это, мол, формализм, что кантовская этика де чисто тавтологическое "исполняй свой долг" и т.д. Но мне кажется, что у Канта содержится и более глубокое послание. Кратко говоря, — структура этического, структура долга обладает структурой того, что Кант в "Критике способности суждения" называет эстетическим суждением. Это значит, что и в своей этической деятельности вы не просто прибегаете в каждой конкретной ситуации к универсальным правилам. Но по поводу каждой конкретной ситуации нужно изобретать свою собственную универсальность, изобретать правила для каждой конкретной ситуации. Вот почему универсальное этическое предписание чисто тавтологично. В чем же долг? Долг в том, чтобы исполнить долг. Но в чем мой долг? — спросите вы. Ха, а это уж вы сами и решайте. Вы целиком несете за это ответственность. Так что мне кажется и с Кантом дело обстоит противоположным образом. А именно, не только, как Кант не устает повторять, что не следует... но и здесь вновь мы сталкиваемся с циничным расколом [Spaltung], вы не можете сказать: я знаю, это мой долг, но, извините, моя натура слишком велика для этого, я этого сделать не могу... Как говорит Кант, ваша патологическая слабость не может служить оправданием. Все наоборот. И для меня это самое интересное. Как всем известно, мы сталкиваемся порой с ситуацией, при которой ты должен исполнить свой долг, но при этом причинить [173] боль друзьям. Вы не можете также сказать другу: извини, но я должен так поступить, таков мой долг. Нет. Даже долг не может служить оправданием долгу. Вы целиком несете ответственность за свой долг. Причем здесь Лакан? — спросите вы. Лакан говорит: l'analyste пе sautorize que de lui-meme, то есть психоаналитик сам облечает себя властью, нет никакого внешнего гаранта. То же самое касается и этики: твой долг изобрести свой долг, за который ты несешь полную ответственность. Перевод с английского Виктора Мазина [174]
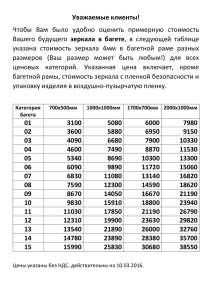
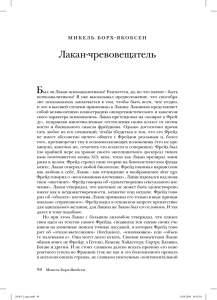
![ДРУГОЙ (Ж. ЛАКАН) «[Один приверженец экзистенциализма] ого-](http://s1.studylib.ru/store/data/000445074_1-3861dc06a281e0bf5c0ac0dfbe6e9145-300x300.png)