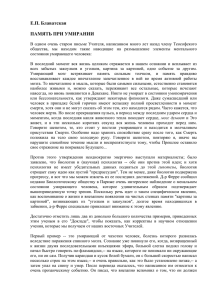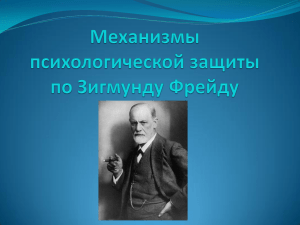Процесс второй индивидуации в подростковый период Питер
advertisement
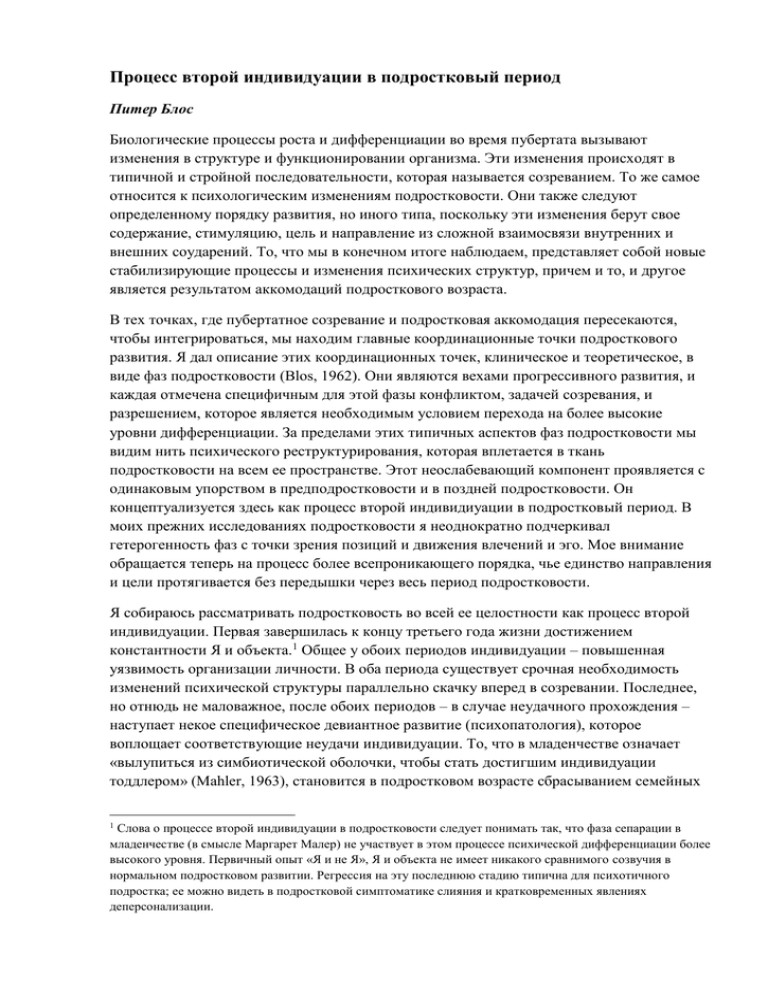
Процесс второй индивидуации в подростковый период Питер Блос Биологические процессы роста и дифференциации во время пубертата вызывают изменения в структуре и функционировании организма. Эти изменения происходят в типичной и стройной последовательности, которая называется созреванием. То же самое относится к психологическим изменениям подростковости. Они также следуют определенному порядку развития, но иного типа, поскольку эти изменения берут свое содержание, стимуляцию, цель и направление из сложной взаимосвязи внутренних и внешних соударений. То, что мы в конечном итоге наблюдаем, представляет собой новые стабилизирующие процессы и изменения психических структур, причем и то, и другое является результатом аккомодаций подросткового возраста. В тех точках, где пубертатное созревание и подростковая аккомодация пересекаются, чтобы интегрироваться, мы находим главные координационные точки подросткового развития. Я дал описание этих координационных точек, клиническое и теоретическое, в виде фаз подростковости (Blos, 1962). Они являются вехами прогрессивного развития, и каждая отмечена специфичным для этой фазы конфликтом, задачей созревания, и разрешением, которое является необходимым условием перехода на более высокие уровни дифференциации. За пределами этих типичных аспектов фаз подростковости мы видим нить психического реструктурирования, которая вплетается в ткань подростковости на всем ее пространстве. Этот неослабевающий компонент проявляется с одинаковым упорством в предподростковости и в поздней подростковости. Он концептуализуется здесь как процесс второй индивидиуации в подростковый период. В моих прежних исследованиях подростковости я неоднократно подчеркивал гетерогенность фаз с точки зрения позиций и движения влечений и эго. Мое внимание обращается теперь на процесс более всепроникающего порядка, чье единство направления и цели протягивается без передышки через весь период подростковости. Я собираюсь рассматривать подростковость во всей ее целостности как процесс второй индивидуации. Первая завершилась к концу третьего года жизни достижением константности Я и объекта.1 Общее у обоих периодов индивидуации – повышенная уязвимость организации личности. В оба периода существует срочная необходимость изменений психической структуры параллельно скачку вперед в созревании. Последнее, но отнюдь не маловажное, после обоих периодов – в случае неудачного прохождения – наступает некое специфическое девиантное развитие (психопатология), которое воплощает соответствующие неудачи индивидуации. То, что в младенчестве означает «вылупиться из симбиотической оболочки, чтобы стать достигшим индивидуации тоддлером» (Mahler, 1963), становится в подростковом возрасте сбрасыванием семейных Слова о процессе второй индивидуации в подростковости следует понимать так, что фаза сепарации в младенчестве (в смысле Маргарет Малер) не участвует в этом процессе психической дифференциации более высокого уровня. Первичный опыт «Я и не Я», Я и объекта не имеет никакого сравнимого созвучия в нормальном подростковом развитии. Регрессия на эту последнюю стадию типична для психотичного подростка; ее можно видеть в подростковой симптоматике слияния и кратковременных явлениях деперсонализации. 1 зависимостей, ослаблением инфантильных объектных связей, для того чтобы стать свободным членом общества, или попросту взрослого мира. В метапсихологических терминах мы сказали бы, что только после завершения подростковости репрезентации Я и объекта обретают стабильность и твердые границы, то есть они становятся резистентны к подвижкам катексиса. Эдипальное суперэго – в противоположность архаичному суперэго – теряет в этом процессе часть своей жесткости и мощи, тогда как нарциссический институт эго-идеала обретает более всеобъемлющую заметность и влияние. Таким образом, поддержание нарциссического равновесия еще больше интернализуется. Эти структурные изменения делают постоянство самооценки и настроения все более независимыми от внешних источников или, по меньшей мере, зависимыми от внешних источников по собственному выбору. Разрывание связей с интернализованными объектами – объектами любви и ненависти –в подростковый период открывает путь к тому, чтобы найти внешние и внесемейные объекты любви и ненависти. В раннем детстве, в период фазы сепарации-индивидуации, когда ребенок обретает психологическую отдельность от конкретного объекта, матери, бывает наоборот. Отдельность достигается через процесс интернализации, который постепенно способствовует растущей независимости ребенка от присутствия матери, от ее действий по уходу и от ее эмоциональных запасов как основных, если не единственных, регуляторов психофизиологического гомеостаза. Прогресс от симбиотического единства ребенка и матери к состоянию отдельности от нее отмечен формированием внутренних регулирующих способностей, которым помогают и способствуют продвижения в физическом созревании – особенно в моторике, перцепции, а также речевые и когнитивные. Процесс движется словно маятник, и то же самое мы вновь видим в процессе второй индивидуации подростковости. Регрессивные и прогрессивные движения сменяют друг друга через более краткие или более долгие промежутки, легко создавая у случайного наблюдателя впечатление неравномерности физического созревания ребенка. Только наблюдение в течение какого-то периода времени позволяет нам оценивать поведение среднего тоддлера, или среднего подростка, насколько оно нормально или девиантно по природе. Подростковая индивидуация является отражением тех структурных изменений, которые сопровождают эмоциональное разрывание связи с интернализованными, инфантильными объектами. Сложность этого процесса давно уже находится в центре аналитического внимания. Собственно говоря, на сегодняшний день является аксиомой, что без успешного разрыва связи с инфантильными, интернализованными объектами что-то мешает найти новые, внесемейные объекты любви во внешнем мире, есть какая-то преграда, или поиск ограничивается просто их повторением или заменой. Эго по природе своей вовлечено в этот процесс. До подросткового возраста родительское эго было избирательно доступно ребенку как законное продолжение его собственного эго. Такое состояние является неотъемлемым аспектом детской зависимости на службе сдерживания тревоги и регуляции самооценки. После разрыва инфантильных зависимостей либидо в подростковом возрасте, привычные для латентного периода зависимости эго отвергаются тоже. Поэтому в подростковом возрасте мы видим и относительную слабость эго, из-за интенсификации влечений, и абсолютную слабость эго, из-за того, что подросток отвергает поддержку родительского эго. Оба эти типа слабости эго смешиваются в наших клинических наблюдениях. Распознавать эти различные элементы подростковой слабости эго не только теоретически интересно, но и практически полезно в нашей аналитической работе. Это проясняет иллюстрация из конкретного случая. Молодой юноша-подросток, мучимый кастрационной тревогой, позаимствовал магическую защиту у своей матери: «Ничего плохого никогда не случится, пока об этом не думаешь». То, как мальчик использовал контроль за мыслями на службе управления тревогой, обнажило два компонента, нерасторжимо связанные вместе. Компонент влечений заключался в мазохистическом подчинении мальчика воле и советам своей матери, тогда как компонент эго узнаваем в том, что он, чтобы успокоить свою тревогу, позаимствовал магию матери. Эго ребенка идентифицировало себя с материнской системой контроля тревоги. С приходом пубертата, обновленное, и даже неистовое использование материнской магии только усилило его зависимость от нее, тем самым указав единственный путь, по которому могло пойти его сексуальное влечение, а именно – к инфантильной садо-мазохистической покорности. Используя магический прием своей матери, он сделал себя жертвой ее всемогущества, тем, что разделял ее фальсификацию реальности. Либидинизация покорности преграждала путь прогрессивному развитию. Магический прием смог стать чуждым эго только после того, как эго продвинулось в критическом самонаблюдении и тестировании реальности. Иначе говоря: только после того, как была опознана кастрационная тревога в отношении архаической матери, фаллическая модальность смогла утвердить себя и противодействовать пассивнопокорной тенденции. Рост способности к тестированию реальности шел параллельно отказу от инфантильных позиций эго, тем самым расширяя сферу автономного эго. Разрыв с инфантильным объектом всегда идет параллельно созреванию эго. Столь же верно и обратное, что недостаточность или нарушенность эго-функций подростка являются симптомами фиксации влечений и зависимости от инфантильных объектов. Кумулятивные изменения эго, которые идут параллельно прогрессии влечений в каждой фазе подростковости, накапливаются, переходя в обновление структуры, которое является конечным результатом второй индивидуации. Без сомнения, в течение подростковости появляются уникальные и новые способности эго, такие, как, например, поразительные продвижения в когнитивной сфере (Inhelder and Piaget, 1958). Однако наблюдение заставляет нас задаваться вопросами по поводу их первичной автономии и, кроме того, их независимости от созревания влечений. Опыт учит нас, что каждый раз, когда развитие влечений сильно отстает от эго-дифференциации подростка, новообретенные функции эго неизменно оказываются втянутыми в деятельность защит, и теряют свой автономный характер. И наоборот, продвижение в созревании влечений воздействует на дифференциацию эго, и на его благоприятное функционирование. Взаимная стимуляция влечений и эго происходит наиболее энергично и эффективно, если они оба действуют и прогрессируют в оптимальной близости друг к другу. Ослабление инфантильных объектных связей не только освобождает место более зрелым или соответствующим возрасту отношениям, но одновременно эго все более противится восстановлению устаревших и отчасти отброшенных состояний эго и удовлетворению влечений из детства. Психоаналитики, работающие с подростками, всегда дивились этой центральной сосредоточенности на отношениях. Интенсивность и сила проявлений объектнонаправленных влечений, или их зажатости, не должна, однако, заслонять от нас радикальных изменений в структуре эго, которые происходят в это время. Общая сумма этих структурных изменений сохраняется и после подростковости как стойкие характеристики личности. Что я пытаюсь передать, это особый характер психического реструктурирования в подростоковости, когда сдвиги в объектном либидо приводят к изменениям эго, которые, в свою очередь, придают процессу утраты объекта и обретения объекта («отталкивания» и «удерживания») не только более неотложный характер, но также и более широкий адаптивный объем. Эта круговая реакция в норме завершается к концу подростковости, когда в результате нее эго обретет четкую и определенную организацию. В рамках этой организации остается широкое поле для развития в течение взрослой жизни. На это развитие решающим образом влияет эго-идеал. Теперь мы обратимся к тому курсу, которым идет индивидуация в течение подростковости. Изучая этот процесс, мы многому научились от тех подростков, которые обходят трансформацию психической структуры и заменяют разрывание связи с внутренними объектами на их поляризацию; в таких случаях социальная роль и поведение, ценности и мораль определяются тем, чтобы быть демонстративно непохожим на интернализованное имаго, или даже просто его противоположностью. Нарушения эго, которые можно видеть в отыгрывании, трудностях с обучением, отсутствии цели, прокрастинации, смене настроений и негативизме, часто являются симптомами кризиса или сбоя в попытках порвать с инфантильными объектами и, следовательно, они будут признаком того, что сам процесс индивидуации сошел с рельсов. Мы как клиницисты, когда подросток полностью отвергает свою семью и свое собственное прошлое, узнаем в этом отчаянную попытку как-то обойти болезненный процесс разрывания связей . Такое избегание обычно бывает временным, и такие задержки ликвидируются сами. Однако они могут принимать зловещие формы. Нам знакомы ситуации, когда подросток убегает из дома, уезжает кататься на краденом автомобиле, бросает школу, бездельничает в ожидании неизвестно чего, обращается к промискуитету и наркотикам. Во всех этих случаях конкретность действия подменяет собой достижение задач развития, как, например, когда географическое перемещение прочь из дома подменяет психологическое дистанцирование от детских зависимостей. Тем или иным способом эти подростки обычно отдаляют себя, подчеркнуто и окончательно, от своих семей, убежденные, что никакой полезной коммуникации между поколениями быть не может. Проводя оценку таких случаев, часто приходишь к выводу, что подросток «делает неправильные вещи по правильным причинам». В чрезвычайных мерах бурного разрыва с непрерывностью детства и семьи нельзя не увидеть бегство от ошеломляющей регрессивной тяги к инфантильным зависимостям, грандиозности, безопасности и удовлетворению. Само усилие по отрыву от инфантильных зависимостей находится в созвучии с подростковой задачей, но использованные средства часто преждевременно прерывают движение к зрелости. Для многих подростков этот энергичный разрыв представляет собой передышку, остановку перед тем, как возобновится прогрессивное развитие. Для многих, однако, он превращается в образ жизни, который рано или поздно приводит назад, к тому, чего первоначально так хотелось избежать, а именно к регрессии. Насильно создавая физическое, географическое, моральное и идеологическое дистанцирование от семьи или местности своего детства, этот тип подростка добивается возможности обойтись без внутренней сепарации. В своей реальной отдельности и независимости он переживает пьянящее чувство торжества над своим прошлым, и постепенно впадает в зависимость от своего состояния внешней свободы. Контркатектическая энергия, используемая для поддержания этой стадии жизни, служит объяснением порой поразительной неэффективности, эмоционального отсутствия глубины, прокрастинации и выжидательного состояния, характеризующих различные формы избегания индивидуации. Совершенно верно, физическая отдельность от родителей или поляризация прошлого через изменение социальной роли, стиля одежды или прически, своих особых интересов и морального выбора, часто представляет собой единственное средство, при помощи которого подросток может поддерживать свою психологическую целостность во время той или иной критической стадии процесса индивидуации. Однако степень зрелости, достигнутая в конечном итоге, будет зависеть от того, как далеко зайдет процесс индивидуации, или где он зайдет в тупик или останется незавершенным. Из вышесказанного следует, что вторая индивидуация есть понятие относительное: с одной стороны, она зависит от зрелости влечений, а с другой стороны, она зависит от приобретенной износостойкости структуры эго. Вторая индивидуация, таким образом, означает, в том числе, те изменения эго, которые являются аккомпанементом и следствием подросткового разрыва с инфантильными объектами. Индивидуация предполагает, что растущий человек берет на себя все больше ответственности за то, что он делает и кем является, вместо того, чтобы возлагать эту ответственность на плечи тех, под чьим влиянием и воспитанием он вырос. В наше время стало широко распространенной позой для наиболее образованной части подростков винить своих родителей или общество («культуру») за недостатки и разочарования его юности, или в трансцендентном масштабе рассматривать неодолимые силы природы, инстинкт, судьбу и тому подобные общие рассуждения как запредельные и абсолютные правящие жизнью силы. Подростку, занявшему такую позицию, кажется бессмысленным восставать против этих сил; он скорее объявляет, что позиция безропотного отсутствия цели является подлинным показателем зрелости. Он становится в безразличную позу Мерсо из «Постороннего» Камю. Неспособность отделиться от внутренних объектов иначе, как отстранением, отвержением и обесцениванием, субъективно переживается как чувство алиенации. Мы узнаем в нем настроение, внутренне присущее значительной части сегодняшних подростков, многообещающих сыновей и дочерей, которые выросли в честолюбивых, но балующих их, часто прогрессивных и либеральных семьях в основном среднего класса. Изучая морфологию подростковой индивидуации в исторической перспективе, мы обнаруживаем, что каждая эпоха вырабатывает свои доминирующие роли и стили, при помощи которых эта подростковая задача проводится и социализируется. Такие эпифеномены процесса индивидуации часто тем или иным образом оказываются в оппозиции к установившемуся порядку.2 Крайне важным различием остается, будет ли этот новый способ жизни смещенным полем битвы за свободу от детских зависимостей, тем самым приводя к индивидуации, или же новые формы станут постоянной заменой детских состояний, тем самым предотвращая прогрессивное развитие. Патогномоническая значимость физической сепарации, такой как «убежать из дома», «бросить школу», или броситься во взрослые по форме, в особенности сексуальные, стили жизни, может быть определена только, если ее рассматривать в соотношении с этосом данного времени (Zeitgeist), со средой в целом и с ее традиционно санкционированными формами поведения, которые дают выражение пубертатным потребностям. Пубертатная интенсификация влечений вновь активирует первичные объектные отношения в контексте определенных предпочтительных, догенитальных модальностей влечений. Однако либидо и агрессия не просто совершают в ходе подростковости поворот налево кругом, от первичных любовных объектов к неинцестуозным объектам. Эго все это время вовлечено в эти перемещения катексиса, и в процессе их оно приобретает структуру, по которой можно определить постадолесцентную личность. Подростковая индивидуация, таким образом, отражает некий процесс и некое достижение, которые оба представляют собой неотделимые компоненты подросткового процесса в целом. Теперь я отвлекусь от описания всем знакомых подростковых аккомодаций и обращусь к обсуждению их значения для теории. Процесс разрыва связей с инфантильными объектами, столь важный для прогрессивного развития, обновляет контакты эго с инфантильными влечениями и с инфантильными эго-позициями. Постлатентное эго, так сказать, готово к этому регрессивному столкновению, и способно на иные, более устойчивые и адекватные возрасту решения инфантильных предпочтений. Восстановление позиций инфантильного влечения и эго является необходимым компонентом процесса подросткового разрывания связей. Относительно стабильные эгофункции, например, память или контроль моторики, и, более того, относительно стабильные психические инстанции, например, суперэго или образ тела, проходят через удивительные флюктуации и изменения своих исполнительных функций. Обученный наблюдатель может распознать в кратковременном сбое и в конечном восстановлении этих функций и инстанций их онтогенетическую историю. Возникает искушение говорить механистически о сборке психических деталей подростка в рамках фиксированного психического аппарата. Суперэго, которое когда-то представлялось негнущейся постэдипальной инстанцией, проходит значительную реорганизацию в ходе подростковости (A.Freud, 1952). Аналитическое наблюдение изменений суперэго в подростковый период было весьма поучительно для изучения подвижности протоподростковых психических структур. Теперь давайте поближе рассмотрим изменчивость этой постэдипальной инстанции. Например, можно вспомнить демонстративно простую и удобную одежду, которую некоторая часть образованных немецких юношей ввела во второй половине 18 века, в качестве реакции на французскую утонченность и изящество тогдашней мужской одежды. Они срывали тонкое кружево со своих сорочек, и дополняли это открытой демонстрацией бурных чувств между юношами (слезы, объятия). Парик был заменен свободно развевающими натуральными волосами. Влияние Русо и реакция на «фальшь существующего порядка» сочетались у этих юношей, создавших свой собственный непривычный и естественный стиль, и, более этого, вносило свою лепту в политическое брожение тех дней. 2 Регрессивная персонификация суперэго проявляется с величайшей ясностью во время анализа подростков. Это позволяет нам взглянуть на его происхождение из объектных отношений. Распутывание процесса, который привел к формированию суперэго – это как прокручивание фильма назад. Это можно показать на выдержках из анализа двух подростков. Оба они были неспособны подчиняться никаким рутинным требованиям повседневной жизни; оба они были безнадежны в какой бы то ни было работе, а также и в какой бы то ни было любви. Мальчик, подросток старшего возраста, начал приходить в недоумение от того факта, что он одинаково пренебрегает тем, что ему нравится делать, и тем, что ему не нравиться делать. Последнее он легко мог понять, но первое казалось ему бессмысленным. Он уловил у себя предсознательную мысль, которая сопровождала его деятельность или выбор ее. Он спрашивал себя: «Посчитала ли бы моя мать, что я делаю что-то хорошее; хотела ли бы она, чтобы я это делал?» Утвердительная мысль автоматически все портила, даже если занятие был приятным. В таком случае он становился совершенно неактивным, пытаясь игнорировать постоянное психическое присутствие матери и ее влияние на его жизнь в выборе и действии. Он продолжал рассказывать о своей дилемме: «Когда я знаю, что моя мать хочет, чтобы я делал то, что я хочу делать – то есть, если мы оба хотим одного и того же – то я впадаю в смущение и прекращаю то, чем занимался». Девочка, подросток старшего возраста, которая все свое детство руководствовалась в своих действиях тем, чтобы добиться похвал и восхищения от своих близких, в позднем подростковом возрасте приняла образ жизни, резкой противостоящий стандартам и стилю семьи. Она прекратила быть тем, чего, как она думала, от нее хотят другие. К ее огорчению, выбранная ею независимость не давала ей никакого чувства самоопределения, потому что, куда ни повернись, вклинивалась мысль об одобрении или неодобрении ее родителей. Она чувствовала, что ее решения не были ее собственными, потому что они руководствовались тем, чтобы делать обратное тому, чем будут довольны ее родители. В результате получился полный тупик в отношении действий и решений. Ее качало тудасюда на легком ветерке обстоятельств. Все, что она могла сделать, это передать родительские права руководства своим друзьям обоего пола, живя из вторых рук, через их ожидания и удовлетворение, в то же время мучаясь постоянным страхом поддаться их влиянию, или, на более глубоком уровне, слиться с ними и утратить свое чувство Я. В обоих случаях переплетение суперэго с инфантильными объектными отношениями привело к тупику в развитии. То, что в норме достигается в ходе латентности, то есть, ослабление инфантильной объектной зависимости через идентификации и через организацию суперэго, в обоих случаях не прошло успешно. Вместо этого примитивные идентификации, заложенные в архаическом суперэго и на стадиях предвестников суперэго, оставили мощный отпечаток на этих двух подростках. Фантазии уникальности и грандиозные ожидания от себя, которые когда-то реализовывались через идентификацию с всемогущей матерью, делали все целенаправленные действия болезненно несущественными и разочаровывающими. Подростковая задача реорганизации суперэго отбросило этих двух подростков обратно на архаический уровень примитивных идентификаций (A.Reich, 1954). Происхождение суперэго из эдипальных и доэдипальных объектных отношений делает эту психическую инстанцию предметом радикального пересмотра в подростковом возрасте. Неудивительно, что нарушения суперэго представляют собой уникально подростковое отклонение. Всюду, где вторичная автономия эго-функций лишь ненадежно достигнута в детстве, объектное либидо продолжает получать удовлетворение от их действия. Это наследие приведет функции суперэго в катастрофический беспорядок с наступлением пубертатного созревания. Если поведение подростка диктуется, массивно и длительно, защитой от инфантильного объектного удовлетворения, то это не позволит произойти подростковой реорганизации суперэго; иными словами, подростковая индивидуация остается незавершенной. Аналитическая работа с подростками демонстрирует, почти монотонно, как функции эго и суперэго заново вовлекаются в инфантильные объектные отношения. Изучение этого вопроса убедило меня, что опасность для целостности эго происходит не единственно из силы пубертатных влечений, а в равной мере приходит из силы тяготения к регрессии. Отбросив предположение о фундаментальной враждебности между эго и ид, я пришел к выводу, что задача психического реструктурирования путем регрессии представляет собой наиболее трудную психическую работу подростковости. Точно так же, как Гамлет жаждет утешений сна, но боится сновидений, которые может принести сон, так подросток жаждет утешений удовлетворения влечений и эго, но боится вновь втянуться в инфантильные объектные отношения. Парадоксально, что задача подростковости может быть выполнена только через регрессию влечений и эго. Только через регрессию в подростковом возрасте могут остатки инфантильных травм, конфликтов и фиксаций быть модифицированы путем воздействия на них возросших ресурсов эго, которые в этом возрасте получают поддержку от разогнавшегося развития роста и созревания. Это мощное продвижение вперед делается возможным в результате той дифференциации эго, или той зрелости эго, которая является нормальным наследием периода латентности. Привязанная к реальности самонаблюдающая часть эго в норме сохраняется, по крайней мере маргинально, целостной в ходе регрессивных движений подростковости. Таким образом, опасности регрессии становятсяменьше или регулируются, отвращая катастрофическую опасность регрессивной утраты собственного Я, возвращения к недифференцированной стадии или слияния. Гелерд (Geleerd, 1961) предположила, что «в подростковом возрасте происходит частичная регрессия на недифференцированную фазу объектных отношений». В более поздней работе, основанной на ее предшествующих исследованиях, Гелерд (Geleerd, 1964) расширяет свой взгляд и утверждает, что «растущий индивидуум проходит через много регрессивных стадий, в которых участвуют все три структуры». Эта последняя формулировка была подтверждена клинической работой, и теперь является интегральной частью психоаналитической теории подростковости. Хартман (Hartmann, 1939) заложил основу для этих рассуждений о развитии в своей формулировке «регрессивной адаптации». Эта адаптивная модальность играет некоторую роль на протяжении всей жизни во всевозможных критических ситуациях. Что я подчеркиваю здесь, это тот факт, что подростковость есть единственный период в человеческой жизни, в ходе которого регрессия эго и влечений составляют обязательные компоненты нормального развития. Подростковая обязательная регрессия действует на службе развития. Регрессия как механизм защиты действует параллельно регрессии на службе развития. Дифференцирование этих двух форм регрессии в клинической работе – нелегкая задача; собственно говоря, она часто невыполнима, и остается спорной, по крайней мере в течение какого-то времени. В узком смысле, предметом моего исследования является взаимовлияние, или взаимодействие, регрессии эго и влечений, в то время как они создают изменения в психической структуре. Процесс и достижение структурного изменения концептуализуются здесь как подростковая индивидуация, и подчеркивается выдающаяся роль декатексиса инфантильных объектных репрезентаций в подростковом реструктурировании психики. Специфичная для этой фазы регрессия порождает временные опасности дезадаптации и поддерживает состояние высокой психической волатильности в юности (Blos, 1963). Это условие в значительной мере объясняет ставящее в тупик поведение и уникальную эмоциональную турбулентность этого возраста. Для того чтобы объяснить далее функцию подростковой регрессии, может быть полезно сравнить ее с регрессивными движениями раннего детства. Состояния стресса, которые перенапрягают способность ребенка к адаптации, в раннем детстве вызывают нормальную реакцию, путем регрессии влечений и эго. Регрессии такого рода, однако, не представляют собой шагов в развитии, которые являются необходимым условием для созревания эго и влечений. Напротив, подростковая регрессия, когда она не носит защитного характера, представляет собой неотделимую часть развития в период пубертата. Эта регрессия, тем не менее, чаще всего вызывает тревогу. Если эта тревога становится неуправляемой, тогда, вторичным образом, мобилизуются защитные меры. Регрессия в подростковом возрасте не является сама по себе защитой, но она представляет собой существенный психический процесс, который, несмотря на порождаемую им тревогу, должен идти своим ходом. Только тогда может быть выполнена та задача, которая имплицитно содержится в подростковом развитии. Нельзя слишком сильно акцентировать, что то, что изначально в этом процессе служит функции защиты или реституции, превращается в норме в нечто адаптивное, и решающим образом способствует уникальности данной личности. В процессе подросткового реструктурирования психики мы наблюдаем не только регрессию влечений, но также и регрессию эго. Регрессия эго созвучна переживанию заново оставленных, или отчасти оставленных позади, состояний эго, которые либо были цитаделью безопасности и надежности, либо когда-то представляли собой особые способы, как справляться со стрессом. Регрессия эго всегда наличествует в подростковом процессе, но только там, где она действует чисто защитным образом, она работает против прохождения второй индивидуации. Мы не можем не признать, оглядываясь на чудачества многих подростков, что стратегическое отступление есть самый надежный путь к победе Reculer pour mieux sauter. Только когда регрессия влечений и эго достигает неподвижности подростковой фиксации, прогрессивное развитие останавливается. Регрессию эго, например, можно найти в переживании заново травматических состояний, каких хватает в любом детстве. Создавая себе конфронтации с заместителями исходной травмы или ее повторением в миниатюре в ситуациях реальной жизни, эго постепенно добивается овладения прототипическими ситуациями опасности. Актерствование и экспериментаторство подростка, как и значительная часть делинквентной патологии (см. Глава 13), относится к этой часто дезадаптивной активности эго. В норме, однако, более широкая автономия эго возникает из борьбы против остатков детской травмы. С этой точки зрения подростковость можно рассматривать как предложение второго шанса примириться с ошеломляющими ситуациями опасности (в отношении ид, суперэго и реальности), которые сохранились в нас со времен младенчества и детства. Подростковые состояния эго, регрессивные по природе, можно также узнать в возвращении к «языку действия», как отличному от вербальной символической коммуникации и, более того, возвращении к «языку тела», к соматизации аффектов, конфликтов и влечений. Это последнее явление несет ответственность за те многочисленные типичные физические состояния и болезни подростковости, лучшим примером которых являются anorexia nervosa и психогенное ожирение. Такая соматизация особенно заметна у девочек, в противоположность мальчикам; это часть той либидной диффузии, которая у женщин в норме создает эротизацию тела, особенно его поверхности. Объектное либидо, отвлеченное от частей тела или систем органов, облегчает формирование «ипохондрических ощущений и чувства изменений тела, которые хорошо известны клинически из начальных стадий психотического заболевания» (A.Freud, 1958). В подростковый период мы можем столкнуться с этими же явлениями, но без психотических последствий. Рассматривая «язык действия» в поведении подростка, нельзя не узнать в нем проблему противопоставления активного и пассивного. Этот антитезис представляет одно из самых ранних противопоставлений в жизни человека. Не удивительно, что с наступлением пубертата с его ошеломляющим крещендо инстинктуального напряжения и физического роста, подросток возвращается к старым и знакомым способам снизить напряжение. Регрессия влечений в поисках одного из таких способов приводит, в конечном итоге, к первичной пассивности, которая оказывается в роковой оппозиции к созревающему телу, к его появляющимся физическим компетенциям и к только разворачивающимся психическим способностям. Прогрессивное развитие указывает на возрастающую степень уверенности в себе, все лучшее овладение окружающей средой, более того, преображение ее по своей воле, что делает более доступной реализацию желаний и устремлений. Состояние регрессии эго тоже можно идентифицировать в хорошо известной склонности подростков идолизировать и обожать знаменитых мужчин и женщин. В нашем современном мире эти фигуры выбираются в основном из шоу-бизнеса и спорта. Они являются коллективными великими. Нам это напоминает идеализируемых родителей первых лет жизни ребенка. Их овеянные славой образы представляли собой для ребенка необходимый регулятор нарциссического равновесия. Нас не должно удивлять, что стены спальни, обклеенные постерами коллективных идолов, становятся голыми, как только объектное либидо оказывается занято подлинными отношениями. Тогда нарисованная стайка временных богов и богинь становится ненужной практически за одну ночь. Инфантильное состояние эго, кроме того, можно узнать в эмоциональных состояниях, которые сродни слиянию. Такие состояния часто переживаются в отношение абстракций, таких, как Истина, Природа, Красота, или в интересе к идеям или идеалам политической, философской, эстетической или религиозной природы. Эти состояния эго – квазислияния в царстве символических репрезентаций – нужны в качестве временной передышки, и служат защитой от полного слияния с инфантильными интернализованными объектами. Обращение к религии или состояние слияния, вызванное наркотиками, относятся к той же области регрессии эго. Ограниченная регрессия эго, типичная и обязательная в подростковом возрасте, может возникнуть только внутри относительно целостного эго. Обычно тот аспект эго, который мы называем критическим и наблюдающим эго, продолжает выполнять свои функции, хотя и заметно уменьшившиеся, и тем не допускает, чтобы регрессия эго доходила до инфантильного состояния слияния. Нет никакого сомнения, что регрессия эго у подростка является для эго суровым испытанием. Ранее уже указывалось, что до наступления подросткового возраста ребенку бывает доступно родительское эго, оно придает структуру и организацию его эго как функциональной единице. Подростковость нарушает этот союз, и регрессия эго обнажает целостность или дефектность более ранней организации эго, которая взяла определяющие позитивные и негативные качества из прохождения через первую фазу сепарации-индивидуации на втором и третьем году жизни. Подростковая регрессия эго внутри дефектной эго-структуры затопляет регрессировавшее эго в его раннем ненормальном состоянии. Различие между нормальной и патогномоничной регрессией эго заключается именно в этой альтернативе, происходит ли регрессия эго на недифференцированную стадию приблизительно или полностью. Это различие можно сравнить с различием между сновидением и галлюцинацией. Регрессия на серьезно дефектное эго раннего детства превратит временный тупик развития, столь типичный для подростковости, во временное или постоянное психотическое заболевание. Степень ранней неадекватности эго часто становится очевидна только после подростковости, когда регрессия не смогла послужить прогрессивному развитию, не допускает второй индивидуации и закрывает дверь перед достижением зрелости влечений и эго. Отслеживая развитие детей с шизофренией, которых я успешно лечил в начале или середине детства, я обнаружил тот факт, что они сталкиваются с более или менее серьезным повторением своей ранней патологии в поздней подростковости. Это ухудшение обычно происходило в то время, когда они уезжали из дома в колледж, после того, как за прошедшие в промежутке годы они сделали замечательные шаги вперед в своем психологическом развитии (например, в учебе и коммунации), а также в социальной адаптации. Служащая развитию функция подростковой регрессии эго сводилась к нулю, когда ранние состояния эго, из которых процесс второй индивидуации должен черпать свои силы, реактивировались – и оказывались критически дефектными. Нуклеарная патология вспыхивала вновь. Неспособность эмоционально оторваться от своей семьи в подростковые годы демонстрировала, в какой обширной мере эти дети жили в эти прошедшие годы на заемной силе эго. Терапия позволила им получать эмоциональное питание от окружения. Эта способность им очень пригодилась во время их второго острого заболевания; фактически она провела их через него и сделала возможным выздоровление. Когда психологическую пуповину приходится перерезать в подростковом возрасте, дети с ранними повреждениями эго опираются на дефектную психическую структуру, совершенно неадекватную задаче процесса подростковой индивидуации. Хотя эти случаи бросают свет на структурные проблемы определенной подростковой психопатологии, они также дают намек на континуум лечения детского психоза или детской шизофрении, который все еще тянется или вынужден возобновиться в подростковом возрасте, обычно в поздние подростковые годы. Одна характеристика подростковости, которая не может избегнуть нашего внимания, – это отчаянные усилия оставаться привязанными к реальности, быть активными, двигаться и все время что-то делать. Более того, она проявляется в потребности в групповом опыте или индивидуальных отношениях с яркой и сильной вовлеченностью и аффективностью. Частые и обычно резкие изменения этих отношений с лицами обоего пола, подчеркивают их не подлинный характер. Подросток стремится не к личным связям, а к яркости аффекта и эмоциональному возбуждению, которое они порождают. К этой области относится настоятельная потребность делать что-то «хохмы ради», тем самым избегая аффективного одиночества, отупления и скуки. Эта картина была бы неполной без упоминания подростка, который ищет одиночества и великолепной изоляции, в которой он создает в своем уме аффективные состояния необычайной интенсивности. Эти склонности лучше всего обозначить как аффектный и объектный голод. Что у всех этих подростков общего, так это потребность в ярких, интенсивных аффективных состояниях, неважно, отмечены ли они восторгом и подъемом или болью и мукой. Мы можем рассматривать это аффективное состояние как некое реститутивное явление, которое приходит следом за утратой внутреннего объекта и соответствующим обеднением эго.3 Субъективный опыт подростка – выраженный в вопросе «Кто я?» – содержит множество недоумений. Он отражает то, что концептуализуется как эго-утрата, и как обеднение эго. Утрата эго остается на протяжении всего подросткового возраста постоянной угрозой психологической целостности, и порождает формы поведения, которые кажутся девиантными, но которые нужно оценивать как усилия продолжать двигать подростковый процесс, путем отчаянного – пусть недостаточно адаптивного – обращения к реальности. Клиническая картина многих делинквентов, если ее рассматривать с этой точки зрения, часто демонстрирует более здоровый компонент, чем им обычно приписывают (см. Глава 12, клинические примеры). Здесь я хотел бы заново рассмотреть подростковый объектный голод и обеднение эго. Оба эти временных состояния в развитии находят себе компенсирующее облегчение в группе, в шайке, в тусовке, обычно из сверстников. Группа одногодков является заменой, часто буквально, семьи подростка (см. Глава 5). В обществе сверстника-подростка есть стимуляция: принадлежность к своим, верность, преданность, эмпатия и резонанс. Это мне напоминает здорового тоддлера в исследовании Малер (Mahler, 1963), который проявляет в течение всего кризиса сепарации-индивидуации поразительную способность «извлекать запасы контакта и участвования из матери». В подростковом возрасте эти запасы контакта получают от группы сверстников. Тоддлеру нужна помощь матери, чтобы достичь автономии; подросток обращается к орде ровесников, каких угодно, чтобы извлечь эти запасы контакта, без которых вторая индивидуация не может быть реализована. Группа позволяет создавать идентификации в качестве пробы ролей, не На первый взгляд кажется противоречием говорить об «обеднении эго», когда объектное либидо отвлекается на Я. Однако здоровое эго не может переносить хорошо и долго такое положение, когда оно отрезано от объектных отношений. Затопление Я нарциссическим либидо становится эго-синтонным только у подростка-психотика; для него реальный мир скучен и бесцветен. «Нормальный» подросток переживает чувство пугающей нереальности в своей нарастающей нарциссической изоляции от объектного мира. Поэтому мастурбация никогда не может предложить постоянной формы удовлетворения, поскольку в конечном итоге она понижает самооценку. Хотя мастурбационные фантазии могут вызывать чувство вины, в результате запрета суперэго, мы не можем игнорировать тот факт, что снижение самооценки в значительной мере вызвано ослаблением связи с объектным миром или, иными словами, критическим нарушением нарциссического равновесия. 3 требуя никаких постоянных обязательств. Она также дает возможность экспериментов взаимодействия, скорее в качестве акта порывания с зависимостями детства, чем прелюдии каких-то новых и длительных, личных и интимных отношений. Более того, группа разделяет, и тем облегчает, индивидуальное чувство вины, сопровождающее эмансипацию от зависимостей, запретов и верностей детства. Мы можем подытожить и сказать, что в общем и целом сверстники облегчают путь к членству в новом поколении, внутри которого подростку предстоит установить свою социальную, личностную и сексуальную идентичность как взрослого человека. Каждый раз, когда отношения со сверстниками просто заменяют собой детские зависимости, это значит, что группа не справилась со своей функцией. В таких случаях подростковый процесс закоротило, и в результате неразрешенные эмоциональные зависимости становятся постоянными свойствами личности. В этих обстоятельствах жизнь внутри нового поколения разворачивается как странный театр теней из прошлого индивидуума: То, чего более всего следовало избегать, повторяется с роковой точностью. Девочка старшего подросткового возраста, застрявшая в жесткой позиции нонконформизма, которая служила для защиты против необычно сильной тяги регрессии, так хорошо выразила словами то, что я пытаюсь сказать, что я дам слово ей. Рассматривая пример своего нонконформизма, она сказала: «Если действуешь противоположно тому, что ожидается, то и тут, и там стукаешься о нормы и правила. Сегодня, когда я проигнорировала школу – просто не пошла – я от этого чувствовала себя очень хорошо. Это дало мне чувство, что я человек, а не просто автомат. Если все время бунтуешь и стукаешься об мир вокруг себя достаточно часто, то у тебя в уме вырисовываются очертания тебя. Тебе это нужно. Может быть, когда ты знаешь, кто ты, тебе не нужно отличаться от тех, кто знает, или думает, что знает, кем ты должна быть». Такого рода высказывание утверждает тот факт, что твердая социальная структура является необходимым условием для того, чтобы происходило подростковое формирование личности. Я обращусь теперь к более широким последствиям того факта, что регрессия в подростковом возрасте является необходимым условием подросткового развития. Я сделал вывод из клинических наблюдений, что подростку необходимо войти в эмоциональный контакт со страстями своего младенчества и раннего детства для того, чтобы они отдали свой исходный катексис; только тогда прошлое сможет отступить в сознательные и бессознательные воспоминания, и только тогда прогрессивное движение либидо даст молодым людям эту их уникальную эмоциональную интенсивность и силу целеустремленности. Самое глубокое и самое уникальное качество подростковости заключается в способности перемещаться между регрессивным и прогрессивным сознанием с легкостью, которой нет равных ни в какой другой период человеческой жизни. Эта подвижность может быть объяснением замечательных творческих достижений – и несбывшихся ожиданий – этого конкретного возраста. Подростковое экспериментирование с Я и реальностью, с чувством и мыслью даст, если все пойдет хорошо, стойкое и точное содержание и форму индивидуации, с точки зрения ее актуализации в воздействии на окружение. Выбор призвания, например, представляет собой одну из таких важнейших форм актуализации. В процессе разрывания связей с первичными объектами любви и ненависти некое качество ранних объектных отношений проявляется в форме амбивалентности. Клиническая картина подростковости демонстрирует разъединение инстинктуальных драйвов. Фантазии и акты неприкрытой агрессии типичны для подростковости в целом, и для мужской подростковости в частности. Я не имею в виду, что все подростки явно агрессивны, скорее, что подростковое агрессивное влечение влияет на баланс влечений, как он существовал до подростковости, и требует новых адаптивных мер. Какую форму принимают эти меры, будь то смещение, сублимация, вытеснение или обращение вспять, несущественно на данный момент моего исследования. Анализ манифестной агрессии приводит в конечном итоге к элементам инфантильной ярости и садизма, по сути, к инфантильной амбивалентности. Инфантильные объектные отношения, когда они возрождаются в подростковом возрасте, конечно, появляются в своей исходной форме, иначе говоря, в амбивалентном состоянии. Собственно говоря, конечной задачей подростковости остается усиление постамбивалентных объектных отношений. Эмоциональная нестабильность отношений и, сверх того и помимо того, затопление автономных эго-функций амбивалентностью, в целом создает у подростка состояние неустойчивой лабильности и не поддающихся пониманию противоречий в аффекте, влечениях, мыслях и поведении. Эмоциональные колебания между крайностями любви и ненависти, активности и пассивности, увлеченности и равнодушия – такая хорошо известная характеристика подростковости, что ее вовсе не требуется подробно описывать. Однако это явление стоит изучить применительно к теме данного исследования, а именно, индивидуации. Состояние амбивалентности сталкивает эго с состоянием, которое – из-за относительно зрелого состояния эго – ощущается как невыносимое, однако, по крайней мере временно, возможность справиться с этим состоянием конструктивно остается за пределами синтезирующей способности эго. Многое, что выглядит как защитная операция, такое, как негативизм, склонность к оппозиции или равнодушие, является лишь проявлением амбивалентного состояния, которое заполонило всю личность. Прежде чем следовать за этими мыслями далее, я проиллюстрирую их выдержкой из анализа семнадцатилетнего мальчика. Я сосредоточусь ниже на тех аспектах аналитического материала, которые отражают разрывание связей с архаической матерью, и которые непосредственно относятся к теме амбивалентности и индивидуации. Мальчик, способный и умный, строил отношения с людьми на интеллектуализирующем уровне, со взрослыми лучше, чем со сверстниками. Пассивно-агрессивная позиция пронизывала все его отношения, особенно внутри семьи. Появлялось осознание бурной внутренней жизни, которая не нашла никакого выражения в аффективном поведении. Мальчик был склонен к перепадам настроения, скрытности, неровной учебе в школе, периодически к упрямству и негативизму, в сочетании с холодной требовательностью дома. В пределах этой колеблющейся картины можно было различить всепроникающее непроницаемое, чванливое отношение свысока, которое граничило с надменностью. Это ненормальное состояние было хорошо укреплено компульсивно-обсессивными защитами. Выбор такой защиты сам по себе намекает на доминирующую роль амбивалентности в патогенезе этого случая. Только когда сделались доступны фантазии мальчика, стало возможно оценить его потребность в жесткой и неодолимой защитной организации. Каждое его действие и мысль сопровождались до того бессознательной вовлеченностью в отношения с матерью и ее фантазийным соучастием, хорошим или плохим, в его повседневной жизни. У него была неутолимая потребность в близости к матери, которая оставляла его с самого раннего детства на попечении благонамеренной родственницы. Мальчик всегда восхищался матерью, завидовал ей и хвалил ее. Анализ помог ему пережить свою ненависть, презрение и страх по отношению к ней каждый раз, когда его интенсивное желание добиться ее материнской щедрости не получало удовлетворения. В результате, например, он не делал свои домашние задания, если возобладает мысль, что его успехи в учебе доставят удовольствие матери. В другое время бывало наоборот. Когда он получал награду в школе, он хранил ее в тайне от матери, чтобы она не могла использовать его достижения как «очко в свою пользу» или, иными словами, отнять их у него. Когда он шел на прогулку, он делал это по секрету, потому что его мать предпочитала, чтобы мальчики любили свежий воздух, и чтобы выставить ее виноватой, он затем позволял ей бранить его за то, что он совсем не выходит на улицу. Если ему понравилось представление, или он приглашал друга к себе домой, удовольствие от события бывало испорчено, когда мать выражала восторг и одобрение. В отместку он регулярно играл на пианино, как хотелось его матери, но исполнял все фортиссимо, прекрасно зная, что громкие звуки действуют матери на нервы. Играть громко было заменой тому, чтобы кричать на нее. Осознание своей агрессии вызвало у него тревогу. Тогда анализ амбивалентности мальчика оказался заблокирован некоей нарциссической защитой. Он воспринимал себя как чужака в драме жизни, как не вовлеченного в события дня и как видящего окружающее в смазанных и неясных очертаниях. Обычная компульсивно-обсессивная защита (каталогизировать, создавать списки, чинить) не смогла справиться с этой крайностью. Он находил такое состояние деперсонализации достаточно неприятным и пугающим. Аналитическая работа начала двигаться вновь, когда он осознал садистический аспект своей амбивалентности. После этого сие странное состояние эго его покинуло. Он почувствовал и вербализовал свой импульс к насилию, желание ударить и сделать больно своей матери физически, каждый раз, когда она фрустрировала его. Чувство фрустрации зависело не от ее объективных действий, а скорее от приливов и отливов его потребностей. Репликация инфантильной амбивалентности была очевидна. Он мог теперь дифференцировать между матерью инфантильного периода и матерью нынешней ситуации. Это продвижение позволило отследить участие эгофункций в его подростковом конфликте амбивалентности, и привести к восстановлению их автономии. Интересно было наблюдать, как в разрешении конфликта амбивалентности, определенные избранные качества личности матери стали качествами эго мальчика, такие, как ее способность к работе, ее использование интеллекта и ее умение общаться с людьми, все те качества, которые были предметом зависти мальчика. С другой стороны некоторые ее ценности, стандарты и черты характера он отвергал как нежелательные или отталкивающие. Они более не воспринимались как произвольное нежелание матери быть тем, что доставит удовольствие и утешение ее ребенку. В отношении матери установилась подростковая вторичная константность объекта. Всемогущая мать младенческих лет заменилась осознанием сына, что у нее есть и недостатки, и добродетели. Короче, она стала человечной. Только через регрессию оказалось возможно для этого мальчика заново пережить материнский образ и внести те коррективы и дифференциации, которые привели к нейтрализации его доэдипальных амбивалентных объектных отношений. Психическая реорганизация, описанная здесь, субъективно переживалась мальчиком как резкое осознание чувства Я, того осознания и убежденности, которое лучше всего суммируется словами «это я». Это состояние осознанности и субъективное чувство отражают возникающую дифференциацию внутри эго, которая здесь концептуализуется как процесс второй индивидуации. Первое радостное возбуждение, которое приходит с независимостью от интернализованного родителя или, точнее, от родительской объектной репрезентации, дополняется депрессивным аффектом, который сопровождает и следует за утратой внутреннего объекта. Аффект, сопровождающий эту утрату объекта, сравнивали с состоянием и работой оплакивания. В норме, непрерывность отношений с реальными родителями после отказа от инфантильного характера отношений сохраняется. Работа подростковой индивидуации связана с обеими родительским объектными репрезентациями, инфантильной и современной. Эти два аспекта происходят от одного и того же человека, но на разных стадиях развития. Эта констелляция обычно запутывает отношение подростка к родителям, которые переживаются, частично или полностью, как отношения инфантильного периода. Эта путаница ухудшается каждый раз, когда родители участвуют в смещающихся позициях подростка, и оказываются неспособны поддерживать фиксированную позицию, как взрослый рядом с взрослеющим ребенком. Разрывание связи подростка с инфантильными объектами требует сначала их декатексиса, прежде чем либидо может быть опять обращено вовне, в поисках специфичных для данной фазы объектных удовлетворений в более широкой социальной среде. Мы наблюдаем в подростковости, что объектное либидо – в разной степени, конечно – изымается из внешних и внутренних объектов и конвертируется в нарциссическое либидо, путем обращения на Я. Этот сдвиг от объекта к Я приводит к всем известной сосредоточенности в себе и поглощенности собой у подростка, который воображает себя независимым от объектов любви и ненависти времен его детства. Затопление Я нарциссическим либидо имеет эффект самовозвеличивания и переоценки возможностей тела и разума. Это состояние отрицательно влияет на тестирование реальности. Назовем одно знакомое следствие этого состояния. Напомню вам о частых автомобильных авариях подростков, которые происходят, несмотря на их прекрасные навыки вождения и технические знания. Если процесс индивидуации останавливается на этой стадии, то мы встречаемся со всевозможными нарциссическими патологиями, из которых самый серьезный тупик представляет собой уход из объектного мира, психотическое расстройство. Внутренние изменения, сопровождающие индивидуацию, могут быть описаны со стороны эго как некое психическое реструктурирование, в течение которого декатексис родительской объектной репрезентации в эго приносит общую нестабильность, чувство недостаточности и отчужденности. В попытках защитить целостность организации запускается знакомый набор защитных, реститутивных, адаптивных и дезадаптивных маневров, прежде чем установится новое психическое равновесие. Мы узнаем, что оно достигнуто, по личному и автономному жизненному стилю. В то время, когда подростковый процесс индивидуации находится в своем самом энергичном периоде, на первый план выступает девиантное, то есть иррациональное, неустойчивое, бурное поведение. Такие крайние меры применяются подростком, чтобы обезопасить психическую структуру от регрессивного растворения. Подросток в этом состоянии предлагает клиницисту весьма деликатную задачу провести различие между временной и постоянной, или попросту патогномоничной и нормальной природой соответствующих регрессивных явлений. Ставящая в тупик двусмысленность, с которой приходится иметь дело при клинической оценке, происходит из того факта, что сопротивление регрессии может быть признаком столько же нормального, сколько и абнормального развития. Это признак абнормального развития, если сопротивление против регрессии делает невозможной ту небольшую степень регрессии, которая необходима для разрывания связей с ранними объектными отношениями и инфантильными эго-состояниями или, короче, является необходимым условием для реорганизации психической структуры. Проблемы регрессии, как регрессии эго, так и регрессии влечений, отзываются на протяжении всего подросткового периода, то громко, то тихо; ее феноменология разнообразна по формам, но процесс тот же самый. Эти регрессивные движения делают возможным достижение взрослости, так их и следует понимать, так на них и следует смотреть. Они также представляют собой ядра, или подростковые точки фиксации, вокруг которых организуются неудачи подросткового процесса. Подростковые нарушения привлекли наше внимание почти исключительно к регрессивной симптоматике в контексте удовлетворения влечений или к защитным операциям и их следствиям. Я скажу вам, что и сопротивление против регрессии в равной мере является причиной для озабоченности, поскольку оно может представлять стойкое и непреодолимое препятствие на пути прогрессивного развития. Сопротивление против регрессии может принимать многие формы. Примером одной может быть мощный поворот подростка в сторону внешнего мира, к действию и телесному движению. Парадоксально, но независимость и самоопределение в действии и в мыслях обычно становятся наиболее бурными и бесшабашными каждый раз, когда регрессивная тяга имеет необычайную силу. Я заметил, что дети, которые были самыми цепляющимися и зависимыми на протяжении детства, обращаются в подростковом возрасте к обратной позиции, а именно, к отстраненному дистанцированию любой ценой от родителей или от родительского кодекса поведения. Поступая так, они достигают видимой, но иллюзорной победы. В подобных случаях действия и мысль просто определяются тем фактом, что они представляют обратное ожиданиям, желаниям и мнениям родителей или заменяющих их лиц и их представителей в обществе, таких как учителя, полицейские и вообще взрослые, или, более абстрактно, закон, традиции, общепринятые обычаи и порядки где бы то ни было, в любой форме и независимо от их социальной цели и назначения. Здесь вновь временные нарушения во взаимодействии между подростком и его средой качественно отличаются от тех, которые обретают слишком раннее постоянство, вливаясь определяющим образом в форму отношений эго с внешним миром, тем самым подводя подростковый процесс к слишком ранней остановке, вместо нормального завершения. На основе нашего опыта с невротичным ребенком и взрослым мы привыкли сосредоточиваться на защитах как на основных препятствиях на пути к нормальному развитию. Более того, мы склонны думать о регрессии как о психическом процессе, который оказывается в оппозиции прогрессивному развитию, созреванию влечений и дифференциации эго. Подросток может научить нас, что эти коннотации и ограничены, и ограничивают. Это верно, что мы плохо подготовлены к тому, чтобы сказать, что именно в регрессированном состоянии на протяжении подростковости является просто статичным возрождением прошлого, а что предвещает психическое реструктурирование. Резонно предположить, что подросток, который окружает себя в своей комнате постерами своих кумиров, не только повторяет детский паттерн, который когда-то удовлетворял нарциссические нужды, но одновременно участвует в некоем коллективном опыте, который делает его эмпатичным членом группы его сверстников. Иметь общих кумиров – равносильно тому, чтобы быть членом одной и той же семьи; однако от нас не может ускользнуть критическое различие, а именно, что новая социальная матрица на этой стадии жизни способствует подростковому процессу путем участия в символическом, стилизованном племенном ритуале для избранных. Регрессия при таких условиях стремится не только восстановить прошлое, но и тянуться к новому, к будущему обходным путем по знакомым тропинкам. Здесь приходят на ум слова Джона Дьюи. «Настоящее» - говорит он, - «это не просто что-то, что наступает после прошлого… Это то, чем становится жизнь, когда оставляешь прошлое позади». Мысли, собранные здесь, постепенно сходятся к одной той же цели, поскольку они имеют общую задачу прояснить изменения в эго-организации, вызванные созреванием влечений. Из клинических исследований подросткового процесса стало убедительно ясно, что и задача разрывания связей с первичными объектами, и отказ от инфантильных состояний эго делают необходимым возвращение на ранние стадии развития. Только оживив заново инфантильные эмоциональные вовлеченности и сопровождающие их позиции эго (фантазии, паттерны способов справляться, защитную организацию) можно достигнуть разрыва связей с внутренними объектами. Это достижение, таким образом, держится на поворотной точке регрессии влечений и эго, которые возвещают на своем пути множество, прагматически говоря, не вполне адаптивных мер. Парадоксально, но можно сказать, что прогрессивное развитие оказывается невозможным, если регрессия не пройдет свой положенный путь в положенное время в паттерне последовательности подросткового процесса. Определяя процесс индивидуации как эго-аспект регрессивной задачи в подростковости, мы начинаем ясно видеть, что процесс подростковости составляет по сути диалектическое напряжение между примитивизацией и дифференциацией, между регрессивной и прогрессивной позициями, каждая из которых набирает ход от другой, также как каждая делает другую возможной и выполнимой. Наступающее напряжение, имплицитно содержащееся в этом диалектическом процессе, подвергает чрезвычайному напряжению организацию и эго, и влечений, или, скорее, их взаимодействие. Это напряжение несет ответственность за многие и разнообразные искажения и неудачи в индивидуации – клинические и субклинические – которые мы встречаем в этом возрасте. Многое из того, что кажется на первый взгляд защитным, в подростковости может более правильно быть идентифицировано как необходимое условие, чтобы прогрессивное развитие шло вперед и продолжало оставаться в движении.