Быть или не быть. Важность свободной игры для развития
advertisement
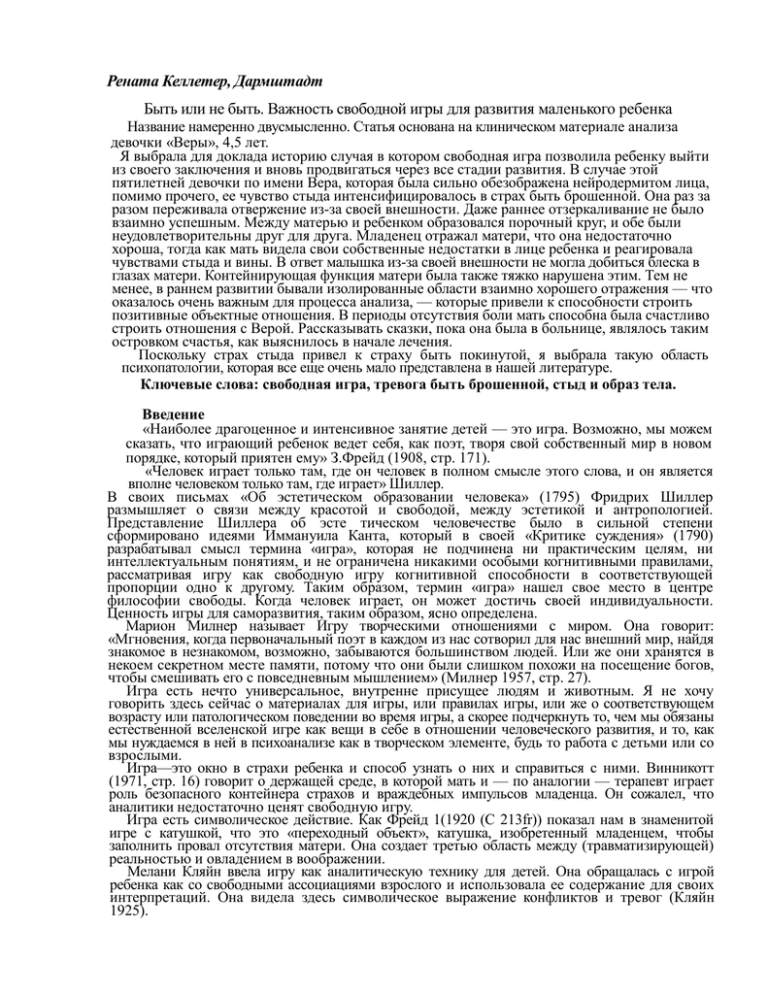
Рената Келлетер, Дармштадт Быть или не быть. Важность свободной игры для развития маленького ребенка Название намеренно двусмысленно. Статья основана на клиническом материале анализа девочки «Веры», 4,5 лет. Я выбрала для доклада историю случая в котором свободная игра позволила ребенку выйти из своего заключения и вновь продвигаться через все стадии развития. В случае этой пятилетней девочки по имени Вера, которая была сильно обезображена нейродермитом лица, помимо прочего, ее чувство стыда интенсифицировалось в страх быть брошенной. Она раз за разом переживала отвержение из-за своей внешности. Даже раннее отзеркаливание не было взаимно успешным. Между матерью и ребенком образовался порочный круг, и обе были неудовлетворительны друг для друга. Младенец отражал матери, что она недостаточно хороша, тогда как мать видела свои собственные недостатки в лице ребенка и реагировала чувствами стыда и вины. В ответ малышка из-за своей внешности не могла добиться блеска в глазах матери. Контейнирующая функция матери была также тяжко нарушена этим. Тем не менее, в раннем развитии бывали изолированные области взаимно хорошего отражения — что оказалось очень важным для процесса анализа, — которые привели к способности строить позитивные объектные отношения. В периоды отсутствия боли мать способна была счастливо строить отношения с Верой. Рассказывать сказки, пока она была в больнице, являлось таким островком счастья, как выяснилось в начале лечения. Поскольку страх стыда привел к страху быть покинутой, я выбрала такую область психопатологии, которая все еще очень мало представлена в нашей литературе. Ключевые слова: свободная игра, тревога быть брошенной, стыд и образ тела. Введение «Наиболее драгоценное и интенсивное занятие детей — это игра. Возможно, мы можем сказать, что играющий ребенок ведет себя, как поэт, творя свой собственный мир в новом порядке, который приятен ему» З.Фрейд (1908, стр. 171). «Человек играет только там, где он человек в полном смысле этого слова, и он является вполне человеком только там, где играет» Шиллер. В своих письмах «Об эстетическом образовании человека» (1795) Фридрих Шиллер размышляет о связи между красотой и свободой, между эстетикой и антропологией. Представление Шиллера об эсте тическом человечестве было в сильной степени сформировано идеями Иммануила Канта, который в своей «Критике суждения» (1790) разрабатывал смысл термина «игра», которая не подчинена ни практическим целям, ни интеллектуальным понятиям, и не ограничена никакими особыми когнитивными правилами, рассматривая игру как свободную игру когнитивной способности в соответствующей пропорции одно к другому. Таким образом, термин «игра» нашел свое место в центре философии свободы. Когда человек играет, он может достичь своей индивидуальности. Ценность игры для саморазвития, таким образом, ясно определена. Марион Милнер называет Игру творческими отношениями с миром. Она говорит: «Мгновения, когда первоначальный поэт в каждом из нас сотворил для нас внешний мир, найдя знакомое в незнакомом, возможно, забываются большинством людей. Или же они хранятся в некоем секретном месте памяти, потому что они были слишком похожи на посещение богов, чтобы смешивать его с повседневным мышлением» (Милнер 1957, стр. 27). Игра есть нечто универсальное, внутренне присущее людям и животным. Я не хочу говорить здесь сейчас о материалах для игры, или правилах игры, или же о соответствующем возрасту или патологическом поведении во время игры, а скорее подчеркнуть то, чем мы обязаны естественной вселенской игре как вещи в себе в отношении человеческого развития, и то, как мы нуждаемся в ней в психоанализе как в творческом элементе, будь то работа с детьми или со взрослыми. Игра—это окно в страхи ребенка и способ узнать о них и справиться с ними. Винникотт (1971, стр. 16) говорит о держащей среде, в которой мать и — по аналогии — терапевт играет роль безопасного контейнера страхов и враждебных импульсов младенца. Он сожалел, что аналитики недостаточно ценят свободную игру. Игра есть символическое действие. Как Фрейд 1(1920 (С 213fr)) показал нам в знаменитой игре с катушкой, что это «переходный объект», катушка, изобретенный младенцем, чтобы заполнить провал отсутствия матери. Она создает третью область между (травматизирующей) реальностью и овладением в воображении. Мелани Кляйн ввела игру как аналитическую технику для детей. Она обращалась с игрой ребенка как со свободными ассоциациями взрослого и использовала ее содержание для своих интерпретаций. Она видела здесь символическое выражение конфликтов и тревог (Кляйн 1925). Винникотт также рассматривает игру как символическую, а не конкретную активность. Он постулирует линию развития от переходного объекта до игры ребенка. В начале требуется держащее присутствие матери, в котором интернализуется окружающая среда. Когда ребенок начинает игру, ребенок поглощен символическим значением, тем самым развивая свои эмоции. Эти переживания также происходят в том, что Винникотт называет потенциальным пространством. Анна Фрейд всегда помнила о нуждах развития ребенка. Она указывает, что способен ли аналитик играть требуемую роль трансферного объекта, или, наоборот, отказывается от нее, зависит от индивидуальной ситуации. Требуется колоссальная гибкость а также быстрые колебания между ролями трансферного объекта и объекта развития. И тот, и другой являются дополняющими и могут укреплять, а могут и мешать друг другу (1965, стр. 38-39). Дети в эдипальной фазе в возрасте от трех или четырех до шести, по-видимому, особенно способны использовать свои растущие возможности воображения и приглашают терапевта играть понарошку. Их в особенности интересует принимать роль других людей в игре, чтобы исследовать их ум и намерения. Большая серьезность и удовольствие, с которыми дети играют в пугающих и желанных людей, трансформирует их внутренний опыт. Часто им требуется, чтобы аналитик принял на себя роль в их игре, чтобы нести те аспекты я, которые не могут быть интегрированы. Одна из предпочитаемых игр в этой фазе — «понарошку». Играя понарошку, ребенок предлагает аналитику возможность, которая способствует интеграции модуса понарошку. В игре аналитик предоставляет фантазиям и чувствам ребенка звено связи с реальностью, пока ребенок только притворяется, указывая на существование альтернативной точки зрения. Через эту игру может быть введен новый психический опыт, притворный, но реальный. Другая важная игра прятки. Внушает надежду, когда ребенок может позволить аналитику спрятаться, а не только прятаться сам. Это поиски первичного объекта, который можно найти снова и снова, и который, в свою очередь, найдет нас снова и снова. Это показывает рост базового доверия. Игра горячо — холодно, когда ребенок или аналитик выходит из комнаты, а другой прячет что-то и помогает это найти, является важной вариацией пряток. История случая Я собираюсь рассказать некоторую часть анализа маленькой девочки, которая была травматизирована в раннем младенчестве, которая страдала от тяжелого и уродующего нейродерматита и росла в семье из трех поколений. Тема стыда по поводу семейного секрета обширна: я собираюсь затронуть только два аспекта, которые вызвали антагонизм в матери и ребенке. Оба были перемешаны в слиянии, которое я хотела бы назвать фокальным симбиозом, пойманы внутри общей кожи, отделены от внешнего мира, из которого они не могли убежать. Отец оставался чужаком в материнской семье, и его способность к спасанию не использовалась, поскольку не было взаимной семейной жизни. В конечном итоге он начал тайком пить. В констелляции из трех поколений у каждого члена семьи был постыдный секрет, который каждый хранил запертым внутри себя, ища в других сообщников, вместо того чтобы жить взаимной семейной жизнью. Вера жила в фокусном симбиозе со своей матерью, где взаимная кожа не выпускала ничего во внешний мир и соединены были колоссальные деструктивные части. Я собираюсь представить материал из некоторых аналитических сессий, который раскрывает шаги развития в направлении сепарации и развития речи. В основном материал будет представлен, чтобы показать проблему стыда, при том, что можно видеть ранние и имплицитные данные о защитах от стыда, такие как уход в себя, прятание и секреты. Вера пришла в анализ в возрасте четырех лет и десяти месяцев как несчастная, горемычная и почти немая девочка. Она страдала от тяжелого нейродермита, который также серьезно уродовал ей лицо. Анализ длился три года и был завершен, когда стало очевидно, что она хорошо вошла в свою начальную школу. Когда ей было девять лет, она вернулась на три лечебные сессии из-за фобии, связанной с огнем, которая, однако, оказалась кратковременной. Вера происходила из в основе своей любящей семьи. Вскоре после рождения ей был поставлен диагноз острой младенческой экземы, у нее была аллергия на материнское молоко, и сразу же без перерыва выработался нейродермит. Обычные диеты и другие лечебные меры не были успешны. Когда ей было три года, она провела три недели в больнице; и ее матери разрешили находиться там с ней и читать ей сказки, которых она, казалось, не понимала. Ее руки были перевязаны и связаны, чтобы не давать ей расчесывать себя. После этого периода ей давали кортизон и успокоительные: промазин (атозил) и хлоралгидрат: несмотря на это, она продолжала расчесывать себя днем. К этому времени она способна была командовать и доминировать во всей семье: вспышки ярости были реакцией, когда на ее оральные желания не отвечали немедленным исполнением, и она царапала и кусала свою здоровую сестру, на три года старше нее. Внешность и поведение Веры привлекали нежелательное внимание в маленьком городке, и семья предпочла бы, чтобы ее никто не видел. В контакте с другими детьми Вера царапалась, кусалась, хватала игрушки и еду, точно так же, как она вела себя с сестрой. Не будучи способна выразить свои желания словами или другими сигналами, она испытывала постоянную фрустрацию. Детский сад больше не желал терпеть такое поведение. Ее мать не видела никакого прогресса в своих усилиях приучить ребенка к горшку и получала презрение от своей собственной матери за эту неудачу. Обе взрослые женщины считали, что Вера «по зор» семьи; отец и дедушка были более терпимы. Вера проводила много времени в подвале со своим отцом, когда он работал на компьютере, или с дедушкой в саду. Она играла кубиками и прыгала и скакала; никто с ней не разговаривал. В результате у нее была задержка речи, и она произносила только простые приказы: «Сделай то! Не делай это!». Простота ее речевых навыков создала у меня вначале впечатление умственной отсталости, чего на самом деле всегда боялись родители. Когда я в первый раз увидела Веру с ее матерью, меня шокировала ее внешность. Она была существо неопределимого возраста с серьезно изуродованным болезнью лицом. Ее веки так распухли, что она смотрела только сквозь щелочки, ее кожа покрыта такой коростой, что не видно было никакого выражения лица. Никакая улыбка не могла проникнуть через эту броню. Маленькие руки в толстых повязках высовывались из рукавов ее куртки. Поскольку на ней были сапоги-луноходы, казалось, что она идет, как медведь. Она производила впечатление чудовища или робота. Чесотка была нестерпимой, особенно по вечерам перед сном, так что она царапала себя до крови. Эти атаки сопровождались двигательным нарушением; сна можно было добиться только высокими дозами хлоралгидрата. Она была немой в детском саду: другие дети избегали телесного контакта и совместных игр, поскольку она выглядела такой отвратительной. В начале она не говорила со мной, но не выглядела застенчивой или зажатой; со своими забинтованными руками, она двигалась, как робот, так что я была потрясена, когда она проявила умение и терпение в рисовании. Она рисовала карандашом и красками, используя все доступные цвета; уходя, она подала мне свою картинку, которую держала обеими руками, без комментариев, и держала меня за руку, пока я показывала ей ящик, в который мы поместили ее первую картинку. В последующих предварительных сессиях я изменила свое первое впечатление, поскольку Вера демонстрировала любопытство при исследовании среды. Начало лечения Это жалкое существо, казалось, молило о помощи. Моей первой реакцией на потребность во мне Веры и ее тревоги было материнское желание утешить ее и помочь ей выбраться из тюрьмы ее тела. Непосредственно перед тем как анализ должен был начаться, Вера заболела, с высокой температурой и лихорадкой; эти симптомы повторялись дважды в начальной стадии лечения. Я предположила, что это симптомы тревоги, поскольку они быстро исчезли после утешения и защиты, так как уже выработался позитивный перенос. Оглядываясь назад, изумляет то, что с самого начала Вера пришла ко мне не только без сопротивления, но полная любопытства и ожиданий; в то время я воспринимала это как само собой разумеющееся: растерянные родители, которые боялись, что будет нечто подобное опыту детского сада, такого не ожидали. Мне самой любопытно было развернуть, что же там на самом деле тикает внутри перевязанного пакетика, который мать мне предложила раскрыть, что было за вуалью, которую мать закрепила вокруг ребенка. После нашей первой встречи я осознала, как глубоко стыдится мать, и как страстно Вера мечтает, чтобы ее раскрыли. Таким образом, игра в прятки началась между нами прежде, чем Вера начала говорить. Стало очевидно, что Вера понимала сказки, которые мать рассказывала ей в больнице. Вновь и вновь она хотела быть самым маленьким козленком из сказки Волк и семеро козлят, который не дал себя съесть волку, спрятавшись в футляре напольных часов. Ее интересовала только сцена, когда ее находят. Мать приходит домой, робко зовет своих козлят, и только младший может радостно броситься в ее объятия. Вера счастливо кричала «Здесь, здесь! Я здесь!», и она откликалась, бросаясь мне в объятия, когда я была в ее распоряжении. Этот детский анализ начался бурно, и я была изумлена, что такие значимые вещи могут быть выражены Верой без слов. Я глубоко погрузилась в игры, и мы находили бесконечные вариации темы пряток, то есть я также использовала много слов, выражала свои собственные страхи, что волк, возможно, пришел, говорила громче о страхах детей, какие они умные, что нашли хорошее место спрятаться и не поддались подлым обманам. Сцены, которые мы разыгрывали, подходили для того, чтобы давать названия всем страхам, намерениям и частям тела, что входит в обучение языку. Бессознательные формы символизации не требуют обучения, однако языку приходится учиться. Опыт ребенка нужно излагать словами и предложениями, чтобы контейнировать их смысл — только тогда ребенок может интернализовать. Игра в сказки стала речевой игрой, тогда как Вера пряталась за своими рисунками на первой сессии, но теперь заставляла меня оставаться на моем стуле (мне не разрешалось исчезать), она теперь начала вырабатывать оживленные выражения лица. Она пристально смотрела на мое лицо, пока я кормила ее словами, и стало ясно, как она отзеркаливает себя в моих глазах, получая подтверждение и чувствуя себя желанной, когда ее находили. Я была в ее распоряжении. Мои попытки дать обратную связь в словах о том, что она чувствует и делает, принимались с радостью. Она начала взглядывать на мое лицо, чтобы увидеть мой интерес к ней. Выражение моего лица подтверждало ее существование. Это скоро стало ясно, когда в первый раз, и к моему удивлению, мать Веры не осталась в прихожей, а немедленно ушла поздоровавшись, оставив меня с перепуганным ребенком, который скоро начал в ужасе кричать. Она кричала изо всех сил, повторяя одни и те же слова: «Мама должна вернуться, мама должна вернуться!». Она отбивалась от меня ногами и убежала в дальний угол комнаты в панике. Она повернулась ко мне спиной и чесалась в параксизме, пока ее белая блузка не пропиталась кровью. Она отталкивала меня в ярости, когда я пыталась приблизиться, кричала и скребла себя все более яростно. Меня одолела крайняя тревога. Я боялась психотической вспышки, которая будет означать, что я окажусь пленницей одна в комнате на целый час с психотическим ребенком, который в своей панике совершенно не доступен и не предсказуем: ребенком, который не знает никаких границ своим саморазрушительным импульсам. Помимо этого реального страха, я была в роли садистического преследователя, от которого ребенок должен был отбиваться любой ценой и держать на расстоянии, когда я пыталась приблизиться к ней (подойти ближе). Как мы проживем этот час? Я пыталась оставаться в контакте голосом, утешающе повторяя ее имя и говоря, что мы обе будем ждать ее маму, которую я не могу волшебным образом ей выдать. Нам придется ждать, пока она вернется через час. Вера не хотела слышать то, что я говорю. Она закрыла уши руками, как будто я преследую ее упорно через все отверстия. Она кричала много громче, чем я говорила. Она использовала всю силу, какую могла собрать, и до сих пор была в безопасности в своем всемогуществе, потому что она всегда могла добиться своего, особенно если начинала чесаться. Вся семья жила в страхе перед жуткими истериками Веры. Ее нельзя было успокоить. И родители, и бабушка с дедушкой пытались напрасно. Недавно она стала как дикое животное и добилась своего по поводу нежелания ходить в детский сад. Когда она начинала чесаться и кричать, все сдавались; это была одна из функций ее чесания: чесание стало источником власти против ее отчаяния, немой жертвой которого она ранее была. Теперь она пыталась доминировать надо мной. У меня было ощущение, что ее мать действовала в целях самозащиты, оставив меня так внезапно одну с Верой. Мне предлагалось посмотреть, что ей приходится выносить. Я была в ярости на мать, которая так хитро ускользнула. Мне пришлось беспомощно ждать, пока она вернется. В этой сессии я осознала, что мой страх был зеркалом паники ребенка, и что я должна контейнировать его, оставшись целой, и пережить все не изменившейся. В острой регрессии этой сессии, где слова не имели никакого смысла, меня переживали как нападающую и ущемляющую — архаический процесс восприятий, который нашел себе архаическую реакцию в виде чесания и царапания. Царапание стало способом искоренить все, что она испытывала в руках своей матери и моих. Когда Вера царапала свою кожу, она переживала различные объекты для себя и в своей коже; казалось, это не причиняло ей никакой боли. Это был экстаз, и она совершенно потеряла контроль. Какая сила стояла за мазохизмом, при помощи которого она делала меня садисткой! Иметь дело с очевидно несдерживаемым мазохисти ческим удовольствием было для меня самым трудным фактором в этой вспышке. Она вызывала смятение, ужас и ярость во мне в качестве защиты от моего чувства стыда. На какое-то мгновение я утратила контакт с ее паникой и беспомощностью, пока была свидетелем ее оргии расчесывания. Она царапала внутренние стороны бедер ритмично обеими руками, пока они не покрылись кровью, и, казалось, была в трансе. Это была обсессивная мастурбация на поле битвы из ее кожи. В моих ушах вопли Веры предназначены были, чтобы убить своего преследователя. Ее страх был сильнее, чем ее экстаз. Одночасовая сессия, казалось, продолжалась столетия. В конечном итоге Вера рухнула от усталости, и ее вопли превратились в конвульсивные рыдания и в конце концов свелись к хриплому завыванию. Она все еще не позволяла мне приблизиться к ней: чуть ближе, и ее паника вернется. Она дала мне разрешение говорить с ней, убрав руки от ушей. Вновь и вновь я говорила, что ее мать скоро вернется, и что я не могу доставить ее раньше никакими волшебными трюками. Я понимала, что Вера ожидала от меня именно этого, и вспомнила концепцию Винникотта, которая подчеркивает, как важно для ребенка переживать объект; это является необходимым условием для восприятия отдельного объекта в качестве не-я. Она смогла, таким образом, удержать меня как потенциально хороший объект, если я смогу выжить не измененной и целой. Вера должна была оставить царство симбиотического всемогущества и больше не могла воспринимать другого как субъективного. Вера была нарушена в своем эго-развитии по причине ранней дерматологической болезни, которая уже повела к садомазохисти-ческому кругу внутри «статуса единицы» и к искаженному образу тела, из-за того что ее кожа не могла адекватно функционировать как наружная граница, контейнирующая ее. То, что я воспринимала ситуацию в таких терминах, позволило мне пережить эту сессию. Я боялась прихода матери, поскольку Вера, ко всему, серьезно изуродовала свое лицо, и по рукам и ногам ее текла кровь. Когда мать, наконец, появилась, она не высказала ни удивления, ни упрека. Она взглянула на меня с сочувствием: не ошибалась ли я, увидев благодарность? Вера пришла на анализ на следующий день забинтованная, но не очень изуродованная и без температуры; обе вели себя так, как будто накануне ничего не случилось. Наоборот, они обе казались особенно дружелюбны и ко мне тоже, и когда я позднее упомянула сессию предыдущего дня, Вера ничего не хотела слышать о ней. Мне показалось, что у нее не осталось никакого воспоминания о том, что произошло. Она царапала себя по пять минут в две другие сессии; затем это прекратилось, а полгода спустя она смогла спать без успокоительного. В качестве дополнения к чрезвычайно драматической сессии я хотела бы добавить, что для меня она представляется критической сессией всего анализа. Ненависть выжила без полного разрушения объекта; объект принял форму и непрерывность, и мог быть принят как нечто отдельное, то есть объективное. После этого началась новая стадия развития, в которой Вера могла использовать меня. Она поняла границы своего всемогущества, и я была не единственной, кто пережил нападение без повреждений; она также выжила как субъект — умерла только ее иллюзия всемогущества. В первый раз это смогло произойти в результате моего держащего присутствия как контейнера, через меня и защитное пространство моей комнаты, выполняющей роль неповрежденной кожи. В отличие от того, как бывало дома, она была здесь не одна, и не была вынуждена пользоваться собственными ресурсами, не имея возможности себе помочь. Без этого шага никакая автономия невозможна. По моему мнению, самым важным опытом, по видимому, было то, что она могла ненавидеть меня за мою неудачу, но не уничтожить меня, так что она могла сохранить меня как потенциально хороший объект. Через короткое время она начала изображать пугающие телесные фантазия и желание инкорпорировать в своих рисунках. Когда Вера рисовала в моем присутствии, она теперь хотела оставаться одна; она садилась в дальнем углу, лицом ко мне, но сосредоточенная на своем рисунке. Она таким образом переживала переходное пространство и заполняла его своими собственными продуктами. Винникотт (1958, стр. 82) говорит, что ребенок может открыть свою личную жизнь, только когда может побыть один в защитном присутствии объекта. Было ясно, что она получает пользу от оптимального расстояния, и разрешение ее фиксации было благоприятной исходной точкой для того, чтобы пережить анальную фазу без помех от стыда и вины. Вскоре после этого отцу Веры пришла в голову хорошая мысль. Он отдал Вере рулон бумаги от своего компьютера, чтобы она могла рисовать бесконечные рисунки. Она придумала игру со мной, в которой она держала рулон в руке и раскатывала его до различных точек, например, до самого дальнего угла моей комнаты. Она могла удаляться, могла приближаться со своим рулоном, она могла показать мне, что она нарисовала, но могла также и спрятать это от меня. Таким способом она на самом деле смогла выразить все пугающие и постыдные вещи на бумаге: целые оргии пи-пи и ка-ка, бомбы из дерьма, которыми кидались один человек в другого, мочу, текущую от одного человека в рот и уши другого, который в свою очередь писал в пивную кружку, из которой пил следующий. Это был анальный рай, в котором нужно было пробираться, поедая комки дерьма. Вера доводила себя до экстаза рисованием, иногда прятала то, что она нарисовала, но часто чувствовала сильную нужду показать мне все, что она выдала. Она переживала анальную фазу с интенсивным удовольствием. У нас сложилась игра раскатывать и скатывать бумажный рулон, и возможность Веры скрывать, удерживать или раскрывать свой секрет без какого-либо подчеркивания стыда или вины, когда она хотела, было крайне важным для ее первых шагов на пути к индивидуации. Она смогла создать свое собственное игровое пространство, то есть переходное пространство, и она была тем, кто контролирует рулон в своей руке. Она часто настаивала, чтобы я занималась чем-то другим, пока она рисует; тогда она напевала мелодии, иногда давая мне какие-нибудь важные сообщения о себе и своей на три года старшей сестре, чьи экскременты вместе с ее собственными она однажды попробовала на вкус и не смогла различить. Вера однажды сказала, что она нарисовала все с закрытыми глазами, и продемонстрировала мне это. Она взяла в каждую руку цветной карандаш и черкала с закрытыми глазами. Результатом были аморфные каляки. Чистый анал. Затем она внезапно перестала рисовать. Это была окончательная регрессия — она достигла аморфного, и вымазала свои внутренности на бумагу. Рулон бумаги забрала и выбросила ее мать, и Вера о нем не жалела. Это была испачканная туалетная бумага, которую выбросили. Закончено, и все. В этой игре с рулоном я вижу предвестник ее заикания: она всегда могла скрыть свое полиморфное извращенное анальное царство, когда она чувствовала стыд. Чувствуя себя в безопасности, она могла раскрыть его, когда ее потребность в коммуникации становилась больше, чем ее тайное удовольствие. Все непристойности рисовались, о них не говорилось прямо. Только позже, когда она покинула свой клауструм, и ее объектные желания мотивировали ее искать словесной сферы, стало возможным речевое сексуальное выражение. Некоторые слова вызывали нахмуренные брови, некоторые имели магическое значение. Тут в первый раз возникло заикание. Его задачей было избегание стыда. Поскольку по прежнему сохранялась достаточно сильная тенденция к регрессии, анальный уровень можно было внезапно оставить, и вернулись конфликты по поводу инкорпорации. При помощи этого механизма симптом был определен на его глубочайшем уровне. В первые два года лечения Вере нужна была безопасная база, чтобы исследовать мир, и в то же самое время заново переживать анальную фазу и наслаждаться своими простыми анальными удовольствиями. Я просто принимала оральный и анальный производный материал. Мне кажется, что интерпретации в это время были бы неуместны. Я помогала ей найти слова, которые интегрировали эти переживания. От разыгрывания сказок мы перешли к диалогу. Таким способом учить язык ей очень нравилось. Я давала ей слова и предложения, которые были близки к ее телесному образу, так что она смогла выразить интенсивные чувства и эмоции, во власти которых она была всю свою жизнь, словами. Сказка «Белоснежка» особенно подходила для того, чтобы проходить через различные аспекты того, что можно воспринимать зрительно в себе и в других; это привело ее к фундаментальному пересмотру образа собственного тела, и таким образом к ее собственному чувству идентичности и изменению чувства я. Гринэйкр (153, 1955, 1957) определяет «... образ тела, который является сердцевиной как нарождающегося эго, так и более позднего образа я» (Гринэйкр 1957, стр. 614). Помимо прочего, чувство идентичности есть результат зависимости человека от восприятия сходства и отличия от других, как от принятия в себя, так и от показывания. Ощущения, созданные таким образом, интернализуются в образ. Это была нарождающаяся стадия развития проблем Веры по поводу стыда за ее образ тела. Из разыгрывания сказки Вера выработала свободную игру с большим количеством использования зеркала. Она наконец стала использовать свою мазь, чтобы лечить лицо на наших сессиях — процедура, которая в свое время вызвала много горькой борьбы с ее матерью. Она совершенно прекратила садомазохистические атаки расчесывания; таким образом прекратилась также вторичная инфекция, и ее кожа быстро улучшилась, так что стало возможно сделать пробные попытки вернуться в детский сад, по ее собственному желанию. В игривом настроении она раскрыла секрет, глядя на себя в зеркало и размазывая темную губную помаду из запасов ее матери по собственным губам. Я спросила, не шоколадная ли это помада, потому что она такая коричневая. Она сказала мне шаловливо, что она уже пробовала дерьмо на вкус. Я спросила ее: «Чье дерьмо?». Она воспринимала себя зараженной фекалиями не только извне, но и изнутри. Вера нашла очень забавным, что я использовала это слово. Она ответила: «Мое и Лоры». Я спросила «И как на вкус? Ты ожидала, что вкус будет разный?». Она кивнула и ответила: «Мне оба не понравились», равнодушно сказала Вера, «ни то, ни другое невкусно, ни Лоры, ни мое». «Оно коричневое, но это не шоколад, но ты это уже знала, не так ли?». «Да, конечно». «Ты хотела знать, что это такое, что выходит из тебя, как секрет изнутри твоего тела, в которое ты не можешь заглянуть?». Она засмеялась хитро и посмотрела на меня, чтобы увидеть, как я к этому отношусь. Я сказала: «Но, конечно, это что-то совсем не похожее на то, что ты кладешь в рот, чтобы есть. Ты видишь, откуда исходит еда. Ты ешь ее, она идет к тебе в животик, и затем превращается в кровь и плоть». «Почему? Ты ничего об этом не знаешь!». «Ну, как ты думаешь, для тебя это иначе, чем для кого-нибудь другого, для Лоры, или для мамы, или для меня?». «Мм.», был ответ Веры. Я затем говорю ей, что это одинаково для всех нас, и что часть еды, которая не нужна нашему телу, становится дерьмом, которое затем экскретируется. Мы едим, чтобы вырасти большими, сильными и здоровыми, но наши тела не могут использовать еду полностью, и то, что нам не нужно, выжимается наружу. У меня такое чувство, что она слушала очень внимательно, и ясно, как она страдает от фантазии, что она вся плохая и отвратительная и внутри, и снаружи. А ее здоровая сестра Лора, в своих красивых платьях, внутри тоже более красивая! Я хочу перейти теперь к сцене, которая произошла в последней четверти анализа. Я никогда не комментировала и не подвергала сомнению эту сцену, потому что я осознавала различные скрытые ее значения, но не хотела сосредотачиваться на одном конкретном аспекте. Самый важный аспект символической функции — это что она никогда не идет по одному пути, а представляет комбинацию различных процессов. Сцена: Вера сидела и рисовала, молча и явно поглощенная, за столиком 15 минут, пока я сидела молча на стуле в другом конце комнаты. Таким образом я могла сосредоточиться вместо этого на образах и мыслях, которые ее присутствие порождало во мне без коммуникации. Никакого эмоционального отклика нельзя было видеть на ее бесстрастном лице, когда она внезапно заговорила громко и ясно в это молчание: «Ты так сказала». Она сказала это, как будто разговаривала сама с собой, и мое впечатление было, что это не направлено на меня. Она не стремилась ни к какому контакту глазами, поэтому я не ответила. Я предполагаю, что ее рисование было более или менее механическим, и она вела какой-то фантазийный диалог. Я не могу утверждать, что поняла слова, которые были сказаны как бы вне контекста партнеру, которого она видела и с которым разговаривала. Однако я чувствую себя комфортно и не исключенной, и у меня впечатление, что для Веры происходит что-то очень важное, когда она одна в присутствии другого. В похожих ситуациях она повторяла эти слова до самого завершения анализа. Это ключевая фраза, которую она подчеркивает так, будто говорит с трибуны. Это отражает интерсубъективное взаимодействие и коммуникацию настроек между матерью и ребенком в раннем развитии. Однажды Вера неожиданно сообщила мне, что у нее есть секретный код. Она сообщила три слова, которые все звучали как-то по-японски: «акинетон, силикон и кимора». Последнее означало «нет», «силикон» означало «я не хочу», а «акинетон» означало «ты не должна». Я приняла эту информацию как доказательство ее доверия. Она уже сказала мне, что у нее теперь есть пять друзей, с которыми она может разговаривать. Разговоры с этими пятью воображаемыми друзьями никогда не происходили на наших сессиях, а только дома, когда она была одна в комнате. Вскоре после этого как-то утром с ней пришел ее дедушка. Он, казалось, нервничал, и несколько официально попросил переговорить со мной; внезапно он закрыл дверь, так что Вера осталась снаружи. Это было так неожиданно, что я не смогла помешать. Он сказал: «У нас ощущение, что Вера стала шизофреничкой. Она не только разговаривает с какими- то призраками в своей комнате на странном языке, но вчера она была крайне груба и агрессивна на этом странно звучащем языке в адрес своей бабушки, когда та вошла в ее комнату». Трудно было не улыбнуться, и я ответила, что нет абсолютно никаких причин для беспокойства. Вера просто выработала секретный код. Болтать с пятью воображаемыми друзьями было для меня свидетельством того, что Вера теперь начинает преодолевать блок развития. Затем я попросила Веру войти; она не выразила совершенно никакого любопытства, и ей явно было привычно, чтобы с ней обращались таким образом. Она теперь делала то же самое со своими родителями и дедушкой и бабушкой: исключала их. В то же самое время она старалась создать объекты с большей способностью к пониманию, которым она, очевидно, рассказывает свои истории. Вера также быстро прогрессировала в своих речевых навыках. От диалога выработался монолог, который я не прерывала интерпретациями или вопросами. Мое молчаливое присутствие было важно для этого процесса, который в конечном итоге достиг кульминации «внутреннего языка». В этом анализе, однако, было нечто важное, до чего нельзя было дотянуться. Невозможно было лечить эдипальный конфликт. Когда Вера достигла необходимой стадии развития, она пошла в школу, где она видимым образом с одного дня на другой стала латентным ребенком, и ее интересы ограничились школьными предметами и школьными товарищами. Когда анализ закончился, у меня было чувство, что она вернется в период пубертата. Я ожидала, что тогда возможно будет лечить важные проблемы ее сексуальной идентичности. Потому это было ненастоящее расставание, но на самом деле Вера просто не нуждалась во мне больше на этой стадии. Она близко подружилась с девочкой, которая также была стигматизирована, в самом деле покинула свой клауструм, и теперь хотела открывать мир. Когда анализ закончился, Вере было семь лет, она ходила в школу, у нее была лучшая подруга, пять воображаемых друзей и один секретный язык. Дискуссия «Я рассматриваю игру как язык действия, для того чтобы сделать что-то, повторить чтото, и что-то сделать несделанным. Это метод, чтобы что-то показать, что-то выразить и испробовать, как то, что происходит в развивающемся я, так и то, что происходит между я и другими. Способность играть, по видимому, является врожденной. Точно так же, как для любой другой человеческой эго-функции, окружающая среда должна предоставить подходящее защищающее пространство и достаточное эхо для начальной способности. «Никакая игра не может быть полностью развита, если она не принимается серьезно взрослым» Херцог (1994). Мать дает своему ребенку обратную связь всем своим существом, ребенок воспринимает эти эмоциональные отклики и интроецирует их. Аналитик обнаруживает себя в двойной роли материнского переноса, а также нового объекта. В аналитической ситуации мы предлагаем ребенку пространство, в котором внутренний конфликт или травма могут быть экстернализованы и пережиты с аналитиком как новым объектом, который дает ребенку обратную связь всем своим существом. Этот опыт аналитика предоставляет надежду для ребенка. С одной стороны, аналитик есть воплощение фантазии, однако с другой стороны, это человек, который понимает фантазию ребенка, показываемую в игре или в рисунках. Ребенок воспринимает это очень точно. Именно в самой игре подаются метафоры, которые являются требованиями для развития символизации. Все способы игры следуют ритму присутствия и отсутствия, как Фрейд (1920, стр. 224) показал в знаменитой игре своего внука с катушкой. «Ментализация происходит через переживания ребенком того, что его психические состояния обдумываются через, например, безопасную игру с родителем или ребенком постарше... Через процесс, который может быть проработкой сложного отзеркаливания младенца ранним заботящимся лицом». Фонаги и Таргет (1998). Именно в игре устанавливается способность быть одному в присутствии другого (Винникотт 1958). «Нужды следует удовлетворять, желания следует анализировать». Это утверждение Винникотта взято из супервизии (Тоннесманн 1980), и очень емко излагает проблему детской терапии. В течение всего анализа Веры я служила как объектом развития, так и трансфертам объектом. Это стало особенно ясно в ходе развития речи Веры. Должна существовать ситуация, являющаяся рамками, чтобы учиться использовать семантику речи значимым образом, какой-то контекст, который передает смысл и делает язык понятным. В разыгрывании сказок с Верой я принимала интуитивно роль объекта развития. От разыгрывания сказок мы перешли к диалогу. Я дала ей слова и предложения, которые были близки к ее образу тела, так что она смогла вложить в них интенсивные чувства. Я помогала ей находить слова, которые интегрировали этот опыт. Вера заново пережила анальную фазу с интенсивным удовольствием. С раннего детства стыд и сомнения поколения родителей и поколения дедушки с бабушкой (Эриксон) не поощряли ее автономии. Это была точка в развитии, с которой мы начали. Мучительная ранняя болезнь Веры, процедуры ухода ее матери с ванночками, мазями и повязками, и с госпитализацией, послужили для того, чтобы создать садомазохистические формы отношений. Расчесывание и крик стали способом потянуться вовне и контролировать объект. Воспаленная кожа ребенка была болезненна для каждого прикосновения — мать не могла понять противоречивых сигналов; она делала, что могла, до изнеможения, но, по ее мнению, вынуждена была признать тот факт, что она недостаточно хороша, раз все ее усилия утешить и защитить Веру оказались бесполезными. Вера переживала свою мать как нападающую; в своей ярости, пытаясь защититься, она начала расчесываться и кричать. Ключевая точка садомазохистических отношений было отсутствие модулируемой синхронии между Верой и ее матерью. Ее мать, сама грациозная красавица без единого недостатка, стыдилась своего ребенка и чувствовала, что это божье наказание. При таких обстоятельствах отзеркаливание не могло функционировать удовлетворительно. Винникотт (1967) спрашивает: «Что видит ребенок, когда смотрит на лицо матери?... Что видится в лице матери?» (стр.27). Выработался совершенно порочный транзакционный круг, в котором потребность в экстернализации нарастала, и контакт между Верой и ее матерью превратился в постоянную борьбу. Крик и расчесывание были особыми механизмами проективной идентификации мучительной ранней болезни. Другая часть, интернализованная благодаря недостаткам отзеркаливания у младенца, требовала физического присутствия матери, чтобы позволить экстернализацию. Таким образом, даже краткие сепарации могли ощущаться как невыносимая проблема. Поэтому мать также должна была присутствовать на ранних стадиях анализа. Она могла выходить в прихожую, если дверь оставалась открытой. В таких условиях отцу Веры невозможно было играть символическую функцию и расщеплять единство мать-ребенок. Боль, которую Вера переживала с раннего младенчества, и шок от медицинских вторжений нельзя было уменьшить словами или жестами ни родителей, ни дедушки и бабушки. Контейнирующая функция не была удовлетворительной, и Вера оставалась пленницей своих собственных патологических телесных переживаний, без какойлибо возможности символизировать. Такова была ситуация, когда я начала анализ. Однако способность к позитивным объектным отношениям, которые возникли в ходе лечения, наводит на мысль, что в ранние безболезненные промежутки ее мать сумела создать счастливые отношения с Верой. Рассказ сказок во время ее пребывания в больнице был таким островком счастья, как выяснилось в начале лечения. С развитием ментализации аффекты и фантазии, которые ранее выражались через ее тело, стали трансформироваться в символическое царство. Через игру и шаловливость Вера смогла быть одна, а возможность заглядывать в мой разум предоставила ей новый опыт обнаружить себя доброкачественной и привлекательной, в противовес ее младенческому опыту. Литература Erikson, Е.Н. (1950): Childhood and Society, New York: Norton Folch, P. & Eskelinen des Folch,T. (1989), Symbolisation, jeu ettransfert. Revue Fane. Psychoanalyse 6. Fonagy, P., Target, M., (1998) An interpersonal view of the infant. In: Hurry, A. (1998): Psychoanalysis and developmental therapy. London: Karnac Books Freud, A. (1965): Normality and Pathology in Childhood. New York: International Universities. Press. Freud, S. (1908e): Der Dichter und das Phantasieren. GW. 7.211-223. .... (I920g): Jenseits des Lustprinzips. GW, 13, p.213ff. Greenacre, Ph. (1970): The transitional object and the fetish. In: Emotional Growth. New York: Int. Univ. Pre., 335. Herzog, J. M. (1993): Play modes in child analysis. In: Solnit, A J., Cohen, D.J. & P.B. Neubauer (Eds.), The many meanings of play. New Haven, London: Yale University press. Kant, I (1790): Kritik der Urteilskraft. Ges. Schriften. Neu Hrsg. W. Weischedel,(1968), Bd. 9 ; Wiss.Buchgesellschaft, Darmstadt Klein, M. (1925): Die Technik der Fruhanalyse. In: M. Klein: Die Psychoanalyse des Kindes, Munchen, Kindler (1973). Kelleter, R. (1990): Haut und Primarerziehung, Zeitschrift fur Psycho-analytiker Theorie und Praxis, V. 2, S. 122-144 . (1994): Zur Gestaltung der analytischen Situation in der Kinderanalyse. In: „Spielraume" Tubingen Edition discord S. 35-50 Milner, M. (1957): On not being able to paint. Rev.edn, London: Hein-emann Schiller, F. (1795): Uber die asthetische Erziehung des Menschen. 15. Br. Nat. Ausg. 20, (1962) S.357 Tonnesmann, M. (1980): Adolescent re-enactment, trauma, reconstruction. J. Child Psychother., 6,23-44. Winnicott, D.W. (1958): The Capacity to be alone. In: The Maturational Processes and the Facilitating Environment. London, Hogarth Press (1967): Mirror — Role of Mother and Family in Child Development. In P.Lomas, ed. London, Hogarth Press (1971): Playing and Reality. New York: Basic Books.