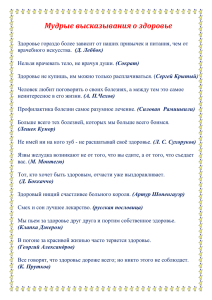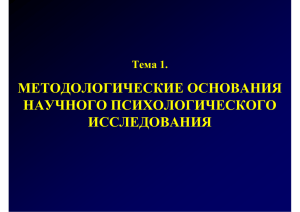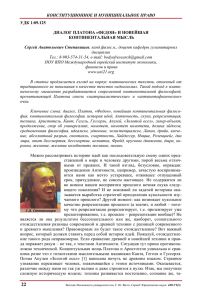Мамардашвили М.К. что такое философия
реклама

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского»
Кафедра философии и философской антропологии
ФИЛОСОФИЯ
Хрестоматия (часть 1)
Для студентов и курсантов всех специальностей
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Составили: Андреева О.В., Белоусова О.В.
Владивосток
2012
1
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..
РАЗДЕЛ 1. Особенность философского мировоззрения
Ортега-и-Гассет Х.. Эстетика в трамвае………………………………………
Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?
Хайдеггер М. Что это такое - философия
Мамардашвили М.К. Философия – это сознание вслух
Мамардашвили М.К. что такое философия
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление
Мамардашвили М. Введение в философию (Философия и миф)
Франк С.Л. Философия и религия
Мелони Структура религиозного опыта
Франк С. Человек и Бог
Евангелие от Матвея Нагорная проповедь
Франк С.Л. Понятие философии. Взаимоотношение философии и науки
РАЗДЕЛ 2 Античная философия
Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху Греции // Ницше Ф. Философия в
трагическую эпоху. ………………………………………………………….
Платон Гиппий Больший
Платон Апология Сократа
Платон Государство
Аристотель Метафизика О душе
РАЗДЕЛ З Средневековая философия
Аврелий Августин Исповедь
Оккам
Д. Скотт
РАЗДЕЛ 4 Философия Нового времени и эпохи просвещения
Бекон Новый органон
Декарт Рассуждения о методе
Кант И.
РАЗДЕЛ 5 Философия 19-21 веков
Философия жизни
Шопенгауэр
Ницше Так говорил Заратустра
Ницше Антихристианин
Психоанализ
Фрейд Я и Оно
Фромм Э.
Экзистенциализм
Сартр Стена
2
Сартр экзистенциализм – это гуманизм
Сартр, Ж.-П. «Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм
Камю, А. Абсурдное рассуждение
Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике
Фундаментальная онтология
Хайдеггер М. Разговоры на проселочной дороге
Хайдеггер, М. Бытие и время.
Феноменология
Гуссерль Феноменология
Постмоденизм
Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть
Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры
Жижек, С. Возлюби мертвого ближнего своего (Твой ближний мертв.
Возлюби ближнего своего!)
Жижек, С. Добро пожаловать в пустыню Реального II Размышления о
Всемирном торговом центре
Кристева, Ю. Изоляция, идентичность, опасность, культура
Фуко, М. История безумия в классическую эпоху
Жижек кока кола как объект А
Глоссарий ……………………………………………………………………....
3
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Особенность философского мировоззрения
Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика в трамвае
Требовать от испанца, чтобы, войдя в трамвай, он не окидывал
взглядом знатока всех едущих в нем женщин, - значит требовать
невозможного. Ведь это одна из самых характерных и глубоко
укоренившихся привычек нашего народа. Та настырность и почти
осязаемость, с какими испанец смотрит на женщину, представляются
бестактными иностранцам и некоторым моим соотечественникам. К числу
последних отношу себя и я, ибо у меня это вызывает неприятие. И все же я
считаю, что эта привычка - если оставить без внимания настырность,
дерзость и осязаемость взгляда - составляет одну из наиболее своеобразных,
прекрасных и благородных черт нашей нации. А отношение к ней такое же,
как и к другим проявлениям испанской непосредственности, которые
кажутся дикарскими из-за смешения в них чистоты и скверны, целомудрия и
похоти. Но если их очистить, освободить изысканное от непристойного,
возвысить благородное начало, то они могли бы составить весьма
своеобразную систему поведения, наподобие той, суть которой передается
словами gentleman или homme de bonne compagnie[1].
(….) Сейчас, однако, я не задаюсь целью раскрыть благородный смысл,
скрывающийся за взглядами, которыми испанец пожирает женщину. Это
было интересно, по крайней мере для "Наблюдателя", в течение нескольких
лет испытывавшего влияние Платона, отменного знатока науки видения. Но
в данный момент у меня другое намерение. Сегодня я сел в трамвай, и
поскольку ничто испанское мне не чуждо, то пустил в ход вышеупомянутый
взгляд знатока, постаравшись освободить его от настырности, дерзости и
осязаемости. И, к величайшему своему удивлению, я отметил, что мне не
понадобилось и трех секунд, чтобы эстетически оценить и вынести твердое
суждение о внешности восьми или девяти пассажирок. Эта очень красива, та
- с некоторыми изъянами, вон та - просто безобразна и т. д. В языке не
хватает слов, чтобы выразить все оттенки эстетического суждения,
складывающегося буквально в мгновение ока.
Поскольку путь предстоял долгий, а ни одна из моих попутчиц не
давала мне повода рассчитывать на сентиментальное приключение, я
погрузился в размышления, предметом которых были мой собственный
взгляд и непроизвольность суждений.
“В чем же состоит, - спрашивал я себя, - этот психологический
феномен, который можно было бы назвать вычислением женской красоты?”.
4
Я сейчас не претендую на то, чтобы узнать, какой потаенный механизм
сознания определяет и регулирует этот акт эстетической оценки. Я
довольствуюсь лишь описанием того, что мы отчетливо себе представляем,
когда осуществляем его.
Античная психология предполагает наличие у индивида априорного
идеала красоты - в нашем случае идеала женского лица, который он налагает
на то реальное лицо, на которое смотрит. Эстетическое суждение тут состоит
просто-напросто в восприятии совпадения или расхождения одного с другим.
Эта теория, происходящая из Платоновой метафизики, укоренилась в
эстетике, заражая ее своей изначальной ошибочностью. Идеал как идея у
Платона оказывается единицей измерения, предсуществующей и
трансцендентной.
Подобная теория представляет собой придуманное построение,
порожденное извечным стремлением эллинов к единому.(…) Единое - это
единственное, что есть. Белые предметы белы, а красивые женщины красивы
не сами по себе, не в силу своеобразия, а в силу большей или меньшей
причастности к единственной белизне и к единственной красивой женщине.
(..) Но …все это - умственное построение. Нет единого и всеобщего образца,
которому уподоблялись бы реальные вещи. Не стану же я, в самом деле,
накладывать на лица этих дам априорную схему женской красоты! Это было
бы бестактно, а кроме того, не соответствовало бы истине. Не зная, что
представляет собой совершенная женская красота, мужчина постоянно ищет
ее с юных лет до глубокой старости. О, если бы мы знали заранее, что она
собою являет!
(…) Так вот, если бы мы знали это заранее, то жизнь утратила бы
одну из лучших своих пружин и большую долю своего драматизма. Каждая
женщина, которую мы видим впервые, пробуждает в нас возвышенную
надежду на то, что она и есть самая красивая. И так, в чередовании надежд и
разочарований, приводящих в трепет сердца, бежит наша жизнь по
живописной пересеченной местности. В разделе о соловье Бюффон
рассказывает об одной из этих птичек, дожившей до четырнадцати лет
благодаря тому, что ей никогда не доводилось любить. "Очевидно, добавляет он, - что любовь сокращает дни нашей жизни, но правда и то, что
взамен она их наполняет".
(…) Поскольку я не имею этого архетипа, единого образа женской
красоты, то у меня рождается предположение, которое возникало уже у
некоторых эстетиков, что, возможно, существует некое множество
различных типов физического совершенства: совершенная брюнетка,
идеальная блондинка, простушка, мечтательница и т. д.
Сразу же заметим, что это предположение лишь умножает связанные
с данным вопросом сложности. Во-первых, у меня нет ощущения, что я
владею всем набором подобных образцов, и я даже не подозреваю, где и как
5
я мог бы им обзавестись. Во-вторых, в рамках каждого типа красоты я вижу
возможность существования неограниченного числа вариантов. Это значит,
что количество идеальных типов пришлось бы увеличить настолько, что они
утратили бы свой видовой характер. А если их, как и индивидуальных лиц,
будет бесчисленное множество, то сведется на нет сама цель этой
закономерности, состоящая, между прочим, и в том, чтобы единое и общее
сделать нормой и прототипом для оценки единичного и многообразного.
Тем не менее, нам хотелось бы кое-что подчеркнуть в этой теории,
дробящей единую модель на множество типовых образцов. Что же вызвало
такое дробление? Это, несомненно, осознание того, что в действительности
при вычислении женской красоты мы руководствуемся не единой схемой,
налагая ее на конкретное лицо, лишенное права голоса в эстетическом
процессе. Напротив, руководствуемся лицом, которое видим, и оно само,
согласно этой теории, выбирает такую из наших моделей, какая должна быть
к нему применена. Таким образом, индивидуальность сотрудничает в
выработке нашего суждения о совершенстве, а не ведет себя совершенно
пассивно.
(…) В самом деле, глядя на конкретную женщину, я рассуждал бы
совсем иначе, чем некий судья, поспешающий применить установленный
кодекс, соответствующий закон. Я закона не знаю; напротив, я ищу его во
встречающихся мне лицах. По лицу, которое я перед собой вижу, я хочу
узнать, что такое красота. Каждая женская индивидуальность сулит мне
совершенно новую, еще незнакомую красоту; мои глаза ведут себя подобно
человеку, ожидающему открытия, внезапного откровения.
Ход нашей мысли в момент, когда какую-то женщину мы видим
впервые, можно было бы точно охарактеризовать при помощи довольно-таки
фривольного галантного оборота: "Всякая женщина красива до тех пор, пока
не будет доказано обратное". Добавим к этому: красива не предусмотренной
нами красотой.
(…) Так вот, обещание красоты иногда не исполняется. Мне, к
примеру, достаточно было лишь мельком взглянуть на вон ту даму на заднем
сиденье трамвая, чтобы признать ее некрасивой. Давайте разложим на
составные части этот акт неблагоприятного суждения. Для этого нам нужно
повторить его в замедленном темпе, чтобы наша рефлексия могла проследить
шаг за шагом стихийную деятельность нашего сознания.
И вот что я замечаю: сначала взгляд охватывает лицо в целом, в
совокупности черт, и как бы обретает некую общую установку; затем он
выбирает одну из черт - лоб, к примеру, - и скользит по ней. Линия лба
плавно изгибается, и мне доставляет удовольствие наблюдать этот изгиб.
Мое настроение в этот момент можно довольно точно описать фразой: "Это
хорошо!" Но вот мой взгляд упирается в нос, и я ощущаю некое затруднение,
колебание или помеху. Нечто подобное тому, что мы испытываем на
6
развилке двух дорог. Линия лба как будто требует - не могу сказать почему другого продолжения, отличного от реального, которое ведет мой взгляд за
собой. Да, сомнений нет, я вижу две линии: реальную и едва различимую,
как бы призрачную над действительной линией носа из плоти, честно говоря
несколько приплюснутого. И вот ввиду этой двойственности мое сознание
начинает испытывать что-то вроде pietinement sur place[7], колеблется,
сомневается и в нерешительности измеряет расстояние от линии, которая
должна была быть, до той, которая есть на самом деле.
Мы, конечно, не будем сейчас проделывать шаг за шагом то, от чего
отказались при оценке лица в целом. Нет ведь идеального носа, рта,
идеальных
щек. Если подумать, то всякая некрасивая (не
уродливая[*Уродство - дефект
биологический, а следовательно,
предшествующий плану эстетического суждения. Антонимом "уродливого"
является не "красивое", а "нормальное"]) черта лица может показаться нам
красивой в другом сочетании.
(…) Итак, мы убедились в том, что образец не является ни единым
для всех, ни даже типовым. Каждое лицо, словно в мистическом свечении,
вызывает у нас
представление о своем собственном, единственном,
исключительном идеале.
(…) Рассмотренное нами вычисление женской красоты служит
ключом и для всех остальных сфер оценки. Что приложимо к красоте,
приложимо и к этике.
Мы уже видели, что всякое отдельно взятое лицо являет собой
одновременно и проект самого себя и его более или менее полное
осуществление. То же самое и в сфере нравственности: каждый человек
видится мне как бы вписанным в свой собственный нравственный силуэт,
показывающий, каким должен бы быть характер этого человека в
совершенстве. Иные своими поступками всецело заполняют рамки своих
возможностей, но, как правило, мы либо их не достигаем, либо за них
выходим. Как часто мы ловим себя на страстном желании, чтобы наш
ближний поступал так или иначе, ибо с удивительной ясностью видим, что
тем самым он заполнил бы свой идеальный нравственный силуэт!
Так давайте соизмерять каждого с самим собой, а то, что есть на
самом деле, с тем, что могло бы быть. “Стань самим собой” - вот
справедливый императив... (…)
К литературной или художественной критике наша теория
применима самым непосредственным образом. А анализ, направленный на
формирование суждения о женской красоте, применим к предмету чтения.
Когда мы читаем книгу, то ее "тело" как бы испытывает постукивание
молоточков нашей удовлетворенности или неудовлетворенности. "Это
хорошо, - говорим мы, - так и должно быть". Или: "Это плохо, это уходит в
сторону от совершенства". И автоматически мы намечаем критическим
7
пунктиром ту схему, на которую претендует произведение и которая либо
приходится ему впору, либо оказывается слишком просторной.
Да, всякая книга - это сначала замысел, а потом его воплощение, измеряемое
тем же замыслом. Само произведение раскрывает и нам свою норму и свои
огрехи. И было бы величайшей нелепостью делать одного писателя мерилом
другого…. А эта дама, сидящая передо мной... - Куатро Каминос![12] выкрикивает кондуктор. Этот крик всегда вызывал у меня тяжелое чувство,
ибо он - символ замешательства.
Однако приехали. За десять сантимов
далеко не уедешь.
Х.Ортега-и-Гассет Две главные метафоры
Когда тот или иной автор упрекает философию в использовании метафор,
он
попросту признается, что не понимает и философию и метафору. Ни один из
философов не избежал подобных упреков[*Заметим, что Аристотель порицал
Платона не с тем, чтобы подвергнуть его метафоры[1] критике, а, напротив,
утверждая, что некоторые его притязающие на строгость понятия, например
"сопричастность", на самом деле всего лишь метафоры]. Метафора незаменимое
орудие разума, форма научного мышления. Употребляя ее, ученому
случается
сбиться и принять косвенное или метафорическое выражение собственной
мысли
за прямое. Подобная путаница, конечно же, достойна порицания и должна
быть
исправлена; но ведь такого рода погрешность может допустить при расчетах
и
физик. Не следует же отсюда, будто математику надлежит изгнать из физики.
Ошибка в применении метода не довод против него самого. Поэзия
изобретает
метафоры, наука их использует, не более. Но и не менее.
С боязнью метафор в науке происходит ровно то же, что со "спором о
словах". Чем неусидчивее ум, тем охотнее он считает любую дискуссию
всего
лишь спором о словах. И, напротив, до чего же редки эти споры на самом
деле!
Строго говоря, вести их способен лишь тот, кто искушен в грамматике. Для
других же слово равно значению. И потому, обсуждая слова, труднее всего
не
8
подменять их значениями. Или тем, что старая логика по традиции
именовала
понятиями. А поскольку понятие - это в свою очередь нацеленность мысли
на
предмет, споры будто бы о словах - на самом деле дискуссии о предметах.
Разница между двумя значениями или понятиями - иначе говоря, предметами
бывает настолько мала, что для человека практического либо недалекого не
представляет никакого интереса. И тогда он обрушивается на собеседника,
обвиняя его в пустых словопрениях. Мало ли на свете близоруких, готовых
считать, будто все кошки и впрямь серы! Но точно так же всегда отыщутся
люди, способные находить высшее наслаждение в малейших различиях
между
предметами; эти виртуозы оттенков есть всюду, и в поисках любопытных
идей мы
обращаемся именно к ним, спорщикам о словах.
Ровно так же неспособный или не приученный размышлять ум при чтении
философского труда вряд ли примет за простую метафору мысль, которая и в
самом деле всего лишь метафорична. То, что выражено in modo obliquo, он
поймет in modo recto, приписав автору ошибку, которую в действительности
привнес сам. Ум философа должен, как никакой другой, безостановочно и
гибко
переходить от прямого смысла к переносному, вместо того чтобы костенеть
на
каком-то одном. Киркегор рассказывает о пожаре в цирке. Не найдя, кого
послать к публике с неприятным известием, директор отправляет на арену
клоуна. Но, слыша трагическую новость из клоунских уст, зрители думают,
что
с ними шутят, и не трогаются с места. Пожар разгорается, и зрители гибнут от недостаточной пластичности ума.
Метафору в науке используют в двух разных случаях. Во-первых, когда
ученый открывает новое явление, иначе говоря, создает новое понятие и
подыскивает ему имя. Поскольку новое слово окружающим ничего не
скажет, он
вынужден прибегнуть к повседневному словесному обиходу, где за каждым
словом
уже записано значение. Ради ясности он в конце концов избирает слово, по
смыслу так или иначе близкое к изобретенному понятию. Тем самым термин
получает новый смысловой оттенок, опираясь на прежние и не отбрасывая
их.
Это и есть метафора. Когда психолог вдруг открывает, что мысленные
9
представления связываются между собой, он говорит, что они сообщаются,
то
есть ведут себя словно люди. Точно так же и тот, кто первым назвал
объединение людей "обществом", придал новую смысловую краску слову
"сообщник", прежде обозначавшему просто-напросто идущего следом,
последователя, sequor. (Любопытно, что этот исторический пример
подтверждает
идеи о происхождении общества, изложенные в моей книге "Испания с
перебитым
хребтом".) Платон пришел к убеждению, будто истинна не та изменчивая
реальность, что открыта глазу, а другая - непоколебимая, невидимая, но
предвосхищаемая в форме совершенства: несравненная белизна, высшая
справедливость. Для этих незримых, но открытых разуму сущностей он
нашел в
обыденном языке слово "идея", то есть образ, как бы говоря: ум видит
отчетливее глаза.
Строго говоря, следовало бы заменить и сам термин "метафора", чей
привычный смысл может увести в сторону. Ведь метафора - это перенесение
имени. Но тысячи случаев переноса не имеют ничего общего с метафорой.
Вот
лишь несколько избитых примеров.
Слово "монета" означает отчеканенный металлический предмет,
опосредующий торговые операции. Но первоначально оно значило "та,
которая
увещевает, уведомляет и оповещает" и было прозвищем Юноны. В Риме
стоял храм
Юноны Монеты, при котором существовала и служба чеканки. Этот
придаток
отобрал у Юноны имя. И теперь при слове "монета" никто уже не вспомнит о
надменной богине.
Слово "кандидат" означало человека в белых одеждах. Когда гражданин
Рима избирался на государственную должность, он представал перед
голосующими
в белом наряде. Теперь кандидат - это каждый, кого избирают, вне
зависимости
от цвета платья. Больше того, избирательные торжества нашего времени
склоняются к черному костюму.
"Забастовать" - по-французски "se mettre en greve"[2]. Почему слово
"greve" означает забастовку? Сами говорящие этого не знают, да и не
задаются
подобным вопросом. Для них слово напрямую отсылает к смыслу. "Greve"
10
первоначально значило "песчаный берег". Парижская ратуша была
неподалеку от
реки. Перед ней простирался песчаный берег, greve, по которому и ратушная
площадь получила название place de la Greve. Здесь собирались безработные,
позже - уволенные, в ожидании найма. Faire greve теперь уже означало
"остаться без места", а сегодня подразумевает добровольный отказ от работы.
Всю эту историю воскресили филологи, но ее не существует для рабочего,
просто пользующегося данным словом.
Это примеры неметафорического переноса. Слово в таких случаях начинает
вместо одного значить другое, отказываясь от первого смысла.
Когда говорят о глубинах души, слово "глубины" не относят к явлениям
духовным: они вне пространства, вне материи и не обладают соответственно
ни
поверхностью, ни глубиной. Называя некую часть души "глубинами", мы
ясно
сознаем, что пользуемся словом не по прямому назначению, хотя и через
посредство его обиходного смысла. Произнося слово "красный", мы прямо и
непосредственно отсылаем к названному цвету. Напротив, говоря о
"глубинах"
души, мы сначала имеем в виду глубины тоннеля или чего-то подобного, а
затем, разрушив этот первичный смысл, стерев в нем всякий след
физического
пространства, переносим его на область психического. Метафора живет
сознанием этой двойственности. Употребляя слово в несобственном смысле,
мы
помним, что он - несобственный.
Тогда зачем же мы его употребляем? Почему не пользуемся прямым и
непосредственным обозначением? Если так называемые "душевные
глубины" встают
перед нами столь же отчетливо, как красный цвет, отчего не найти для них
точное, неповторимое слово? Дело в том, что нам трудно не только назвать,
но
даже помыслить их. Реальность ускользает, прячась от умственного усилия.
Тогда-то перед нами и начинает брезжить вторая, куда более глубокая и
насущная роль метафоры в познании. Мы нуждаемся в ней не просто для
того,
чтобы, найдя имя, довести наши мысли до сведения других, - нет, она нужна
нам для нас самих: без нее невозможно мыслить о некоторых особых,
трудных
для ума предметах. Она не только средство выражения, но и одно из
основных
орудий познания. Рассмотрим же почему.
11
Джон Стюарт Милль полагал: будь все влажное холодным, а все холодное
влажным и одно непредставимым без другого, мы бы не поверили, что имеем
дело
с разными свойствами. Точно так же, если бы мир состоял целиком из синих
предметов и всякий раз являлся перед нами синим, нам было бы труднее
всего
ясно и отчетливо сознавать синеву как таковую. Для собаки предмет
особенно
ощутим, когда движется, источая при этом облачко запаха. Но и наше
восприятие и мышление схватывает изменчивое лучше, чем постоянное.
Живя
рядом с водопадом, к его грохоту привыкаешь: напротив, случись потоку
застыть, мы почувствовали бы самое невероятное - тишину.
Поэтому чувство, по Аристотелю, есть способность воспринимать различия.
Оно схватывает разнообразное и переменчивое, но притупляется и слепнет
перед
устойчивым и неизменным. Потому и Гете парадоксально и по-кантовски
считает
предметы различиями, которые мы между ними проводим. Сама по себе
ничто,
тишина реальна для нас лишь на фоне иного - шума. Стоит шуму вокруг
внезапно
стихнуть, и обступившая тишина захлестывает нас, цепеня, словно кто-то,
суровый и важный, склонился над нами, пригвождая взглядом.
Поэтому отнюдь не все в равной мере поддается мысли, оставляя по себе
отчетливый образ, резкий и ясный профиль. Разум склонен опираться на
легкое
и доступное, чтобы достигнуть более трудного и неуловимого.
Подытожим: метафора - это действие ума, с чьей помощью мы постигаем
то,
что не под силу понятиям. Посредством близкого и подручного мы можем
мысленно коснуться отдаленного и недосягаемого. Метафора удлиняет
радиус
действия мысли, представляя собой в области логики нечто вроде удочки или
ружья.
Я не хочу сказать, будто благодаря ей преодолеваются границы мышления.
Она всего лишь обеспечивает практический доступ к тому, что брезжит на
пределе достижимого. Без нее на горизонте сознания оставалась бы
невозделанная область, в принципе входящая в юрисдикцию разума, но на
самом
деле безвестная и неприрученная.
Метафора в науке носит вспомогательный характер. Яснее всего это в
12
сравнении с поэзией, где она и есть самая суть. Однако эстетика видит в
метафоре лишь завораживающий отсвет прекрасного. А потому мало кто в
должной
мере понимает, что метафора - это истина, проникновение в реальность. И,
стало быть, поэзия есть, среди прочего, исследование: она вырабатывает
столь
же положительные знания, как наука.
В "Стихах к городу Логроньо" Лопе де Вега изображает сад:
"Глянь: ветер там купается в фонтанах,
чьи воды в превращеньях неустанных
раскидывают струи,
то копьями хрустальными подъемля,
то жемчугами осыпая землю, и капли, на лету неуследимы,
кудрями виснут, розны и едины".
Лопе де Вега представляет фонтанные струи хрустальными копьями.
Очевидно, что струи - не копья. И все же, называя их так, поэт будит в нас
удивление и радость. Поэзия в вечном противоборстве превозносит
ниспровергаемое наукой. И обе по-своему правы. Одна ценит в метафоре
именно
то, к чему равнодушна другая.
Фонтанная струя и хрустальное копье - два конкретных предмета.
Конкретно все, что может быть воспринято само по себе. Напротив,
отвлеченное
воспринимается только слитно с чем-то другим. Скажем, цвет абстрактен: он
связан с некой поверхностью большего или меньшего размера, той либо иной
формы. Но и поверхность видна лишь постольку, поскольку так или иначе
окрашена. Цвет и поверхность обречены на совместное существование: друг
без
друга они не встречаются и, при всех различиях, неразлучны. При некотором
напряжении ума мы в силах отделить их друг от друга; это напряжение и есть
абстракция. Мы абстрагируемся от одного, чтобы оставить по возможности
отдельным другое и тем самым отличить его.
Все конкретное состоит из более простого и отвлеченного. Скажем,
хрустальное копье обладает, среди прочего, формой и цветом; рука придала
ему
и движение к цели. Точно так же можно абстрагировать от фонтанной струи
ее
13
форму, цвет и приданное напором движение ввысь. Если взять струю и копье
в
целом, между ними множество различий; но стоит ограничиться тремя
перечисленными абстрактными свойствами, и различия стираются. Форма,
цвет и
движение у копья и струи те же. И наука со всей строгостью утверждает это
частичное тождество копья и струи как действительный факт.
Звезда и число совершенно не сходны. И все же, когда Ньютон
сформулировал закон всемирного тяготения, по которому сила притяжения
между
двумя телами прямо пропорциональна их массе и обратно пропорциональна
квадрату расстояния между ними, он установил частичное, абстрактное
тождество между небесными светилами и рядом чисел. Первые соотносятся
друг с
другом точно так же, как вторые. Пифагореец, который сделал бы из этого
вывод, будто звезды суть числа[3], прибавил бы к формуле Ньютона ровно
столько, сколько прибавляет Лопе де Вега к действительному, хоть и
частичному сходству между хрустальными копьями и фонтанными струями.
Научный
закон говорит всего лишь о тождестве между абстрактными частями двух
предметов; поэтическая метафора утверждает полное сходство двух
конкретных
вещей.
Стало быть, наука использует примерно те же интеллектуальные средства,
что поэзия и практическая жизнь. Разница - не в них самих, а в несходстве
режимов и задач, которым подчиняется каждая сфера. Точно так же - с
метафорическим мышлением. Действуя и в науке и в поэзии, оно выполняет
разные роли. Поэт утверждает частичное тождество двух предметов, чтобы
сделать вывод - и ошибочный! - об их полном сходстве. В подобном
преувеличении, прорыве истинных границ тождества как раз и состоит
ценность
поэзии. Там, где кончается действительное сходство, метафора начинает
излучать красоту. И наоборот: всякая поэтическая метафора обнаруживает
действительное тождество. Всмотритесь в любую, и вы наверняка откроете в
каждой фактическое, так сказать, научно установленное сходство между
абстрактными частями двух предметов.
Ученый поступает с метафорой прямо противоположным образом. Она
исходит
из полного - и, как известно, мнимого - тождества между конкретными
предметами, чтобы вычленить из него лишь то, что установлено неоспоримо.
Говоря о душевных глубинах, психолог прекрасно знает, что душа не
тоннель и
14
глубины не имеет, но он наводит нас на мысль о таком слое психики,
который в
структуре душевной жизни играет ту же роль, что глубина - в пространстве.
В
противоположность поэзии наука идет от большего к меньшему. Сначала она
утверждает полное тождество, а затем опровергает его, ограничиваясь
частичным. Любопытно, что на древнейших этапах развития мысли
метафора,
воплощаясь в слове, непременно обнажала этот двойной ход - утверждения
вначале и отрицания впоследствии. Когда авторы Вед "хотят сказать
"крепкий
как скала", они выражаются так: "Sa parvato na acyutas", то есть "ille,
firmus, non rupes" - "крепкий, но не скала". Точно так же песнопевец
обращает к Богу свой гимн non suavem cibum, который сладостен, но не
яство.
Река ревет, но не бык; царь добр, но не отец.
Герой наделен особым свойством духа, которое неразличимо смешано с
другими, составляя его целостный и неповторимый облик. Нужно известное
усилие, чтобы отделить это свойство, представив его особо, само по себе.
Для
этого мы вслед за ведийским поэтом употребляем метафору "скалы".
Крепость
скалы для нас - отвлеченное, хорошо известное и привычное качество; в нем
обнаруживается что-то общее со свойствами героя. И вот мы соединяем
скалу с
героем, а затем, придав ему ее крепости, видим перед собой уже одну скалу.
Чтобы представить себе что-то в отдельности, нужен знак, который как бы
втягивает в себя наше абстрагирующее усилие и, дав ему воплощение, тем
самым
закрепляет мысль на подручном носителе. Люди и образы, увековеченные в
письме, - своего рода склады таких приспособлений, необходимых нам для
наиболее сложных действий ума. Когда предмет мысли непривычен, мы
пытаемся
опереться на уже известные знаки и, соединяя их, очертить профиль нового.
Наша письменность практичнее китайской, поскольку создана на
механической основе. Каждой букве дан особый знак. Но буквы не обладают
значением и не выражают идей, а потому наша письменность, строго говоря,
бессмысленна. Китайская же, напротив, напрямую обозначает идеи и куда
ближе
к течению мысли. Писать или читать для китайца значит мыслить и,
наоборот,
мыслить - это почти всегда писать или читать. Поэтому знаки китайского
15
письма точнее наших отражают процесс мышления. Скажем, когда китаец
стремится выразить особое и неповторимое состояние грусти, он вынужден
подыскивать для него знак. И тогда он соединяет две идеограммы: одна
означает "осень", другая - "сердце". Грусть понимают и записывают как
"осень
сердца". Не так давно умы жителей Поднебесной поразила идея
республики[4]. В
древних словарях значка для столь диковинного представления не было. На
протяжении пятнадцати веков китайцы жили в патриархальных монархиях.
Пришлось соединить несколько знаков, записав понятие "республика" тремя
идеограммами, которые означают "кротость-обсуждение-правление".
Республика
для китайцев - это кроткое правление, основанное на обсуждении.
Метафора и есть одна из таких составных идеограмм, с чьей помощью мы
придаем отвлеченным и труднодоступным предметам особое существование.
Она
тем нужнее, чем дальше мы отходим от вещей, то и дело подвертывающихся
под
руку на повседневных дорогах жизни.
Не будем забывать, что человеческий разум пробуждался медленно, по мере
удовлетворения биологических потребностей. Вначале человеку было нужно
хоть
как-то подчинить себе физический мир. Доступные чувствам образы
единичных
предметов первыми закрепились в уме и вошли в привычку. Они составили
самый
старый, надежный и привычный реквизит наших мысленных реакций. К ним
мы
прибегаем всякий раз, когда ум исчерпывает резервы и нуждается в отдыхе.
А
вот чтобы отделить от жизни тела область психического, уже требуется
абстрагирующее усилие, которое и до сих пор не полностью вошло в обиход
разума. Над тем, чтобы изощрить наше восприятие психического, бьются
философы и психологи. Но как бы ни называть плоды деятельности сознания
разумом или душой, - они все-таки неотделимы от тела: пытаясь думать о
них
как об особых сущностях, мы неизбежно подыскиваем им телесное
воплощение.
Скольких усилий стоило человеку выделить в чистоте эту внутреннюю
психическую сущность, которая заброшена в чуждый ей материальный мир и
наделена собственной силой чувства и предвосхищения! История личных
16
местоимений развернет перед нами череду подобных усилий, показывая, как
в
долгом продвижении от внешнего к внутреннему формируется понятие "я".
Сначала вместо "я" говорят "моя плоть", "мое тело", "мое сердце", "моя
грудь". Мы еще и теперь, с ударением произнося "я", прижимаем руку к
груди,
- остаток древнего телесного представления о личности. Человек познает
себя
через то, чем владеет. Притяжательное местоимение старше личного.
Понятие
"моего" старше понятия "я". Позже акценты переносятся с вещей на
социальную
маску. Образ себя, который создан в расчете на других, то есть, самый
внешний слой личности, выдается за ее истинную сущность. В японском
языке
нет местоимений "я" и "ты". О себе говорят словами "ничтожный",
"неразумный", о собеседнике - выражениями "почтенный", "высочайший" и
т. п.
О себе упоминают в третьем лице, как о вещи, и этикет общения в том и
состоит, чтобы правильно понять, кто из говорящих "ничтожный", а кто "высочайший". В языке североамериканских индейцев юпа местоимения
третьего
лица различаются в зависимости от того, относятся ли они к взрослому члену
племени, ребенку или старику. Рискнем сказать, что социальная титулатура все эти наши "превосходительства", "светлости" и "высочества" предшествовала простым личным местоимениям.
Поэтому не удивительно, что в языке так мало слов, изначально
относящихся к действиям сознания. Почти весь понятийный аппарат
психологов чистые метафоры: слова со значением тела приспособлены косвенно
обозначать
движения души.
Но наша внутренняя, отвлеченная от тела личность еще относительно
конкретна. Есть предметы гораздо более абстрактные и темные: чтобы
помыслить
их, метафорический инструментарий куда нужнее.
Представлять предмет ясно и отчетливо - значит думать о нем как об
особой сущности, мысленным лучом выделив его из окружения. Поэтому
легче
представить себе изменчивое, чем постоянное. Изменение смещает строй
реальности так, что ее элементы образуют новые связи. Влажность то
ассоциируется с теплотой, то соединяется с холодом. Изъятый из таких
17
сочетаний, предмет оставляет за собой очерк пустоты, словно плитка,
выпавшая
из мозаики.
Поэтому воспринять предмет тем труднее, чем богаче связи, в которые он
вступает. О его верность себе при любых переменах наша восприимчивость
притупляется.
Вот об этом и речь: есть сущность, которая частью или примесью входит
во все, точно красная нить, вплетенная в любой канат Королевского морского
флота Британии. То всеобщее, неуничтожимое и вездесущее, что неизбежно
сопутствует всякому явлению, и называется сознанием.
Невозможно представить себе что бы то ни было вне отношения к нам:
минимум связей с окружающим - это связь с сознанием. Какими бы разными
ни
казались два предмета, они, во всяком случае, имеют одно общее свойство быть предметами нашей мысли, объектами для субъекта.
Понятно, что труднее всего познать, почувствовать, описать и определить
именно этот всеобщий, неуничтожимый и вездесущий феномен - сознание.
Все
остальное дано и воспринято лишь благодаря ему. Оно, собственно, и есть
данность, открытость разумению. Как обязательная добавка оно входит во
все входит неотторжимо, незыблемо и непременно. И если мы отличаем холод от
влажности, поскольку влажность связана то с холодом, то с теплом, тогда как
определить саму область их проявлений - сознание? Где без метафоры не
обойтись, так это именно здесь.
Понять же всеобщую связь между объектом и субъектом, иначе говоря,
способность разумения, можно только сравнив ее с другой формой связи,
частичной. Результатом сравнения и будет метафора. Но нужно быть начеку,
чтобы, истолковывая всеобщее через частичное и более доступное, не
упустить
из виду, что имеешь дело с научной метафорой, и - по законам поэзии - не
отождествить одного с другим. Оступиться тут рискованно. Ведь от того, как
мы представляем себе сознание, зависит весь наш образ мира, а от него в
свою
очередь - нравственность, политика, искусство. Целостное здание мира и
бытия
в нем покоится здесь на мельчайшей, неощутимой частице однойединственной
метафоры.
В самом деле, две главные эпохи человеческой мысли - древний мир,
включая Средневековье, и новое время, начиная с Возрождения существовали
18
благодаря двум уподоблениям, теням двух снов, как сказал бы Эсхил. Две
эти
ключевые метафоры в истории философии с поэтической точки зрения
немногого
стоят. Ими пренебрег бы и зауряднейший лирик.
Как античность объясняла себе тот потрясающий факт, что мир встает
перед нами, облик за обликом разворачивая зрелище бесчисленных
предметов?
Уточню смысл вопроса. Взглянем на горную цепь Гуадаррамы. Перед нами
гора
высотою около двух тысяч метров, она гранитная, сиреневая с голубым. Но
разум - вне пространства, он безразмерен, бесцветен, не обладает
сопротивлением. Итак, объект и субъект мысли имеют противоположные
свойства,
взаимно исключают и друг друга и возможность всякой связи между собой,
поскольку взаимное отрицание связью, конечно, не является. И все же, глядя
на гору, субъект и объект восприятия - гора - образуют вполне
положительную
связь: они входят друг в друга, становясь одним. Как будто бы два
полностью
исключающих друг друга феномена тем не менее составляют одно. Перед
нами
противоречие, не так ли? Но в нем и заключается вопрос. Столкнувшись с
противоречием, разум теряет равновесие. Решив, будто А есть Б, он тут же
пытается исправить ошибку и утверждает, что А не есть Б; но, встав на эту
новую позицию, он неизбежно возвращается к началу, и так без конца. Это
вынужденное кружение расшатывает мысль, лишая ее покоя и
безмятежности.
Чтобы вырваться, мы начинаем сопротивляться и пытаемся превзойти
противоречие, разрешить вопрос. Соломинка в воде прямая - и нет. Что же
выбрать? "Быть иль не быть - вот в чем вопрос". "То be or not to be; that is
the question".
А вопрос этот, если можно так выразиться, с двойным дном. То, что наш
разум воспринимает явление, бесспорно, значит, что оно - в данном случае
гора - "находится в нас". Но каким образом двухтысячеметровый пик может
находиться в уме, который пространственных измерений не имеет? Первое
"дно"
вопроса - в том, чтобы попросту описать способ, каким вещи существуют в
сознании. Второе - в том, чтобы объяснить, как, по каким причинам или при
каких условиях это возможно. Обе стороны вопроса должны решаться по
отдельности. Как раз здесь и древний мир и новое время совершили ошибку:
они
19
спутали описание феномена с объяснением. Если нас спрашивают: "Почему
Хуан
такой странный?" - мы вправе сами спросить: "А кто такой Хуан?" Раньше,
чем
обсуждать причины происходящего с Испанией, стоило бы выяснить, что же
с
ней, собственно, происходит.
Для античности субъект, осознавая нечто, как бы входит с ним в связь так два физических тела, столкнувшись, оставляют отметины друг на друге.
Метафора печати, с ее слабым, оттиснутым на воске следом, вошла в
сознание
эллинов и век за веком задавала ориентир мышлению. Уже в "Теэтете"
Платон
упоминает ekmageion - вощеную дощечку, на которой писец процарапывает
стилем
очертания букв[5]. Повторенный Аристотелем в трактате "О душе" (книга III,
глава IV), этот образ пережил средние века, и в Париже и Оксфорде,
Саламанке
и Падуе преподаватели столетиями вбивали его в тысячи юношеских голов.
Итак,
субъект и объект ведут себя ровно так же, как два любых других физических
тела. Оба существуют независимо друг от друга и тех отношений, в которые
иногда вступают. Предмет зрения существует до того, как увиден, и
продолжает
существовать, будучи уже невидим; разум остается разумом, даже если ни о
чем
не мыслит и ничего не сознает. Столкнувшись с разумом, предмет оставляет
на
нем отпечаток. Сознание - это впечатление.
Для этой мыслительной традиции сознание (или связь между субъектом и
объектом) - событие столь же реальное, как столкновение двух тел. Оттого
она
и названа реализмом. Оба элемента - и предмет и разум - здесь одинаково
реальны, как реально и воздействие одного на другой. Причем оба
трактуются
на первый взгляд совершенно беспристрастно. Но стоит присмотреться, как
убеждаешься: допуская, что материальный предмет отпечатывается на
другом,
нематериальном, мы относимся к ним абсолютно одинаково, иначе говоря,
воспринимаем сравнение с воском и печатью буквально. Субъект
принижается до
объекта. Его собственной природе не воздано должного.
20
Отсюда - все античное понимание мира. "Быть" - для античности значит
находиться среди других предметов. А они существуют, опираясь друг на
друга
и складываясь в грандиозное здание вселенной. Личность всего лишь один из
таких предметов, погруженных, по словам Данте, в "великое море бытия".
Сознание - крошечное зеркало, где отражается только внешность вещей.
Поэтому
личности в античном космосе отведено не много места. Платон предпочитает
говорить "мы", полагая, что единство - залог силы. Соответственно греки и
римляне искали жизненную норму, нравственный закон в приспособлении
личности
к космосу. Так, подытоживая классическую традицию, стоики видели цель в
том,
чтобы "жить в согласии с Природой"[6], поскольку Природа целостна и не
знает
страстей. Сознание личности, словно умоляющая рука слепца - а Стагирит
считал душу чем-то вроде руки[7], - должно было ощупью отыскивать
дороги
мира, чтобы найти среди них свой скромный путь.
Ренессанс, который вопреки расхожему суду был не столько возвратом к
классической древности, сколько ее преодолением, не мог миновать
проблему
сознания.
На самом деле образ вощеной дощечки плохо согласуется с фактом,
который
берется объяснить. После того как печать вмята в воск, перед нами равно
очевидные печать доставленный ею оттиск. Одно с другим можно сравнить.
Иное
- в случае в Гуадаррамой: нам доступен лишь ее отпечаток в сознании, но не
она сама. Будь это галлюцинацией, качество изображения осталось бы тем
же.
Потому заявлять, будто предметы существуют вне и помимо нашего
сознания,
весьма рискованно. У нас нет о них других авторитетных свидетельств,
кроме
собственного разумения, когда мы их видим, воображаем, обдумываем.
Скажем
иначе: факт, что предметы каким-то образом находятся в нас, неоспорим. А
вот
существование их вне нас, напротив, всегда сомнительно и проблематично.
Пытаться же объяснить бесспорное через предполагаемое, один факт через
21
другой, по меньшей мере сомнительный, - задача абсурдная. Декарт изменил
сам
подход к вопросу. Единственно подлинное существование вещей - их
существование в мысли. Вещи умерли как реальности, чтобы воскреснуть
как
cogitationes[8]. Но "акты мышления" - это всего лишь состояния субъекта,
личности, того moi-meme qui ne suis qu'une chose qui pense[9]. С этой точки
зрения сознание относится к миру совершенно иначе, чем полагала
античность.
Место печати и вощеной дощечки заступает новая метафора - сосуда и
содержимого. Вещи не входят в сознание извне, они содержатся в нем как
идеи.
Новое учение назвало себя идеализмом.
Строго говоря, сознание, разумение - понятия родовые. Есть множество
разных форм сознания: зрение и слух, то есть восприятие, не то же, что
воображение или чистая мысль. Античная философия выделяла прежде всего
восприятие: посредством его предмет и в самом деле как бы приходит к
субъекту со стороны и оставляет на нем оттиск. Новое время
сосредоточилось,
напротив, на воображении. Когда сознание работает в режиме воображения,
не
предметы приходят к нам по собственной воле - это мы вызываем их. Больше
того, мы черпаем в этом бодрость духа, чтобы из самых мрачных нелепостей
создавать юных кентавров, летящих, распустив на призрачном весеннем
ветру
щетки и гриву, вслед за неуловимыми белокожими нимфами. С помощью
воображения мы творим и рушим предметы, делим и перетасовываем их. А
потому
содержание мысли не может войти в нас извне, мы должны извлечь его из
собственных глубин. Сознание - это творчество.
Современная эпоха явно предпочитает способность воображения. Гете
видит
в "вечно беспокойной, вечно юной дочери Юпитера Фантазии" триумф
мироздания.
Лейбниц сводит реальность к монаде, чья суть - в стихийной мощи
представлений[10]. Кант создает систему, ось которой - Einbildungskraft,
воображение[11]. Шопенгауэр заключает, что мир - это наше представление,
грандиозная фантасмагория, призрачная завеса образов, которые творит
сокровенное космическое желание[12]. А молодой Ницше обнаруживает в
мироздании всего лишь театральную игру скучающего бога: "Мир - это сон и
дым
перед глазами того, кто от века не знает покоя".
22
Судьба личности в корне переменилась. Как в восточных сказках, нищий
проснулся принцем. В конце концов Лейбниц присваивает человеку имя un
petit
Dieu[13]. Кант возводит его в сан верховного законодателя Природы[14]. И,
как всегда не знающий меры, Фихте не согласен на меньшее, заявляя:
"Личность
- это все"[15].
КОММЕНТАРИЙ…
Х. Ортега-и-Гассет
Что такое философия?
Лекция I
[Философия сегодня. - Необычайное и правдивое приключение: пришествие
истины. - Соотношение истории и философии.]
В сфере искусства, любви или идеи от заявлений и программ, я полагаю, нет
большого толка. Что касается идей, подобное недоверие объясняется
следующим: размышление на любую тему - если это по-настоящему
глубокое и положительное размышление - неизбежно удаляет мыслителя от
общепринятого, или расхожего, мнения, от того, что в силу более веских
причин, чем вы теперь могли бы предположить, заслуживает название["общественного мнения", или "тривиальности". Любое серьезно"
умственное усилие открывает перед нами неизведанные пути и уносит от
общего берега к безлюдным островам, где нас посещают необычные мысли.
Они плод нашего воображения. Так вот, объявление или программа заранее
уведомляют нас о результатах, ни словом не обмолвившись о пути, который
привел к их открытию. Но, как мы вскоре убедимся, мысль, оторванная от
ведущего к ней пути, напоминает остров с крутыми берегами; это абстракция
в наихудшем смысле слова, поэтому она недоступна пониманию. Что пользы
в самом начале исследования воздвигать перед публикой неприступный утес
нашей программы. т. е. начинать с конца?
Поэтому я не стану большими буквами печатать в программе содержание
этого цикла лекций, а предлагаю начать с начала, с того, что может стать для
вас сегодня, как было для меня вчера, исходной точкой.
Факт, с которым мы прежде всего сталкиваемся, очевиден и общеизвестен:
сегодня философия заняла в коллективном сознании иное место, чем это
было тридцать лет назад, и соответственно сегодня изменилось отношение
23
философа к своей профессии и своему труду. Первое, как и любви
очевидный и общеизвестный факт, можно подтвердить с помощью не менее
очевидных примеров: в частности, сравнив статистические данные о том,
сколько книг по философии раскупается сейчас, с тем, сколько их
раскупалось тридцать лет назад. Известно, что сегодня почти во всех странах
продажа философских книг растет быстрее, чем продажа художественных, и
всюду наблюдается живейший интерес к идеологии. Этот интерес, это
стремление, осознаваемое с различной степенью ясности, слагается из
потребности в идеях и ив наслаждения, которое люди опять начинают от них
испытывать. Сочетание этих двух слов не случайно: мы еще убедимся, что
любая существенная, внутренняя потребность живого организма в отличие от
второстепенных, внешних потребностей сопровождается наслаждением.
Наслаждение - это облик, счастья. И всякое существо счастливо, когда
следует своему предназначению, иными словами, своим склонностям,
удовлетворяет насущные потребности; когда оно осуществляет себя,
является тем, что оно есть на самом деле. Поэтому Шлегель, переворачивая
отношение между наслаждением и судьбой, говорил: "Мы гениальны в том,
что нам нравится". Гений, т. е. величайший дар, полученный существом для
выполнения какого-либо дела, всегда сопровождается проявлением высшего
удовольствия. Вскоре под напором лавины доказательств нам с изумлением
придется убедиться в том, что сегодня может показаться пустой фразой:
наша судьба и есть паше высшее наслаждение.
Вероятно, у нашего времени, по сравнению с предшествующим,
философская судьба, поэтому нам нравится философствовать - для начала
прислушиваться, когда в общественной атмосфере, подобно птице,
промелькнет философское слово, внимать философу, как страннику, быть
может принесшему свежие вести из запредельных стран.
Подобная ситуация прямо противоположна той, что была тридцать лет назад!
Любопытное совпадение. Срок, как принято, считать, отделяющий одно
поколение от другого.
И в удивительном согласии с этим изменением общественного настроения
мы обнаруживаем, что сегодня философ подходит к философии в совсем
ином расположении духа, чем его коллеги предшествующего поколения. Об
этом мы сегодня и будем говорить: о том, что настроение, с которым мы
приступаем к философствованию, глубоко отличается от настроения,
господствовавшего среди философов вчера. Сделав это исходной точкой
вашего курса лекций, мы будем постепенно приближаться к его истинной
теме, которую пока не стоит называть, так как название нам ничего не
скажет. Мы станем приближаться к ней кругами с каждым разом смыкая их
все теснее и требовательней, скользя по спирали - от чистой экстериорности,
на вид отвлеченной, равнодушной и холодной, к сокровеннейшему центру,
полному собственным, не привнесенным нами, внутренним драматизмом.
24
Большие философские проблемы требуют той же тактики, что была
применена иудеями при взятии Иерихона с его розами: избегая прямого боя,
они медленно обходили вокруг города, смыкая кольцо все теснее под
неумолчные драматические звуки труб. При идеологической осаде
драматизм мелодии достигается постоянной сосредоточенностью нашего
сознания на проблемах, представляющих собой драму идей. Надеюсь, его
напряжение не ослабнет, ибо избранный нами путь таков, •что привлекает
тем сильнее, чем дальше по нему идешь. От невнятных поверхностных слов,
которые мы должны сегодня произнести, мы спустимся к более близким
вопросам, ближе которых не может быть ничего, к вопросам о пашей жизни,
жизни каждого из нас. Мало того, мы будем бесстрашно погружаться в то,
что каждый считает своей жизнью и что на деле оказывается только ее
оболочкой; пробив ее, мы попадем в подземные глубины нашего бытия,
остающиеся для нас тайной просто потому, что они находятся внутри нас,
потому, что они - ваша суть.
Однако, повторяю, рассуждая об этом, обращаясь к вам с этим неясным
начальным замыслом, я не объявляю свою программу, совсем напротив, я
вынужден принять меры предосторожности, столкнувшись неожиданно с
огромным числом слушателей, которых пожелал мне послать наш щедрый
беспокойный город, гораздо более беспокойный и беспокойный в гораздо
более глубоком смысле, чем принято считать. Я объявил академический и,
стало быть, строго научный курс под названием "Что такое философия?".
Возможно, многие были сбиты с толку неизбежной двусмысленностью
названия, решив, что я предлагаю введение в основы философии, т. е.
поверхностное рассмотрение набора традиционных философских вопросов,
поданное в новой форме. Необходимо отчасти рассеять это заблуждение,
способное только запутать ваши мысли и отвлечь ваше внимание. Я задумал
нечто совершенно противоположное введению в философию: взять саму
философскую деятельность, само философствование и подвергнуть их
глубокому анализу. Насколько мне известно, никто никогда этого не делал,
хотя в это трудно поверить; по меньшей мере, не делал с той решимостью, с
которой мы с вами сегодня попытаемся это сделать. Как видите, этот вопрос
совсем не из тех, что обычно вызывают всеобщий интерес; на первый взгляд,
он представляется сугубо специальным и профессиональный вопросом для
одних только философов. И если в ходе его рассмотрения окажется, что мы
столкнулись с самыми широкими общечеловеческими темами, если при
строгом расследования вопроса, что такое философия как особое, частное
занятие философов, мы вдруг провалимся в люк и окажемся в самом что ни
на есть человеческом, в горячих, пульсирующих недрах жизни, и там вас
неотступно будут преследовать заманчивые проблемы улицы и даже
спальни', то это будет потому, что так и должно быть, что этого требует
специальное изложение моей специальной проблемы, а вовсе не потому, что
25
н об этом объявил, или к атому стремился, или это придумал. Напротив, я
обещаю лишь одно: монографическое исследование сверхспециального
вопроса. Поэтому я оставляю за собой полное право на все интеллектуальные
шероховатости, неизбежные при осуществлении подобного намерения.
Конечно, я должен честно стараться, чтобы мои слова были понятны всем
вам, даже не получившим предварительной. подготовки. Я всегда полагал,
что ясность - вежливость. философа, к тому же сегодня, как никогда, наша
дисциплина считает за честь быть открытой и проницаемой для всех умов в
отличие от частных наук, которые с каждым днем все строже охраняют
сокровища своих открытий от любопытства профанов, поставив между ними
чудовищного дракона недоступной терминологии. По моему мнению,
исследуя и преследуя свои истины, (философ должен соблюдать предельную
строгость в методике, однако когда он их провозглашает, пускает в
обращение, ему следует избегать циничного употребления терминов, дабы не
уподобиться ученым, которым нравится, подобно силачу на ярмарке,
хвастать перед публикой бицепсами терминологии.
Итак, я говорю, что сегодня наше представление о философии в корне
отличается от представления предыдущего поколения. Но это заявление
равносильно признанию, что истина меняется, что вчерашняя истина сегодня
становится заблуждением, и стало быть, сегодняшняя истина, вероятно, уже
не будет пригодна завтра. Не значит ли это заранее умалять значение нашей
собственной истины? Довольно грубым, зато и наиболее популярным
аргументом скептицизма был троп Агриппы о расхождении во мнениях.
Многообразие и изменчивость мнений об истине, приверженность
различным и даже па вид противоречивым учениям рождает недоверие.
Поэтому нам следует не медля дать отпор этому расхожему скептицизму.
Вы, вероятно, не раз обращали внимание на необычайное, но правдивое
происшествие. Возьмем, к примеру, закон всемирного тяготения. В той мере,
в какой этот закон является истиной, он, несомненно, был ею всегда, т. е. с
тех пор, как существует материя, обладающая весом, существуют тела;
последние всегда вели себя в соответствии с его формулой. Тем не менее
пришлось дожидаться, пока в один прекрасный день XVII в. его не откроет
один человек с Британских островов. И наоборот, нет ничего невозможного в
том, что в другой прекрасный день люди забудут этот закон - не опровергнут
или уточнят, поскольку мы предполагаем его полную истинность, а просто
забудут и станут относиться к нему так же, как до Ньютона, - не будут даже
подозревать о нем. Это придает истинам двойное, весьма курьезное '
свойство. Сами по себе они предсуществуют всегда, не претерпевая ни
малейшего искажения иди изменения. Однако то, что ими овладевает
реальный субъект, подверженный воздействию времени, сообщает им
видимость историчности: они возникают в один прекрасный день и, быть
может, улетучатся в другой. Ясно что эта временность относится собственно
26
не к ним, а к их присутствию в человеческом разуме. Во времени на самом
деле происходит психический акт, в котором мы их мыслим, он-то и
является, реальным происшествием, действительным изменением В череде
мгновений. Строго говоря, истории принадлежит лишь ваше знание или
незнание. Именно этот факт представляется таинственным и тревожным, так
как оказывается, что с помощью нашей мысли - изменчивой и эфемерной
реальности в высшей степени эфемерного мира - мы получаем во владение
нечто постоянное и вневременное. Таким образом, мышление - это точка
соприкосновения двух миров с антагонистической консистенцией. Наши
мысли рождаются и умирают, уходят и возвращаются, погибают. А в это
время их содержание, то, что мыслится, остается неизменным. Дважды два
всегда четыре, несмотря на то что интеллектуальный акт, в котором мы это
постигли, уже осуществился. Однако говорить так, утверждать, что истины
вечны, значит употреблять неадекватное выражение. Вечное, непреходящее
бытие означает определенное постоянство на протяжении всего временного
ряда, неограниченную длительность, которая ничем не отличается от
эфемерной длительности, а длиться - значит быть погруженным в поток
времени и так или иначе зависеть от его течения. Так вот, истины не имеют
никакой - ни малой, ни большой длительности, они не обладают никаким
временным атрибутом, их не омывает река времени. Лейбниц назвал их
verites eternelles, на мой взгляд также неточно. Вскоре мы поймем, в силу
каких веских причин. Если непреходящее длится столько же, сколько время в
целом само по себе, то вечное существует до начала времени и после его
конца, хотя и положительно включает в себя все время; это гиперболическая
длительность, сверхдлительность. В этой сверхдлительности длительность
сохраняется и вместе с тем уничтожается: вечное существо живет
бесконечно, т. е. жизнь его длится мгновение, или не длится, ему присуще
"совершенное обладание сразу всей полнотой бесконечной жизни". Таково в
действительности изящное определение вечности, предложенное Боэцием:
interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Однако отношение истин ко
времени не позитивно, а негативно, они просто ни в каком смысле не имеют
ко времени никакого отношения, они полностью чужды любому временному
определению, они всегда строго ахроничны. Поэтому заявление, что истины
являются таковыми всегда, строго говоря, не содержат ни малейшей
неточности, как если бы мы сказали - вспомнив знаменитый пример,
использованный Лейбницем в других целях, - "зеленая справедливость". На
идеальном корпусе справедливости нет ни отметины, ни отверстия, к
которому можно бегло бы прищепить атрибут "зелености", и сколько бы мы
ни пытались проделать это, мы видим, что он соскальзывает со
справедливости, как с полированной поверхности. Соединить оба понятия не
удается: хотя мы и произносим их вместе, они упорно сохраняют
обособленность, исключая возможность соединения, или слияния. Итак, нет
27
большей разнородности, чем между вневременным способом существования,
характерным для истин, и временным существованием субъекта, который их
открывает и постигает, осознает или не осознает, помнит или забывает. Если
мы все же употребляем выражение "истины являются таковыми всегда", то
потому, что практически это не ведет к ошибочным следствиям: это
невинная и удобная ошибка. Благодаря ей мы. рассматриваем столь
необычный способ существования истины Во временной перспективе, в
которой нам привычно рассматривать вещи нашего мира. И наконец,
говорить о чем-то, что она всегда является тем, что оно есть, значит
утверждать его независимость от временных изменений, его неуязвимость.
Таким образом, в пределах временного есть признак, более всего
напоминающий
чистую
вневремепность,
квазиформа
вневременности,species quaendum aeternitatis .
Поэтому Платон, почувствовав, что истины, которые он называл идеями,
следует поместить вне временного мира, изобретает другое квазиместо,
лежащее за пределами мира, надлунный мир; хотя этот шаг имел серьезные
последствия, нельзя не признать, что как образ это понятие плодотворно. Оно
позволяет представить наш временный мир как мир, окруженный иным
пространством, с иной онтологической атмосферой, где бесстрастно
пребывают вневременные истины. Но вот в один прекрасный миг одна из
этих истин - закон всемирного тяготения - просачивается из этого
надлунного мира в наш, проскользнув сквозь внезапно открывшееся
отверстие. Упав, идеальный метеорит остается в реальном, человеческом и
историческом мире - таков образ пришествия, сошествия с небес,
трепещущий в глубине всех божественных откровений.
Но это падение и просачивание истины из надлунного мира в ваш мир ставит
очевидную и многозначную проблему, которая, к нашему стыду, еще ждет
своего исследования. Отверстие, которое, открывшись, пропускает истину, это просто человеческий разум. Тогда почему некую истину схватывает,
улавливает .некий человек в некое время? Почему о ней не задумывались
раньше или позже? Почему ее открыл именно этот человек? Очевидно, речь
идет о существенном сходстве между конфигурацией этой истины и формой
отверстия - субъекта, - сквозь которое она проходит. Все имеет причину.
Если случилось так, что до Ньютона закон всемирного тяготения не был
открыт, значит между человеческим индивидом Ньютоном и этим законом
существовало определенное родство. Какого вида это родство? Подобие?
Проблему не следует облегчать, напротив, необходимо подчеркнуть ее
загадочность. Каким образом человек может походить, к примеру, на
геометрическую истину? - впрочем, как в на любую другую. Чем теорема
Пифагора похожа на человека Пифагора? Школьник остроумно ответит, что
штанами, испытывая неосознанное желание соединить теорему с личностью
28
ее автора. К сожалению, у Пифагора не было штанов, в то время их носили
только скифы, которые зато не открывали теорем.
Здесь мы впервые сталкиваемся с коренным различием между нашей
философией и той, которая господствовала в течение многих веков. Это
различие состоит в том, что нашу философию занимают самые элементарные
вещи, например тот факт, что между видящим, воображающим или
думающим субъектом и тем, что он видит или воображает, нет прямого
подобия; напротив, есть родовое различие. Когда я думаю о Гималаях, ни я тот, кто думает, - ни мой мыслительный акт не похожи на Гималаи: Гималаи
- это горы, занимающие огромное пространство, моя мысль ничем не
напоминает горы и не занимает ни малейшего места. Подобное происходит и
тогда, когда вместо того, чтобы думать о Гималаях, я думаю о числе
восемнадцать. В моем Я, в моем сознании, в моей душе, в моей
субъективности - как это ни назови - я не обнаружу ничего имеющего
отношение к восемнадцати. К тому же можно сказать, что я мыслю
восемнадцать единиц в одном-единственном акте. Кто скажет, что они
похожи? Таким образом, речь идет о разнородных сущностях. И том не
менее основной задачей истории, если однажды она действительно захочет
стать наукой, должно быть одно: показать, что такая-то философия или
такая-то политическая система могли быть открыты, развиты, короче,
пережиты только людьми такого-то типа, жившими в такое-то время. Почему
из множества возможных философий один "критицизм" нашел прибежище,
осуществился в душе Канта? Разве не очевидно, что объяснить, понять это
можно только построив двойную таблицу ' соответствий, где каждому виду
объективной идеи соответствовало бы сходное субъективное состояние, тип
человека, способного ее мыслить?
Однако не будем впадать в тривиальность, которая последние восемьдесят
лет препятствовала развитию мышления, не будем истолковывать сказанное
в духе крайнего релятивизма, согласно которому каждая истина является
истиной только для определенного субъекта. То, что настоящая истина
годится для всех, и то, что ее удается узнать и усвоить только одному или
нескольким из всех, либо только в ту или иную эпоху, - вещи совершенно
разные, и именно поэтому необходимо их связать, согласовать, преодолев
скандальную ситуацию, в которую попало мышление, когда абсолютная
ценность истины казалась несовместимой с изменением мнений, так часто
происходившим в человеческой истории.
Нужно понимать, что мысли меняются не в результате изменения вчерашней
истины, сегодня ставшей заблуждением, а в результате изменения
ориентации человека, благодаря которому он начинает видеть перед собой
другие истины, отличающиеся от вчерашних. Стало быть, меняются не
истины, а человек, и он, меняясь, просматривает ряд истин и отбирает из
потустороннего мира, о котором мы ранее упоминали, наиболее ему близкие,
29
не замечая всех остальных, обратите внимание на то, что это главное аргiori
истории. Разве не это составляет содержание человеческой истории? И что
такое существо, называемое человеком, чьи изменения во времени стремится
изучать история? Определить человека нелегко; диапазон его различий
огромен; чем полнее и шире будет концепция человека, с которой историк
начинает свою работу, тем глубже и точнее окажется его труд. Человек - это
и Кант, и пигмей с Новой Гвинеи или австралийский неандерталец. Тем не
менее между крайними точками человеческого разнообразия должен
существовать минимум общности, перед последним пределом должно
находиться пространство, отводимое роду человеческому. Античность и
средневековье располагали лаконичным и, к нашему стыду, фактически
непревзойденным определением человека: разумное животное. Оно не
вызывавает возражений, но, к сожалению, для нас стало весьма
проблематичным ясное представление о том, что такое животное и что такое
разумное существо. Поэтому из соображений исторического характера мы
предпочитаем говорить, что человек - это любое живое существо, думающее
осмысленно и поэтому нами понимаемое. Минимальное допущение истории
состоит в том, что субъект, о котором она говорит, может быть понят.
Однако пониманию доступно только то, что в некоторой мере обладает
истиной. Мы не смогли бы распознать абсолютное заблуждение, потому что
просто его не поняли бы. Таким образом, основное допущение истории
прямо противоположно крайнему релятивизму. При изучении культуры
первобытного человека мы предполагаем, что его культура обладала
смыслом и истиной, а если она ею обладала, то обладает и сейчас. В чем эта
истина, если на первый взгляд действия и мысли этих созданий кажутся
такими нелепыми? История - это и есть второй взгляд, умеющий находить
смысл в том, что кажется бессмысленным.
Стало быть, история не может быть настоящей историей, не выполняя своей
основной задачи: понять человека любой, пусть даже самой примитивной
эпохи. Однако попять его можно только в том случае, если сам человек этой
эпохи ведет осмысленную жизнь, т. е. его мысли и поступки имеют
рациональную. структуру. Итак, история берется вынести оправдание всей
временам, т. е. осуществляет как раз обратное тому, что нам казалось на
первый взгляд: развертывая перед нами все разнообразие человеческих
мнений, она якобы обрекает нас на релятивизм, но так как она придает
каждому относительному положению человека всю полноту смысла,
открывая нам вечную истину каждой эпохи, она решительно преодолевает
несовместимость релятивизма с верой в торжествующую над
относительностью и как бы вечную судьбу человека. У меня есть
определенные причины надеяться, что в наше время интерес к вечному и
неизменному, т. е. философия, и интерес к преходящему и меняющемуся, т.
е. история, впервые соединятся и заключат друг друга в объятия. Для Декарта
30
человек - это чисто рациональное существо, не способное к изменениям;
поэтому история представлялась ему историей нечеловеческого в человеке, и
он в конечном счете объяснял ее греховной волей, постоянно вынуждающей
вас пренебрегать жизнью разумного существа и пускаться в недостойные
человека авантюры. Для него, как и для XVIII в., история лишена
позитивного содержания и представляет собой череду человеческих
заблуждений и ошибок. Историцизм и позитивизм XX в., напротив,
отказываются от всех вечных ценностей ради относительной ценности
каждой эпохи. Сегодня не стоит насиловать нашу чувственность, не
желающую отказываться ни от одного из двух измерений: временного и
печного. Их соединение должно стать великой философской задачей
современного поколения, и решить ее поможет разработанный мною метод,
который немцы, склонные к навешиванию ярлыков, окрестили
"перспективизмом".
Можно сказать, что с 1840 по 1900 г. человечество переживало один из
самых неблагоприятных для философии периодов. Это было
антифилософское время. Если бы без философии в сущности можно было
обойтись, за эти годы она, несомненно, исчезла бы совершенно. Но
поскольку человеческий разум нельзя совсем лишить философского
измерения, оно было сведено к минимуму. И сегодня ваша общая с вами
битва, которая псе еще обещает быть упорной, заключается как раз в том,
чтобы вновь выйти к полной и совершенной философии, - словом, к
максимуму философии.
Как же произошел этот упадок, это истощение корпуса философии?
Подобный факт объясняется целым рядом причин, которыми мы займемся в
следующий раз.
ость и молодость. Как известно, самым обещающим разделом современной
биологии является экспериментальное изучение омоложения. С помощью
определенной моральной и физической гигиены возможно в известных
границах продлевать молодость, не закладывая душу дьяволу. Быстро
старится тот, кто хочет стареть, точнее, не хочет жить, ибо не способен
отдаться бешеной жажде жизни. Того, кто паразитирует на себе самом,
вместо того чтобы покрепче вцепиться в судьбу, поток времени уносит в
прошлое.
Но когда более невозможно продлевать молодость, еще есть время решиться
на широкий жест, и, если не хватает сил жить обновленной жизнью, надо
радоваться, что ею живут другие, хотеть чтобы будущее не походило на нас,
смело признать за ним его самовластную новизну. В этом проблема зрелого
человека: прошлое тянет его назад, возбуждает в нем желчность, досаду на
будущее. Вместе с тем он еще не рассчитался со своей молодостью она еще
близка, но принадлежит уже не ему; так военные трофеи - копье и латы,
мирно висящие на стене, - уже никого не страшат. Неважно, если твоей
31
юности не суждено вернуться, пусть придет другая! В Сахаре бытует
поговорка лаконично рисующая нравы пустыни, где люди, их стада и
вьючный скот должны напиться из крошечного озерца, в ней говорится:
"Напейся из колодца и уступи место другому", это - девиз поколения,
каравана.
Этот совет высокой жизненной гигиены увел нас в сторону от намеченного
пути. Я просто хотел сказать, что в любом настоящем соединение трех
поколении ведет к смене эпох. Поколение детей всегда немного отличается
от поколения отцов, оно представляет собой как бы новый уровень
восприятия существования Только разница между детьми и отцами обычно
совсем невелика так что в главном преобладает сходство: тогда дети видовою
задачу в том, чтобы продолжать и совершенствовать образ жизни отцов. Но
иногда дистанция между ними бывает огромной: поколение не находит
почти ничего общего с предыдущим. Тогда говорят об историческом
кризисе. Этим отличается и ваше время, причем в высочайшей степени. Хотя
перемены зрели в глубинах земли, они вырвались на свет так яростно и
внезапно, что в считанные годы преобразили лик жизни. Уже давным-давно я
предрекал неотвратимость и размах этих перемен. Напрасный труд. Я
встречал только осуждение: в моих предсказаниях видели одно лишь
неуемное стремление удивить. Событиям нужно было разразиться во всей их
внутренней неприглядности, чтобы злые языки умолкли. Вот перед нами
новая жизнь... Но нет, она еще не наступила. Перемены окажутся гораздо
более значительными, чем те, которые мы наблюдаем, и проникнут в такие
глубины человеческой жизни, что я, наученный прошлым опытом, не
склонен делиться всеми своими предчувствиями. Что телку нагонять страх,
не убеждая; ведь страх рождается от непонимания, вернее, от превратного
понимания.
Итак, перед нами еще одна волна нового времени; кто хочет спастись,
должен взмыть на ее гребне. Кто окажет сопротивление, не захочет понять
нового облика жизни, неотвратимо будет смыт отхлынувшей волной
прошлого, в любом случав и в любом смысле: в работе, если он ученый или
художник, в любви, если он сентиментален, в политике, если он честолюбив.
Нам нужно было впервые затронуть тему поколений. Но вышесказанное
действительно было только первым прикосновением, внешней стороной
этого гигантского и глубокого явления, я которому мы приблизимся более
решительно и смело, когда настанет пора пальпировать то, что мы так учтиво
и бестрепетно, ибо не ведаем, что говорим, зовем "нашей жизнью".
Но сейчас речь идет о том, чтобы выявить самые непосредственные причины,
вызвавшие отступление и упадок философского духа в последние шестьдесят
лет XIX в., и те, которые, наоборот, способствовали его сегодняшнему
распространению и расцвету.
32
Заметьте, что любая наука или знание имеют свой предмет - то, о чем эта
наука знает нечто или пытается узнать, - вдобавок ей присущ определенный
метод познания того, что она знает. Так, предмет математики - числа и
пространство - отличается от предмета биологии - органических явлений. Но
математика, кроме того, отличается от биологии как метод познания, как вид
знания. Для математика знать и познавать значит думать вывести теорему
посредством строгих суждений, основанных в конечном счете на бесспорных
фактах.
Биология,
напротив,
довольствуется
приблизительными
обобщениями неточных [фактов, о которых мы узнаем с помощью чувств.
Поэтому как [метод познания обе науки отличаются по рангу:
математический почитают за образец, биологический в целом считают
незрелым. Но математика, в свою очередь, имеет тот недостаток, что
объекты, к которым применима ее теория, не реальные, а по словам Декарта
и Лейбница, "мнимые". Но вот в XVI в. появляется новая научная
дисциплина - nuova scienza Галилея, которая, с одной стороны, обладает
дедуктивной строгость" математики, а с другой - повествует о реальных
предметах, ч светилах и вообще о телах. В хронике развития мысли такое
засвидетельствовано впервые; впервые появилось знание, полученное путем
строгой дедукции и вместе с тем подтвержденное чувственным наблюдением
фактов, т. е. подчиняющееся двойному критерию достоверности: чистому
рассуждению, с помощью которого мы думаем прийти к некоторым
заключениям, и простому восприятию, подтверждающему эти чисто
теоретические выводы. Нерасторжимый союз двух критериев привел к
появлению так называемого экспериментального метода познания,
характерного для физики. Неудивительно, что наука, наделенная такими
счастливыми свойствами, сразу же стала выделяться сред других наук,
привлекая лучшие умы. Даже с исключительно теоретической точки зрения
как чистая теория или точное знание физика, несомненно, является чудом
разума. Однако вскоре ни для кого не осталось тайной, что дедуктивные
выводы рациональной физики и чувственные наблюдения, полученные в
ходе эксперимента, совпадают не точно, а только приблизительно. Правда,
это расхождение было не настолько велико, чтобы помешать практическому
развитию науки.
Конечно же, эти две особенности физического знания: практическая точность
и подтверждение этого знания при помощи чувственно воспринимаемых
фактов (не забывайте о том впечатляющем обстоятельстве, что звезды, будто
подчиняясь законам, предписанным им астрономами, с редким усердием
спешат на свидание друг к другу в такой-то час и в такой-то точке огромного
небосклона), я повторяю, эти две особенности не могли бы сами по себе
обеспечить последующий невиданный триумф физики. Этот метод познания
беспредельно прославила третья особенность Оказалось, что физические
истины, помимо их теоретических достоинств, могут употребляться для
33
получения житейской пользы. Опираясь на них, человек мог вмешиваться в
природу, извлекая из нее выгоду. Эта третья особенность практическая
пригодность, обеспечивающая господство над материей. уже не относится к
достоинству и совершенству физики как теории и знания. В Греции это
изобилие практических возможностей не приобрело бы решительного
влияния на души но в Европе оно совпало с господством так называемого
буржуа, человека того типа, который не чувствует призвания к
теоретическому созерцанию, а нацелен на практику. Буржуа желает
разместиться в мире с удобствами и для этого вторгается в него, сообразуясь
с собственным удовольствием. Поэтому буржуазная эпоха гордится в первую
очередь успехами индустриализации и вообще полезными для жизни
специальностями: медициной, экономикой, управлением. Физика приобрела
невиданный престиж, потому что от нее произошли машина и медицина.
Интерес, проявленный к ней массой средних людей, не плод наручной
любознательности, а материальный интерес. В подобной атмосфере и
зародилось то, что можно было бы назвать "империализмом физики".
Нам, рожденным в воспитанным в эпоху подобных настроений,
представляется весьма естественным, самым естественным и разумным, что
предпочтение отдается тому методу познания, который независимо от своих
теоретических достоинств приносит нам практическое господство над
материей. Хотя мы рождены и воспитаны в эту эпоху, однако вступаем в
новый цикл, раз не довольствуемся первым впечатлением, в свете которого
практическая польза, естественно, принимается за эталон истины. Напротив,
мы начинаем догадываться, что это стремление властвовать над материей и
делать ее удобной, этот восторг перед комфортом, возведенным в принцип,
столь же спорен, как и любой другой. Встревоженные этим подозрением, мы
начинаем понимать, что комфорт не более чем субъективное пристрастие,
grosso modo, каприз западного человечества, длящийся уже 200 лет, но сам
по себе никак не свидетельствующий о каком-либо превосходстве. Есть
люди, предпочитающие комфорт всему остальному; есть люди, не
придающие ему большого значения. Когда Платон предавался
размышлениям, без которых ив появилась бы современная физика, а вместе с
ней и комфорт, он, как и все греки, вел очень суровую жизнь, а что до
удобств, средств передвижения, отопления и домашней утвари - совершенно
варварскую. В то же время китайцы, никогда не занимавшиеся научным
мышлением, не разработавшие ни одной теории, вырабатывали чудесные
ткани, создавали предметы быта, сооружали приспособления, служащие
утонченному комфорту. Пока в Афинах, в Академии Платона, изобретали
чистую математику, в Пекине изобрели носовой платок. Итак, очевидно, что
страсть к комфорту, последний довод в пользу предпочтения, отдаваемого
физике, не служит свидетельством превосходства. В одни времена это
понимали, а в другие - нет. Всякий, кто научился смотреть на наше время
34
сколько-нибудь проницательно, может предвидеть, что восторги по поводу
императива удобств постепенно утихнут. Ими будут пользоваться, им будут
уделять внимание, будут заботиться об их сохранении и совершенствовании,
но не в качестве самоцели и наверняка без энтузиазма, а просто чтобы
избежать неудобств.
Поскольку стремление к комфорту не всегда сопутствует прогрессу, а как бы
разбросано наугад по самым различным эпохам, то любопытным было бы
интересно выяснить, в чем же они совпадают; или, иными словами, какие
условия человеческой жизни обычно порождают эту страсть к удобствам. Не
знаю, каким оказался бы результат этого исследования.
Только подчеркну мимоходом одно совпадение: самое большое внимание
комфорту в истории уделялось дважды - в Европе в последние двести лет и в
китайской цивилизации. Что общего между двумя такими равными, такими
непохожими человеческими мирами? Насколько мне известно, только одно: в
Европе тогда царил "добрый буржуа", тип человека, воплощающего
стремление к прозе, а с другой стороны, китайцы слывут прирожденными
филистерами; хотя я сказал это небрежно, не претендуя на точность.
Именно этот смысл познания выразил философ буржуазии Огюст Копт в
своей известной формулировке: Science, d`ou prevoyance; prevoyance, d`ou
action*. То есть смысл знания в предвидении, а смысл предвидения в
обеспечении действия. Из чего следует, что истинность познания
определяется действием - разумеется, успешным. И в самом деле, уже в
конце прошлого века великий физик Больцман сказал: "Ни логика, ни
философия, ни метафизика в конечном счете не решают вопроса об
истинности или ложности, его решает только действие. По этой причине я
считаю технические достижения не просто вторичным следствием
естественных наук, а их логическим доказательством. Без этих практических
достижений мы не знали бы, как вам рассуждать. Наиболее корректны те
рассуждения, что имеют практический результат". В своей "Речи о
позитивном разуме" сам Конт уже подсказывает, что техника управляет
наукой, а не наоборот. Итак, в соответствии с этой точкой зрения, польза не
есть непредвиденное следствие, полученное как бы в придачу к истине, а
наоборот, истина есть интеллектуальное следствие практической пользы.
Прошло немного времени, и на варе нашего века из этих идей родилась
философия: прагматизм. С обаятельным цинизмом, свойственным "янки",
как и любому новому народу, североамериканский прагматизм отважно
провозгласил тезис: "Нет истины кроме практического успеха". И с этим
тезисом, столь же смелым, сколь и наивным, столь наивно смелым, северная
часть американского континента вступила в тысячелетнюю историю
философии.
Не следует путать низкую оценку прагматизма как философии в общего
положения с предвзятым беспочвенным и ханжеским презрением к факту
35
человеческого практицизма в пользу чистой созерцательности. Здесь мы
намерены свернуть шею всякому ханжеству, включая ханжество в науке и
культуре, которое впадает в экстаз перед чистым знанием, не задавая о нем
драматических вопросов. В этом наше существенное отличие от античных
мыслителей - как от Платона, так и от Аристотеля, - которое должно стать
одной из серьезнейших тем нашего размышления. Возвращаясь к ключевой
проблеме, т. е. определению "нашей жизни", мы попытаемся смело вскрыть
эту вечную двойственность, делящую жизнь созерцательную и жизнь
деятельную, на действие и созерцание, на Марфу и Марию.
Теперь же мы только намерены показать, что имперский триумф физики
объясняется не столько ее достоинствами как науки, сколько социальными
причинами. Общество заинтересовалось обильными плодами физики, и в
результате этого общественного интереса самомнение физиков за последние
сто лет непомерно выросло. С ними в общих чертах произошло то же, что и с
врачами. Никому не придет в голову считать медицину образцом пауки;
однако то благоговение, которое испытывают перед врачом, как раньше
перед колдуном, в домах, где имеется больной, внушает ему уверенность в
себе и в своем занятии, дерзкую смелость, настолько же привлекательную,
насколько мало основанную на разуме, ибо врач пользуется, манипулирует
результатами различных наук, но обыкновенно вовсе не является ученым,
теоретиком.
Благосклонность судьбы, общественное признание, как правило, сбивают нас
с пути, рождают в нас тщеславие и агрессивность. Подобное случилось с
физикой, и в результате почти столетие духовная жизнь Европы страдала от
того, что можно было бы назвать "терроризмом лабораторий".
Философы, подавленные этим превосходством, стыдились быть философами,
вернее, устыдились не быть физиками. Поскольку истинно философские
проблемы не могут быть решены методами физики, они отказались от
попыток их решить, отказались от философии, сведя ее к минимуму,
униженно поставив на службу физике. Они решили, что единственной
философской темой является размышление над самим фактом физики, что
философия не более чем теория познания. Кант первым решительно встает на
эту позицию, открыто пренебрегая великими космическими проблемами;
жестом уличного регулировщика он перекрывает движение философии двадцать шесть веков метафизического мышления - со словами: "Всякая
философия отменяется вплоть до ответа на вопрос: „Как возможны
синтетические априорные суждения?". Итак, синтетические априорные
суждения представляются ему физикой, фактом физико-математической
науки.
Но подобная постановка вопроса не имела никакого отношения к теории
познания. Она исходила из уже готового физического знания и не
спрашивала: "Что такое познание?",
36
[Происхождение познания]
Если мы захотим узнать, откуда берется это стремление к Универсуму, к
целостности мира, лежащее в основе философии, не стоит полагаться на
Аристотеля. Ему этот вопрос представляется весьма простым, и он начинает
свою "Метафизику" словами: "Все люди от природы стремятся к знанию".
Подпадать - значит не довольствоваться проявлением вещей, но искать за
ними их "сущность". Странное свойство этой "сущности" вещей. Она
присутствует в них не явно, а, напротив, скрыто пульсирует всегда где-то за
ними, где-то "дальше". Аристотелю кажется "естественным", что мы
задаемся вопросом об этом "дальше", хотя естественным было бы
довольствоваться вещами, среди которых мы в основном проводим нашу
жизнь. Сначала нам ровно ничего но известно об их "сущности". Нам даны
только вещи, но не их сущность. Они даже не содержат никакого
положительного указания на то, что за ними скрывается их сущность.
Очевидно, то, что "дальше" вещей, не находится внутри них.
Говорят, человеку от природы свойственно любопытство. Именно это имеет
в виду Аристотель, когда на вопрос: "Почему человек стремится к
познанию?", подобно мольеровскому врачу, отвечает: "Потому, что ему это
свойственно от природы", - и продолжает: - "Доказательство тому - влечение
к чувственным восприятиям", особенно к зрительным. Здесь Аристотель
единодушен с Платоном, относившим ученых и философов к роду "друзей
видения", из тех, кто ходит на представления Однако видение
противоположно познанию. "Видеть" - значит с помощью глаз обозревать то,
что находится здесь, а познавать - значит искать то, что не находится здесь:
сущность вещей Именно не довольствоваться тем, что можно видеть, а
скорее, отрицать видимое как недостаточное и постулировать невидимое,
существенное, что находится "дальше".
С помощью этого и множества других указаний, в изобилии содержащихся в
его книгах, Аристотель разъясняет нам свою идею происхождения познания.
По его мнению, оно просто-напросто состоит в использовании или развитии
некоторой имеющейся У человека способности, подобно тому как видение это просто использование зрения. У нас есть чувства, у нас есть память в
которой хранятся их данные, у нас есть опыт, в котором происходит отбор и
отсев этой памяти. Все это - врожденные механизмы человеческого
организма, которыми человек пользуется, хочет он того или нет. Однако все
это не познание. Не являются им и другие способности, справедливо
получившие название умственных, например отвлечение, сопоставление,
умозаключение и т д. Ум, или совокупность всех этих способностей,
которыми одарен человек, - это также полученный им механизм, несомненно
в той или иной степени служащий познанию. Однако само познание не
способность, не дар и не механизм, а, напротив, задача поставленная перед
37
собой человеком. И задача, возможно, невыполнимая. До такой степени
познание не инстинкт! Итак, очевидно что познание - не просто
использование умственных способностей, ведь никто не говорит, что
человеку удается познать, а ясно одно: он прилагает тяжкие усилия к
познанию, задается вопросом о потустороннем мире сущностей и изнемогает
в стремление к нему.
Истинный вопрос о происхождении познания всегда извращали подменяя
исследованием его механизмов. Чтобы пользоваться аппаратом, мало его
иметь. Наши жилища полны бездействующих аппаратов, потому что они нас
уже не занимают. У Хуана огромный талант к математике, но так как его
привлекает литература, он не думает заниматься математикой. К тому же, как
я отмечал ранее, у нас нет абсолютно никакой уверенности в том, что
умственные способности человека позволяют ему познавать. Если вслед за
Аристотелем мы станем понимать под "природой" человека совокупность его
телесных и мыслительных аппаратов я их функционирование, мы будем
вынуждены признать познание не соответствующим этой "природе".
Наоборот, используя все ее механизмы, он сталкивается с невозможностью
во всей полноте осуществить то, что обозначено словом "познавать". Его
цель его стремление к познанию выходят за пределы его дарований, тех
средств, которыми он располагает. Он пускает в ход. все свои орудия, но ни
одно из них, не все они, вместе взятые, все обеспечивают полного успеха.
Итак, на деле оказывается, что" человек испытывает странное влечение к
познанию, однако ему недостает дарований, того, что Аристотель называя
его "природой".
Поэтому мы должны без всяких оговорок признать, что истинная природа
человека шире в заключается в обладании не только - дарованиями, во и
недостатками. Человек состоит из того, что у него есть, и того, "чего ему не
хватает". Он долго и отчаянно пытается воспользоваться своими
умственными способностями непросто потому, что они у него есть, а потому,
что испытывает потребность в том, чего у него нет, и, преследуя эту цель,
конечно" использует имеющиеся в его распоряжении средства. Коренная
ошибка всех теорий познания заключалась в игнорировании изначального
несоответствия между потребностью человека в познании и теми
"способностями", которые у него имеются. Один Платон догадывался, что
корень познания, так сказать сама его' субстанция, лежит как раз в
недостаточности полученных человеком дарований, которую подтверждает
тот страшный факт, что- человек "не знает".Ни Богу, ни животному это не
свойственно. Бог знает все, и потому не познает. Животное не знает ничего, и
потому тоже не познает. Но человек - это живая недостаточность, человек
нуждается в знании, приходит в отчаяние от незнания. Именно это и следует
рассмотреть. Почему человек страдает из-за своего невежества, как может
болеть тот орган" которого у него никогда не было?
38
М.К.Мамардашвили
Философия – это сознание вслух
Я не буду говорить о специальных проблемах философии. Хочу лишь выделить некое
ядро, которое в философии существует и которое поддается общепонятному языку, где
достижима ясность, та ясность, которая возникает в душах людей, слушающих или
читающих философскую речь. То есть как бы человек пережил что-то, испытал, но просто
слов не знал, что это может так называться, и что можно, более того, пользуясь этими
словами, пойти еще дальше в переживании и понимании своего опыта. Во все времена и
везде философия это язык, на котором расшифровываются свидетельства сознания.
Это относится и к философии в Советском Союзе. То, что в ней собственно
философского, является продуктом некоего духовного элемента, который появился к
концу 50-х годов. Он и привел к появлению философов у нас. Пришли люди, которые
заговорили на профессиональном языке, вполне отвечающем мировым стандартам,
которые в контексте собственной жизни владели этим языком, вносили элемент
интеллектуальной цивилизованности и в общественную жизнь. Правда, затем из
философии нашей этот духовный элемент выветрился, усох. Социальные и политические
обстоятельства выталкивали философов в специализированные занятия. Все укрылись в
особого рода культурные ниши – кто в историю философии, кто в логику, кто в эстетику,
кто в этику… Оглянешься вокруг – нет тех, кого называют философами, именно
философов по темпераменту.
Я хочу подчеркнуть, что философом является каждый человек – в каком-то затаенном
уголке своей сущности. Но профессиональный философ выражает и эксплицирует
особого рода состояния, которые поддаются пересказу лишь на философском языке.
Иначе они остаются той самой ласточкой Мандельштама, которая вернулась в «чертог
теней», не найдя слова.
Я хочу определить философию как сознание вслух, как явленное сознание. То есть
существует феномен сознания – не вообще всякого сознания, а того, которое я бы назвал
обостренным чувством сознания, для человека судьбоносным, поскольку от этого
сознания человек, как живое существо, не может отказаться. Ведь, например, если глаз
видит, то он всегда будет стремиться видеть. Или если вы хоть раз вкусили свободу,
узнали ее, то вы не можете забыть ее, она – вы сами. Иными словами, философия не
преследует никаких целей, помимо высказывания вслух того, от чего отказаться нельзя.
Это просто умение отдать себе отчет в очевидности – в свидетельстве собственного
сознания. То есть философ никому не хочет досадить, никого не хочет опровергнуть,
никому не хочет угодить, поэтому и говорят о задаче философии: «Не плакать, не
смеяться, но понимать». Я бы сказал, что в цепочке наших мыслей и поступков
философия есть пауза, являющаяся условием всех этих актов, но не являющаяся никаким
из них в отдельности. Их внутреннее сцепление живет и существует в том, что я назвал
паузой. Древние называли это «недеянием». В этой же паузе, а не в элементах прямой
непосредственной коммуникации и выражений осуществляется и соприкосновение с
родственными мыслями и состояниями других, их взаимоузнавание и согласование, а
главное – их жизнь, независимая от индивидуальных человеческих субъективностей и
являющаяся великим чудом. Удивление этому чуду (в себе и в других) – начало
философии (и…любви).
Философию можно определить и так: философия есть такое занятие, такое мышление о
предметах, любых (это могут быть предметы физической науки, проблемы
нравственности, эстетики, социальные проблемы и т.п.), когда они рассматриваются под
углом зрения конечной цели истории и мироздания. Сейчас я расшифрую, что это значит.
39
Конечный смысл мироздания или конечный смысл истории является частью
человеческого предназначения. А человеческое предназначение есть следующее:
исполниться в качестве Человека. Стать Человеком.
Теперь я выражусь иначе. Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться по
образу и подобию Божьему. Образ и подобие Божье – это символ, соотнесенно с которым
человек исполняется в качестве Человека. Сейчас я поясню, что значит этот символ,
поскольку в этой сложной фразе я ввел в определение человеческого предназначения
метафизический оттенок, то есть какое-то сверхопытное представление, в данном случае –
Бога. Но на самом деле я говорю о простой вещи. А именно: человек не создан природой и
эволюцией. Человек создается. Непрерывно, снова и снова создается. Создается в
истории, с участием его самого, его индивидуальных усилий. И вот эта его непрерывная
создаваемость и задана для него в зеркальном отражении самого себя символом «образ и
подобие Божье». То есть Человек есть такое существо, возникновение которого
непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и в каждом индивидууме.
Философию можно определить и как бы тавтологически, по примеру физики. Физика –
это то, чем занимаются физики. И философия – это то, о чем можно говорить на языке
философии и чем занимаются философы.
Мне кажется существенной такая связка. Фактически я говорю, что целью философии
является сама философия (я имею в виду «реальную философию» как конструктивный
элемент режима, в каком может осуществляться жизнь нашего сознания). Так же, как уже
сказано, что цель поэзии – сама поэзия. Поэзия избирает средства, которыми можно
открывать и эксплицировать поэтичность. Она существует независимо от языка. Так же и
реальная философия существует, и люди, сами не зная, ею занимаются – независимо от
удач или неудач, независимо от уровня их философского языка. Но когда этот уровень
есть и что-то мыслится по его законам, то тогда «реальная философия» и «философия
учений» как бы соединены в одном человеке. В философе. Соотнесенность с изначальным
жизненным смыслом у великих философов всегда существует. И даже на поверхностном
уровне текста. (Она может затмеваться в университетской или академической философии,
которая занята в первую очередь передачей традиции и языка этой традиции – там этот
изначальный смысл может выветриваться.) Язык великих понятен, и человек обычный, не
философ, может в отвлеченных понятиях, которые философы строят по необходимости
языка, узнать их изначальный жизненный смысл. И тем самым в языке философа узнать
самого себя, свои состояния, свои проблемы и свои испытания.
В свое время Борхес говорил о поэзии, что она, по определению, таинственна, ибо никто
не знает до конца, что удалось написать. То есть поэзия содержит нечто в принципе не до
конца знаемое и самим автором. Откуда и появляется феномен многих вариаций одного и
того же. Вариации есть форма проявления символичности. Символ (не знак!) всегда есть
то, что мы не до конца понимаем, но что есть мы сами как понимающие, как
существующие. И наши философские произведения, и их чтение есть форма
существования этого до конца непонимаемого, его бесконечной длительности и
родственной самосогласованности. Бытие произведений и есть попытка интерпретировать
их и понять, подставляя в виде вариаций текста наши же собственные состояния, которые
есть тогда форма жизни произведения. Например, можно сказать так: то, что я думаю о
Гамлете, есть способ существования Гамлета.
Философские проблемы становятся таковыми, если они ставятся под луч одной проблемы
– конечного смысла. Для чего вообще все это? Для чего мироздание? Для чего «я» и мои
переживания? А эти вопросы задаются именно потому, что в этом мироздании живет
существо, которое не создано, а создается. Непрерывно, снова и снова. Да и мир не
завершен, не готов.
40
Философ работает путем «запределивания» такого рода ситуаций. То есть он строит
понятия, посредством которых эти ситуации и эти связки можно представить в предельно
возможном виде и затем мыслить на этом пределе, мыслить, так сказать, «в идее». Ну,
скажем, если он хочет продумать проблему государства, то обязан представлять
государство в виде предельно осуществляемой идеи государства. Вся сложность состоит в
том, что при этом философ не утверждает, что эти предельные описания являются
изображением каких-то реальных предметов в мире. Философ знает, что предельное
описание есть средство мышления. Поэтому, например, Платон, когда у него спрашивали,
что он имеет в виду под идеальным государством – то, которое на его родине? – отвечал:
нет, не его, не его устроение имел я в виду, а то государство, которое существует внутри и
в момент такого говорения о нем в напряженном сознании.
Существует такое странное определение бытия в философии: бытие – это то, чего никогда
не было и не будет, но что есть сейчас. Как ни странно, вопреки логике языка и
наглядному представлению.
Человеческие вещи, например социальные институции, не есть такие, которые, возникнув,
могли бы потом, как камень, длиться и существовать. Они заново рождаются. Например,
Паскаль произнес замечательную фразу: «У любви нет возраста, она всегда в состоянии
рождения». Если она есть, то она сейчас, и в ней нет смены временных состояний, она
абсолютно нова. Это очень отвлеченное положение, созерцательная истина. Таково и
утверждение философии: бытие – это то, чего не было и не будет, но что есть сейчас, или
всегда, что то же самое. Здесь временные наклонения, слова, их обозначающие, путают,
потому что они принадлежат обыденному языку. А других слов у нас нет. Какие бы слова
мы ни изобретали, все равно мы находим их в обыденной речи. И они тянут за собой
шлейф мании человека представлять все наглядно и предметно.
Философский акт состоит в том, чтобы блокировать в себе нашу манию мыслить
картинками. И когда мы убираем картинки и предметные референции из нашего сознания,
мы начинаем мыслить. Это означает, что наше мышление всегда гранично или на пределе.
Я поясню: то что философы называют смыслом – смыслом истории или смыслом
мироздания, – это то, что никогда не реализуется в пространстве и времени. И никогда не
исполняется в виде какого-нибудь события или состояния, например государственной
конституции, которая была бы примером этого смысла. Смысл (а он всегда полный) не
есть предмет, находимый в мире, – так же как граничный конец истории не есть часть
истории, событие в ней. Конец времени не есть часть времени. Мы всегда должны
мыслить посредством тех вещей, которые помещаем на границу, сопрягая на ней
реальные события, и никогда не помещать их внутрь мира, не ожидать их внутри мира, в
составе его событий. Просто от этого возможны такие-то события и невозможны какие-то
другие.
К сожалению, в нашем обыденном мышлении, в том числе и в социальном, мы всегда
совершаем роковую ошибку. То, что в действительности является предельно
сопрягающим поля наших усилий, мы помещаем в мир в виде искомого в нем
совершенного образца и ходячего идеала. Например, мы говорим: покажите нам вполне
справедливый конкретный закон, и тогда мы будем жить по закону. Но был ли когданибудь и где-нибудь такой конкретный закон, при применении которого всегда
торжествовала бы справедливость? Покажите пример идеального или совершенного
общества. И когда мы не можем это показать (а показать нельзя – этого нет), то
торжествует нигилизм. Из непонимания того, как устроены мы сами, как устроена наша
нравственность. Нигилизм сначала есть требование того, чтобы было «высокое». Второй
шаг – обнаружение, что истинно высокого никогда не было: ну, покажите мне истинно
честного человека! У каждого можно найти какой-то недостаток, какую-то корысть.
Третий шаг – утверждение, что все высокое – это сплошное притворство, лицемерие,
41
возвышенное покрытие весьма низменных вещей. И потом знаменитое: «Все дозволено,
раз Бога нет».
Если мы настроены на то, чтобы быть демократами только при том условии, что нам
будет показан чистый образец демократии – и тогда будем мы демократами и будем
видеть в этом для себя лично смысл, – мы просто нигилисты. Помимо всего прочего, не
понимая того, как устроена наша социальная жизнь. Наша социальная жизнь пронизана
пограничными сопряжениями и требует от нас цивилизованной грамотности.
Чтобы нам быть гражданами, то есть жить социально грамотно, нам нужно понимать
какие-то отвлеченные истины относительно самих себя, своих предельных возможностей.
И вот здесь, в этих отвлеченностях и их выявлении, я и вижу призвание Философа,
которого так ждет наше общество сегодня, потому что мы находимся в периоде уже
затянувшегося одичания сознания.
Мы оказались инфантильными. Инфантильность – это те же ласточки Мандельштама,
вернувшиеся в «чертог теней». Инфантильность – это переростковое состояние, с
упущенным моментом взросления. Упустив его сами, мы теперь озабочены проблемой
молодежи, хотя в действительности «это о нас говорит сказка». Мы ждем от молодежи
зеркального отображения самих себя. Мы желаем, чтобы молодежь, например, занимаясь
принудительным, назначенным трудом или добродетельно сидя за поучительными
книжками (хотя из этого ничего нельзя узнать о себе и повзрослеть), подтверждала бы нам
то представление, которое мы имеем о самих себе, о своих возможностях. Но сами-то мы
ходим на помочax, ждем инструкций, указок, ничего не знаем о себе, потому что о себе
мы можем узнать только на ответственном поле деятельности, где к человеку
возвращаются последствия его действий и поступков.
Человеку очень важно, чтобы счастье, как и несчастье, было результатом его собственных
действий, а не выпадали ему из таинственной, мистической дали послушания. Важно
сознание зависимости происходящего в мире – и в удаче, и в неудаче – от того, что сам
человек мог бы сделать, а не от потусторонне «высшей» (анонимной или олицетворенной)
игры, непостижимыми путями выбрасывающей ему дары и иждивение или, наоборот,
злые наказания и немилости. Сказал же однажды один свободный человек: «Минуй нас
пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!»
А мы живем в ситуациях, когда все никак не можем признать достоинство человека.
Живем в ситуациях, когда никакая мысль не прививается. Не просто по глупости. А
потому, что додумывание ее до конца ставит под вопрос нас самих. И никогда не
извлекаем опыт. Все заново и заново повторяется, раз сохраняем себя против всего того,
что не можем вместить, не изменившись сами. Скажем, антиалкогольная кампания в
стране сегодня ведется теми же словами (мы только не знаем об этом), какими она велась
и сто лет назад. Как же это может быть? А все очень просто. Люди не проходили путь до
конца, не извлекали опыт, не разрешали смысл. Оставались детьми, если жили вне
отработанной грамотно структуры сознания.
Очевидно, не случайно в России долгое время не было автономной философской
традиции, где была бы философская мысль, не зависимая, скажем, от дилеммы: царь –
народ, самодержавие – крепостные. Она возникает с появлением Чаадаева, но он был
изолированной фигурой. Потом уже, после Владимира Соловьева, появился феномен – я
парадоксально скажу – светской автономной философии (хотя я говорю это о философии,
которая была максимально религиозна). Но под «светскостью» я имею в виду то, что она
вырвалась из этих заданных противостояний: царь – народ и т.д. и создала пространство
автономной духовной жизни, независимой философской мысли. Это пространство мы
потом снова потеряли по разным причинам. Сейчас мы не можем жить цивилизованной
общественной жизнью, не восстанавливая эту автономную духовную сферу независимой
мысли. Сознание наше живет в напряженном поле, очерченном предельными границами
42
смыслов, и ясность в нем возможна только тогда, когда мы владеем языком этих смыслов,
то есть понимаем их отвлеченность, их граничную природу, умеем читать то, что они нам
говорят о наших возможностях и природе, и когда сами достаточно развиты для этого. В
том числе и в поле символов – «человек», «смерть», «смысл жизни», «свобода» и т.д. Это
ведь вещи, производящие сами себя. Даже сознание, как и мысль, можно определить как
возможность большего сознания. Или, например, свобода. Для чего нужна свобода и что
она? Свобода ничего не производит, да и определить ее как предмет нельзя. Свобода
производит только свободу, большую свободу. А понимание того, что свобода производит
только свободу, неотъемлемо от свободного человека, свободного труда. То есть свободен
только тот человек, который готов и имеет реальную силу на труд свободы, не создающей
никаких видимых продуктов или результатов, а лишь воспроизводящей саму себя. А уже
затем она – условие других вещей, которые может сделать свободный человек. Но нет
такого предмета в мире, называемого «свобода», который внешне доказуемым образом
можно кому бы то ни было показать и передать. Свобода недоказуема, совесть
недоказуема, смысл недоказуем и т.д.
Вот в какой сфере вращается мысль философии и в ней же вращается наша душевная
жизнь в той мере, в какой она осуществляется, удается нам и мы в ней исполняемся.
Поскольку основная страсть человека, как я понимаю, – это исполниться, осуществиться.
Философия и миф
Мамардашвили введение в философию.
Барт миф сегодня
Мифы
Лосев
Л.Леви-Брюль
ПЕРВОБЫТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.В.
Петухова. М: Изд-во МГУ, 1980. С. 130-140.
"Первобытное мышление" является выражением, которым очень
часто пользуются с некоторого времени. Быть может, небесполезно
будет напомнить здесь в нескольких словах, что я разумею под
"первобытным мышлением".
Выражение "первобытное" является чисто условным термином,
который не должен быть понимаем в буквальном смысле.
Первобытными мы называем такие народности, как австралийцы,
фиджийцы, туземцы Андаманских островов и т. д. Когда белые
вошли в соприкосновение с этими народностями, те не знали еще
металлов, и их цивилизация напоминала общественный строй
каменного века. Отсюда и взялось название первобытных народов,
которое им было дано. Эта "первобытность", однако, весьма
43
относительна. О первобытном человеке в строгом смысле слова мы
ровно ничего не знаем. Поэтому следует иметь в виду, что мы
продолжаем пользоваться словом "первобытный" потому, что оно
уже вошло в употребление, что оно удобно и что его трудно
заменить.
Как бы там ни было, уместно будет предостеречь читателей против
недоразумений, которые часто возникают несмотря на мои
разъяснения. Выражение "пралогическое" переводят термином
"алогическое" как бы для того, чтобы показать, что первобытное
мышление является нелогическим, т. е. неспособно осознавать,
судить и рассуждать подобно тому, как это делаем мы. Очень легко
доказать обратное. Первобытные люди весьма часто дают
доказательства своей поразительной ловкости и искусности в
организации своих охотничьих и рыболовных предприятий, они
очень часто обнаруживают дар изобретательности и поразительного
мастерства в своих произведениях искусства, они говорят на языках,
подчас очень сложных, имеющих порой столь же тонкий синтаксис,
как и наши собственные языки, а в миссионерских школах индейские
дети учатся так же хорошо и так же быстро, как и дети белых. Кто
может закрывать глаза на столь очевидные факты?
Однако другие факты, не менее поразительные, показывают, что в
огромном количестве случаев первобытное мышление отличается от
нашего. Оно совершенно иначе ориентировано. Там, где мы ищем
вторичные причины, устойчивые предшествующие моменты
(антецеденты), первобытное мышление обращает внимание
исключительно на мистические причины, действие которых оно
чувствует повсюду. Оно без всяких затруднений допускает, что одно
и то же существо может в одно и то же время пребывать в двух или
нескольких местах. Оно обнаруживает полное безразличие к
противоречиям, которых не терпит наш разум. Вот почему
позволительно называть это мышление, при сравнении с нашим,
пралогическим.
Отсюда вовсе не следует, однако, что подобная мыслительная
структура встречается только у первобытных людей. Можно, с
полным правом утверждать обратное, и что касается меня, то я
всегда имел это в виду. Не существует двух форм мышления у
{2}
человечества, одной пралогической, другой логической, отделенных
одна от другой глухой стеной, а есть различные мыслительные
44
структуры, которые существуют в одном и том же обществе и часто,
- быть может, всегда - в одном и том же сознании.
Представления, называемые коллективными, если их определять
только в общих чертах, не углубляя вопроса об их сущности, могут
распознаваться по следующим признакам, присущим всем членам
данной социальной группы: они передаются в ней из поколения в
поколение; они навязываются в ней отдельным личностям,
пробуждая в них сообразно обстоятельствам, чувства уважения,
страха, поклонения и т. д. в отношениях своих объектов. Они не
зависят в своем бытии от отдельной личности, их невозможно
осмыслить и понять путем рассмотрения индивида как такового.
Изучение коллективных представлений и их связей и сочетаний в
низших обществах сможет, несомненно, пролить некоторый свет на
генезис наших категорий и наших логических принципов. Точно
исследовать, каковы руководящие принципы первобытного
мышления, - вот та проблема, которая служит объектом настоящего
труда. Без работ моих предшественников - антропологов и
этнографов разных стран, в особенности без указаний, полученных
мной из работ французской социологической школы, я бы никак не
мог надеяться на разрешение этого вопроса или хотя бы даже на
правильную его постановку.
Очень много помогли мне те, достаточно многочисленные в наши
дни, психологи, которые вслед за Рибо стараются показать и
выявить значение эмоциональных и моторных элементов в
психической жизни вообще, вплоть до интеллектуальной
деятельности в точном смысле слова. "Логика чувствований" Рибо
(1905), "Психология эмоционального мышления" проф. Генриха
Майера (1908) (ограничимся указанием этих двух трудов) разрушили
те слишком узкие рамки, в которые под влиянием формальной
логики традиционная психология пыталась заключить жизнь мысли.
Безусловно, существуют черты, общие всем человеческим
обществам: в этих обществах существует язык, в них передаются от
поколения к поколению традиции, в них существуют учреждения
более или менее устойчивого характера; следовательно, высшие
умственные функции в этих обществах не могут не иметь повсюду
некоторую общую основу. Но, допустив это, все же приходится
признать, что человеческие общества могут иметь структуры, глубоко
различные между собой, а следовательно, и соответствующие
45
различия в высших умственных функциях. Следует, значит, наперед
отказаться от сведения умственных операций к единому типу и от
объяснения всех коллективных представлений одним и тем же
логическим и психологическим механизмом.
То, что я пытаюсь сделать, это предварительное исследование самых
общих законов, которым подчинены коллективные представления в
малокультурных обществах, особенно в самых низших из тех,
которые нам известны. Я попытаюсь построить если не тип, то, по
крайней мере, сводку свойств, общих группе близких между собой
типов, и определить таким образом, существенные черты мышления,
свойственного низшим обществам.
{3}
Для того чтобы лучше выявить эти черты, я буду сравнивать это
мышление с нашим, т. е. с мышлением обществ, вышедших из
средиземноморской цивилизации, в которой развивались
рационалистическая философия и положительная наука.
Существенные различия между этими двумя типами резче всего
бросаются в глаза, поэтому мы меньше рискуем упустить их. Для
исследования мышления первобытных людей, которое является
новым делом, нужна была бы, может быть, и новая терминология.
Во всяком случае, необходимо будет, по крайней мере,
специфицировать тот новый смысл, который должно приобрести
известное количество общепринятых выражений в применении их к
объекту, отличному от того объекта, который они обозначали
раньше. Так, например, обстоит дело с термином "коллективные
представления".
В общепринятом психологическом языке, который разделяет факты
на эмоциональные, моторные (волевые) и интеллектуальные,
"представление" отнесено к последней категории. Под
представлением разумеют факт познания, поскольку сознание наше
просто имеет образ или идею какого-нибудь объекта. Совсем не так
следует разуметь коллективные представления первобытных людей.
Деятельность их сознания является слишком мало
дифференцированной для того, чтобы можно было в нем
самостоятельно рассматривать идеи или образы объектов,
независимо от чувств, от эмоций, страстей, которые вызывают эти
идеи и образы или вызываются ими. Чтобы сохранить этот термин,
нам следует изменить его значение. Под этой формой деятельности
сознания следует разуметь у первобытных, людей не
интеллектуальный или познавательный феномен в его чистом или
46
почти чистом виде, но гораздо более сложное явление, в котором то,
что собственно считается у нас "представлением", смешано еще с
другими элементами эмоционального или волевого порядка,
окрашено и пропитано ими. Не будучи чистыми представлениями в
точном смысле слова, они обозначают или, вернее, предполагают,
что первобытный человек в данный момент не только имеет образ
объекта и считает его реальным, но и надеется на что-нибудь или
боится чего-нибудь, что связано с каким-нибудь действием,
исходящим от него или воздействующим на него. Действие это
является то влиянием, то силой, то таинственной мощью, смотря по
объекту и по обстановке, но действие это неизменно признается
реальностью и составляет один из элементов представления о
предмете.
Для того, чтобы обозначить одним словом это общее свойство
коллективных представлений, которые занимают столь
значительное место в психической деятельности низших обществ, я
позволю себе сказать, что эта психическая деятельность является
мистической. За неимением лучшего я буду употреблять этот термин
не в силу его связи с религиозным мистицизмом наших обществ,
который является чем-то в достаточной мере иным, а потому, что в
самом узком смысле термин "мистический" подходит к вере в силы,
влияния, действия, неприметные, неощутимые для чувств, но тем не
менее реальные.
Другими словами, реальность, среди которой живут и действуют
первобытные люди, сама является мистической. Ни одно существо,
ни один предмет, ни одно явление природы не являются в
{4}
коллективных представлениях первобытных людей тем, чем они
кажутся нам. Почти все то, что мы в них видим, ускользает от их
внимания или безразлично для них. Зато, однако, они в них видят
многое, о чем мы и не догадываемся. Например, для "первобытного"
человека, который принадлежит к тотемическому обществу, всякое
животное, всякое растение, всякий объект, хотя бы такой, как звезды,
солнце и луна, наделен определенным влиянием на членов своего
тотема, класса или подкласса, определенными обязательствами в
отношении их, определенными мистическими отношениями с
другими тотемами и т. д. Так, у гуичолов "птицы, полет которых
могуч, например, сокол и орел, видят и слышат все: они обладают
мистическими силами, присущими перьям их крыльев и хвоста... эти
перья, надетые шаманом, делают его способным видеть и слышать
47
все то, что происходит на земле и под землей, лечить больных,
преображать покойников, низводить солнце с небес и т. д.".
А если мы возьмем человеческое тело? Каждый орган его, как об
этом свидетельствуют столь распространенные каннибальские
обряды, а также церемонии человеческих жертвоприношений (в
Мексике, например), имеет свое мистическое значение. Сердцу,
печени, почке, глазам, жиру, костному мозгу и т. д. приписывается
определенное магическое влияние.
Для первобытного сознания нет чисто физического факта в том
смысле, какой мы придаем этому слову. Текучая вода, дующий ветер,
падающий дождь, любое явление природы, звук, цвет никогда не
воспринимаются так, как они воспринимаются нами, т. е. как более
или менее сложные движения, находящиеся в определенном
отношении с другими системами предшествующих и последующих
движений. Перемещение материальных масс улавливается, конечно,
их органами чувств, как и нашими, знакомые предметы
распознаются по предшествующему опыту, короче говоря, весь
психофизиологический процесс восприятия происходит у них так
же, как и у нас. Первобытные люди смотрят теми же глазами, что и
мы, но воспринимают они не тем же сознанием, что и мы. Можно
сказать, что их перцепции состоят из ядра, окруженного более или
менее толстым слоем представлений социального происхождения.
Но и это сравнение было бы неточным и довольно грубым. Дело в
том, что первобытный человек даже не подозревает возможности
подобного различения ядра и облекающего его слоя представлений,
у него сложное представление является еще
недифференцированным.
Общеизвестен факт, что первобытные люди и даже члены уже
достаточно развившихся обществ, сохранившие более или менее
первобытный образ мышления, считают пластические изображения
существ, писанные красками, гравированные или изваянные, столь
же реальными, как и изображаемые существа. "У китайцев, - пишет
де-Гроот, - ассоциирование изображений с существами
превращается в настоящее отождествление. Нарисованное или
скульптурное изображение, более или менее похожее на свой
оригинал, является аlter еgо (вторым "я") живой реальности,
обиталищем души оригинала, больше того, это - сама реальность". В
Северной Америке мандалы верили, что портреты заимствовали у
своих оригиналов часть их жизненного начала. "Я знаю, - говорил
48
один из мандалов, - что этот человек уложил в свою книгу много
наших бизонов, я знаю это, ибо я был при том, когда он это делал, с
тех пор у нас нет больше бизонов для питания".
{5}
Если первобытные люди воспринимают изображение иначе, чем
мы, то это потому, что они иначе, чем мы, воспринимают оригинал.
Мы схватываем в оригинале объективные реальные черты, и только
эти черты: например, форму, рост, размеры тела, цвет глаз,
выражение физиономии и т. д. Для первобытного человека
изображение живого существа представляет смешение признаков,
называемых нами объективными, и мистических свойств.
Изображение так же живет, так же может быть благодатным или
страшным, как и воспроизводимое и сходное с ним существо,
которое замещается изображением.
Первобытные люди рассматривают свои имена как нечто
конкретное, реальное и часто священное. Вот несколько
свидетельств из большого количества имеющихся в нашем
распоряжении. "Индеец рассматривает свое имя не как простой
ярлык, но как отдельную часть своей личности, как нечто вроде
своих глаз или зубов. Он верит, что от злонамеренного
употребления его именем он так же верно будет страдать, как и от
раны, нанесенной какой-нибудь части его тела. Это верование
встречается у разных племен от Атлантического до Тихого океана".
На побережье Западной Африки "существуют верования в реальную
и физическую связь между человеком и его именем: можно ранить
человека, пользуясь его именем... Настоящее имя царя является
тайным...".
Первобытный человек не меньше, чем о своем имени или
изображении, беспокоится о своей тени. Если бы он потерял свою
тень, то он счел бы себя безвозвратно потерянным. Всякое
посягательство на его тень означает посягательство на него самого.
Фольклор всех стран дает множество фактов подобного рода. У
туземцев Фиджи считается смертельной обидой наступить на чьюнибудь тень. В Западной Африке "убийства" иногда совершаются
путем вонзания ножа или гвоздя в тень человека: преступник такого
рода, пойманный с поличным, немедленно подвергается казни.
Кроме того, первобытные люди вполне сознательно придают
столько же веры своим сновидениям, сколько и реальным
восприятиям. Вместо того чтобы сказать, как это обыкновенно
49
делается, что первобытные люди верят тому, что они воспринимают
во сне, хотя это только сон, я скажу, что они верят сновидениям
именно потому, что сновидения отнюдь не являются для них низшей
и ошибочной формой восприятия. Напротив, это высшая форма: так
как в ней роль материальных и осязаемых элементов является
минимальной, то в ней общение с духами и невидимыми силами
осуществляется наиболее непосредственно и полно.
Этим объясняется также то почтение и благоговение, которое
питают к визионерам, ясновидящим, пророкам, а иногда даже к
сумасшедшим. Им приписывается специальная способность
общаться с невидимой реальностью. Все эти хорошо известные
факты объясняются ориентацией коллективных представлений,
которые придают мистический характер и действительности, среди
которой "дикарь" живет, и восприятию "дикарем" этой
действительности.
Для членов нашего общества, даже наименее культурных, рассказы о
привидениях, духах и т. д. являются чем-то относящимся к области
{6}
сверхъестественного: между этими видениями, волшебными
проявлениями, с одной стороны, и фактами, познаваемыми в
результате обычного восприятия и повседневного опыта, с другой
стороны, существует четкая разграничительная линия. Для
первобытного же человека, напротив, этой линии не существует.
Суеверный, а часто также и религиозный человек нашего общества
верит в две системы, в два мира реальностей одних - видимых,
осязаемых, подчиненных неизбежным законам движения, и других невидимых, неосязаемых, "духовных". Для первобытного мышления
существует только один мир. Всякая действительность мистична, как
и всякое действие, следовательно, мистичным является и всякое
восприятие.
Если коллективные представления первобытных людей отличаются
от наших своим по существу мистическим характером, если их
мышление, как я пытался показать, ориентировано иначе, чем наше,
то мы должны допустить, что и сочетание представлений в
сознании первобытного человека происходит по-иному, чем у нас.
Мышление низших обществ не повинуется исключительно законам
нашей логики, оно, быть может, подчинено законам, которые не
целиком имеют логическую природу.
50
Очень часто наблюдатели имели возможность собрать такие
рассуждения или, точнее говоря, такие сочетания представлений,
которые казались им странными и необъяснимыми. Я приведу
некоторые из них. "В Ландане засуха была однажды приписана
специально тому обстоятельству, что миссионеры во время
богослужения надевали особый головной убор. Миссионеры
показали туземным вождям свой сад и обратили их внимание на то,
что их собственные насаждения погибают от недостатка воды.
Ничто, однако, не могло убедить туземцев, волнение которых не
улеглось до тех пор, пока не полили обильные дожди".
В Новой Гвинее "в то время, когда я поселялся со своей женой у
моту-моту, - говорит Эдельфельт, - свирепствовала по всему
побережью эпидемия плеврита... Нас, естественно, обвинили, меня
и жену, в том, что мы привезли с собой посланца смерти, и стали
требовать громкими криками, чтобы мы, а вместе с нами и учителя
полинезийской школы были подвергнуты смертной казни...
Следовало, однако, указать непосредственную причину эпидемии.
Сначала обвинили бывшего у меня несчастного барана: пришлось
его убить, чтобы успокоить туземцев. Эпидемия не переставала
косить людей, и в конце концов проклятия и обвинения туземцев
оказались направленными на большой портрет королевы Виктории,
который был прибит к стене нашей столовой".
В Танне (Новые Гибриды) туземец, проходя по дороге, видит, как на
него с дерева падает змея: пусть он назавтра или на следующей
неделе узнает, что сын его умер в Квинсленде, и уж он обязательно
свяжет эти два факта.
Такие же ассоциации мы находим и в Северной Америке. "Однажды
вечером, когда мы беседовали о животных страны, я, желая показать
туземцам, что у нас, во Франции, водятся зайцы и кролики, при
помощи теней моих пальцев изобразил против света на стене
фигуры этих животных. По чистой случайности туземцы назавтра
наловили рыбы больше обыкновенного: они решили, что причиной
богатого улова были именно те фигурки, которые я им показывал".
{7}
В Новой Гвинее "туземец, возвращаясь с охоты или рыбной ловли с
пустыми руками, ломает себе голову над тем, каким способом
обнаружить человека, околдовавшего его оружие или сети. Он
поднимает глаза и видит как раз туземца из соседнего и
дружественного селения, направляющегося к кому-нибудь с визитом.
51
Туземец обязательно подумает, что этот человек и, есть колдун, и
при первом удобном случае он внезапно нападет на него и убьет".
Общепринятое объяснение всех этих фактов сводится к следующему:
мы имеем здесь неправильное применение первобытными людьми
закона причинности, они смешивают предшествующее
обстоятельство с причиной. Это просто частный случай весьма
распространенной ошибки в рассуждении, которой присвоено
название софизма Роst hос, егgо ргорtег hос (после этого, значит,
вследствие этого).
Несомненно, первобытные люди так же, как и цивилизованные,
или, может быть, больше склонны совершать данную ошибку в
рассуждении. Однако в тех фактах, которые я привел и которые
являются образцами весьма многочисленного разряда фактов,
заключается нечто иное, чем наивное применение принципа
причинности. Не только непосредственное предшествование во
времени побуждает связывать какое-нибудь явление с другим.
Уловленная или замеченная последовательность явлений может
внушить ассоциирование их: самая ассоциация, однако, заключается
в мистической связи между предшествующим и последующим,
которую представляет себе первобытный человек и в которой он
убежден, как только он себе ее представил. Последовательность во
времени является элементом этой ассоциации. Но элемент этот не
всегда обязателен и никогда недостаточен. Если бы дело обстояло
иначе, то как объяснить, что сплошь да рядом самая постоянная,
самая очевидная последовательность явлений ускользает от
внимания первобытных людей? Например, "я-луо не ассоциируют
дневного света с сиянием солнца: они рассматривают их, как две
совершенно самостоятельных вещи, и спрашивают, что делается с
дневным светом ночью". С другой стороны, туземцы часто твердо
верят в такую последовательность, которая никогда не
оправдывается на деле. Опыт не в состоянии ни разуверить их, ни
научить чему-нибудь. В бесконечном количестве случаев мышление
первобытных людей, как мы видели выше, непроницаемо для опыта.
Мистические отношения, которые так часто улавливаются в
отношениях между существами и предметами первобытным
сознанием, имеют одну общую основу. Все они в разной форме и
разной степени предполагают наличие "партиципации"
(сопричастности) между существами или предметами,
ассоциированными коллективным представлением. Вот почему, за
52
неимением лучшего термина, я назову "законом партиципации"
характерный принцип "первобытного" мышления, который
управляет ассоциацией и связями представлений в первобытном
сознании.
{8}
Было бы трудно дать сейчас же отвлеченную формулировку этого
закона. Все же за отсутствием удовлетворительной формулы можно
попытаться дать приближенное определение. Я сказал бы, что в
коллективных представлениях первобытного мышления предметы,
существа, явления могут быть непостижимым для нас образом,
одновременно и самими собой, и чем-то иным. Не менее
непостижимым образом они излучают и воспринимают силы,
способности, качества, мистические действия, которые ощущаются
вне их, не переставая пребывать в них.
Другими словами, для первобытного мышления противоположность
между единицей и множеством, между тождественным и другим и
т.д. не диктует обязательного отрицания одного из указанных
терминов при утверждении противоположного, и наоборот. Эта
противоположность имеет для первобытного сознания лишь
второстепенный интерес. Часто она скрадывается перед
мистической общностью бытия тех существ, которые нельзя
отождествлять, не впадая в нелепость. Так, например, "трумаи
(племя северной Бразилии) говорят, что они - водяные животные.
Бороро (соседнее племя) хвастают, что они - красные арара
(попугаи)". Это вовсе не значит, что только после смерти они
превращаются в арара или что арара являются превращенными в
бороро и поэтому достойны соответствующего обращения. Нет, дело
обстоит совершенно иначе. "Бороро, - говорит фон-ден-Штейнен,
который никак не хотел поверить этой нелепице, но который
должен был уступить перед их настойчивыми утверждениями, бороро совершенно спокойно говорят, что они уже сейчас являются
настоящими арара, как если бы гусеница заявила, что она бабочка".
Фон-ден-Штейнен считает непостижимым, как они могут считать
себя одновременно человеческими существами и птицами с красным
оперением. Однако для мышления, подчиненного "закону
партиципации", в этом нет никакой трудности. Все общества и
союзы тотемического характера обладают коллективными
представлениями подобного рода, предполагающими подобное
тождество между членами тотемической группы и их тотемом.
С динамической точки зрения возникновение существ и явлений
53
того или иного события представляет собой результат мистического
действия, которое при определенных мистических условиях
передается от одного предмета или существа к другому в форме
соприкосновения, переноса, симпатии, действия на расстоянии и т.
д. В огромном числе обществ низшего типа изобилия дичи, рыбы
или плодов, правильная смена времен года, периодичность дождей все это связывается с выполнением известных церемоний
определенными людьми, обладающими специальной мистической
благодатью. То, что мы называем естественной причинной
зависимостью между событиями и явлениями, либо вовсе не
улавливается первобытным сознанием, либо имеет для него
минимальное значение. Первое место в его сознании, а часто и все
его сознание занимают различные виды мистической
партиципации.
Вот почему мышление первобытных людей может быть названо
пралогическим с таким же правом, как и мистическим. Это, скорее,
два аспекта одного и того же основного свойства, чем две
самостоятельные черты. Первобытное мышление, если
рассматривать его с точки зрения содержания представлений,
{9}
должно быть названо мистическим, оно должно быть названо
пралогическим, если рассматривать его с точки зрения ассоциаций.
Под термином "пралогический" отнюдь не следует разуметь, что
первобытное мышление представляет собой какую-то стадию,
предшествующую во времени появлению логического мышления.
Существовали ли когда-нибудь такие группы человеческих или
дочеловеческих существ, коллективные представления которых не
подчинялись еще логическим законам? Мы этого не знаем: это, во
всяком случае, весьма мало вероятно. То мышление обществ низшего
типа, которое я называю пралогическим за отсутствием лучшего
названия, это мышление, по крайней мере, вовсе не имеет такого
характера. Оно не антилогично, оно также и не алогично. Называя
его пралогическим, я только хочу сказать, что оно не стремится,
прежде всего, подобно нашему мышлению избегать противоречия.
Оно отнюдь не имеет склонности без всякого основания впадать в
противоречия (это сделало бы его совершенно нелепым для нас),
однако оно и не думает о том, чтобы избегать противоречий. Чаще
всего оно относится к ним с безразличием. Этим и объясняется то
обстоятельство, что нам так трудно проследить ход этого мышления.
Необходимо подчеркнуть, что самый материал, которым орудует эта
54
умственная деятельность, уже подвергся действию "закона
партиципации": коллективные представления первобытных людей
являются совершенно иной вещью, чем наши понятия. Простое
высказывание общего отвлеченного термина: человек, животное
организм заключает в себе в подразумеваемом виде большое
количество суждений, которые предполагают определенные
отношения между многими понятиями. А коллективные
представления первобытных людей не являются продуктом
интеллектуальной обработки в собственном смысле этого слова.
Они заключают в себе в качестве составных частей эмоциональные
и моторные элементы, и, что особенно важно, они вместо
логических отношений (включений и исключений) подразумевают
более или менее четко определенные, обычно живо ощущаемые,
"партиципации" (сопричастия)
Философия и религия
Франк философия и религия
С нами Бог
Философия и наука
С.л. франк понятие философии. Взаимоотншения философии и науки
Мамардашвили введение в философию
Чайка?
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ.
Евангелие от Матфея
«Нагорная проповедь» (Матфея 5:1-7:29; Луки 6:12-41). В ней Господь Иисус
Христос высказал всю суть Своего учения. Самое основное это «Заповеди
блаженства», но кроме них есть еще много других поучений. Нагорная
проповедь начинается Заповедями блаженства, а кончается «Притчей о
благоразумном строителе» (Матфея 7:24-27) которая нас учит на каком
основании нужно строить нашу жизнь и что именно во время беды ясно
видно преимущество жизни по заповедям Закона Божия.
ГЛАВА 5 (Арх. Аверкий)
Увидев народ, Он взошел на гору;
и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
55
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Вы - соль земли
Вы - соль земли.
Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна,
как разве выбросить ее вон на попрание людям.
Вы - свет мира
Вы - свет мира.
Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме.
Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
Не нарушить пришел Я, но исполнить.
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить.
Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля,
ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все.
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном;
а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.
Ибо, говорю вам,
если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное.
Вы слышали, что сказано древним:
не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду;
кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону;
а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.
56
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником,
и пойди прежде примирись с братом твоим,
и тогда приди и принеси дар твой.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним,
чтобы соперник не отдал тебя судье,
а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта.
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну.
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну.
Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей
разводную.
А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния,
тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот
прелюбодействует.
Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй
пред Господом клятвы твои.
А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;
ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что
он город великого Царя;
ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса
сделать белым или черным.
Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую;
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду;
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
57
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных.
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли
делают и мытари?
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не
так же ли поступают и язычники?
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
РАЗДЕЛ 2 Античная философия
Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху
Приводится с исправлениями по изданию: Ницше Ф. Философия в
трагическую эпоху. М., 1994. С.192-253.
Предисловие (написанное, вероятно, в конце 1875 г.)
[192] Когда мы рассуждаем о людях, от нас отдаленных, нам достаточно
знать их цели, чтобы в общем или одобрить, или отвергнуть их. О более
близких мы (кроме того) судим по средствам, употребляемым ими для
достижения их цели: часто мы осуждаем цели, но любим людей за средства и
способы их хотения. Всякие философские системы только для своих
основателей представляют неопровержимую истину; всем позднейшим
философам они обыкновенно кажутся великой сплошной ошибкой, а
заурядные головы видят в них сумму ошибок и истин, в конечной же цели —
несомненное заблуждение и потому отвергают их. Многие люди отвергают
всякого философа, раз его цель не та самая, что их, собственная; так
поступают более отдаленные. Кто же вообще в состоянии радоваться
великим людям, тот радуется и таким системам, даже если они совершенно
ошибочны: в них все же содержится один вполне неопровержимый пункт —
индивидуальное настроение, окраска; ими можно воспользоваться, чтобы
создать картину философа, точно так же, как по растению определенного
места можно судить о почве. Во всяком случае данный способ жить и
созерцать дела житейские — однажды существовал и, следовательно, он
возможен: «система» или, по крайней мере, часть этой системы —
произведение этой почвы.
58
Я передаю историю этих философов упрощенным способом; я в каждой
системе хочу выделить лишь тот пункт, который составляет часть личности и
этим самым то неопровержимое и неоспоримое, достойное сохранения в
истории: это — попытки вновь добыть и воссоздать путем сравнения эти
личности,— попытки нового воспроизведения многозвучия эллинской души:
задача состоит в том, чтобы ярко осветить все то, что нам вечно будет дорого
и мило, чего никакие позднейшие познания не могут нас лишить: великого
человека.
[193]
Позднейшая формулировка предисловия (написанная в конце 1879 г.)
Эта попытка рассказать историю древних греческих философов отличается
от других подобных попыток своею краткостью, достигнутой тем, что
излагается лишь небольшая часть учений каждого философа; следовательно,
она отличается и неполнотой. Но из учений избраны именно те, в которых
яснее всего отражается индивидуальность философа, между тем как при
полном перечне всевозможных дошедших до вас учений, как это
практикуется в руководствах, личность несомненно окончательно
стушевывается. В этом кроется причина скуки таких отчетов: ведь в
опровергнутых уже системах нас только и интересует индивидуальное, так
как оно одно остается вечно неопровержимым. Из трех анекдотов можно
составить картину человека; я попытаюсь выбрать три анекдота из каждой
системы и отказываюсь от всего остального.
1
Есть противники философии: и хорошо делают, прислушиваясь к ним,
особенно, когда они советуют больным головам германцев оставить
метафизику и проповедуют им очищение природою, как Гёте, или исцеление
музыкой, как Вагнер. Народные врачи отбрасывают философию; и тот, кто
хочет оправдать ее, должен показать, для каких целей здоровые народы
пользуются и пользовались философией. Быть может, если он в состоянии
показать это, то и больные получат спасительное разумение, почему именно
им она вредна. Положим, есть хорошие примеры здоровья, которое может
существовать совсем без философии или при незначительном, почти
игрушечном, пользовании ею: так римляне в свое лучшее время жили без
философии. Но где найти пример народа, которому философия вернула бы
утраченное здоровье? Если она когда-либо являлась помощницей,
спасительницей, защитницей, — это было лишь у здоровых, больных она
всегда делала еще более больными. Если когда-нибудь народ был раздроблен
и слабо связан со своими единицами, — никогда философия не скрепляла
теснее эти единицы с целым. Если когда-нибудь кто-нибудь хотел стоять в
стороне и окружить себя изгородью самодовления,— всегда философия была
готова изолировать [194] его еще больше и этим его погубить. Она опасна
59
там, где она не вполне правомощна, и только здоровье народа, и притом не
каждого народа, делает ее таковой.
Поищем теперь высшего авторитета для того, что называется у народа
здоровьем. Греки, как истинно здоровые, раз навсегда оправдали философию
тем, что они занимались ей, и притом много больше, чем все другие народы.
Они не могли даже остановиться вовремя: и в исхудалой старости они еще
оказались горячими почитателями философии, хотя они и понимали под ней
тогда лишь благочестивые хитросплетения и святейшие умопомрачения
христианской догматики. Тем, что они не могли остановиться вовремя, они
сами уменьшили свою заслугу перед варварским потомством, потому что
оно, в невежестве и буйстве своей юности, должно было запутаться именно в
этих последних искусно сплетенных сетях и силках.
Но зато греки сумели начать вовремя, и науку о том, когда надо начинать
заниматься философией, они дают так ясно, как ни один народ. А именно —
не под гнетом печали, как думают некоторые, выводящие философию из
угнетенного состояния духа. Нет: в счастьи, в зрелом, сильном возрасте,
переходя огненную жизнерадостность смелой и победной поры жизни. Тот
факт, что в эту пору греки занимались философией, учит нас как тому, что
есть философия и чем она должна быть, так и тому, каковы были греки. Если
бы они были тогда такими ничтожными и не по летам умными практиками и
весельчаками, как их охотно представляет себе ученый филистер наших
дней, или если бы они жили только среди невоздержанных фантазий, звуков,
дыханий и чувствований, как допускает неученый фантазер,— источник
философии не пробился бы у них на свет. Самое большее — явился бы
ручеек, который вскоре бы затерялся в песках или испарился бы, но никогда
не было бы той широкой реки, льющейся с гордым прибоем волн, которую
мы знаем как греческую философию.
Пусть усердно указывают на то, как много греки могли найти и как многому
могли научиться у восточных народов, и сколько они заимствовали оттуда.
Конечно, получалась удивительная картина, когда сводили вместе мнимых
учителей Востока и возможных учеников Греции — Зороастра с Гераклитом,
индейцев с элеатами, египтян с Эмпедокдом, или выставляли напоказ
Анаксагора среди иудеев или Пифагора среди китайцев. В частностях мало
[195] установлено: но в целом мы допустили бы эту идею только в том
случае, если бы нас не связывали выводом, будто таким образом философия
была только внесена в Грецию, а не выросла из ее естественной родной
почвы; мало того, будто она, как что-то чужое, скорей повела греков к
падению, чем к прогрессу. Нет ничего безумнее, как приписывать грекам
вполне самобытную культуру: они впитали в себя всякую живую культуру
других народов, они потому достигли таких успехов, что сумели бросить
копье дальше с того места, где его оставил другой народ. Они достойны
удивления в этом искусстве плодотворного воспринимания и так же, как и
60
они, должны и мы учиться у наших соседей для жизни, не для ученых
исследований, пользуясь всем изученным, как опорой для того, чтобы
вознестись так же высоко, как сосед, или еще выше. Вопросы о
возникновении философии совершенно безразличны, ибо повсюду вначале
находится нечто сырое, бесформенное, пустое и некрасивое, и во всем
достойны внимания лишь высшие ступени. Кто вместо греческой философии
охотнее занимается египетской или персидской, потому что эти философии
«оригинальнее» и во всяком случае старше, тот поступает так же
легкомысленно, как и те, которые не могут успокоиться на греческой, такой
осмысленной и такой прекрасной, мифологии, прежде чем не сведут ее на
физические пошлости — солнце, луну, погоду и туман, — как на ее
первоначало, и, например, воображают, что обрели в ограниченном
поклонении одному лишь небесному своду у других индогерманцев более
чистую форму религии, чем та, какой была политеистическая религия греков.
Дорога к началу повсюду приводит к варварству; и кто занимается греками,
должен всегда иметь в виду, что необузданное стремление к познанию так же
варваризирует, как и ненависть к познанию, и что греки своей идеальной
жаждой жизни ограничивали свое от природы ненасытное побуждение к
знанию, ибо они хотели переживать все, чему они учились. Греки занимались
философией как люди культуры и для целей культуры, и потому они были
далеки от того, чтобы из националистической спеси вновь изобретать
элементы философии и науки; они тотчас старались так наполнить, поднять и
возвысить эти заимствованные элементы, что благодаря этому они стали
изобретателями в высшем смысле и в более чистой области. Именно они
изобрели типичные философские головы, и все дальнейшее потомство не
прибавило к этому ничего существенного.
[196] Каждый народ будет посрамлен, если ему укажут на такое идеальное
общество философов, как древнегреческие учителя — Фалес, Анаксимандр,
Гераклит, Парменид, Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит и Сократ. Все эти
люди вырублены сразу и из цельного камня. Между их мыслями и их
характером господствует строгая необходимость. У них нет никаких
условностей, потому что тогда не было сословия философов и ученых. Все
они — в великом одиночестве, как единственные люди, которые жили тогда
для одного только познания. Они все обладают добродетельной энергией
древних, которой они превосходят всех позднейших,— найти свою
собственную форму и совершенствовать ее до последней тонкости и красоты
последовательным путем превращений. Ибо им не шла навстречу, помогая и
облегчая, мода. Так они образуют то, что Шопенгауэр назвал в
противоположность к республике ученых — республикой гениев: один
исполин взывает к другому чрез пустынные пространства времен, и великий
разговор духов продолжается без препятствий, несмотря на резво шумящую
толпу карликов, ползающих под ними.
61
Об этом великом разговоре духов я и предполагал рассказать то, что может
из него понять и услышать наша теперешняя тугоухость. Мне кажется, что
эти древние мудрецы от Фалеса до Сократа высказали в нем, хотя в самой
общей форме, все, что, с нашей точки зрения составляет собственноэллинское. Они проявляют в своем разговоре, как и в своих личностях, те
великие черты греческого гения, слабый оттиск которых и расплывчатая и
неясная копия — вся греческая история. Если бы мы могли правильно
изобразить всю жизнь греческого народа, мы все-таки нашли бы в ней лишь
отражение картины, которая светящимися красками сияет в его величайших
гениях. Уже первое проявление философии на греческой почве — санкция
семи мудрецов — есть ясная и незабвенная линия в картине эллинского
естества. У других народов были святые, у греков — мудрецы. Верно
сказано, что народ ч характеризуется не столько своими великими людьми,
сколько способом, которым он их познает и почитает. В другие времена
философ — случайный, одинокий странник среди недружелюбной
обстановки или проскальзывающий, или пробивающийся со сжатыми
кулаками. Лишь у греков философ — не случайное явление: когда он
показывается в шестом и пятом столетии среди чудовищных опасностей и
соблазнов обмирщения и точно из пещеры [197] Трофония вступает прямо в
пышность, счастье, богатство и чувственность греческих колоний,— мы
догадываемся, что он приходит как благородный предостерегатель для той
же цели, для которой в те же столетия родилась трагедия и которую
обнаруживают и орфические мистерии в причудливых иероглифах их
обрядов. Приговор этих философов о жизни и существовании вообще
высказывает гораздо больше, чем современный приговор, потому что они
видели перед собой жизнь в ее пышных проявлениях, и потому что у них
чувство мыслителей не блуждает, как у нас, в разделе между желанием
свободы, прелести, величия жизни и стремлением к истине, которое
спрашивает только об одном: чего вообще стоит жизнь? Задачу, которую
должен выполнить философ в действительной культуре, выдержанной в
едином стиле, трудно угадать при наших условиях, потому что у нас нет
такой культуры. Только культура, подобная греческой, может ответить на
вопрос о задачах философии; только она может вообще оправдать
философию, ибо она одна знает и может доказать, почему и каким образом
философ не есть случайный странник, то сюда, то туда забредший.
Существует железная необходимость, которая приковывает философа к
действительной культуре: но как быть, если этой культуры нет налицо?
Тогда философ — нежданная и наводящая ужас комета, в то время как при
лучших условиях он светит, как главная звезда в солнечной системе
культуры. Потому-то греки и оправдывают философа, что только у них он —
не комета.
2
62
После всего сказанного никого не удивит, если я буду говорить о философах
до Платона, как о нераздельном обществе, и им одним посвящу этот труд. С
Платона начинается нечто совсем новое; или, как можно было бы сказать с
тем же правом, с Платона недостает философам чего-то существенного, в
сравнении с тем, чем была республика гениев от Фалеса до Сократа.
Кто хочет недоброжелательно выразиться про этих древнейших учителей,
может назвать их односторонними, а их эпигонов, с Платоном во главе,
многосторонними. Правильнее и беспристрастнее было бы понимать
последних как смешанные характеры философов, первых — как чистые
типы. Сам Платон — первый великий смешанный характер и, как таковой, он
отчеканен как в своей [198] философии, так и в своей личности. Элементы
Сократа, Пифагора и Гераклита объединены в его учении об идеях: поэтому
оно — не типично-чистое явление. И как человек Платон объединяет в себе
черты царственного замкнутого и самобытного Гераклита, меланхолическисострадательного законодателя Пифагора и сердцеведа-диалектика Сократа.
Все позднейшие философы — такие же смешанные характеры: там, где у них
выступает что-нибудь одностороннее, как у киников, мы находим не тип, а
карикатуру. Но гораздо значительнее то, что они — основатели сект и что
основанные ими секты все до одной были оппозиционными учреждениями
против эллинской культуры и против ее доныне единого стиля. Они искали
по-своему избавления, но лишь для единиц или, самое большее, для близко
стоящей группы друзей и молодежи. Деятельность древнейших философов
направлена, хотя и бессознательно для них самих, на исцеление и очищение в
целом: могучий бег греческой культуры не должен быть остановлен,
страшные опасности должны быть удалены с его дороги,— философ
оберегает и защищает свою страну. Теперь, со времени Платона, он в
изгнании и злоумышляет против нее.
Настоящее несчастие, что нам так мало осталось от этих древнейших
учителей-философов и что все цельное отнято от нас. Поневоле мы мерим их,
благодаря этой утрате, ложным масштабом и, исходя из чисто случайного
факта, что у Платона и Аристотеля никогда не было недостатка в ценителях и
переписчиках, делаем вывод не в пользу более ранних философов.
Некоторые думают, что у книг есть свое провидение — fatum libellorum: но
оно должно было быть очень злым, если решило отнять у нас Гераклита,
дивную поэму Эмпедокла, сочинения Демокрита, которого древние ценили
наравне с Платоном и который превосходит его гениальной прозой,— и
взамен их дать нам в руки стоиков, эпикурейцев и Цицерона. Вероятно,
самая величавая часть греческой мысли и ее выражения в словах утрачена
для нас: судьба, которой не удивится тот, кто вспомнит о несчастьях Скота
Эригены или Паскаля и примет к сведению, что даже в просвещенном
девятнадцатом столетии первое издание книги «Мир, как воля и
представление» Шопенгауэра должно было пойти на оберточную бумагу.
63
Если кто-нибудь хочет объяснить подобные явления особенной
фаталистической силой, он может это сделать и сказать вместе с Гёте: «С
подлостью мятежное сердце примири! Сила в ней безбрежная, что ни
говори».
[199] И прежде всего подлость могущественнее, чем сила истины.
Человечество так редко рождает хорошую книгу, в которой смело и свободно
поется боевая песнь истины, песнь философского героизма; и все же часто
зависит от самых жалких случайностей — от внезапных затмений голов, от
ленивых к письму пальцев, от червей и дождливой погоды — будет ли она
жить столетием дольше или станет прахом и тленом. Однако мы не будем
жаловаться, но позволим себе привести напутственные слова утешения
Гаманна, с которыми он обращается к ученым, жалеющим о потерянных
сочинениях: «Разве недостаточно было ловкачу, попадавшему чечевицей в
игольное ушко, одного четверика чечевицы для упражнения в
приобретенном им искусстве? Этот вопрос можно было бы поставить всем
ученым, которые не могут умнее употребить творения древних, чем этот
человек чечевицу». В нашем случае надо было бы еще прибавить, что нам не
нужно, чтобы до нас дошло еще хоть одно слово, один анекдот, одна
хронологическая дата сверх того, что есть, даже могло бы сохраниться
меньше, для того чтобы установить общее учение — что греки оправдывают
философию.
Время, которое страдает так называемым общим образованием, но не имеет
никакой культуры и никакого единства стиля в своей жизни, ничего не
поделает с философией, даже если ее будет проповедовать сам гений истины
на улицах и площадях. Скорее всего она останется в такое время ученым
монологом любителя уединенных прогулок, случайной добычей одного
человека, скрытой кабинетной тайной или безопасной болтовней между
академическими старцами и детьми. Никто не отваживается выполнить закон
философии самой по себе, никто не живет философски с простой воинской
верностью, которая побуждает древнего, где бы он ни был, что бы он ни
делал, выказывать себя стоиком, раз он однажды обещал верность Стое. Все
современное философствование ограничено политически и полицейски
правительствами, религиями, университетами, обычаями, модами,
человеческими трусостями низведено до видимости; оно остается при вздохе
«если бы» или при познании: «было когда-то». Философия бесправна,
поэтому современный человек, если бы он вообще был хотя мужественным и
добросовестным, должен был бы ее отбросить и изгнать со словами,
подобными тем, с которыми Платон изгнал писателей трагедий из своего
государства. Конечно, ей осталось бы возражение, как и у писателей [200]
трагедий против Платона. Она могла бы, если бы ее когда-нибудь принудили
к этому, сказать: «Жалкий народ! Моя ли вина, что среди вас я брожу по
земле как гадалка и принуждена прятаться и скрываться, как будто я —
64
грешница, а вы — мои судьи? Взгляните на родное мне искусство! С ним то
же, что со мной, мы занесены к варварам и не умеем уже спастись. Верно,
здесь нет для нас справедливости: но судьи, у которых мы ее найдем, будут
судить также и вас, и скажут вам: «Имейте вперед культуру, тогда вы
узнаете, чего хочет и что может философия».
3
Греческая философия начинается, по-видимому, с нескладной мысли — с
положения, будто вода первоначало и материнское лоно всех вещей.
Действительно ли нужно на этом серьезно остановиться? Да, и по трем
причинам: во-первых, потому, что это положение высказывает нечто о
происхождении вещей; во-вторых, потому, что оно делает это без
иносказательств и притч; и наконец, потому, что в нем, хотя и в зачаточном
состоянии, заключена мысль: «все — едино». Первое оставляет еще Фалеса в
обществе религиозных и суеверных людей, второе выводит его из этого
общества и показывает его нам естествоиспытателем, но в силу третьего —
Фалес становится первым греческим философом. Если бы он сказал: из воды
происходит земля, мы имели бы научную гипотезу, ложную, но все же
трудно опровержимую. Но он вышел за пределы научного. Выражая свое
представление об единстве гипотезою воды, Фалес не поднялся выше
низкого уровня естественно-научных воззрений своего времени, а много если
перескочил через него. Скудные и беспорядочные наблюдения
эмпирического характера, произведенные Фалесом над состоянием и
изменениями воды, или, точнее, влаги, менее всего могли дозволить такое
радикальное обобщение — не говоря уже о том, чтоб навести на него; к
этому побуждал метафизический догмат, возникающий из мистической
интуиции,— догмат, с которым мы встречаемся во всех философиях,
включая сюда постоянно возобновляемые попытки выразить его лучше —
положение «все — едино».
Стоит посмотреть, как деспотически распоряжается такая вера со всякой
эмпирикой: именно на Фалеев можно изучить, как поступала философия всех
времен, когда, устремляясь к своей волшебно-пленительной цели, она
оставляла [201] позади и внизу тернии опыта. На легких опорах она скачет
вперед; надежда и чаяния окрыляют ее ноги. Тяжело пыхтит идущий за нею
следом расчетливый разум, отыскивая более прочные опоры, чтобы и самому
достигнуть той манящей цели, которой уже достигла его, божественная
спутница. Кажется, что перед нами два странника у лесного ручья,
увлекающего в своем течении камни: один, легко ступая, перебегает через
него по камням, не обращая внимания на то, что они сразу после его
прикосновения погружаются вглубь. Другой тем временем стоит
беспомощно: он должен прежде выстроить стойкие основания, которые
вынесли бы его тяжелую, обдуманную поступь; но это иногда не удается, и
тогда уж никакая сила не поможет ему перейти через ручей. Итак, что же так
65
быстро приводит к цели философскую мысль? Отличается ли она от все
рассчитывающего и размеривающего мышления только тем, что быстрее
пролетает большие пространства? Нет; чуждая, нелогическая сила двигает ее
ногами — фантазия. Поднятая ею философская мысль порхает дальше от
одной возможности к другой, принимая их временно за истины; иногда она
их схватывает даже на лету. Гениальное предчувствие указывает ей их, она
издали угадывает, где именно находятся доказуемые истины. Особенно же
могущественна сила фантазии в молниеносном схватывании и освещении
подобия; позднее рефлексия приносит масштабы и шаблоны и стремится
заменить подобия – равенствами, сосуществования — причинностью. Но
даже если бы это никогда не было возможным, даже в положении Фалеса,—
недоказуемая философия имеет еще одну ценность: пусть даже падут
последние опоры, когда логика и строгая эмпирия захотят перейти к
положению «все — вода»,— кое-что останется и после того, как разобьется
вдребезги все научное построение: в этом-то остатке лежат и сила, влекущая
вперед, и надежда на будущую плодотворность.
Конечно, я не думаю, что эта мысль,— даже ограниченная, ослабленная,
аллегорически истолкованная,— еще может заключать в себе род «истины»;
разве только,— если представить себе творящего художника,
остановившегося перед водопадом: в возникающих перед ним фигурах он
видит художнически преобразующую игру воды с телами людей и животных,
с масками, растениями, скалами, нимфами, грифонами,— со всем, что
находится перед ним: для него положение «все есть вода» является
установленным. Напротив, мысль Фалеса, даже после признания [202] ее
недоказуемости, именно тем и ценна, что ее понимали не мифически и не
аллегорически. Греки, среди которых так внезапно выделился Фалес,
представляли полную противоположность всем другим реалистам тем, что
они верили только в реальность людей и богов, а на всю природу смотрели
только как на переодевание, маскарад и метаморфозу этих богов-людей.
Человек был для них истиною и сущностью вещей, все остальное — только
явлением и переменчивой игрою. Именно поэтому для них было
невероятным затруднением смотреть на понятия, как на понятия: и наоборот,
подобно тому, как у новейших народов даже самое конкретное испаряется в
абстракцию, у них — абстрактное всегда стремилось снова сплотиться в
конкретное. Но Фалес сказал: «Не человек, а вода — сущность вещей»; он
начинает верить природе, поскольку он верит воде. Как математик и
астроном, он охладел ко всему мифическому и аллегорическому и, если ему
и не удалось отрезвиться до полной абстракции «все — едино» и он
остановился на физическом выражении принципа, — все же он среди греков
своего времени был чуждым явлением и редкостью. Быть может странная
секта орфиков обладала способностью понимать абстракцию и думать
непластически в еще более высокой степени, чем он: все же им выражение их
66
мыслей удавалось лишь в форме аллегории. Даже Ферекид Сиросский,
который стоит близко к Фалесу по времени и по своим естественно-научным
воззрениям, выражая свое миросозерцание, уносится в ту область религии,
где миф сочетается с аллегорией; он решается сравнить землю с висящим в
воздухе окрыленным дубом с распростертыми крыльями; Зевс, победив
Кроноса, одел его в роскошный почетный наряд, на котором он своими
руками вышил земли, воды, реки. Наряду с такой, едва доступной
представлению тускло аллегорической философией, Фалес является
учителем и творцом, который без фантастических грез о природе заглянул в
ее тайники. Если же он при этом хотя и пользовался научными и
доказуемыми элементами, но скоро перескакивал через них, то и это тоже —
типический признак философского ума. Греческое слово, которым
обозначают понятие «мудрец», этимологически сродно с sapio — «я
вкушаю», sapiens — «вкушающий»; sisyphos — «человек с наиболее острым
вкусом»; острое чувство вкуса и хорошее уменье различать составляют по
сознанию народа искусство философа. Он не умен, если называть умным
того, кто отыскивает благо в своей [203] собственной жизни: Аристотель
справедливо говорит: «То, что знают Фалес и Анаксагор, люди будут
называть необыкновенным, удивительным, трудным, божественным, но
бесполезным, потому что оно служило им не для того, чтобы создавать
человеческие
блага».
Благодаря
этому
выбору
и
выделению
необыкновенного, удивительного, трудного, божественного — философия
так же отграничивается от науки, как восхвалением бесполезного она
отграничивается от ума. В слепом желании познать все какою бы то ни было
ценою, наука набрасывается на все доступное познанию без этого выбора,
без этого тонкого вкуса; наоборот, философское мышление отыскивает
всегда наиболее достойное познание, наиболее великое и важное. Но понятие
великого изменяемо и в мире нравственности, и в мире эстетики: и
философия начинает с законодательства о великом, а с ним связано и
наречение имен. «Это — велико»,— говорит она и подымает человека выше
слепого необузданного требования его порыва к познанию. Понятием
великого она связывает этот порыв: больше же всего тем, что она считает
достижимым и достигнутым величайшее познание,— познание о сущности,
корне и ядре вещей. Слова Фалеса «все — вода» подымают человека выше
червеобразного ощупывания и ползания кругом, свойственных отдельным
наукам; он предчувствует конечную разгадку всех вещей и благодаря этому
предчувствию побеждает обычную тусклость более низких ступеней
познания. Философ стремится к тому, чтобы в нем нашло отклик созвучие
всего мира: он хочет его выразить в понятиях, созерцая как художника,
сострадая как верующий, ища целей и причинной связи как ученый; чувствуя
себя вознесенным до беспредельности макрокосма — он при всем том еще
сохраняет в себе способность холодно изучать себя, как поэт-драматург,
67
который, перевоплощаясь в разные образы и говоря их устами, умеет
проецировать эти превращения наружу в писанных стихах. Чем здесь для
поэта является стихотворная форма изложения, тем для философа —
диалектическое мышление: он хватается за него, чтобы хоть в нем удержать
свою зачарованность и материализировать ее. И как для драматурга речь и
стих — только лепет на чужом языке, необходимый для того, чтобы
высказать что он пережил и видел,— то, что он мог бы передать
непосредственно только телодвижениями и музыкой,— так и выражение
глубокой философской интуиции путем диалектики и научной [204]
рефлексии — хотя и единственное средство, чтобы передать виденное, но
средство жалкое; это — почти метафорическое, совсем неточное перенесение
в другую сферу и в другой язык. Фалес созерцал все сущее единым; желая же
открыть эту мысль людям, он говорит о воде!
4
Между тем как в лице Фалеса общий тип философа еще только
вырисовывается из тумана, образ его великого преемника уже определеннее
дает знать о себе. Анаксимандр из Милета, первый писатель-философ у
древних, пишет именно так, как всегда будет писать типичный философ,
пока разные странные требования еще не отняли у него простодушия и
наивности: величавым монументальным письмом, каждым положением,
свидетельствуя о новом освещении и пребывании среди возвышенных
созерцаний. Мысль и ее форма — подорожные столбы на пути к высшей
мудрости. С такой мраморной внушительностью говорит Анаксимандр: «Из
чего произошли вещи, в то они, погибая, обращаются по необходимости: ибо
им приходится в определенном порядке времени претерпеть за неправду суд
и возмездие». Загадочное изречение подлинного пессимиста, надпись
оракула на пограничном камне греческой философии,— как объяснить тебя?
Единственный серьезно настроенный моралист нашего (XIX) столетия в
своих Parerga (т. II, гл. 12, Nachtr?ge zur Lehre vom Leiden der Welt,
приложение) внушает нам подобный же взгляд. «Правильная мера для
суждения о каждом человеке дается тем, что он совсем не должен был бы
существовать и платиться за свое бытие многообразными страданиями и
смертью: — чего же можно ожидать от него? Разве не все мы — грешники,
приговоренные к смерти? Мы платим пеню за наше рождение, во-первых —
жизнью, во-вторых — смертью». Кто умеет прочесть это учение в облике
нашей общей человеческой участи и узнает дурную сущность каждой
человеческой жизни уже в том, что ни одна не вынесет внимательного
рассмотрения вблизи — хотя, по-видимому, наше время, привыкшее к заразе
биографий, иначе и пышнее думает о достоинстве человека — и кто, как
Шопенгауэр, «на высотах индийского эфира» слышал святое слово о
нравственной ценности бытия — тому всегда будет трудно удержаться от
одной в высшей степени антропоморфической метафоры, от того, чтобы
68
вывести это грустное [205] учение из рамок человеческой жизни и
распространить его на все бытие. Может быть, не логично, но во всяком
случае вполне естественно и, сверх того, совершенно в духе раньше
описанного полета философской мысли,— что Анаксимандр смотрит на
всякое становление как на преступное освобождение из вечного бытия, как
на несправедливость, которая должна быть искуплена смертью. Все, что
когда-либо возникло,— должно погибнуть, — будет ли это человеческая
жизнь, или вода, или тепло и холод: повсюду, где можно заметить
определенное свойство, мы можем, сообразно с огромным доводом опыта, —
предсказать и гибель этих свойств. Таким образом, вещество, обладающее
определенными свойствами и состоящее из них, не может быть
первоначалом и принципом вещей; действительно существующее, заключил
Анаксимандр, не может обладать никакими свойствами, иначе оно, как все
другие вещи, должно было бы возникнуть и погибнуть. Для того, чтобы
становление не прекратилось, первобытное вещество должно быть
неопределенным. Бессмертие и вечность первобытного вещества состоят не в
его бесконечности и неистощимости — как принимают обыкновенно
толкователи Анаксимандра,— но в том, что оно лишено определенных
качеств, ведущих к гибели: поэтому оно и называется «неопределенным»
(apeiron). Так названное первобытное вещество выше становления и этим
обусловливает вечность и беспрепятственный процесс становления. Понятно,
что это «неопределенное» — конечное единство всего существующего,
материнское лоно всех вещей — может быть изображено человеком только
отрицательно, как нечто, чему из видимого мира становления не может быть
подобрано никакого определения; оно должно поэтому считаться равным по
значению кантовской «вещи в себе».
Без сомнения, человек, который может спорить с другими о том, что это
было за первоначальное вещество — нечто среднее между воздухом и водою,
или, быть может, между воздухом и огнем,— совсем не понял нашего
философа: то же самое следует сказать и о тех, которые серьезно спрашивали
себя, не считал ли Анаксимандр свое первоначальное вещество смешением
всех веществ, находящихся в мире. Напротив, мы должны обратить наш
взгляд туда, откуда можно узнать, что Анаксимандр смотрел на
происхождение этого мира уже не только как физик,— на вышеприведенное
величавое изречение. Напротив, именно, тем, что он во множестве
возникших
вещей
видел
сумму
[206]
требующих
возмездия
несправедливостей, он впервые в Греции смелым движением руки схватил
самый узел глубочайшей этической проблемы. Как может быть преходящим
то, что имеет право на существование? Откуда это не знающее отдыха
становление и рождение, откуда этот отпечаток болезненной судороги на
лице природы, откуда этот неумолкающий вопль смерти во всех царствах
жизни? Из этого мира несправедливости, дерзкого отпадения от
69
первобытного единства вещей, Анаксимандр убегает в замок метафизики и
из него обводит долгим взглядом все раскинувшееся далеко вокруг, для того
чтобы, наконец, задумчиво помолчав, обратиться с вопросом ко всем
живущим: «Чего стоит ваше существование? И, если оно ничего не стоит,
для чего вы здесь? По вашей вине, замечаю я, вы пребываете в этой жизни.
Смертью вы должны искупить ее. Посмотрите, как увядает ваша земля; моря
убывают и высыхают — морская раковина на высокой горе показывает вам,
как сильно они иссохли; огонь уже теперь разрушает ваш мир, под конец же
он превратится в пар и дым. Но этот преходящий мир всегда будет
отстраиваться снова; кто мог бы избавить вас от проклятия становления?».
Человека, который ставит такие вопросы, парящая мысль которого
беспрерывно разрывает канаты эмпирии для того, чтобы вознестись в
надлунные пространства — такого человека не всякий род жизни может
удовлетворить. Мы охотно доверяем преданию, что он носил особенную
почетную одежду и выказывал истинно трагическую гордость в жестах и в
обыденных привычках. Он жил, как писал, говорил так же торжественно, как
одевался; он поднимал руку и ставил ногу, как будто бы эта жизнь была
трагедией, в которой он рожден был играть героя. Во всем он был великим
прообразом Эмпедокла. Его сограждане избрали его для того, чтобы он
вывел колонию — может быть, они обрадовались случаю одновременно
почтить его и избавиться от него. Но и его мысль отправилась вдаль и тоже
основала колонии: в Эфесе и Элее не отделались от него, и, если не могли
решиться остановиться на том месте, где стоял он, то все же все знали, что он
их повел туда, откуда теперь без него собирались идти дальше.
Фалес показывает нам необходимость упростить царство множественности и
свести его к простому развитию или облицовке одного существующего
качества — воды. Двумя шагами Анаксимандр перешагнул затем дальше его.
Он спрашивает себя: «Как же возможна эта множественность, [207] если
вообще существует вечное единство?» И заимствует ответ из полного
противоречий, пожирающего и самоотрицающего характера этой
множественности. Существование ее становится для него явлением
нравственности, она не оправдана и постоянно искупляет себя смертью. Но
тогда ему приходит в голову вопрос: «Почему же уже давно не погибло все
происшедшее, когда уже прошла целая вечность времен? Откуда этот
постоянно возобновляемый поток становления?» Он умеет спастись от этого
вопроса только мистическими возможностями: что вечное становление
может происходить только из вечного бытия, что условия отпадения от
бытия к становлению в своей неправомерности всегда одинаковы, что это
созвездие вещей раз навсегда создано так, что не предвидится никакого
конца для выхода отдельных жизней из лона «неопределенного». На этом
остановился Анаксимандр — т. е. он остановился в глубоких тенях, которые,
как исполинские привидения, лежали на горной цепи такого миросозерцания.
70
Чем больше хотели люди приблизиться к проблеме — как вообще через
отпадение из неопределенного может произойти определенное, из вечного —
временное, из справедливого — несправедливое,— тем сильнее сгущался
мрак ночи.
5
В глубину этой мистической ночи, схоронившей в себе Анаксимандрову
проблему становления, вступил Гераклит Эфесский и осветил ее
божественной молнией. «Я смотрю на становление,— взывает он,— никто
еще не прислушивался так внимательно к этому вечному прибою волн и
ритму вещей. И что же я видел? Закономерность, непогрешимые истины,
всегда равные пути правды, Эриний, преследующих каждое преступление
законов, весь мир — как трагедию, в которой действует правящая
справедливость и подчиненные силы природы, демонически везде сущие. Я
видел не наказание происшедшего, но оправдание становления. Разве когдалибо злодеяние, отпадение проявлялось в непреложных формах в свято
почитаемых законах? Где правит несправедливость, там произвол,
беспорядок, неправильность, противоречия; там же, где, как в этом мире,
царствуют лишь закон и дочь Зевса Правда,— там не место греху, пеням,
осуждению, не место казни для осужденных!»
Из этой интуиции Гераклит вывел два связанных между собою отрицания,
которые могут быть ясно освещены лишь [208] при сравнении с
положениями учения его предшественника. Во-первых, он отрицал
двойственность различных миров, признать которую был вынужден
Анаксимандр; он уже не отделял физического мира от мира
метафизического, царство определенных качеств от царства неограниченной
неопределенности. Теперь, после этого первого шага, он не мог уже
удержаться от еще большей смелости отрицания: он отрицал вообще бытие.
Ибо этот единственный мир, который ему оставался,— ограниченный
вечными неписанными законами, совершающий свои приливы и отливы с
железными ударами ритма,— нигде не обнаруживает постоянства,
нерушимости, оплота в течении. Еще громче, чем Анаксимандр, восклицает
Гераклит: «Я не вижу ничего, кроме становления. Не позволяйте обманывать
себя! Если вы думаете, что кашли остров в этом море становления и всего
преходящего, причина этому — ваша близорукость, а не сущность вещей. Вы
употребляете имена вещей, как будто бы они постоянны: но ведь даже поток,
в который вы вступаете во второй раз, уже не тот, каким был при вашем
первом в него вступлении».
Гераклит царственно владеет высшей силой интуитивного представления; к
другому роду представления, совершающемуся в понятиях и логических
сочетаниях, следовательно, к деятельности разума, он относится холодно,
сухо, враждебно, по-видимому, даже ощущает удовольствие, если может
возразить ему интуитивно добытой истиной: и он делает это в положениях,
71
подобных следующему «все всегда имеет в себе свою противоположность»,
— так смело, что Аристотель обвиняет его перед судом разума в величайшем
преступлении, — в том, что он согрешил против закона противоречия. Но
интуитивное представление обнимает две области: во-первых — настоящий
мир, пестрый и изменяющийся, во всех опытах окружающий нас, во-вторых
— условия, при которых только и возможно познание этого мира — время и
пространство. Ибо их можно интуитивно воспринимать и, следовательно,
созерцать независимо от опыта как самих в себе, хотя и лишенные
определенного содержания. И если Гераклит рассматривает время именно
таким образом, независимо от всякого опыта, то в нем он имел
поучительнейшую монограмму всего того, что входит в область
интуитивного мышления. Почти так же, как и он, учил о времени и
Шопенгауэр, и оба они часто так говорят о нем: что каждый момент его
существует лишь постольку, поскольку он уничтожил предшествующий ему
момент, [209] своего отца, для того чтобы самому быть уничтоженным так
же скоро; что прошедшее и будущее призрачны как сон, настоящее же —
непротяженная и бессодержательная граница между ними; что и время, и
пространство, и все, что происходит во времени и в пространстве,
существует только относительно в смысле причины и цели и обусловлено
другим, также относительно существующим. Это — истина, обладающая
величайшей, непосредственной, каждому понятной очевидностью, но именно
потому так трудно доступная для разума и понимания. Но кто ее уловил, тот
должен перейти и дальше к заключению Гераклита и сказать, что вся
сущность действительности есть только действие, и что для нее нет другого
бытия; именно так и выразил это тот же Шопенгауэр (Мир, как воля и
представление, т. I, книга первая, § 4): «Только действуя, наполняет она
(материя) пространство,
наполняет
время;
ее воздействие
на
непосредственный объект обусловливает созерцание, в котором она только и
существует; результат воздействия одного материального предмета на другой
познается лишь постольку, поскольку этот последний воздействует на
непосредственный объект иначе, чем прежде, и только в этом и состоит.
Причина и действие составляют таким образом всю сущность материи; ее
бытие есть ее действие. Вполне правильно, поэтому, сущность всего
материального по-немецки и названа действительностью (Wirklichkeit); это
слово точнее, чем слово реальность. То, на что материя воздействует, есть
всегда опять-таки материя; все ее бытие и вся сущность состоит, стало быть,
только в закономерном изменении, которое производится одной ее частью на
другую; оно — относительно, обусловлено относительностью, имеющей
значение только в известных границах,— таким образом, так же, как время и
как пространство.
Учение Гераклита о вечном и единственном становлении, о совершенном
непостоянстве всего существующего, которое только действует и только
72
становится, но не есть – заключает в себе ужасное и ошеломляющее
представление, по своему действию подобное ощущению человека, который
во время землетрясения теряет уверенность в прочности земли. Нужна была
удивительная сила для того, чтобы это впечатление обратить в
противоположное, в возвышенное и осчастливленное изумление. Гераклит
достиг этого своим наблюдением над ходом каждого становления и
исчезновения, который он познал под понятием полярности, – как [210]
разделение силы на две качественно различные, противоположные и
стремящиеся к новому соединению деятельности. Беспрерывно в каждом
качестве происходят раздвоение и разделение его на противоположности;
беспрерывно эти противоположности стремятся вновь соединиться. Хотя
люди и думают, что видят вокруг себя нечто прочное, готовое, постоянное,—
на самом же деле в каждом моменте свет и мрак, горечь и сладость так
сплелись между собою, как два борца, из которых попеременно побеждает то
один, то другой. Мед, по словам Гераклита, одновременно и горек и сладок, а
весь мир — сосуд с вином, который постоянно надо смешивать. Из войны
противоположностей возникает всякое становление: определенные качества,
кажущиеся нам постоянными, выражают только временный перевес одного
борца, но война на этом не кончается, она продолжается вечно. Все
происходит сообразно с этой борьбой, и именно в ней вечная
справедливость. Удивительно это представление, почерпнутое из источника
чистейшего эллинства,— представление, считающее борьбу беспрерывным
проявлением единой строгой справедливости, связанной вечными законами.
Только грек мог положить это представление в основание оправдания мира;
«благая Эрида» Гесиода объявлена мировым принципом, идея состязания
отдельных греков и греческого государства перенесена в область общих
представлений из гимназий и палестр, из агонов художников, из борьбы
между собою политических партий и городов — так что отныне ею
вращаются колеса мира. Подобно тому, как вступает в борьбу каждый грек,
как будто прав лишь он один, и непостижимо уверенный приговор судьи в
каждый данный момент определяет, куда склоняется победа,— так же точно
борются между собой качества по нерушимым законам и мерам,
имманентным самой борьбе. Сами вещи, в постоянство и устойчивость
которых верят узкие головы людей и животных,— не имеют никакого
особенного существования — они лишь блеск и сверкание поднятых мечей,
вспышка победы в борьбе противоположных качеств.
Эту борьбу, свойственную всякому становлению, эту вечную перемену
победы, тоже описывает Шопенгауэр (Мир, как воля и представление, т. I,
вторая книга, § 27): «Постоянно должна пребывающая материя менять свою
форму, между тем как, по нити причинности, явления механические,
физические, химические и органические, теснясь и пробиваясь вперед, друг у
друга отрывают [211] материю, так как каждое из них хочет выразить свою
73
идею. Во всей природе происходит эта борьба, вся природа только из нее и
состоит». Следующие страницы дают замечательнейшие иллюстрации этой
борьбы; только основной тон этих описаний всегда остается другим, чем у
Гераклита. Для Шопенгауэра борьба — доказательство самораздвоения воли
жизни, самопожирание этого темного глухого инстинкта,— ужасное, ни в
каком случае не радостное и не приносящее счастья явление. Арена и самый
предмет этой борьбы — материя, которую постоянно стремятся друг у друга
вырвать силы природы,— так же как — время и пространство, соединение
которых посредством причинности дает именно материю.
6
Между тем как воображение Гераклита окидывало беспокойно движущуюся
вселенную — «действительность» — взглядом осчастливленного
наблюдателя, который видит повсюду бесчисленные четы, борющиеся в
радостном состязании под наблюдением строгих судей борьбы,— еще более
высокая мысль пришла ему в голову; он уже не мог больше рассматривать
отдельно четы борцов и их судей, ему казалось, что судьи сами принимают
участие в борьбе, борцы же — сами судят себя. Мало того: так как он
особенно признавал только одну вечно правящую справедливость, то он
осмелился воззвать: «Борьба многих сама — чистая справедливость! И
вообще: одно есть многое. Ибо что такое все эти качества по своему
существу? Может быть, они — бессмертные боги? Или они — отдельные
существа, действующие сами по себе с начала и без конца? И, если видимый
нами мир знает лишь становление и исчезновение, но не знает пребывания,—
может быть, эти качества образуют другой, иначе устроенный
метафизический мир,— не мир единства, которого искал Анаксимандр за
летучей дымкой множественности,— но мир вечных и существенных
множественностей?» — Не напал ли Гераклит этим снова на представление о
двух мирах, которое он сам так горячо отрицал,— со своего рода Олимпом
многочисленных бессмертных богов и демонов,— а именно многих
реальностей,— и с миром людей, которые видят только облако пыли от
борьбы олимпийцев и вспышку божеских копий – т. е. становлений?
Анаксимандр именно от определенных качеств бежал в недра
метафизического «неопределенного»; [212] он отрицал у них прочное
существование потому, что они возникали и исчезали; не должно ли было
также показаться Гераклиту, что становление — наоборот, только
проявление борьбы вечных качеств? Не следовало ли простить слабость
человеческого познания, если мы видим только становление, между тем как,
быть может, в сущности вещей нет становления, а только осуществление
многих истинных непроисшедших и нерушимых реальностей?
Но такие выводы и заблуждения не свойственны Гераклиту, он взывает еще
раз: «одно есть многое». Видимые нами многие качества — не вечные
сущности (как позднее учил Анаксагор), но и не призраки наших чувств (как
74
учил Парменид); они не прочное бытие, но и не мимолетное видение,
мелькающее в головах людей. Третьей возможности, оставшейся Гераклиту,
не мог бы угадать ни один человек, обладающий диалектическим чутьем и
продолжающий рассчитывать последовательно: ибо то, что он придумал —
редкость, даже в этом царстве мистических невероятностей и неожиданных
космических метафор. — Мир есть игра Зевса или, выражаясь физически,—
игра огня с самим собою; только в этом смысле одно — многое.
Для того, чтобы лучше объяснить введение Гераклитом огня, как творящей
мировой силы, я напомню о том, как развил Анаксимандр теорию воды, как
первоначала всех вещей. Принимая в основных чертах теорию Фалеса и
увеличивая и усиливая ее наблюдениями, Анаксимандр все же еще не был
убежден в том, что нет другой качественной ступени перед водой и, так
сказать, позади ее: ему казалось, что из тепла и холода образуются влаги, и
поэтому тепло и холод должны быть раньше воды, следовательно, еще более
первоначальными качествами. С их отделением из пра-бытия в
«неопределенном» начинается становление. Гераклит, бывший в области
физики последователем Анаксимандра, истолковывает это тепло как теплое
дыхание, сухие пары,— короче, огненным веществом: об этом огне он
говорит то же, что говорили Фалес и Анаксимандр о воде — будто он в
бесчисленных превращениях проносится чрез все пути становления в трех
главных состояниях — в теплом, влажном и твердом. Ибо вода в нисходящем
движении переходит в землю, в восходящем — в огонь, или, как это точнее
выражено Гераклитом: из моря подымаются только чистые пары, которые
служат питанием для небесного огня звезд, из земли же — темные,
туманные, из которых почерпывает свое питание влага. Чистые пары —
переход [213] моря в огонь, нечистые — переход земли в воду. Так
происходят два превращения огня вверх и вниз, туда и обратно. Из огня в
воду, оттуда в землю; из земли снова в воду, из воды в огонь. В наиболее
значительных из этих представлений,— в том, что огонь поддерживается
испарениями, или в том, что из воды частью выделяется земля, частью огонь
— Гераклит находится в зависимости от Анаксимандра; но он вполне
независим от него и даже противоречит ему, исключая холод из физического
процесса, тогда как Анаксимандр ставит его наравне с теплом, считая и то и
другое источниками влажности. Гераклиту необходимо было поступить так:
ибо если огонь — все, то при всех возможностях его превращения не может
быть ничего, что было бы его полной противоположностью; таким образом,
то, что люди называют холодом, он обозначал — надо полагать — лишь, как
известную степень тепла и без затруднений оправдывал это обозначение. Но
гораздо важнее, чем это уклонение от учения Анаксимандра, было
дальнейшее согласие с ним Гераклита: подобно Анаксимандру, он верит в
периодически повторяющуюся гибель мира и в постоянно возобновляемое
возникновение другого мира из всеуничтожающего мирового пожара.
75
Период, в течение которого мир несется навстречу этому мировому пожару,
он характеризует названием стремления и потребности; период полного
поглощения огнем — названием насыщения; остается открытым вопрос, как
он понимал и обозначал период пробуждения инстинкта нового
мирообразования, его выливания в формы множественности. По-видимому,
нам приходит на помощь греческий афоризм: сытость рождает спесь (hybris);
и действительно, можно спросить, не выводил ли Гераклит этого
возвращения ко множественности из hybris. Вдумаемся серьезно в эту мысль:
при ее свете на наших глазах изменяется лицо Гераклита, потухает гордый
блеск его глаз, на чело его ложится морщина болезненного отречения и
бессилия: кажется, что мы знаем, почему более поздняя древность назвала
его «плачущим философом». И теперь, разве весь мировой процесс не есть
наказание за hybris? Множественность — результат спеси? Превращение
чистого в нечистое — последствие несправедливости? Разве теперь не
положена снова в основание вещей вина, и хотя мир становления и
индивидов избавлен от нее,— все же, разве он не осужден вечно нести на
себе ее последствия?
7
[214] Это опасное слово hybris, действительно пробный камень для каждого
последователя Гераклита: на нем он может показать, понял ли он своего
учителя или нет. Существуют ли в этом мире вина, несправедливость,
противоречие, страдание?
Да, восклицает Гераклит, но только для ограниченного человека, который
смотрит на все отдельно и не замечает общей связи, не для
всеобъединяющего бога; дли него все борющееся между собою сливается в
одну гармонию, невидимую для обыкновенного человеческого глаза, но
понятную тому, кто, как Гераклит, подобен созерцающему богу. От его
огненного взгляда не ускользает ни одной капли несправедливости в волнах
окружающего его мира; и даже это основное препятствие — каким образом
чистый огонь может переходить в такие нечистые формы,— преодолевается
им путем возвышенной притчи. Становление и исчезновение, строение и
разрушение без всякого нравственного осуждения, в вечно равной
невинности – составляют в этом мире игру художника и ребенка. И так, как
играют дитя и художник, играет вечно живой огонь, строит и разрушает, в
невинности — в эту игру сам с собой играет «Зон». Превращаясь в воду и
землю, он воздвигает, как дитя, горы песка на берегу моря, воздвигает и
разрушает; от времени до времени он начинает игру снова. Минута
насыщения: и вновь его охватывает потребность, как художника, побуждая
его к творчеству. Не преступная отвага, но все снова и снова
пробуждающаяся страсть к игре вызывает к жизни новые миры. Дитя иногда
бросает игрушку; но скоро берется за нее вновь по невинной прихоти. Но
76
когда оно строит,— оно связывает, скрепляет и образует планомерно, по
внутреннему порядку.
Так смотрит на мир только эстетик, который, наблюдая художника и
рождение произведения искусства, понял, каким образом спор
множественности еще может заключать в себе закон и право, как художник
одновременно и творит и созерцает, как необходимость и игра, борьба и
гармония соединяются попарно для того, чтобы создать художественное
произведение.
Кто же будет еще от такой философии требовать этики с ее обязательным
императивом: «ты должен» или ставить в упрек Гераклиту ее недостаток?
Человек сам до последней клеточки своей ткани — необходимость и
совершенно «не [215] свободен» — если под свободой понимать безумное
притязание менять свою essentia как платье,— притязание, которое до сих
пор отвергала с надлежащим презрением всякая серьезная философия. То,
что мало людей живет в сознании Логоса и так как повелевает глаз
созерцающего художника,— это происходит от того, что их души влажны, от
того, что человеческие глаза и уши и вообще весь интеллект – плохие
свидетели, если «влажный ил занял их души». Почему это так, об этом не
спрашивается, так же как и о том, почему огонь становится землею и водою.
Гераклит не имеет основания (каковое было у Лейбница) для того, чтобы
непременно доказывать, будто этот мир самый лучший из всех возможных
миров, ему достаточно сказать, что он — прекрасная и невинная игра Зона.
Человека вообще он считает неразумным существом; этому нисколько не
противоречит то, что закон властного разума исполняется во всем его
существе. Он не занимает особенно привилегированного положения в
природе, высшее проявление которой — огонь, например огонь звезд, но не
разумный человек. Если человек по необходимости получил хоть скольконибудь огня, то он уже стал разумнее; поскольку же он состоит из воды и
земли — разум его несовершенен. Из самой сущности человека еще не
вытекает того, что он обязан познавать Логоса. Но почему же существует
вода, почему существует земля? Для Гераклита это гораздо более серьезный
вопрос, чем вопрос о том, почему так глупы и дурны люди. В лучшем и в
худшем человеке проявляется одинаковая имманентная закономерность и
справедливость. Если же предложить Гераклиту вопрос: почему огонь не
всегда огонь, почему он является то водой, то землею; то он ответил бы: «Это
— игра, не принимайте этого слишком страстно и, прежде всего, не ищите в
этом нравственного основания!» Гераклит описывает только существующий
видимый мир и, созерцая его, любуется им, как художник, окидывающий
взглядом свое творение. Темным, грустным, плачущим, мрачным,
меланхоликом, пессимистом и вообще человеком, достойным ненависти,
находят его только те, которые имеют причины быть недовольными его
описанием природы человека. Именно эти люди совершенно безразличны
77
ему со всеми их симпатиями и антипатиями, любовью и ненавистью, и для
них он употребляет такие поучения: «Собаки лают на всех, кого не знают»,
или «Для осла мякина приятнее золота».
От таких-то недовольных и слышатся многочисленные [216] жалобы на
темноту стиля Гераклита: вероятно, ни один человек никогда не писал яснее
и ярче. Конечно, очень кратко и поэтому, разумеется, темно для тех, кто
читает его бегло. Каким образом философ мог намеренно писать неясно,—
как в этом обвиняют Гераклита,— совершенно непонятно: если только он не
имеет основания скрывать свои мысли или не шут, скрывающий за обилием
слов отсутствие мыслей. И если даже иногда в практической жизни
приходится, как говорит Шопенгауэр, опасаться затруднений, которые могут
произойти от недостаточной ясности, — то какое право имеет человек
выражаться темно и загадочно в этих труднейших, едва достижимых
областях мысли, составляющих задачу философии? Что же касается
краткости, то о ней хорошо говорит Жан-Поль: «В общем вполне
справедливо, если все великое — полное богатого смысла для одаренного
редким смыслом человека — высказывается кратко и (поэтому) темно, для
того, чтобы убогие духом лучше сочли это великое безумным, чем перенесли
бы его в свое пустосмыслие. Ибо пошлые люди имеют некрасивую
способность в самом глубоком и богатом изречении видеть не что иное, как
свое собственное повседневное мнение». Впрочем и без этого Гераклит не
пошел навстречу «убогим духом»: уже стоики свели его с высоты и унизили
его эстетическое понимание мировой игры до общего суждения о
целесообразности мира, именно по отношению его к выгодам человека; так
что из его физики в их головах получился один грубый оптимизм с
постоянными призывами «plaudite amid».
8
Гераклит был горд; а уж если философ доходит до гордости, то гордость эта
— великая. В своем творчестве никогда не ищет «публики», сочувствия масс,
одобрительного хора современников. Философу свойственно одиноко
прокладывать путь. Его дарование — в высшей степени редкое, в известном
смысле неестественное; поэтому оно враждебно ко всем другим, даже
подобным ему дарованиям и исключает их. Стена его самодовления должна
быть воздвигнута из алмаза, чтобы не быть разбитой, разрушенной, так как
все против него. Его путь к бессмертию тяжелее и встречает больше
препятствий, чем путь всякого другого; и все же никто более, чем философ,
не может быть уверен в том, что достигнет на нем цели, ибо ему негде [217]
остановиться, если не на широко распростертых крыльях всех времен; ибо в
самой природе великого философа – пренебрегать настоящим и минутным.
Он обладает истиной: пусть колесо времен несется куда угодно, оно никогда
не уйдет от истины. Важно даже знать про таких людей, что они когда-то
жили! Никогда не могли бы люди представить себе — как простую
78
возможность — этой гордости Гераклита. Уже по своему существу всякое
стремление к познанию кажется всегда неудовлетворенным и не дающим
удовлетворения. Поэтому никто, не будучи научен историей, не будет в
состоянии поверить в это царственное величие и убежденность в том, что он
— единственный счастливый жених истины. Такие люди живут в своей
отдельной солнечной системе; там их и надо искать. И Пифагор и Эмпедокл
тоже мерили себя сверхчеловеческой мерой, почти с религиозным страхом;
но сострадание, соединенное с великим убеждением в переселение душ и в
единство всего живого, приводило их опять к людям, для их исцеления и
спасения. Но то чувство одиночества, которое проникало эфесского
отшельника храма Артемиды, можно себе лишь отчасти представить,
коченея в самой дикой горной пустыне. От него не исходит мощного чувства
сострадательного волнения, жажды помочь, исцелить, спасти; он — звезда
без атмосферы. Его глаз, пылающим светом обращенный внутрь, снаружи
кажется лишь призраком, умершим и ледяным. Вокруг него, о твердыни его
гордости, ударяются волны безумия и превратности; с брезгливостью он
отворачивается от них. Но и люди с чувствующим сердцем тоже
сворачивают с дороги перед его железной маской; в удаленном святилище,
среди изображений богов, в рамке холодной, спокойно-величавой
архитектуры — такое существо было бы понятнее. Среди людей Гераклит,
как человек — невероятен; и если его и видели порой, как он любовался
шумной игрой детей, то в это время он думал о том, о чем никогда не думал
ни один человек — об игре великого дитяти мира — Зевса. Ему не нужны
были люди даже для его познания; его душа не лежала ни к чему, что можно
было выведать у них и что выведывали другие мудрецы, жившие до него. Он
говорил с пренебрежением об этих спрашивающих, собирающих, одним
словом, исторических людях. «Я искал и вопрошал себя самого», сказал он о
себе словом, которым обозначают вопрошение оракула: как будто он был
призван исполнить и осуществить дельфийское слово: «познай самого себя»
— он и никто больше.
[218] То же, что он услышал от этого оракула, он считал бессмертною и
вечно достойной истолкования мудростью, действие которой неограниченно
распространяется вдаль, как пророческие речи Сивиллы. Этого достаточно
для позднейшего человечества: хотя бы оно и истолковывало как вещание то,
что он, подобно дельфийскому богу, «и не высказывает, и не скрывает».
Пусть даже оно возвещено им «без улыбки, прикрас и благовонных мастей»,
даже «с пеной у рта»,— все же оно должно проникнуть в глубь тысячелетий.
Ибо мир всегда нуждается в истине и, следовательно, ему нужен Гераклит;
хотя для самого Гераклита мир не нужен. Для чего ему слава? Слава среди
«всегда уносимых течением смертных!», как он презрительно выражается.
Его слава важна для людей, а не для него, бессмертие человечества
нуждается в Гераклите, а не он в бессмертии человека-Гераклита. То, что он
79
созерцал,— учение о законе становления и об игре в необходимости, должно
отныне сделаться вовек предметом созерцания; он поднял занавес над этой
величайшей трагедией.
9
В то время, как каждое слово Гераклита дышит гордостью и величием
истины,— истины, до которой он поднялся на крыльях интуиции, а не по
веревочной лестнице логики, созерцая с проникновением Сивиллы, а не
рассматривая, познавая, а не рассчитывая,— мы видим полную
противоположность ему в лице его современника Парменида; это тоже тип
пророка истины, но созданный изо льда, а не из огня, и разливающий вокруг
себя холодный, колющий свет.
Парменид однажды, вероятно уже в старости, пережил момент чистейшей
абстракции, не омраченной никакой действительностью и совершенно
бесплотной; этот момент — неэллинский, как ни один момент за два века
трагической эпохи,— момент, результатом которого явилось учение о
бытии,— был пограничным камнем жизни мыслителя, разделившим ее на
два периода; одновременно он разделил и всю досократовскую философию
на две половины, из которых вдохновителем одной был Анаксимандр, другой
— Парменид. Первый, древнейший период философской деятельности
Парменида носит еще на себе печать гения Анаксимандра; в течение его
Парменид создал, как бы в ответ на вопросы Анаксимандра, стройную
философско-физическую систему. Когда позднее его охватил [219] ледяной
озноб абстракции и он выставил свое простейшее положение о бытии и
небытии, то среди многих обреченных им на погибель древнейших учений
была также и его собственная система. Все же он, по-видимому, не утратил
отеческой нежности к сильному и красивому отпрыску своей молодости и
помог себе словами: «Конечно, есть лишь один правильный путь; но если бы
кто-нибудь захотел пойти по другому, то единственно правильным оказалось
бы мое прежнее миросозерцание, как по своему достоинству, так и по своей
последовательности». Защищая себя этой отговоркой, он отвел своей
прежней физической системе достойное и почтенное место в той великой
поэме о природе, которая имела специальною целью проповедовать новую
точку зрения, как единственно верную указательницу пути истины. Эта
отеческая нежность, допускающая даже ошибку против логики,— остаток
человеческого чувства у этой натуры, совершенно окаменелой благодаря
своей логической косности и почти превратившейся в мыслящую машину.
Парменид относился с таким же недоверием к полному обособлению двух
миров, из которых один только есть, а другой только становится, как и
Гераклит, которого это недоверие привело к полному отрицанию бытия. Оба
искали выхода из этой системы двух миров. Тот прыжок в неопределенное и
неопределимое, посредством которого Анаксимандр раз навсегда расстался с
царством становления и данных опытом качеств,— был нелегок для таких
80
самостоятельных умов, как у Гераклита и Парменида; они хотели идти пока
возможно и оставили прыжок до того места, где уже не будет опоры для ног
и откуда надо прыгнуть для того, чтобы не упасть. Оба все время созерцали
тот мир, который так мрачно осудил Анаксимандр, назвав его местом
преступления и казни за несправедливость становления. В этом созерцании
Гераклит открыл, как мы уже знаем, каким удивительным порядком,
закономерностью и прочностью проникнуто каждое становление; из этого он
заключил, что становление не может быть чем-то дерзким или
несправедливым. Совсем иначе взглянул Парменид: он сравнил качества
между собою и убедился в том, что они не все однородны, но должны быть
разделены на две рубрики. Если он, напр., сравнивал свет и мрак,— первое
качество очевидно было лишь отрицанием второго; таким образом он
различал положительные и отрицательные качества, усердно отыскивая это
основное противоположение [220] во всей природе и отмечая его. Метод его
при этом был таков: он брал две противоположности, например легкое и
тяжелое, тонкое и толстое, действительное и страдательное,— и сводил их к
первоначальной противоположности света и тьмы: то, что соответствовало
свету, было положительным, что — тьме — отрицательным. Если он брал
тяжелое и легкое, то легкое он сближал со светлым, тяжелое — с темным:
таким образом тяжелое, становилось лишь отрицанием легкого, легкое же
было положительным качеством, Уже из этого метода очевидна наклонность
Парменида к упорному абстрактно-логическому мышлению, замкнутому для
голоса чувств. Тяжесть определенно представляется нашим чувствам
положительным качеством. Это нисколько не мешает Пармениду назвать ее
отрицательным. Точно так же он обозначал землю в противоположность к
огню, холод — к теплу, толстое — к тонкому, женское — к мужскому,
страдательное — к действительному, лишь как отрицания: так что перед его
взглядом весь мир разделился на две совершенно различные области: область
положительных качеств, в которую входит все светлое, огненное, легкое,
тонкое, действительное, и область отрицательных. Эти последние,
собственно,
выражают
только
недостаток,
отсутствие
других,
положительных качеств; и он описал область, в которой нет положительных
качеств, темною, землистою, холодною, тяжелою, толстою и вообще
носящею женско-пассивный характер. Вместо выражений «положительный»
и «отрицательный» он употреблял термин «сущий» и «не-сущий» и таким
образом, наперекор Анаксимандру, пришел к утверждению, что в самом
нашем мире есть нечто сущее; конечно, есть в нем и не-сущее. Сущее надо
искать не вне мира и, так сказать, выше нашего горизонта, но перед нашими
глазами; и везде, в каждом становлении содержится и действует нечто сущее.
Оставалась еще задача — дать точный ответ на вопрос: «что такое
становление?»; и именно здесь ему надо было прыгнуть для того, чтобы не
упасть, хотя, быть может, для таких натур, как Парменид, каждый прыжок
81
равносилен падению. Как бы то ни было, мы уже вошли в область тумана, в
мистику qualitates occiiltae и даже отчасти в мифологию. Парменид, подобно
Гераклиту, смотрит на всеобщее становление и неустойчивость и может
объяснить постоянное исчезновение лишь виною «не-сущего». Не могло же
сущее быть виновно в исчезновении! Точно так же и возникновение может
произойти лишь с помощью «не [221] сущего»; ибо «сущее» есть всегда и не
могло бы само из себя ни произойти, ни объяснить возникновения. Таким
образом возникновение, как и исчезновение, обусловлено действием
отрицательных качеств. То обстоятельство, что возникающее имеет
содержание, а исчезающее теряет свое содержание,— предполагает участие в
процессе положительных качеств, из которых и слагается это содержание.
Короче, получается положение: «для становления необходимо как «сущее»,
так и «не-сущее»; при их взаимодействии происходит становление». Но как
сходятся между собой положительное и отрицательное? Не должны ли они,
наоборот, вечно бежать друг от друга и делать невозможным всякое
становление? Здесь Парменид взывает к qualitas occulta, к мистической
склонности противоположностей сближаться и притягиваться, и объясняет
это влиянием Афродиты и эмпирически известным отношением мужского и
женского. Сила Афродиты проявляется в том, что совокупляются
противоположности. Одна и та же страсть сводит1 борющиеся друг с другом
и ненавидящие друг друга элементы: результат ее — становление. Когда
страсть пресыщена, ненависть и внутренний раздор снова разлучают «сущее»
и «не-сущее» и тогда человек говорит: «вещь погибает».
10
Но никто не может безнаказанно дотронуться до таких ужасных абстракций,
как «сущее» и «не-сущее»; каждый раз от прикосновения к ним замерзает
кровь в жилах. В один прекрасный день Пармениду пришла редкая мысль,
по-видимому настолько обесценившая его прежние комбинации, что он
пожелал бросить их в сторону, как кошелек со старыми, вышедшими из
употребления монетами. Обыкновенно думают, что кроме естественного и
внутреннего последствия введения таких понятий, как «сущее» и «не-сущее»,
на открытие этого дня повлияло еще внешнее событие — знакомство с
теологией старого, много путешествовавшего рапсода, певца мистического
обоготворения
природы
Ксенофана
Колофонского.
Всю
свою
необыкновенную жизнь Ксенофан провел как странствующий поэт и
благодаря своим путешествиям стал образованным и поучительным
человеком, умевшим и спрашивать, и рассказывать; поэтому [222] и Гераклит
считал его полиистором и вообще «исторической» натурой в упомянутом
смысле. Никто не мог бы определить, когда и откуда появилось у него
мистическое стремление к единому и покоящемуся; быть может, это лишь
убеждение старца, наконец ставшего оседлым, которому после тревог
постоянных странствований и после неустанного учения и исследования
82
высшим и лучшим показался призрак божественного покоя, неподвижности
всех вещей среди пантеистического первобытного мира. А впрочем, мне
кажется совершенно случайным, что в одном и том же месте, в Элее, жили
некоторое время два человека, из которых каждый носил в голове идею
единства: они не образовали школы и не имели ничего общего, чему бы один
мог поучиться у другого, чтобы потом поучать других. Ибо возникновение
этой идеи совсем другое, даже противоположное у обоих мыслителей; и если
один хоть в общих чертах изучил учение другого, ему надо было пересказать
его своим языком, для того чтобы хоть сколько-нибудь понять его. При этом
же пересказе было бы утрачено как раз самое существенное в этом учении.
Парменид пришел к понятию единства сущего исключительно путем мнимой
логической последовательности и выткал его из понятия бытия и небытия;
Ксенофан же — религиозный мистик, и в своем понимании мистического
единства — настоящий сын шестого столетия. Если он и не был такою
революционною личностью, как Пифагор, все же в своих странствованиях он
руководился тем же стремлением и побуждением – улучшить, очистить,
исцелить людей. Он — учитель нравственности, но стоящий еще на ступени
рапсода; в позднейшее время он стал бы софистом. В смелом осуждении
нравов и взглядов он не имел подобного себе во всей Греции, при этом он не
искал одиночества, подобно Гераклиту или Платону, но выступал перед этой
самой толпой, которую он бичевал с гневом и насмешками,— но все же не
так, как бранящийся Ферсит,— за ее восторженное преклонение перед
Гомером, за страсть к почестям на гимнастических играх, за обоготворение
камней, носящих человеческий образ. В его лице свобода индивида достигает
высшего развития; и в этом почти безграничном пренебрежении ко всем
условностям он стоит гораздо ближе к Пармениду, чем в своем понятии
божественного единства, которое он узрел в состоянии видения, достойном
того столетия, и которое похоже на понятие бытия у Парменида лишь по
названию, по происхождению же с ним не имеет ничего общего.
[223] В совершенно противоположном состоянии был Парменид, открывая
свое учение о бытии. В тот знаменательный день он подверг испытанию свои
взаимодейстуюшие противоположности, страсть и ненависть которых
создают мир и становление,— сущее и не-сущее, положительные и
отрицательные качества — и вдруг недоверчиво повис в воздухе, перед
понятием отрицательного свойства,— не сущего. Может ли то, что не есть,
быть свойством? Или принципиально: может ли то, что не есть,— быть?
Единственная же форма познания, которой мы безусловно доверяем и
уклонение от которой подобно безумию, есть тавтология А = А. Но именно
это тавтологическое познание неумолимо твердило ему: то, что не есть,— не
есть! То, что есть — есть! Внезапно он почувствовал, что громадный грех
против логики отягчает его жизнь; ведь он всегда без колебания принимал,
что существуют отрицательные качества, что вообще существует не-сущее,
83
что — выражаясь формулой — А — не есть А, — все это могло быть лишь
полной ошибкой мышления. Правда, ведь такие ошибки свойственны
огромному большинству человечества, вспомнил он: следовательно, он
принял участие лишь в общем грехе против логики. Но тот же момент,
который обвиняет его в этом преступлении, освещает его вдруг славой
открытия,— он нашел принцип, ключ к мировой тайне, в стороне от
человеческого безумия; теперь он спускается, опираясь на сильную и
грозную руку тавтологической истины бытия вниз, в пропасть вещей.
На дороге туда он встречает Гераклита — несчастная встреча! Именно
теперь, когда он, благодаря строгому разделению бытия и небытия, казалось,
имел уже все в руках,— теперь ему должна была быть глубоко ненавистной
Гераклитова игра противоречий: «мы существуем и одновременно не
существуем», «бытие и небытие одновременно то же самое и не то же самое»
— положение, снова затемнявшее и запутывавшее все то, что он только что
осветил и распутал, раздражало его до бешенства. Он кричал: «Долой людей,
которые на вид о двух головах, на самом же деле ничего не знают! Все у них
течет, не исключая и их мышления! Они дико удивляются вещам, на деле же
они должны быть глухими и слепыми, для того, чтобы так смешивать
противоположности!» Безрассудство массы, прославленное игривыми
противоречиями и поставленное во [224] главе всякого познания, было для
него болезненным и непонятным приключением.
Теперь он погрузился в холодную купель своих ужасных абстракций. То, что
истинно, должно быть вечно,— про него нельзя сказать «оно было», «оно
будет». Сущее не может произойти: ибо из чего бы оно произошло? Из несущего? Но оно не есть и не может ничего породить. Из сущего? Это было
бы не что иное, как производить на свет самого себя. То же самое и с
исчезновением; оно так же невозможно, как и становление, как всякое
изменение, как всякое прибавление, всякое уменьшение. Вообще
установлено положение: все, о чем можно сказать «оно было» или «оно
будет» — не есть; о сущем же никогда нельзя сказать, что «оно не есть».
Сущее неделимо, ибо где другая сила, которая могла бы разделить его? Оно
неподвижно, ибо,— куда оно могло бы двинуться? Оно не может быть ни
бесконечно большим, ни бесконечно малым, ибо оно закончено, а
законченная бесконечность — нелепость. Итак, оно парит, ограниченное,
законченное, неподвижное, повсюду в равновесии и в каждой своей точке
одинаково совершенное, как шар,— но не в пространстве, ибо иначе
пространство было бы вторым сущим. Но многих сущих не может быть, ибо
для того, чтобы их разделить, должно было бы быть то, что было бы
несущим; а это — предположение, само себя уничтожающее. Таким образом,
есть лишь вечное единство.
Если же теперь Парменид снова обращал свой взор на мир становления,
существование которого он раньше пытался понять путем таких
84
глубокомысленных комбинаций, — то он негодовал на свои глаза, что они
видят становление, на уши, что слышат его. «Не доверяйте близорукому
зрению,— так звучит теперь его приказание,— ни гулкому слуху, ни языку,
исследуйте все силою мышления!» Этими словами он произнес впервые
критику органов познания, чрезвычайно важную, хотя еще очень
недостаточную и роковую по своим последствиям, тем, что он отделил друг
от друга чувства и способность абстрактно мыслить, или разум, как будто бы
это были две совершенно чуждые друг другу силы,— он разбил интеллект и
вызвал совершенно ошибочное разделение природы человека на «дух» и
«тело», которое, особенно со времен Платона, как проклятие, лежит на
философии. Все чувственные восприятия,— говорит Парменид,—
обманчивы; и главный их обман в том, что они показывают будто и не-сущее
— есть, и будто становление имеет бытие. Вся множественность и пестрота
эмпирически известного [225] нам мира, смена его качеств, порядок в его
движении,— безжалостно отбрасывается им в сторону, как призрак и
безумие; от них нельзя ничему научиться, и напрасен труд людей,
изучающих этот мир,— ложный, ничтожный, обманно созданный нашими
чувствами. Кто рассуждает так, подобно Пармениду, о всем мироздании,
этим самым перестает быть естествоиспытателем в его частностях; у него
увядает интерес к явлениям, появляется даже ненависть против бессилия
освободиться от этого вечного обмана чувств. Отныне истина должна
обитать лишь в самых отцветших и отдаленных общих положениях, в пустой
шелухе неопределенных слов, как в паутине,— и возле такой «истины» сидит
философ, тоже бескровный, как абстракция, и весь затканный формулами.
Все же паук хочет хоть крови своей жертвы; но философ, в духе Парменида,
именно не выносит крови своей жертвы,— крови, принесенной им в жертву
эмпирии.
11
И это был грек, расцвет деятельности которого приблизительно совпал с
началом ионийской революции! Грек того времени мог бежать из всего
богатого мира действительности, как из пустого, обманного схематизма
фантазии — не так, как Платон в страну вечных идей, в мастерскую творца
мира, для того чтобы наслаждаться непорочными и нерушимыми
первообразами вещей — но в косный смертельный покой холодного, ничего
не говорящего понятия бытия. Будем остерегаться объяснять этот столь
замечательный факт ложными аналогиями. Это бегство не было подобно
бегству от мира индийских философов, для него не требовалось глубокого
религиозного убеждения в испорченности, преходящести и злосчастии всего
существующего; его конечною целью не было углубление в одну
вседовлеющую восхитительную идею, столь загадочную и досадную для
обыкновенного человека. Мышление Парменида не носит на себе следов
того опьяняющего сумрачного тумана Индии, который, может быть, не
85
совсем был не заметен у Пифагора и Эмпедокла: самое удивительное в этом
факте и в это время — именно его ясность, бесцветность, бездушность и
бесформенность, совершенное отсутствие в нем крови, религиозного чувства,
нравственной теплоты, его абстрактная схематичность — и это у эллина! —
больше же всего ужасающая сила стремления [226] к достоверности в этот
век мифического мышления и крылатых фантазий. «Дайте мне только
достоверность, боги!» молится Парменид, «и пусть она будет на море
неопределенности лишь доской, достаточно широкой для того, чтобы на ней
поместиться. Все становящееся,— пышное, пестрое, цветущее, обманчивое,
роскошное, живое,— все это оставьте себе: мне же дайте одну бедную,
пустую достоверность!»
В философии Парменида — первая прелюдия онтологической темы. Опыт не
давал ему нигде такого бытия, какое он себе представлял, но из того, что он
мог его мыслить, он заключил, что оно должно существовать: заключение,
предполагающее, что мы имеем орган познания, который проникает в
сущность вещей и независим от опыта. Вещество нашего мышления, по
учению Парменида, не заключается, в видимости, оно принесено из
внечувственного мира, прямой путь к которому открыт чрез мышление.
Позднее Аристотель против всех подобных заключений заметил, что
существование никогда не может быть сущностью вещей, essentia не может
быть existentia. Именно поэтому из понятия бытия, essentia которого
исключительно только «бытие», нельзя сделать вывода об existentia бытия.
Логическая истина этого противоположения «бытия» и «небытия» —
совершенно пуста, если нет предмета, лежащего в основе его, если
невозможно указать то конкретное, из которого путем абстракции выведено
это противоположение; эта истина, поскольку она получена без основания в
видимости — игра представлений, не дающая ничего для познания. Ибо один
лишь логический критерий истины, как учит Кант,— согласование познания
с общими и формальными законами ума и разума,— хотя и есть conditio sine
qua поп (следовательно, отрицательная причина) всякой истины,— все же
дальше логика уже не может идти, она не может открыть ошибки,
касающейся не формы, а содержания, никаким пробным камнем. Если же
ищут содержания для логической истины противоположения: «то, что есть —
есть; то, что не есть — не есть!» — то нельзя найти ни одного
действительного явления, которое было бы построено согласно ему; я могу
сказать про дерево: «оно есть», по сравнению с другими вещами; «оно
становится» по сравнению с ним же самим в другие моменты его жизни;
«оно не есть», напр.,— «оно еще не дерево» — если я смотрю на куст. Слова
— только символы, указывающие на отношение вещей друг к другу и к нам,
и никоим образом не дают [227] абсолютной истины: и слово «бытие»
означает лишь общее отношение, связывающее все вещи, так же, как и слово
«небытие». Если же нельзя доказать самого существования вещей, то и
86
знание взаимного отношения вещей, так называемое «бытие» и «небытие»,
тоже не приблизит нас ни на шаг к стране истины. Слова и понятия никогда
не помогут нам перейти за стену отношений, найти какую-нибудь сказочную
первооснову вещей и даже в чистых формах чувственного восприятия и
разума — во времени, пространстве и причинности,— мы не находим ничего
похожего на veritas aeterna. Безусловно, невозможно для субъекта познать и
видеть что-либо вне себя, до такой степени невозможно, что познавание и
бытие — совершенно противоположные области. И если Парменид в
неученой наивности современной ему критики интеллекта возымел смелую
надежду из абсолютно субъективного понятия прийти к бытию, то теперь,
после Канта, является полным невежеством, когда здесь и там, особенно
среди плохо осведомленных теологов, которые хотят изображать из себя
философов,— выставляется как задача философии «понять сознанием
абсолютное» хотя бы в форме: «абсолютное существует; как иначе могли бы
его искать?», как это выразил Гегель; или, по формулистике Бенеке «гденибудь дано бытие, где-нибудь оно должно быть достижимым, иначе мы не
имели бы понятия «бытия»!.. Понятие бытия! Как будто не обнаруживается
бедность его эмпирического происхождения уже из самой этимологии слова!
Ибо esse в сущности значит только «дышать» [?]; если человек употребляет
это слово по отношению к другим вещам,— то он переносит убеждение в
том, что он живет и дышит, посредством метафоры,— т. е. совсем
нелогически,— на другие вещи и понимает их существование как дыхание,
по аналогии с человеком. Вскоре первоначальное значение слова
утрачивается: остается только то, что человек представляет себе всякое
существование вещей по аналогии со своим существованием. Даже для
человека, значит независимо от этого перенесения, положение «я дышу
следовательно, есть бытие» совершенно недостаточно и против этого можно
возразить то же, что и против ambulo, ergo sum или ergo est.
12
[228] Другое понятие, более значительное по своему содержанию, чем
понятие сущего, тоже найденное уже Парменидом, хотя не так искусно им
использованное, как его учеником Зеноном — есть понятие бесконечного. Не
может существовать ничего бесконечного, ибо тогда получилось бы
противоречивое понятие законченной бесконечности. Но так как наша
действительность, наш видимый мир повсюду носит характер законченной
бесконечности, то по самому своему существу он является логическим
противоречием, обманом, ложью, призраком. Зенон пользовался методом
косвенного доказательства: он говорил, например: «Не может быть движения
от одного места к другому: ибо если бы таковое было, в нем была бы даже
законченная бесконечность, а это невозможно». Ахилл не может догнать
черепахи, дав ей шаг вперед; ибо для того, чтобы только достигнуть места, с
которого поползла черепаха, ему надо было бы пробежать бесчисленные,
87
бесконечно многие пространства, именно — сначала половину этого
расстояния, затем его четверть, затем восьмую часть, шестнадцатую часть и
так далее, in infinitum. Если же он на самом деле догоняет черепаху, то это не
логическое явление и, следовательно, не истина и не действительность, не
настоящее бытие, а обман. Ибо никогда невозможно окончить бесконечное.
Другой пример, общепонятно поясняющий это учение,— летящая и,
несмотря на это, покоящаяся стрела. В каждое мгновение своего полета она
имеет определенное положение: в этом положении она покоится. Сумма
бесконечных положений покоя будет тождественна с движением? Покой,
повторенный бесконечно, становится движением, своей прямой
противоположностью? Бесконечное здесь служит точно жидкостью для
растворения действительности. Если же понятия незыблемы, вечны и
существуют на самом деле,— а для Парменида бытие и мышление
совпадают,— если таким образом бесконечное никогда не может быть
закончено, если покой не может стать движением, то ясно, что стрела на
самом деле не летела: она не была пущена и не вышла из состояний покоя, не
прошло ни одной минуты времени. Иными словами: в этой так называемой и
все же мнимой действительности нет ни времени, ни пространства, ни
движения. Наконец и сама стрела — один обман, ибо она происходит из
множественности, порождена фантасмагорией [229] не-единого. Допустим,
что стрела имеет бытие: тогда она была бы неподвижной, была бы вне
времени, была бы непроисшедшей, вечной,— невозможное представление!
Допустим, что есть на самом деле время; тогда оно не могло бы быть
бесконечно делимым; время, в течение которого летела стрела, должно было
состоять из ограниченного количества моментов, каждый момент должен бы
был быть неделимым — невозможное представление! Все наши
представления приводят нас к противоречиям, лишь только мы принимаем за
veritas aeterna их содержание, эмпирически данное, почерпнутое из этого
видимого нами мира. Если есть абсолютное движение, то нет пространства;
если есть абсолютное пространство, то нет движения; если есть абсолютное
бытие, то нет множественности. Казалось, можно было видеть, как мало
такие понятия касаются сущности вещей или распутывают узел
действительности; между тем Парменид и Зенон именно и настаивают на
истинности и абсолютности понятий и отвергают весь видимый мир, как
противоположность истинным и абсолютным понятиям, как объективацию
нелогичности и противоречивости. Во всех своих доказательствах они
исходят из совершенно недоказуемого, даже невероятного предположения,
будто в нашей способности образовать понятие мы обладаем решительным
высшим критерием бытия и небытия, то есть действительности и ее
противоположности: эти понятия не должны приспособляться к
действительности,— хотя фактически они выведены из нее,— но, наоборот,
должны быть мерою действительности и, в случае противоречия ее с
88
логикой, должны даже осудить ее. Для того чтобы признать за ними эти
судейские полномочия, Парменид должен был приписать им то бытие,
которое он единственно и считал бытием: мышление и непроисшедший,
совершенный шар бытия уже не считались больше двумя различными
родами бытия, так как не могло быть двойственности бытия. Таким образом,
стало необходимо безмерно отважное утверждение, что мышление и бытие
тождественны; при этом не пришли на помощь никакая форма наглядности,
никакое подобие или символ; утверждение было совершенно недоступным
для представления, но оно было необходимо,— именно в этом отсутствии
наглядности оно праздновало свой высший триумф над миром и над
требованиями чувств. Мышление и бытие,— круглая, мертвая и коснонеподвижная масса,— по приказанию Парменида, к ужасу всякой фантазии,
совпали и стали совершенно одним [230] понятием. Пусть эта
тождественность противоречит чувствам! Именно в этом порука того, что
она не заимствована из области чувств.
13
Впрочем, против Парменида можно было бы еще привести два сильных
аргумента ad hominem или ex concessis, которые хотя еще и не дали бы
истины, но все же доказали бы ложность этого абсолютного разделения мира
чувств и понятий и тождественности бытия и мышления. Во-первых, если
мышление разума в понятиях реально, то и множественность, и движение
должны быть реальны, ибо разумное мышление подвижно, а именно,— оно
движется от понятия к понятию, следовательно, внутри множества
реальностей. Против этого нет возражений: совершенно невозможно
изображать мышление как косное пребывание на одном месте, как вечно
неподвижное мышление единством самого себя. Во-вторых, если через
восприятие чувств мы получаем лишь обман и призрак, на самом же деле
существует лишь тождество бытия и мышления, что же такое тогда сами
наши чувства? Конечно — тоже лишь призрак, так как они не совпадают с
мышлением, а их продукт, чувственный мир, не совпадает с бытием. Но если
чувства — призрак, для кого же они призрак? Как они, не существуя, могут
еще обманывать? He-сущее ведь не может даже лгать. Таким образом,
вопрос, откуда взялись обман и призрак, остается загадкой и даже
противоречием. Мы называем эти возражения argumenta ad hominem —
возражение о подвижности разума и возражение о происхождении
призрачности. Из первого следует реальность движения и множественности,
из второго — невозможность парменидовой призрачности; но при этом
предполагается, что главное учение Парменида — о бытии — можно считать
обоснованным. В основе же его учения лежит лишь одна мысль: лишь сущее
имеет бытие, не-сущее — не есть. И если движение есть такое бытие, то и о
нем можно сказать то же, что о великом бытии и во всяком случае оно не
произошло, оно вечно, нерушимо, не растет и не убывает. Если же удалить из
89
этого мира призрачность,— при помощи вопроса об ее происхождении,—
если вопреки Пармениду признать всю арену нашего так называемого
становления и изменчивости, наше многообразное, беспокойное, пестрое и
богатое существование,— то необходимо характеризовать этот мир [231]
постоянных перемен как сумму действительно и вечно вместе пребывающих
сущностей; об изменении в строгом смысле, о становлении, естественно, и
при этом не может быть и речи. Но теперь множественность имеет истинное
бытие, все качества имеют истинное бытие, а с ними и движение: и о каждом
моменте этого мира,— если даже они разделены тысячелетиями,— можно
было бы сказать: все видимые в нем истинные сущности существуют в нем
одновременно, неизменяемы, неуменьшаемы, без прибавления и без
убавления. Тысячелетием позже этот мир остается тем же самым, ничто в
нем не изменилось. Если же мир не всегда выглядит одинаково, то это не
обман, не призрак, а следствие вечного движения, Истинно существующее
движется то так, то иначе, то вместе, то отдельно, то вверх, то вниз, то в
порядке, то и без порядка.
14
С этим представлением мы уже сделали шаг в область учения Анаксагора.
Он первый в полной силе выставил против Парменида оба возражения — о
подвижности мышления и о происхождении призрачности: но в основной
части своего учения Парменид поработил его, так же как и всех более
поздних философов. Все они отрицают возможность становления и
исчезновения, как себе их представляет народный дух и как их допускали
Анаксимандр и Гераклит, с более глубокой, но все еще недостаточной
осмотрительностью. Отныне считалось бессмысленным это мифологическое
возникновение из ничего, исчезновение в ничем, произвольное превращение
ничего в нечто, этот взаимообмен, это снимание и надевание качеств: но
точно так же и на тех же основаниях отвергалось и возникновение многого из
единого, разнообразных качеств из одного первобытного качества,— короче,
возможность выводить происхождение всего мира из одного первобытного
вещества, как это делали Фалес и Гераклит, Напротив, теперь была
выставлена новая проблема — перенести на видимый мир учение о
непроисшедшем и неисчезающем бытии, не скрываясь за теорией
призрачности и обманчивости наших чувств. Но если эмпирический мир не
призрак, если происхождение вещей нельзя выводить ни из ничего, ни из
чего-либо единого, то эти вещи должны сами обладать истинным бытием, их
вещество и содержание должны быть безусловно реальными и всякое
изменение может происходить [232] лишь в области формы, т. е. положения,
порядка, группировки, смешения и разделения — этих вечных одновременно
пребывающих сущностей. Здесь происходит то же, что и при игре в кости:
кости все время одни и те же, но падая то так, то иначе, они имеют для нас
различное значение. Все прежние теории восходили к первобытному
90
элементу, как к лону и причине всего становления,— будь это вода, воздух,
огонь или «неопределенное» Анаксимандра. Наоборот, Анаксагор
утверждает, что из равного никогда не может выйти неравное и что из
единого сущего нельзя объяснить изменения. Если даже представить себе,
что это вещество разрежается и сплачивается, все же нельзя этим объяснить
основной проблемы: множественности качеств. Но если фактически мир
полон различных качеств, то эти качества,— если они не призрачны,—
должны иметь бытие, т. е. быть вечными, непроисходящими и
неисчезающими и всегда существующими одновременно. Но призрачными
они не могут быть, так как вопрос о происхождении призрачности остается
без ответа и даже в себе самом нарождает свое отрицание. Прежние
исследователи хотели упростить проблему становления, признавая одну
субстанцию, которая носит в себе зародыши великого становления; теперь
же говорят: существует много субстанций, но никогда их не было и не будет
ни больше, ни меньше, никогда не возникают новые. Только движение
перебрасывает их постоянно одну через другую: а что движение истинно, а
не призрачно, это доказал Анаксагор вопреки Пармениду из неоспоримой
последовательности наших представлений в мышлении. Самым
непосредственным образом мы усматриваем истинность движения и
последовательности из того, что мы мыслим и имеем представления. Таким
образом, отвергается косное, покоящееся, мертвое, единое бытие Парменида;
есть много сущностей, и все эти сущности (existentiae, substantiae) находятся
в движении. Изменение есть движение — но откуда происходит движение?
Может быть, это движение не касается самой сущности этих многих
независимых изолированных субстанций,— да и не должно ли оно,— исходя
из строгого понятия бытия,— быть им чуждым? Или оно все-таки присуще
самим вещам? Нам предстоит решить важный вопрос: в зависимости от его
решения мы станем на путь или Анаксагора, или Эмпедокла, или Демокрита.
Затруднительный вопрос должен быть поставлен: если есть много
субстанций и эти многие движутся, то — что их движет? Движут ли они друг
друга [233] взаимно? Или их движет только сила тяготения? Или в самих
вещах действует магическая сила притяжения или отталкивания? Или
причина движения — вне этих многих реальных субстанций? Или,
спрашивая определеннее: если две вещи обнаруживают последовательность,
взаимное изменение положения,— лежит ли причина этого в них самих? И
следует ли объяснять это механически или магически? Или, если это
невозможно, нет ли третьей причины, движущей их? Трудная задача: ибо
Парменид, пожалуй, даже принимая существование многих субстанций, все
же, наперекор Анаксагору, мог бы доказать невозможность движения. А
именно, он мог бы сказать: возьмите две сущности, каждую с совершенно
различным, самостоятельным и безусловным бытием,— а таковы субстанции
Анаксагора,,— именно поэтому они никогда не могут сталкиваться,
91
притягиваться, двигаться, между ними нет никакой причинности, никакого
моста, они не касаются одна другой, не мешают одна другой, не зависимы
одна от другой. Тогда толчок является таким же необъяснимым, как и
магическое притяжение; то, что чуждо чему-либо, не может иметь на него
никакого действия, следовательно не может ни приводить его в движение, ни
само быть им движимым. Парменид добавил бы еще: единственный исход,
который еще остается — это — приписать движение самим вещам: но тогда
все, что вам представляется движением, есть лишь обман, а не истинное
движение, ибо единственное движение, которое было бы еще допустимо для
этих самостоятельных субстанций,— было бы движением их самих по себе,
без всякого воздействия на другие. Вы, однако, именно для того допускаете
движение, чтобы объяснить эти действия перемен, перемещений в
пространстве изменений, короче — причинность и отношение вещей друг к
другу. А именно эти действия ваши не объяснены и остались такими же
проблематичными, как раньше; а раз это так, то непонятно, для чего
необходимо было принять движение, если оно не дает того, чего от него
требуют. Итак, движение не принадлежит к сущности вещей и вечно чуждо
им.
Но противники элейского неподвижного единства решили не обращать
внимания на такую аргументацию, введенные в соблазн предрассудком,
происходящим из восприятия наших чувств. Кажется совершенно
неопровержимым то, что каждое истинное сущее есть тело, занимающее
некоторое пространство, ком материи, большой или [234] маленький, но во
всяком случае пространственно ограниченный: так, что на одном и том же
месте не могут поместиться два или более таких кома. Рассуждая так,
Анаксагор, а позднее Демокрит приняли, что эти комья материи должны
сталкиваться, если они в движении приблизятся друг к другу, что они
заспорят из-за места и что именно этот спор, эта война и причиняет великое
изменение, Другими словами: эти изолированные, совершенно различные и
вечно неизменяемые субстанции все же не были совершенно различными, но
кроме специфических, особенных качеств имели еще один общий субстрат
— они были кусками материи, наполняющей пространство, Поскольку они
составлены из материи, они одинаковы и могут поэтому действовать друг на
друга, т. е. ударяться, Вообще всякое изменение не зависит совершенно от
различного состава этих субстанций, а наоборот — от их сходства. В самой
основе предположения Анаксагора скрыта логическая ошибка: ибо истинно
сущее должно быть безусловным и единым и ничто не может считаться его
причиной — между тем, как все субстанции Анаксагора имеют все же нечто,
обусловливающее их — материю и уже предполагают ее существование:
например, субстанция «красного» для Анаксагора не только была красною
сама по себе, но, кроме того, незаметно, была частью бескачественной
материи. Только в соединении с ней «красное само по себе» воздействует на
92
другие субстанции,— не красностью, а тем, что не красно, не окрашено и
вообще не имеет определенных качеств. Если взять красное лишь строго, как
красное, как субстанцию без того безразличного субстрата, то Анаксагор,
вероятно, не решился бы говорить о воздействии красного на другие
субстанции, да еще, чего доброго, с указанием, что «красное само по себе»
передает дальше движение, полученное им от «тучного самого по себе»
посредством толчка. Тогда было бы ясно, что такое истинно сущее никогда
не может двигаться.
15
Надо взглянуть на противника элеатов, для того чтобы оценить
чрезвычайные преимущества предположения Парменида. Какие затруднения
— которых избежал Парменид — встречаются Анаксагору и всем, которые
верят во множественность субстанций, при вопросе «сколько субстанций?»
Анаксагор сделал прыжок и, закрыв глаза, сказал: [235] «бесконечно много»:
этим он по меньшей мере избавился от невероятно трудного доказательства
определенного количества элементарных веществ. Так как эти вещества,
бесконечно численные, без прибавления и без изменений должны были бы
существовать вечно, то принимая их, допускали противоречивое понятие
замкнутой и законченной бесконечности. Короче, — множественность,
движение, бесконечность, обращенные в бегство его удивительным
положением единого бытия, вернулись из изгнания и бросали в противников
Парменида свои стрелы, наносящие им раны, от которых нет исцеления.
Очевидно, противники Парменида не сознавали ужасной силы элейских
мыслей: «Не может быть времени, движения, пространства, ибо все это мы
можем представлять себе только бесконечным, а именно бесконечно
большим и бесконечно делимым: ко все бесконечное не имеет бытия, не
существует», в чем не сомневается никто, кто понимает смысл слова «бытие»
к кто считает невозможным существование чего-либо противоречивого,—
например абсолютной бесконечности. Но если именно действительность
показывает нам все в форме законченной бесконечности, то бросается в
глаза, что она противоречит сама себе и, следовательно, не имеет никакой
истинной реальности. Если противники элеатов хотели бы возразить им: но и
в вашем мышлении есть последовательность, значит и оно не реально и
ничего не доказывает' — то Парменид может быть ответил бы так же, как
ответил. Кант в подобном случае и на подобный вопрос: «Конечно, я могу
сказать, что мои представления следуют одно за другим: но это значит
только одно: мы сознаем их лишь во временной последовательности, т. е. по
форме нашего внутреннего чувства. Отсюда не следует, что время — нечто
само по себе, не следует также, что оно объективно присущее вещам
определение». Таким образом, следовало бы различать чистое мышление,
которое происходит вне времени подобно Парменидову бытию,— и сознание
этого мышления: последнее же переносит уже мышление в сферу
93
призрачности,— последовательности, множественности и движения. Очень
вероятно, что Парменид воспользовался бы таким соображением: впрочем,
тогда можно было бы возразить ему так же, как А. Спир (Denken und
Wirklichkeit, 2 изд., т. I, стр. 209 сл.) возразил Канту: «Но, во-первых, ясно,
что я не могу знать ничего о последовательности как таковой, если я не
воспринимаю одновременно моим сознанием ее отдельных частей,
следующих одна за другой. Таким образом, само [236] представление
последовательности вовсе не последовательно и, значит, совершенно
отлично от последовательности наших представлений. Во-вторых,
предположение Канта приводит к таким очевидным абсурдам, что
удивительно, как он мог не заметить их. Цезарь и Сократ, согласно этому
положению, не умерли на самом деле, они живут теперь так же, как и две
тысячи лет тому назад; только кажется, что они умерли, благодаря
устройству моего «внутреннего чувства». Будущие люди живут уже теперь, и
если они теперь еще не проявляют себя, как живые, то и в этом виновато
также устройство моего «внутреннего чувства». Здесь следует прежде всего
спросить: каким образом начало и конец сознательной жизни со всеми ее
внутренними и внешними чувствами могут существовать лишь в
представлении нашего внутреннего чувства? В том-то и дело, что ни в каком
случае нельзя отвергать действительность изменения. Если ее выкинуть за
окно, она пробирается через замочную скважину. Пусть говорят: «Мне
только кажется, что состояния и представления изменяются»,— но уже и
самый каз (Schein) есть нечто объективно существующее, и в нем
последовательность без сомнения имеет объективную действительность, и в
нем подлинно одно следует за другим. — Кроме того, надо заметить, что вся
критика разума может иметь основание и быть справедливою лишь при
предположении, что наши представления кажутся нам именно такими,
каковы они на самом деле. Ибо если бы и представления казались нам
иными, чем каковы они действительно есть, то и относительно их нельзя
было бы высказать никакого достоверного утверждения, а, следовательно,
нельзя было бы построить никакой теории познания и никакого
«трансцендентального»
исследования,
имеющего
объективную
достоверность. Теперь же нет никакого сомнения в том, что наши
представления кажутся нам последовательными».
Наличность этой несомненной последовательности и движения привела
Анаксагора к одной замечательной гипотезе. Очевидно, что представления
движутся сами, не подвергаются никаким толчкам и не имеют вне себя
никакой причины своего движения. Таким образом, есть нечто, говорил он
себе, что носит в себе причину и начало движения; затем он заметил, что это
представление движет не только само себя, но и нечто совершенно отличное
— тело. Таким образом, он открывает, путем самого непосредственного
наблюдения, действие представлений на протяженную материю, которая
94
[237] познается нами как их движение. Для него это было фактом; лишь
попутно ему казалось заманчивым объяснить и этот факт. Во всяком случае у
него была руководящая схема для объяснения движения мира, который ему
казался или движением истинных, изолированных сущностей органом
представления — Nus,— или движением при посредстве того, что уже
приведено в движение. Он, очевидно, не заметил того, что последний род
движения — механическое перенесение движений и толчков, при его
основном положении, тоже заключает в себе проблему: общность и
повседневность действия посредством толчка, вероятно, затемнили ему его
загадочность.
Наоборот,
он
чувствовал
проблематичность
и
противоречивость самой природы действия представлений на существующие
сами по себе субстанции и старался поэтому свести и это действие на
механическое столкновение, казавшееся ему ясным. Nus — тоже такая же
существующая сама по себе субстанция; он характеризовал его состоящим из
нежной и легкой материи по специфическим свойствам мышления. При
таком характере Nus'a, конечно, и воздействие этой материи на другие
должно было быть таким же, как воздействие всякой другой субстанции на
третью,— то есть механическим, движущим посредством натиска и толчка.
Как бы то ни было, а он получил теперь субстанцию, которая движется сама
и движет все другое, движение которой не происходит извне и не зависит ни
от кого; наряду с этим, казалось, безразличным, как следует себе представить
это самодвижение — пожалуй, наподобие движения взад и вперед нежных
мелких шариков ртути. Среди всех вопросов, относящихся к движению, нет
более трудного, как вопрос об его начале. Если считать все остальные
движения лишь следствиями и действиями, то все же должно быть объяснено
первоначальное движение; во всяком случае для всех родов механических
движений первое звено цепи должно быть не механическим же движением,
ибо это значило бы вернуться к невозможному понятию causa sui. Равным
образом нельзя приписывать вечным безусловным вещам — движения,
присущего им, как их основное свойство. Ибо движения нельзя представить
себе без направления откуда-нибудь и куда-нибудь; следовательно, оно лишь
отношение и условие; а вещь перестает быть безусловною и существующею
сама по себе, если уже по своей природе она необходимо имеет отношение к
чему-то существующему вне ее. В этом затруднении Анаксагор надеялся
найти помощь и спасение в самодвижущемся [238] и независимом Nus'e:
сущность же его достаточно темна и скрыта, чтобы не дать нам заметить,
что, принимая его, мы снова приходим к запрещенной causa sui. Для
эмпирического мышления даже совершенно ясно, что представление не есть
causa sui, а деятельность мозга; ему кажется удивительной несообразностью
отделять «дух», производное мозга, от его causa и воображать еще, что он
после этого отделения существует. А, между тем, так поступал Анаксагор; он
позабыл о мозге, об его удивитедьной искусности, о нежности и
95
прихотливости его извилин и каналов и провозгласил «дух сам по себе».
Этот «дух сам по себе» имел свободную волю — одна из всех субстанций —
чудное познание! Он мог в определенный момент заняться движением вещей
вне его, бесконечные же, несметные годы заниматься лишь самим собою,—
короче, Анаксагор мог допустить первый момент движения, считая его
зародышем всякого становления, то есть всякого изменения, а именно,
всякого столкновения и перемещения вечных субстанций и их частиц. Если
дух даже и вечен, все же он ни в каком случае не принужден мучить себя
целые века движением частей материи: во всяком случае было время такого
состояния материи — его длительность безразлична,— когда Nus еще не
воздействовал на нее, когда она была еще неподвижна. Это — период
Анаксагорова хаоса.
16
Анаксагоров хаос вовсе не является представлением ясным и очевидным нам
с первого раза: для того, чтобы понять его, надо прежде уяснить себе то
представление, которое наш философ составил себе о так называемом
«становлении». Ибо само по себе состояние всех разнообразных элементов,
предшествующее движению, еще не обязательно сводится к абсолютному
смешению «семян всех вещей», как гласит об этом выражение Анаксагора,—
смешению, которое он сам представлял себе полнейшим, вплоть до
мельчайших частиц, взаимопроникновением; как будто все элементы были
истолчены в ступе, превращены в пыль и рассеяны и теперь в хаосе, как в
кратере, все вместе соприкасались один с другим. Можно было бы сказать,
что это понятие хаоса не заключает в себе ничего необходимого; что скорее
можно допустить любое случайное положение всех этих сущностей, но не
бесконечное их разделение; совершенно было бы достаточно беспорядочное
сосуществование [239], совсем не надо было взаимопроникновения, не
говоря уже о таком полном взаимопроникновении, как в хаосе Анаксагора.
Как же Анаксагор дошел до этого трудного и сложного представления? Как
было уже сказано, вникнув в эмпирически данное становление. Из опыта он
почерпнул, во-первых, в высшей степени удивительное положение о
становлении, а это положение потребовало принять, как свое последствие,
учение о хаосе.
Изучение того, как происходит в природе возникновение,— а не уважение к
какой-нибудь прежней системе,— внушало Анаксагору убеждение, что все
происходит из всего: это было убеждением естествоиспытателя, основанным
на очень разносторонней, но, в своей основе, конечно, очень скудной
индукции. Он доказывал это таким образом: если даже противоположность
может возникнуть из противоположности,— например черное из белого,—
то все возможно; это, однако, случается, например, при превращении белого
снега в черную воду. Питание тела он объяснял тем, что в питательных
веществах незаметно находятся небольшие составные части тела, крови или
96
костей, которые при питании выделяются и смешиваются с однородными им
веществами тела. Но если все может произойти из всего, твердое из жидкого,
жесткое из мягкого, черное из белого, человеческое тело из хлеба,— то все
должно содержаться во всем. Имена вещей выражают только перевес одной
субстанции над другими, входящими в эту вещь в небольших, часто
незаметных количествах. В золоте,— то есть в том, что люди a potiore
обозначают этим именем,— должны заключаться также серебро, снег, хлеб и
мясо, но в совсем незначительных долях; по перевесу же в нем субстанции
золота и целое называется золотом.
Но как же возможно, чтобы одна субстанция получила перевес и наполнила
вещь в большем количестве, чем другие субстанции? Наблюдение
показывает, что этот перевес получается повсюду лишь благодаря движению,
что этот перевес есть результат того процесса, который мы вообще называем
становлением; наоборот, то, что все находится во всем, не есть результат
какого-нибудь процесса, но само является необходимым условием всякого
состояния подвижности и, стало быть, предшествует всякому становлению.
Другими словами: эмпирия учит, что постоянно подобное приближается к
подобному, например посредством пита следовательно, первоначально оно
было не соединено с ним, а существовало отдельно. Наоборот, на наших
глазах [240] подобное всегда выходит из чего-то не подобного ему (напр.,
при питании частицы нашего тела получаются из хлеба); таким образом,
смешение различных субстанций есть древнейшая форма устройства вещей и
по времени предшествующая всякому становлению и движению. Если же,
таким образом, всякое так называемое становление есть выделение,
предполагающее предшествующее смешение разнородных элементов, то
можно только спросить, какую степень первоначально имело это смешение,
этот всеобщий беспорядок. Хотя процесс движения подобного к подобному
— становление — продолжается уже очень долгое время, все же еще и
теперь можно видеть, как во всех вещах заключены остатки и семена всех
других вещей, которые ждут выделения, и как только местами получился
определенный перевес. Первоначальное смешение должно было быть
полнейшим, дойти до смешения бесконечно малых частиц, так как выход
элементов из состояния смешения требует бесконечно большого промежутка
времени. При этом строго придерживаются мысли, что все, что обладает
действительным бытием, делимо до бесконечности и вместе с тем при этом
делении не утрачивает своих специфических качеств.
Согласно
этим
предположениям,
Анаксагор
представляет
себе
первоначальное существование мира подобно массе, состоящей из пылинок,
из бесконечно маленьких точек, каждая из которых совершенно проста и
обладает лишь одним специфическим качеством, причем однако каждое
специфическое качество находится в бесконечно многих отдельных точках.
Эти точки Аристотель назвал гомеомериями, принимая во внимание то, что
97
они — подобные между собою части однородного целого. Все же мы очень
заблуждались бы, если бы отождествили это первобытное беспорядочное
смешение таких точек, таких «семян вещей» с первобытным единым
веществом Анаксимандра, ибо его вещество, «неопределенное» — есть
совершенно однообразная и однородная масса, хаос же Анаксагора —
смешение различных веществ. Правда, можно сказать об этом соединении
веществ то же, что о «неопределенном» Анаксимандра, как это делает
Аристотель: оно не могло быть ни белым, ни серым, ни черным, ни вообще
какого-либо цвета, оно было безвкусно, не имело запаха и в целом не
определялось ни количественно, ни качественно: в этом — сходство
анаксимандрова «неопределенного» и анаксагорова первобытного смешения.
Несмотря, однако, на это отрицательное [241] подобие, в положительных
свойствах они различны тем, что одно сложно, другое — едино. Анаксагор,
благодаря допущению своего хаоса, имел по крайней мере то преимущество
перед Анаксимандром, что избег необходимости выводить многое из
единого, становящееся из сущего. Конечно, он должен был допустить одно
исключение в своем учении о всеобщем смешении семян: Nus никогда не
входил, так же как и теперь не входит, в состав ни одной вещи. Ибо если бы
он был смешан хоть с одним из сущих, то он должен был бы тогда в
бесконечных разделениях обитать во всех вещах. Это исключение очень
рискованно с точки зрения логики, особенно же при описанной раньше
материальной природе Nus'a; оно имеет в себе что-то мифологическое и
кажется нам произвольным, но после предпосылок Анаксагора было строгой
необходимостью. Дух, хотя и делимый до бесконечности, как и всякая другая
материя — (но не посредством других веществ, а только сам по себе),— и
способный становиться то большим, то малым,— имеет от века равную и
однородную массу: и то, что теперь во всем свете (у животных, растений,
людей) является духом, существовало ни в большем, ни в меньшем
количестве, хотя может быть в других сочетаниях, уже целые тысячелетия.
Но где он имел какое-нибудь отношение к другой субстанции, он не
смешивался с ней, но охватывал ее по произволу и, двигая ее и толкая ее куда
хотел, господствовал над ней. Он один во всем мире имеющий движение в
себе, один имеет власть в мире и проявляет ее в движении семян субстанций.
Откуда же он движет их? Или возможно представить себе движение без
направления, без пути? Так же ли произволен сам толчок духа, как и его
время? Короче, господствует ли в области движения случай, т. е. слепая
прихоть? Здесь мы имеем перед собой святая святых в области
анаксагоровых представлений.
17
Что же должно было произойти с этим хаотическим беспорядком
первоначального смешения вещей до начала движения, для того чтобы из
него получился, без всякого прибавления новых субстанций и сил, видимый
98
нами мир с правильными путями звезд, с вечными законами смен времен
года и дня, с его разнообразной красотой и порядком,— короче, чтобы из
хаоса получился космос? Это могло быть лишь следствием движения, но
движения [242] определенного и мудро направленного. Это движение —
орудие Nus'a, цель его — окончательное выделение равного, до сих пор еще
не достигнута, потому что беспорядок и смешение были сначала
бесконечными. К этой цели можно лишь приближаться путем длительного,
необъятного процесса, а не достигнуть ее внезапно — путем
мифологического волшебного удара, если когда-нибудь, после бесконечно
многих веков, все равное соединится вместе, и первобытные вещества, не
разделенные более, расположатся в чудном порядке, если каждая частица
найдет своих друзей и свою родину, если наступит великий мир после этого
разделения и расщепления субстанций и не останется уже ничего
разделенного и расщепленного,— тогда Nus вернется снова к своему
замкнутому самодвижению и не будет уже больше носиться разделенным по
всему миру то большими, то малыми массами, как дух растений и животных,
и наполнять собою материю. Пока задача еще не решена до конца; но самый
род движения, созданный Nus'ом для ее разрешения, обнаруживает
удивительную целесообразность, ибо только благодаря ему с каждой
минутой задача приближается к решению. Это движение имеет характер
концентрически прогрессирующего круговращения: оно началось в какойнибудь точке хаотического смешения в форме небольшого вращения;
постепенно это круговое движение все расширяется и наконец охватывает
все бытие, повсюду побуждая равное сближаться с равным. Сначала это
крутящееся движение сводит вместе все плотное к плотному и тонкое к
тонкому, а также и все темное, светлое, влажное и сухое к равным им: кроме
этих всех рубрик есть еще две, обнимающие собою их все: эфир или все, что
тепло, светло, тонко, и туман (аеr) или все, что темно, холодно, тяжело и
устойчиво. Посредством разделения эфирных масс от «аэрических»
образуется, как действие этого колеса, обегающего все большие и большие
круги, нечто подобное водовороту в стоячей воде: тяжелые части
устремляются в середину и сталкиваются между собою. Также образуется и
здесь смерч, который гонит наружу все эфирное — тонкое и светлое — и
внутрь все состоящее из облачных, тяжелых, сырых частей. При
продолжении этого процесса из собравшейся внутри аэрической массы
образуется вода, из воды — материя земли, из земной материи, под влиянием
ужасных холодов — камни. Некоторые каменные массы, снова охваченные
круговым движением, отрываются от земли и переносятся в область горячего
светлого эфира; там [243] зажженные его огнем, они начинают светиться и
вовлеченные во вращение эфира излучают свет и освещают землю, которая
сама по себе темна и холодна; это солнце и звезды. Вся идея дышит
удивительной простотой и смелостью и не имеет ничего общего с той
99
пестрой и заурядной телеологией, которую часто связывают с именем
Анаксагора. Ее сила и гордость в том, что она выводит весь мир становления
из движущего кругa, между тем как Парменид считал истинно сущее
мертвым, покоящимся шаром. Если этот круг впервые двинут и приведен во
вращение силою Nus'a, то весь порядок, законосообразность и красота мира
являются естественным следствием этого первого толчка. Как несправедливо
поступают с Анаксагором, упрекая его за его мудрое воздержание от
телеологии, сказавшееся в этой его идее, и говорят презрительно об его Nus’е
как о deus ex machine. Напротив, Анаксагор — именно благодаря устранению
чудесного вмешательства, мифологических и теистических элементов и
соответствующей человеческим целям и потребностям сообразности,— мог
бы говорить теми же гордыми словами, как Кант в своей естественной
истории неба. Разве не высока и не прекрасна мысль, сводящая всю красоту
мира и удивительное устройство небесных путей звезд к простому, чисто
механическому движению и как бы движущейся математической фигуре,
стало быть, не к воле и к руке какого-то «бога с машины», а к волнению,
которое, раз начавшись, в своем дальнейшем ходе становится необходимым
и определенным и производит действия, которые подобны мудрейшим
расчетам остроумия и обдуманнейшей целесообразности, на самом деле не
будучи ими.
«Я испытываю удовольствие,— говорит Кант,— видеть без помощи
произвольных построений, как по вечным законам движения возникает
чудное целое, настолько подобное нашей мировой системе, что я не могу
удержаться от того, чтобы не считать его ей. Мне кажется, что можно было
бы, в некотором смысле, сказать без дерзости: «Дайте мне материю, я создам
из нее мир!»
18
Теперь, если даже предположить, что вывод о первоначальном смешении
сделан правильно,— все же, по-видимому, можно возразить некоторыми
механическими соображениями на этот грандиозный набросок мирового
устройства. А именно, если и признать, что дух возбудит в каком-нибудь
[244] месте круговое движение, то все же трудно представить себе
продолжение этого движения, особенно потому, что оно должно быть
бесконечным и касаться постепенно всех тел. A priori следовало бы
продолжать, что давление всей остальной материи должно было остановить
это совсем слабое движение, едва лишь оно возникло; чтобы понять, что
этого не случилось, следует допустить огромную силу действия Nus'a,
возбудившего внезапно движение — силу, подобную вихрю: каковой вихрь
представил себе и Демокрит. И так как этот вихрь должен быть бесконечно
сильным для того, чтобы не остановиться от давящей тяжести всего
бесконечного мира, то он должен быть и бесконечно быстрым, ибо
первоначально сила может проявляться только в быстроте. Напротив, чем
100
шире становятся концентрические круги, тем медленнее становится
движение; если же когда-либо движение достигло бы конца бесконечно
далеко простирающегося мира, оно уже имело бы бесконечно малую
скорость. Наоборот, если мы представляем себе движение бесконечно
большим, то есть бесконечно скорым, каковым оно и должно быть в самом
своем начале, то и первоначальный круг его должен быть бесконечно малым;
мы получаем таким образом в начале движения кружащуюся точку с
бесконечно малым содержанием вещества. Но этим совсем нельзя объяснить
дальнейшего движения: можно было бы представлять себе даже все точки
первоначальной массы кружащимися вокруг своей оси, и все же вся масса
могла бы оставаться неподвижной и нераздельной. А если бы, напротив,
схваченная и приведенная NUS'OM в движение материальная точка
бесконечно малой величины вращалась не вокруг себя самой, но описывала
бы окружность любого диаметра, то этого было бы достаточно для того,
чтобы дать толчок другим материальным точкам, двинуть их дальше,
заставить их сталкиваться и отскакивать и возбудить, таким образом, вокруг
себя всеобщую распрю, первым результатом которой должно явиться то
разделение эфирных масс от аэрических. Подобно тому, как начало движения
— дело произвола Nus'a, так и род его — тоже обусловлен лишь его
прихотью, так как первое движение образует круг, радиус которого
произвольно предположен больше простой точки.
[245]
19
Здесь можно было бы, конечно, спросить, откуда это пришла Nus'y эта
внезапная мысль выбрать из бесчисленного множества точек одну, толкнуть
ее и кружить ее, как в вихре пляски, и почему эта мысль раньше не пришла
ему. На это Анаксагор ответил бы: «Он имеет привилегию произвола, он
имел право начать когда хотел, он зависит лишь от самого себя, между тем
как все другое определено извне. Он не имеет ни обязанностей, ни цели,
которую он был бы принужден преследовать; если он однажды начал свою
деятельность с движения и поставил себе цель, то это была только... ответ
труден, но Гераклит дополнил бы: игра».
Кажется, это решение вопроса всегда было на устах у греков. Анаксагоров
дух — художник, а именно, великий гений механики и зодчества, создающий
с помощью простых средств грандиозные формы и пути и своего рода
подвижную архитектуру, но всегда в силу того произвола, который лежит в
глубине души художника. Анаксагор как будто указывает на Фидия, и глядя
на великое произведение художника, на мир, любуется им как Парфеноном и
восклицает: «Становление — явление не из мира нравственности, но из мира
искусства». Аристотель рассказывает, что Анаксагор на вопрос, почему для
него так ценно существование,— ответил: «Для того, чтобы созерцать небо и
весь порядок мира». Он говорил о физических явлениях с таким
101
благоговением и с такой таинственной радостью, какую мы испытываем
теперь, стоя перед античным храмом; его учение стало своего рода
богослужением свободомыслящего, причем он оберегал себя словами odi
profanum vulgus et arceo и избирал себе последователей осторожно среди
благороднейшего афинского общества. В замкнутой общине афинских
последователей Анаксагора народная мифология допускалась лишь как
символический язык; все мифы, все боги, все герои были здесь только
иероглифами для обозначения сил природы, и даже гомеровский эпос
должен был стать канонической песнею о правлении Nus'a и о сражениях и
законах природы. То здесь, то там голос из этого возвышенного общества
свободомыслящих проникал в народ; и особенно великий — смелый новатор
мысли, Еврипид решался нередко под защитой трагической маски
провозглашать слова, проникавшие как стрелы в душу толпы,— слова, от
которых она освобождалась лишь посредством шутливых карикатур и
смешных перетолкований.
[246] Но самый великий последователь Анаксагора — Перикл, самый
сильный и достойный человек в мире; и именно о нем приводит Платон
свидетельство, что только философия Анаксагора сообщила возвышенный
полет его мысли. Когда он, как оратор, стоял перед своим народом, в
прекрасном спокойствии и неподвижности мраморного олимпийца,
завернутый в свой плащ, не изменяя его драпировки, не изменяя выражения
лица, не улыбаясь, со всегда одинаковым сильным тоном голоса и говорил
совсем не так, как Демосфен, а как мог говорить только Перикл — гремел,
метал молнии, уничтожал и избавлял — тогда он был олицетворением в
малом виде анаксагорова космоса, картиною Nus'a, построившего себе
чудный и достойнейший дом, и, так сказать, видимым воплощением
строящей, движущей, выделяющей, упорядочивающей, все созерцающей
художественно-неопределенной силы духа. Анаксагор сам сказал, что
человек уже потому — разумнейшее существо и потому должен обладать
NUS'OM в большей мере, чем все другие существа, что у него есть такие
удивительные органы, как руки; его вывод, стало быть, был тот, что Nus,
смотря по величине и массе, в какой он овладевал каким-нибудь
материальным телом, создает из его материи орудия, соответствующие
степени его количества,— наиболее прекрасные и целесообразные там, где
он появляется в наибольших размерах. И подобно тому, как самым
удивительным и целесообразным делом Nus'a должно было быть то круговое
первоначальное, движение (так как когда дух еще был неразделенным и
сосредоточенным в себе),— так и действие перикловых речей казалось его
слушателю Анаксагору часто отражением этого кругового движения; ибо и
здесь он видел прежде всего бурный вихрь мыслей, носящийся со страшною
силой, но в порядке, — вихрь, охватывавший своими концентрическими
102
кругами ближних и дальних и преобразовывавший весь народ, направляя и
разделяя его.
Позднейшим философам древности казался удивительным и даже едва
простительным тот произвол, с каким Анаксагор распоряжался своим
NUS'OM для объяснения мира; им казалось даже, что он нашел прекрасное
орудие, но неверно понял его, и они пытались наверстать то, что было
пропущено находчиком. Таким образом, они не понимали, какой смысл
имело отречение Анаксагора, внушенное ему духом чистейшего естественнонаучного метода, который всегда и прежде всего ставит вопрос, откуда
произошло [247] что-либо (causa effidens), а не чего ради оно произошло
(causa finalis). Анаксагор привлекает свой Nus не для решения специального
вопроса: «откуда произошло движение и откуда правильность движений?»
Платон же упрекает его, говоря, что он должен был бы доказать,— но не
сделал этого,— что каждая вещь в своем образе и на своем месте есть
лучшее, прекраснейшее и целесообразнейшее из всего, что только можно
себе представить. Но Анаксагор никогда не решился бы утверждать этого ни
для одного случая; для него видимый мир не был лучшим изо всех
мыслимых, ибо он видел, как каждая вещь возникала из каждой и находил,
что разделение субстанций Nus’ом еще не закончилось ни в наполненном
мировом пространстве, ни в отдельных существах, Для его познавания было
достаточно найти движение, которое в своем простом развитии могло
создать из беспорядочного хаоса видимый порядок, и он остерегался ставить
вопрос, чего ради происходит движение,— вопрос о разумной цели
движения. Ведь если Nus должен был посредством этого движения
выполнить цель, обусловленную самим его существом, то он уже не был
свободен в своем желании начать движение или не начать его; так как он
вечен, он уже от вечности был бы определен этой целью, и тогда не было бы
времени, в течение которого не происходило бы движения, логически было
бы невозможно принять какой-нибудь момент за момент начала движения: а
это сделало бы тоже логически невозможным и представление
первоначального хаоса — фундамент всего анаксагорова понимания мира.
Для того, чтобы избежать подобных трудностей, созданных теологией,
Анаксагор всегда должен был строжайшим образом настаивать на том, что
дух имеет свободную волю; все его действия, а с ним и то первобытное
движение — акты «свободной воли», между тем как, напротив, все остальное
в мире образуется определенно, а именно определенно механически согласно
тому первобытному моменту. Эту абсолютно свободную волю можно
мыслить только бесцельно, почти в роде детской игры или творческого
побуждения художника. Ошибаются люди, приписывающие Анаксагору
обычное у теологов смешение понятий — те, ведь, удивляясь чрезвычайной
целесообразности и согласованности природы,— особенно в органическом
мире,— предполагают, что то, что существует для интеллекта, интеллектом
103
же и порождено, и что то, что он совершает, лишь руководствуясь понятием
цели, должно было и от природы произойти лишь с помощью рассуждений
[248] и сознания цели (Шопенгауэр, Мир как воля и представление, т. II, кн.
2, гл. 26, отн. теологии). Наоборот, по представлению Анаксагора, порядок и
целесообразность вещей именно являются результатом слепого
механического движения; и только для того, чтобы, быть в состоянии
объяснить происхождение этого движения, чтобы когда-нибудь выйти из
мертвенного покоя хаоса, Анаксагор ввел свой Nus, обладающий свободной
волей и зависящий только от себя. В нем он ценил именно возможность
поступать согласно своим желаниям и действовать без всяких ограничений и
определений — ни со стороны причин, ни со стороны целей.
II
НАБРОСКИ,
ПРОДОЛЖЕНИЯ
(Начало 1873)
1
Что такое понимание учения Анаксагора в общем должно быть правильным,
яснее всего доказывается тем, что последователи Анаксагора —
агригентинец Эмпедокл и учитель атомистики Демокрит — в своих
системах, выставленных в противовес системе Анаксагора, фактически лишь
критиковали ее и местами вносили улучшения. Метод этой критики —
прежде всего упорное отречение в духе естественно-научного исследования,
перенесение закона бережливости на объяснение природы. Должна иметь
преимущество гипотеза, объясняющая данный нам мир с наименьшим
количеством предположений: ибо в ней наименее произвола, и она запрещает
себе свободную игру с необходимостями. Если даны две гипотезы,
объясняющие мир, то необходимо строго испытать, которая из них больше
удовлетворяет закону бережливости. Кто может обойтись простейшими и
наиболее знакомыми силами — скорее всего силами механики, кто объясняет
видимое нами здание мира при участии наименьшего количества сил, всегда
будет предпочтен тому, кто приписывает более сложным и менее известным
силам, и притом в большем количестве, мирозиждительную игру. Таким
образом, мы видим, что [249] Эмпедокл старается устранить из учения
Анаксагора избыток гипотез.
Как первая не необходимая гипотеза должна пасть гипотеза Анаксагорова
Nus'a, ибо она слишком тяжела для того, чтобы объяснить такое простое
явление, как движение. Ведь нужно объяснить только два рода движения —
движение, приближающее один предмет к другому, и движение, удаляющее
один предмет от другого.
2
Если нынешнее наше становление есть выделение, хотя и не совершенное, то
— спрашивает Эмпедокл: — что мешает полному выделению?
Следовательно, есть противодействующая сила, скрытая сила притяжения.
104
Затем: для того, чтобы объяснить тот хаос, надо допустить, что раньше
действовала уже одна сила,— движение, необходимое для тесного сплетения
элементов в хаосе.
Таким образом, установлено, что существует периодический перевес то той,
то другой силы. Эти же силы противоположны.
Сила аттракции действует до сих пор: ибо иначе не было бы никаких вещей,
все было бы разделено.
Это и есть факт: два рода движения. Nus их не объясняет. Наоборот —
любовь и ненависть: что они движут, так же очевидно нам, как и то, что
движется Nus.
Таким образом, изменяется понимание первобытного состояния мира: оно
было самым блаженным. У Анаксагора это был хаос перед началом
постройки, груда камней на месте, где она производится.
3
Эмпедокл уловил идею центробежной силы, возникающей вследствие
вращения и противодействующей силе тяжести (de coelo I, стр. 284,
Шопенгауэр, Мир как воля и представление II, 390).
Он считал невозможным допустить, по Анаксагору, продолжение кругового
движения. То был бы вихрь — противоположность всякому планомерному
движению.
Если бы частицы были бесконечно перемешаны между собою, тела можно
было бы разбивать без всякого [250] напряжения силы, они не обладали бы
силою сцепления, были бы подобны пыли.
Те силы, которые придавливают атомы один к другому и придают материи
плотность, Эмпидокл называет «любовью». Это — молекулярная сила,
конститутивная сила тел.
4
Против Анаксагора.
1. Хаос предполагает уже движение.
2. Ничто не мешало полному выделению,
3. Наши тела были бы образованиями из пыли. Как может существовать
движение, если не во всех телах есть противодействующее движение?
4. Невозможно планомерное круговое движение: возможен лишь вихрь. Этот
вихрь он считает действием
. Как действуют друг на друга
отдаленные тела, напр., солнце на землю? Если бы все было еще в состоянии
вихря, это было бы невозможно. Таким образом, надо принять по меньшей
мере две движущие силы, которые должны быть в самих вещах.
5. Зачем бесконечные
? Они не даны опытом. Анаксагор думал о
химических атомах. Эмпедокл пробовал принять четыре рода химических
атомов. Он считал состояния сплоченности (твердое, жидкое и т. д.)
сущностными и теплород чем-то координированным. Таким образом —
105
состояния сплоченности благодаря притяжению и оттолкновению; материя в
четырех видах.
6. Периодичность необходима.
7. Следуя тому же принципу, Эмпедокл изучал и живые существа. И здесь он
отрицает целесообразность, Это — его величайшее дело. У Анаксагора —
дуализм.
5
Символика половой любви. Здесь, как в платоновской притче, проявляется
страсть к совместному бытию, обнаруживается, что некогда уже
существовало большее единство: если бы это большее единство вновь было
восстановлено, оно начало бы стремиться к еще большему, Убеждение в
единстве всего живого предполагает, что некогда было неизмеримо большое
живое существо, которого части — мы: это, вероятно, сам «сфер». Это —
блаженнейшее божество. Все было связано только любовью, следовательно,
в высшей [251] степени целесообразно. Но оно было разбито и расщеплено
ненавистью, разложено на свои элементы и, вследствие этого, умерщвлено,
лишено жизни. В вихре не возникают живые особи. Наконец все разделено, и
тогда начинается наш период. (Он противопоставляет анаксагорову
первобытному смешению первобытное раздвоение.) Любовь слепая, какою
она бывает всегда, с яростной поспешностью бросает элементы один к
другому, пытаясь оживить их. Местами это удается и продолжается дальше.
В оживленных существах возникает предчувствие, что они должны
стремиться к дальнейшим объединениям, как к своей родине и к своему
первобытному состоянию. Эрот. Великое преступление — убивать жизнь,
ибо поступающий так, снова стремится к первобытному разделению. Когданибудь все должно стать единою жизнью, блаженнейшим состоянием.
Пифагорейско-орфическое учение в естественно-научном истолковании:
Эмпедокл владеет сознательно обоими способами выражения, потому он —
первый ритор. Политические цели.
Двойная натура — борющаяся и любящая, сострадательная.
Попытка обще-эллинской реформы.
Всякая неорганическая материя произошла из органической, это — мертвая
органическая материя. Труп и человек.
6
Демокрит.
Возможное упрощение гипотез:
1. Существует движение, следовательно, есть и пустое пространство, есть и
не-сущее. Мышление есть движение.
2. Если есть сущее, оно должно быть неделимым,т, е. абсолютно
наполненным. Разделение объяснимо только при существовании (пустых
пространств) пор. Абсолютно пористая вещь есть только не-сущее.
106
3. Второстепенные качества материи принадлежат ей
, не присущи ей
самой.
4. Определение первичных свойств атомов; в чем одинаковы, в чем
различны?
5. Состояние сплоченности у Эмпедокла (4 элемента) предполагают только
одинаковость атомов; таким образом, сами не могут быть
.
[252] 6. Движение неразделимо связано с атомами,— действие силы тяжести.
Эпикур. Критика: что такое тяжесть в бесконечном пустом пространстве?
7. Мышление — движение атомов огня. Душа, жизнь, чувственные
восприятия.
***
Ценность материализма и его недоуменность.
Платон и Демокрит.
Благородный исследователь — скиталец, не имеющий родины.
Демокрит и пифагорейцы вместе открывают основание естественных наук.
***
Какие причины в древности после Демокрита прервали здоровый рост
экспериментальной физики?
7
Анаксагор заимствовал у Гераклита представление, что в каждом
становлении и бытии существуют одновременно противоположности.
Он чувствовал несообразность того, что каждое тело имеет много свойств, и
распылил его, думая, что этим он разделил его на его настоящие качества.
***
Платон: сначала последователь Гераклита, последовательный скептик: все
течет, не исключая и мышления.
Благодаря Сократу пришел к мысли о постоянстве благого, прекрасного.
И то и другое он считает сущим.
В идее добра и красоты участвуют все родовые понятия, и, поэтому, они
тоже — сущие (как душа участвует в идее жизни). Идея не имеет образа.
Учение Пифагора о переселении душ отвечает на вопрос: каким образом мы
можем знать что-либо об идеях?
Конец Платона: (скептицизм) в «Пармениде». Опровержение учения об
идеях.
[253]
8
Заключение
Мышление греков в трагическую эпоху — пессимистично, или
художественно-оптимистично.
Их суждение о жизни более содержательно. Единое: бегство от становления.
Или единство, или игра художника.
107
Глубокое недоверие к реальности: никто не допускает существования
благого бога, создавшего все optime. Пифагорейцы — религиозная секта.
Анаксимандр. Эмпедокл. Элеаты.
Анаксагор. Гераклит.
Демокрит: мир, не имеющий ни нравственного, ни эстетического значения;
пессимизм случайности.
Если бы перед всеми ними разыграть какую-нибудь трагедию, то три первые
признали бы ее отражением злосчастия существования, Парменид —
преходящим призраком, Гераклит и Анаксагор — творением художника и
отпечатком мировых законов, Демокрит — результатом механического
движения.
***
С Сократа начинается оптимизм, уже более не художественный, с теологией
и верой в благого Бога: вера в знающего доброго человека. Уничтожение
инстинктов.
Сократ порывает с существовавшими до него наукой и культурой, он хочет
вернуться к прежней гражданской доблести и к государству.
Платон отходит от государства, заметив, что оно тождественно с новой
культурой.
Сократовский скептицизм — оружие против существовавшей до него
культуры и науки.
Платон
Гиппий Больший.
Сократ, Гиппий
Сократ. Гиппий, славный и мудрый, наконец-то ты прибыл к нам в Афины!
Гиппий. Все недосуг, Сократ. Всякий раз, как Элиде нужно бывает вести
переговоры с каким-нибудь государством, она обращается ко мне прежде,
чем к кому-нибудь другому из граждан, и выбирает меня послом, считая
наиболее подходящим судьею и вестником тех речей, которые обычно
произносятся от каждого из государств. Много раз я бывал послом в
различных государствах, чаще же всего и по поводу самых многочисленных
и важных дел - в Лакедемоне. Это-то и есть мой ответ на твой вопрос, ведь я
не часто заезжаю в ваши места.
Сократ. Вот что значит, Гиппий, быть поистине мудрым и совершенным
человеком. Ведь ты умеешь и в частной жизни, беря с молодых людей
большие деньги, приносить им пользу еще большую, чем эти деньги; с
другой стороны, ты и на общественном поприще умеешь оказывать
благодеяния своему государству, как и должен поступать всякий, кто не
желает, чтобы его презирали, а, напротив, хочет пользоваться доброй славой
среди народа. Однако, Гиппий, какая причина того, что древние мужи,
108
прославившие свои имена мудростью, - и Питтак, и Биант, и последователи
милетянина Фалеса, да и позднее жившие, вплоть до Анаксагора, - все или
большинство из них, по-видимому, держались в стороне от государственных
дел?
Гиппий. Какая же, Сократ, иная причина, если не та, что они были не в силах
и не способны обнять разумом и то и другое - дела общественные и дела
частные?
Сократ. Значит, клянусь Зевсом, подобно тому как все остальные искусства
сделали успехи и по сравнению с нынешними старые мастера плохи, то же
самое придется сказать и о вашем искусстве - искусстве софистов: оно
сделало успехи, а мудрецы из древних плохи по сравнению с вами.
Гиппий. Совершенно правильно.
Сократ. Следовательно, Гиппий, если бы у нас ожил теперь Биант, то,
пожалуй, вызвал бы у вас смех, все равно как о Дедале говорят ваятели, что,
появись он теперь и начни исполнять такие же работы, как те, которые
создали ему имя, он был бы смешон.
Гиппий. Все это так, как ты говоришь, Сократ. Однако я все-таки
обыкновенно древних и живших прежде нас восхваляю в первую очередь и
больше, чем нынешних, так как остерегаюсь зависти живых и боюсь гнева
мертвых.
Сократ. Ты, Гиппий, по-моему, прекрасно говоришь и рассуждаешь, и я
могу подтвердить правильность твоих слов. Действительно, ваше искусство
сделало успехи в том, что дает возможность заниматься и общественными
делами наряду с частными. Ведь вот Горгий, леонтинский софист, прибыл
сюда со своей родины в общественном порядке, как посол и как человек,
наиболее способный из всех леонтинян к общественной деятельности; он и в
Народном собрании оказался отличным оратором, и частным образом,
выступая с показательными речами и занимаясь с молодыми людьми,
заработал и собрал с нашего города большие деньги, с Если угодно, то и наш
приятель, известный Продик, часто и раньше приезжал сюда по
общественным делам, а в последний раз, недавно, приехав с Кеоса по такого
же рода делам, очень отличился своей речью в Совете , да и частным
образом, выступая с показательными речами и занимаясь с молодыми
людьми, получил удивительно много денег. А из тех, древних, никто никогда
не считал возможным требовать денежного вознаграждения и выставлять
напоказ свою мудрость пред а всякого рода людьми. Вот как они были
просты! Не заметили, что деньги имеют большую цену. Из этих же двух
мужей каждый заработал своей мудростью больше денег, чем другие мастера
каким угодно искусством, а еще раньше них - Протагор.
Гиппий. Ничего-то ты, Сократ, об этом по-настоящему не знаешь! Если бы
ты знал, сколько денег заработал я, ты бы изумился! Не говоря об остальном,
когда я однажды прибыл в Сицилию, в то время как там в находился
109
Протагор, человек прославленный и старший меня по возрасту, я все-таки,
будучи много его моложе, в короткое время заработал гораздо больше ста
пятидесяти мин, да притом в одном только совсем маленьком местечке,
Инике, больше двадцати мин. Прибыв с этими деньгами домой, я отдал их
отцу, так что и он, и все остальные граждане удивлялись и были поражены. Я
думаю, что заработал, пожалуй, больше денег, чем любые два других
софиста, вместе взятые.
Сократ. Ты, Гиппий, приводишь прекрасное и важное доказательство
мудрости и своей собственной, и вообще нынешних людей,- насколько же
они отличаются ею от древних! Велико было, по твоим словам, невежество
людей, живших прежде. С Анаксагором произошло, говорят, обратное тому,
что случается с вами: ему достались по наследству большие деньги, а он по
беззаботности все потерял - вот каким неразумным мудрецом он был! Да и об
остальных живших в старину рассказывали подобные же вещи. Итак, мне
кажется, ты приводишь прекрасное доказательство мудрости нынешних
людей по сравнению с прежними. Многие согласны в том, что мудрец
должен быть прежде всего мудрым для себя самого. Определяется же это так:
мудр тот, кто заработал больше денег. Но об этом достаточно. Скажи мне вот
что: ты-то сам в каком государстве из тех, куда заезжаешь, заработал больше
денег? Видно, в Лакедемоне, где бываешь чаще всего?
Гиппий. Нет, Сократ, клянусь Зевсом!
Сократ. Да что ты? Значит, в Лакедемоне меньше всего? с Гиппий. Я там
вообще никогда ничего не получал. Сократ. Странные вещи говоришь ты,
Гиппий, удивительные! Скажи мне: разве не в состоянии твоя мудрость
делать более добродетельными тех, кто следует и учится ей?
Гиппий. И даже очень.
Сократ. Значит, сыновей иникян ты был в состоянии сделать лучшими, а
сыновей спартиатов нет?
Гиппий. Далеко до этого.
Сократ. Тогда, стало быть, сицилийцы стремятся стать" лучшими, а
лакедемоняне - нет?
Гиппий. И лакедемоняне очень стремятся, Сократ.
Сократ. Может быть, они избегали общения с тобой из-за недостатка денег?
Гиппий. Нет, конечно, денег у них достаточно.
Сократ. Какая же причина, что, хотя у них есть и желание, и деньги, а ты мог
помочь им в самом важном, они отпустили тебя не нагруженным деньгами?
Ведь невероятно же, чтобы лакедемоняне могли воспитывать своих детей
лучше, чем это можешь ты? Или это так и ты с этим согласен?
Гиппий. Никоим образом.
Сократ. Быть может, ты не сумел убедить молодых людей в Лакедемоне, что
через общение с тобой они преуспеют в добродетели больше, чем если будут
общаться со своими? Или ты не мог убедить отцов этих молодых людей, что,
110
если только они пекутся о своих сыновьях, им следует скорее поручать их
тебе, чем самим о них заботиться? Ведь не из зависти же отцы мешали своим
детям стать как можно лучше?
Гиппий. Не думаю, чтобы из зависти.
Сократ. Лакедемон, конечно, имеет хорошие законы?
Гиппий. Еще бы!
Сократ. А в государствах с хорошим законодательством выше всего ценится
добродетель?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Ты же умеешь прекраснее всех людей преподавать ее другим.
Гиппий. Именно прекраснее всех, Сократ!
Сократ. Ну а тот, кто прекраснее всех умеет преподавать искусство верховой
езды, не в Фессалии ли он будет пользоваться почетом больше, чем где бы то
ни было в Элладе, и не там ли получит больше всего денег, равно как и во
всяком другом месте, где ревностно занимаются этим?
Гиппий Вероятно.
Сократ. А тот, кто может преподать драгоценнейшие знания, ведущие к
добродетели, разве не в Лакедемоне будет пользоваться наибольшим
почетом? Разве не там заработает он больше всего денег, если пожелает,
равно как и в любом эллинском городе из тех, что управляются хорошими
законами? Неужели ты думаешь, друг мой, что это будет скорее в Сицилии, в
Инике? Поверим ли мы этому, Гиппий? Но если прикажешь, придется
поверить.
Гиппий. Все дело, Сократ, в том, что изменять законы и воспитывать
сыновей вопреки установившимся обычаям несогласно у лакедемонян с
заветами отцов.
Сократ. Что ты говоришь! У лакедемонян несогласно с заветами отцов
поступать правильно, а надо ошибаться?
Гиппий. Этого, Сократ, я бы не сказал.
Сократ. Но разве они не поступали бы правильно, если бы воспитывали
молодежь лучше, а не хуже?
Гиппий. Правильно, но у них несогласно с законами давать чужеземное
воспитание. Знай твердо: если бы кто другой когда-либо получал от них
деньги за воспитание, то и я получил бы их, и гораздо больше всех; по
крайней мере они бывают рады и слушать меня, и хвалить, но, повторяю, нет
у них такого закона.
Сократ. Как ты скажешь, Гиппий, вред ли или польза для государства закон?
Гиппий. Устанавливается закон, я думаю, ради пользы; иногда же он
приносит и вред, когда его плохо установили.
Сократ. Так что же? Разве те, кто устанавливает закон, не устанавливает его
как наибольшее благо для государства? И без этого разве можно жить по
закону?
111
Гиппий. Ты говоришь правду.
Сократ. Итак, когда те, кто пытается устанавливать законы, погрешают
против блага, они погрешают против того, что законно, и против закона. Что
ты скажешь на это? в
Гиппий. Говоря строго, Сократ, это так; однако обычно люди этого так не
называют.
Сократ. Какие люди, Гиппий? Знающие или незнающие?
Гиппий. Большинство.
Сократ. А знает ли это большинство истину?
Гиппий. Нет, конечно.
Сократ. Но ведь люди знающие считают более полезное поистине более
законным для всех людей, чем то, что менее полезно; или ты с этим не
согласен?
Гиппий. Я согласен, что это действительно так.
Сократ. А не бывает ли это на самом деле и не происходит ли это так, как
считают знающие люди?
Гиппий. Разумеется.
Сократ. Но ведь для лакедемонян, как ты говоришь, на самом деле полезнее
получать воспитание, которое можешь дать ты, хотя оно и чужеземное,
нежели воспитание, принятое у них в стране.
Гиппий. И верно говорю.
Сократ. Что более полезное более законно, ведь ты и это утверждаешь,
Гиппий?
Гиппий. Я же сказал.
Сократ. Итак, по твоим словам, для сыновей лакедемонян воспитание,
даваемое Гиппием, более законно, а воспитание, даваемое их отцами,- менее,
если только эти сыновья действительно получат от тебя больше пользы.
Гиппий. Конечно, они получат пользу, Сократ
Сократ. Следовательно, лакедемоняне поступают вопреки закону, когда не
платят тебе денег и не поручают тебе своих сыновей?
Гиппий. С этим я согласен; мне кажется, ты говоришь в мою пользу, и мне
вовсе не приходится возражать.
Сократ. Итак, друг мой, мы находим, что лакедемоняне нарушают законы,
причем нарушают их в самом существенном, хотя и кажутся очень
законопослушными. Но ради богов, Гиппий, что же именно они рады бывают
слушать и за что тебя хвалят? Очевидно, за то, что ты лучше всего знаешь,за науку о звездах и о небесных явлениях?
Гиппий. Нисколько; такой науки они и вовсе не выносят.
Сократ. А о геометрии они рады бывают слушать?
Гиппий. Никоим образом, потому что и считать-то, собственно говоря,
многие из них не умеют. Сократ. Значит, они далеки от того, чтобы слушать
твои речи о вычислениях?
112
Гиппий. Очень далеки, клянусь Зевсом.
Сократ. Но уж конечно, они рады бывают слушать о том, что ты умеешь
разбирать точнее всех: о значении букв и слогов, ритмов и гармоний?
Гиппий. Каких там гармоний и букв, мой добрейший?!
Сократ. Но о чем же они тогда слушают с удовольствием и за что тебя
хвалят? Скажи мне сам, так как я не догадываюсь.
Гиппий. О родословной героев и людей, Сократ, о заселении колоний, о том,
как в старину основывались города,- одним словом, они с особенным
удовольствием слушают все рассказы о далеком прошлом, так что из-за в них
я и сам вынужден был очень тщательно все это изучить.
Сократ. Да, Гиппий, клянусь Зевсом, счастлив ты, что лакедемонянам не
доставляет радости, если кто может перечислить им наших архонтов,
начиная с Солона, не то тебе стоило бы немало труда выучить все это.
Гиппий. Почему, Сократ? Стоит мне услышать подряд пятьдесят имен, и я
их тотчас же запоминаю.
Сократ. Это правда, а я-то и не сообразил, что ты владеешь искусством
запоминания; теперь я понимаю: лакедемонянам потому и следует встречать
тебя с радостью, что ты знаешь многое; они и обращаются к тебе, как дети к
старухам, чтобы послушать занимательные рассказы.
Гиппий. И в самом деле, Сократ, клянусь Зевсом, недавно я там имел успех,
когда разбирал вопрос о прекрасных занятиях, которым должен предаваться
молодой человек. У меня, надо сказать, есть превосходно составленная речь
об этом; она хороша во всех отношениях, а особенно своим способом
выражения. Вступление и начало моей речи такое: "Когда взята была Троя,говорится в речи,- Неоптолем спросил Нестора, какие занятия приносят
юноше наилучшую славу". После этого говорит Нестор и излагает ему
великое множество прекраснейших правил. С этой речью я выступил в
Лакедемоне, да и здесь предполагаю выступить послезавтра, в школе
Фидострата, равно как и со многими другими речами, которые стоит
послушать; меня просил об этом Евдик, сын Апеманта. Но ты и сам должен
быть при этом, и других привести, которые сумели бы, выслушав речь, ее
оценить.
Сократ. Так и будет, Гиппий, если богу угодно! А теперь ответь мне кратко
вот что - ты как раз вовремя напомнил мне: надо тебе сказать, любезнейший,
что недавно, когда я в каком-то разговоре одно порицал как безобразное, а
другое хвалил как прекрасное, некий человек поставил меня в трудное
положение тем, что задал мне, и весьма дерзко, примерно такой вопрос:
"Откуда тебе знать, Сократ,- сказал он,- что именно прекрасно и что
безобразно? Давай-ка посмотрим, можешь ли ты сказать, что такое
прекрасное?" И я, по своей простоте, стал недоумевать и не мог ответить ему
как следует; а уходя после беседы с ним, я сердился на себя, бранил себя и
грозился, что в первый же раз, когда повстречаюсь с кем-нибудь из вас,
113
мудрецов, я расспрошу его, выучусь, старательно запомню, а потом снова
пойду к тому, кто мне задал тот вопрос, и с ним расквитаюсь. Теперь же,
говорю я, ты пришел вовремя и должен научить меня как следует, что. же это
такое - само прекрасное? Постарайся в своем ответе сказать мне это как
можно точнее, чтобы я, если меня изобличат во второй раз, снова не вызвал
смеха. Ведь ты-то это определенно знаешь, и, разумеется, это лишь малая
доля твоих многочисленных знаний.
Гиппий. Конечно, малая, Сократ, клянусь Зевсом, можно сказать,
ничтожная.
Сократ. Значит, я легко научусь, и никто меня больше не изобличит.
Гиппий. Разумеется, никто, ведь иначе я оказался бы ничтожным невеждой.
Сократ. Клянусь Герой, хорошо сказано, Гиппий, лишь бы нам одолеть того
человека! Но не помешать бы тебе, если я стану подражать ему и возражать
на твои ответы, чтобы ты поточнее научил меня. Я ведь довольно опытен в
том, что касается возражений. Поэтому, если тебе все равно, я буду тебе
возражать, чтобы получше выучиться.
Гиппий. Ну что ж, возражай! Ведь, как я только что сказал, вопрос этот
незначительный, я мог бы научить тебя отвечать на вопросы гораздо более
трудные, так что ни один человек не был бы в состоянии тебя изобличить.
Сократ. Ах, хорошо ты говоришь! Прекрасное - Но давай, раз ты сам
велишь, я стану, это не отдельные совсем как тот человек, задавать тебе
вопросы. Дело в том, что если бы ты и не формы жизни произнес перед ним
ту речь, о которой говоришь,- речь о прекрасных занятиях, то он, выслушав
тебя, лишь только ты кончишь говорить, спросил бы прежде всего о самом
прекрасном - такая уж у него привычка - и сказал бы так: с "Элидский гость,
не справедливостью ли справедливы справедливые люди?" Отвечай же,
Гиппий, как если бы он спрашивал тебя.
Гиппий. Я отвечу, что справедливостью.
Сократ. "Итак, справедливость что-то собой представляет?"
Гиппий. Конечно.
Сократ. "А не мудростью ли мудры мудрецы, и не в силу ли блага бывает
благим все благое?"
Гиппий. Как же иначе?
Сократ. "И все это в силу чего-то существует? Ведь не есть же это ничто".
Гиппий. Конечно, это есть нечто.
Сократ. "Так не будет ли и все прекрасное прекрасным благодаря
прекрасному?"
Гиппий. Да, благодаря прекрасному.
Сократ. "И это прекрасное есть нечто?"
Гиппий. Нечто. Чем же ему и быть?
Сократ. "Так ответь мне, чужеземец,-скажет он,- что же такое это
прекрасное?"
114
Гиппий. Значит, Сократ, тот, кто задает этот вопрос, желает узнать, что
прекрасно?
Сократ. Мне кажется, нет; он хочет узнать, что такое прекрасное, Гиппий.
Гиппий. А чем одно отличается от другого?
Сократ.
Гиппий. Разумеется, ничем.
Сократ. Ну что же, наверно, тебе виднее. Однако смотри, дорогой мой: он
ведь тебя спрашивает не о том, что прекрасно, а о том, что такое прекрасное.
Гиппий. Понимаю, любезный, и отвечу ему, что такое прекрасное, и уж ему
меня не опровергнуть. Знай твердо, Сократ, если уж надо говорить правду:
прекрасное - это прекрасная девушка.
Сократ. Прекрасный и славный ответ, Гиппий, клянусь собакой! Не правда
ли, если я так отвечу, я дам ответ на вопрос, и ответ правильный, и уж меня
тогда не опровергнуть?
Гиппий. Да как же тебя опровергнуть, Сократ, когда все так думают, и все,
кто это услышит, засвидетельствуют, что ты прав.
Сократ. Пусть так, хорошо! Но, Гиппий, дай-ка я снова повторю себе, что ты
сказал. Тот человек спросит меня приблизительно так: "Ну, Сократ, отвечай
мне: все, что ты называешь прекрасным, будет прекрасным если существует
прекрасное само по себе?" Я же скажу: "Если прекрасная девушка - это
прекрасно, тогда она и есть то, благодаря чему прекрасное будет прекрасно".
Гиппий. Так ты думаешь, он еще будет пытаться тебя опровергнуть,
утверждая, что то, о чем ты говоришь, не прекрасно? Разве он не будет
смешон, если сделает такую попытку?
Сократ. Что он сделает попытку, в этом я уверен, странный ты человек! А
будет ли он смешон, сделав эту попытку, покажет будущее. Я хочу только
заметить, что он на это скажет.
Гиппий. Говори же.
Сократ. "Хорош же ты, Сократ! - скажет он.- Ну а разве прекрасная
кобылица, которую сам бог похвалил в своем изречении, не есть
прекрасное?" Что мы на это скажем, Гиппий? Не то ли, что и кобылица есть
прекрасное,- я разумею прекрасную кобылицу? Как же нам дерзнуть
отрицать, что прекрасное есть прекрасное?
Гиппий. Ты верно говоришь, Сократ, ибо правильно сказал об этом бог; ведь
кобылицы у нас бывают прекраснейшие.
Сократ. "Пусть так,- скажет он,- ну а что такое прекрасная лира? Разве не
прекрасное?" Подтвердим ли мы это, Гиппий?
Гиппий. Да.
Сократ. После тот человек скажет (я в этом почти уверен и заключаю из
того, как он обычно поступает): "Дорогой мой, а что же такое прекрасный
горшок? Разве не прекрасное?"
115
Гиппий. Да что это за человек, Сократ? Как не- а воспитанно и дерзко
произносить столь низменные слова в таком серьезном деле!
Сократ. Такой уж он человек, Гиппий, не изящный, а грубоватый, и ни о чем
другом не заботится, а только об истине. Но все-таки надо ему ответить, и я
заранее заявляю: если горшок вылеплен хорошим гончаром, если он гладок,
кругл и хорошо обожжен, как некоторые горшки с двумя ручками из тех
прекрасных во всех отношениях горшков, что обычно вмещают шесть
кружек,- если спрашивают о таком горшке, надо признать, что он прекрасен.
Как можно не назвать прекрасным то, что прекрасно?
Гиппий. Никак нельзя, Сократ.
Сократ. "Так не есть ли,-скажет он,-и прекрасный горшок - прекрасное?
Отвечай!"
Гиппий. Так оно, я думаю, и есть, Сократ. Прекрасен и этот сосуд, если он
хорошо сработан, но в целом все это недостойно считаться прекрасным по
сравнению с кобылицей, девушкой и со всем остальным прекрасным.
Сократ. Пусть будет так. Я понимаю, Гиппий, что возражать тому, кто
задает подобные вопросы, следует так: "Друг, разве тебе неизвестно хорошее
изречение Гераклита: "Из обезьян прекраснейшая безобразна, если сравнить
ее с человеческим родом"?" И прекраснейший горшок безобразен, если
сравнить его с девичьим родом, как говорит Гиппий мудрый. Не так ли,
Гиппий?
Гиппий. Конечно, Сократ, ты правильно ответил.
Сократ. Слушай дальше. После этого, я хорошо знаю, тот человек скажет:
"Как же так, Сократ? Если станут сравнивать девичий род с родом богов, не
случится ли с первым того же, что случилось с горшками, когда их стали
сравнивать с девушками? Не покажется ли прекраснейшая девушка
безобразной? Не утверждает ли того же самого и Гераклит, на которого ты
ссылаешься, когда он говорит: "Из людей мудрейший по сравнению с богом
покажется обезьяной, и по мудрости, и по красоте, и по всему остальному"?"
Ведь мы признаем, Гиппий, что самая прекрасная девушка безобразна по
сравнению с родом богов. Гиппий. Кто стал бы этому противоречить,
Сократ!
Сократ. А если мы признаем это, тот человек засмеется и скажет: "Ты
помнишь, Сократ, о чем я тебя спрашивал?" "Помню, - отвечу я, - о том, что
такое прекрасное само по себе". "Но ты, - скажет он, - на вопрос о
прекрасном приводишь в ответ нечто такое, что, как ты сам говоришь,
прекрасно ничуть не больше, чем безобразно". "Похоже на то",- скажу я. Что
же еще посоветуешь ты мне отвечать, друг мой?
Гиппий. Именно это. Ведь он справедливо скажет, что по сравнению с
богами род людской не прекрасен.
Сократ. "Спроси я тебя с самого начала, - скажет он, - что и прекрасно и
безобразно одновременно, разве неправилен был бы твой ответ, если бы ты
116
ответил мне то же, что и теперь? Не кажется ли тебе, что, как только
прекрасное само по себе, благодаря которому все остальное украшается и
представляется прекрасным, - как только эта идея присоединяется к какомулибо предмету, тот становится прекрасной девушкой, кобылицей либо
лирой?"
Гиппий. Ну, Сократ, если он это ищет - что такое то прекрасное, благодаря
которому украшается все остальное и от соединения с чем представляется
прекрасным, - тогда ответить ему очень легко. Значит, этот человек совсем
прост и ничего не смыслит в прекрасных сокровищах. Ведь если ты ответишь
ему, что прекрасное, о котором он спрашивает, не что иное, как золото, он
попадет в тупик и не будет пытаться тебя опровергнуть. А ведь все мы знаем,
что если к чему присоединится золото, то даже то, что раньше казалось
безобразным, украшенное золотом, представится прекрасным.
Сократ. Ты, Гиппий, не знаешь, как этот человек упорен и как он ничему не
верит на слово.
Гиппий. Почему же это, Сократ? Необходимо, чтобы он принимал то, что
говорится правильно, иначе он будет смешон.
Сократ. А такой ответ, дорогой мой, он не только не примет, но станет сам
смеяться надо мной и скажет. "Ах ты, слепец! Неужто ты Фидия считаешь
плохим мастером?" И я, думается мне, скажу: "Нет, нисколько".
Гиппий. И правильно скажешь, Сократ.
Сократ. Конечно, правильно. Но тогда он, после того как я соглашусь, что
Фидий - хороший мастер, скажет: "Значит, ты думаешь, что Фидий, не знал
того прекрасного, о котором ты говоришь?" Я же отвечу. "Почему?" "Да
потому, - скажет он, - что глаза Афины, а также и остальные части лица, и
ноги, и руки он изготовил не из золота, а из слоновой кости, тогда как все
это, если бы было сделано из золота, должно было казаться всего прекраснее.
Ясно, что он сделал такую ошибку по своему невежеству, так как не знал, что
золото и есть то самое, что делает прекрасным все, к чему бы оно ни
присоединилось". Что нам ответить ему на такие слова, Гиппий?
Гиппий. Ответить вовсе не трудно. Мы скажем, что с Фидий поступил
правильно, потому что, по-моему, и то, что сделано из слоновой кости,
прекрасно.
Сократ. "Чего же ради, - спросит тот человек, - не изготовил он из слоновой
кости также и зрачки глаз, а сделал их из камня, выбрав камень, по
возможности похожий на слоновую кость? Или и прекрасный камень прекрасное?" Ответим ли мы на это утвердительно, Гиппий?
Гиппий. Да, конечно, когда камень подходит.
Сократ. "А когда не подходит, это нечто безобразное?" Соглашаться мне или
нет?
Гиппий. Соглашайся для тех случаев, когда камень не подходит.
117
Сократ. "Как же так, - скажет он, - о ты, мудрец, разве слоновая кость и
золото не заставляют вещи казаться прекрасными только тогда, когда они
подходят, а в противном случае - безобразными?" Будем ли мы отрицать это
или признаем, что его слова правильны?
Гиппий. Мы признаем, что каждую вещь делает прекрасной то, что для
каждой вещи подходит.
Сократ. "Ну а если, - скажет он, - тот самый прекрасный горшок, о котором
мы только что говорили, наполнить и варить в нем прекрасную кашу, какой
уполовник к нему больше подойдет: из золота или из смоковницы?"
Гиппий. О Геракл ! Q каком человеке ты говоришь, Сократ? Скажи ты мне,
кто он такой?
Сократ. Ты не узнал бы его, если бы я назвал его имя.
Гиппий. Но я и так уже вижу, что это какой-то невежда.
Сократ. Он очень надоедлив, Гиппий, но все-таки, что ж мы ответим?
Который из двух уполовников больше подходит к горшку и к каше? Не
очевидно ли, что из смоковницы? Ведь он придает каше приятный запах, а
вместе с тем, друг мой, он не разобьет горшка, не вывалит каши, не потушит
огня и не оставит без знатного кушанья тех, кто собирается угощаться. А
золотой уполовник наделал бы нам бед, так что, мне кажется, нам надо
ответить, что уполовник из смоковницы подходит больше, чем золотой, если
только ты не скажешь иначе.
Гиппий. Подходит-то он, пожалуй, больше, Сократ, но только я не стал бы
разговаривать с человеком, задающим такие вопросы.
Сократ. И правильно, друг мой. Действительно, тебе, прекрасно одетому,
прекрасно обутому, прославленному своей мудростью среди всех эллинов,
пожалуй, не подобает забивать себе голову подобными выражениями. А мне
совсем не противно общение с этим человеком. Поэтому поучи меня и ради
меня отвечай. "Ведь раз смоковничный уполовник подходит больше, чем
золотой, - скажет тот человек, - не будет ли он и прекраснее, если ты
соглашаешься, Сократ, что подходящее прекраснее, чем неподходящее?"
Согласимся ли мы, Гиппий, что смоковничный уполовник прекраснее
золотого?
Гиппий. Хочешь, я скажу тебе, Сократ, как тебе нужно определить
прекрасное, чтобы избавить себя от излишних разговоров?
Сократ. Конечно, хочу, но только не ранее чем ты мне скажешь, который из
обоих только что названных уполовников я должен в своем ответе признать
подходящим и более прекрасным.
Гиппий. Если хочешь, отвечай ему, что сделанный из смоковницы.
Сократ. А теперь говори то, что ты только что собирался сказать. Ведь если
я утверждаю, что прекрасное - это золото, то при таком ответе, по-моему,
золото оказывается нисколько не прекраснее смоковничного бревна. Что же
ты скажешь теперь о прекрасном?
118
Гиппий. Сейчас скажу. Мне кажется, ты добиваешься, чтобы тебе назвали
такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным.
Сократ. Конечно, Гиппий, ты это теперь прекрасно постиг.
Гиппий. Слушай же и знай: если кто-нибудь найдет, что возразить на это, я
скажу, что я ничего не смыслю.
Сократ. Ради богов, говори же как можно скорее!
Гиппий. Итак, я утверждаю, что всегда и везде прекраснее всего для каждого
мужа быть богатым, здоровым, пользоваться почетом у эллинов, а достигнув
старости и устроив своим родителям, когда они умрут, прекрасные
похороны, быть прекрасно и пышно погребенным своими детьми.
Сократ. Ну и ну, Гиппий! Как изумительно, величественно и достойно тебя
это сказано! Клянусь Герои , я в восхищении, что ты по мере сил
благосклонно мне помогаешь. Но ведь тому-то человеку мы не угодим, и
теперь он посмеется над нами как следует, так и знай.
Гиппий. Плохим смехом посмеется, Сократ! Если ему нечего сказать на это,
а он все же смеется, то он над собой смеется и станет предметом насмешек
для других.
Сократ. Может быть, это и так, а может быть, при таком ответе он, как я
предвижу, не только надо мной посмеется.
Гиппий. Что же еще?
Сократ. А то, что, если у него окажется палка, он, если только я не спасусь
от него бегством, постарается хорошенько меня хватить.
Гиппий. Что ты говоришь! Что он, этот человек, - твой господин? И если он
сделает это, разве не привлекут его к суду и не приговорят к наказанию?
Разве нет у вас в государстве законов? Разве оно позволяет гражданам бить
друг друга без всякого на то права?
Сократ. Нет, никоим образом.
Гиппий. Тогда, значит, он понесет наказание за то, что ударил тебя без
всякого права.
Сократ. Нет, Гиппий, если я так отвечу, он будет прав, так мне думается.
Гиппий. Ну и я того же мнения, Сократ, раз ты сам так думаешь.
Сократ. Сказать ли тебе, почему я сам считаю, что буду бит справедливо,
если дам такой ответ? Или и ты начнешь меня бить, не разобравши, в чем
дело? А может быть, выслушаешь меня?
Гиппий. Странно было бы, Сократ, если бы я не стал слушать. Но что же ты
скажешь?
Сократ. Я буду говорить тебе точно так же, как говорил только что,
подражая тому человеку: не стоит обращать к тебе сказанные им мне слова,
суровые и необычные. Знай же твердо, он заявит следующее: "Скажи,
Сократ, неужели ты думаешь, что не по праву получил палкой, ты, который,
спев столь громкий дифирамб, так безвкусно и грубо отклонился от
заданного вопроса?" "Каким образом?" - спрошу я. "Каким? - ответит он. 119
Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по
себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным - и
камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание. Ведь я
тебя спрашиваю, друг, что такое красота сама по себе, и при этом ничуть не
больше могу добиться толку, чем если бы ты был камнем, мельничным
жерновом - без ушей и без мозга". А если бы я, испугавшись, сказал ему на
это (ты ведь не рассердишься, Гиппий?): "Но ведь Гиппий говорит, что
прекрасное есть именно это, хотя я и спрашивал его, как ты меня, что есть
прекрасное для всех и всегда",- что бы ты тогда сказал? Не рассердился бы
ты в этом случае?
Гиппий. Я хорошо знаю, Сократ, что то, о чем я говорил, прекрасно для всех
и всем будет таким казаться.
Сократ. "И будет прекрасным? - возразит он. - Ведь прекрасное прекрасно
всегда".
Гиппий. Конечно.
Сократ. "Значит, оно и было прекрасным?" - спросит он.
Гиппий. И было.
Сократ. "Не сказал ли, - молвит он, - элидскии гость, что и для Ахилла
прекрасно быть погребенным позже, чем его предки, и для его деда Эака, и
для остальных, кто произошел от богов, и для самих богов?"
Гиппий. Что такое?! Брось ты все это! И произносить-то вслух негоже
вопросы, которые задает этот человек!
Сократ Как так? А не будет ли уж совсем невежливо на вопрос другого
отвечать, что это так и есть?
Гиппий. Возможно.
Сократ. "Ведь, пожалуй будешь тем, кто утверждает, что для всех и всегда
прекрасно прекрасного быть погребенным своими детьми, не есть родителей
предать погребению. Или прекрасное Геракл, и все те, кого мы только что
называли?"
Гиппий. Но ведь я не говорил, что это прекрасно для богов!
Сократ. "И не для героев, по-видимому",
Гиппий. Не для тех, кто были детьми богов.
Сократ. "А для тех, которые ими не были?"
Гиппий. Для этих, конечно, прекрасно.
Сократ. "Итак, если тебе верить, оказывается, что из героев для Тантала,
Дардана, Зета все это ужасно, нечестиво, безобразно, а для Пелопа и для
остальных, рожденных так же, как он, это прекрасно".
Гиппий. Мне так кажется.
Сократ. "Следовательно, - скажет он, - ты признаешь то, что перед этим не
считал правильным, а именно что иногда и для некоторых предать
погребению своих предков, а затем быть погребенными своими с потомками
- безобразно. Более того, видимо, невозможно, чтобы это случалось со всеми
120
и одновременно было прекрасным. Выходит, со всем этим произошло то же,
что и с прежним - с девушкой и с горшком, и, что смешнее всего, для одних
это оказывается прекрасным, для других - нет. И сегодня еще, Сократ, скажет он, - ты не в состоянии ответить на вопрос, что такое прекрасное".
Этими и другими словами будет он справедливо меня бранить, получив от
меня подобный ответ. Вот приблизительно так он со мной большей частью и
разговаривает, Гиппий. А иной раз, как будто сжалившись над моей
неопытностью и невежеством, сам предлагает мне вопросы - например, чем
именно мне кажется прекрасное, или же выспрашивает меня о другом, о чем
придется и о чем зайдет речь.
Гиппий. Как так, Сократ?
Сократ Я разъясню тебе. "Чудак ты, Сократ, - говорит он, - перестань давать
подобные ответы так, как ты это делаешь: слишком уж они простоваты и их
легко опровергнуть. Лучше рассмотри, не кажется ли тебе, что прекрасное
есть нечто, чего мы только что коснулись в одном ответе, когда утверждали,
будто золото прекрасно, когда оно к чему-либо подходит, а когда не
подходит, оно не прекрасно; так же обстоит и со всем остальным, чему
присуще это [свойство]. Рассмотри подходящее само по себе и его природу:
не окажется ли прекрасное подходящим?" И вот я обычно соглашаюсь с
этим: ведь мне нечего возразить. А тебе не кажется ли именно подходящее
прекрасным?
Гиппий. Конечно, Сократ.
Сократ. Рассмотрим же это, чтобы не обмануться.
Гиппий. Да, это следует рассмотреть.
Сократ. Итак, взгляни: утверждаем ли мы, что подходящее - это то, что
своим появлением заставляет казаться прекрасной любую вещь, которой оно
присуще, или же то, что заставляет ее быть прекрасной? Или это ни то ни
другое?
Гиппий. Мне думается, то, что заставляет казаться прекрасным, все равно
как если человек, надев идущее ему платье или обувь, кажется прекраснее,
даже когда у него смешная наружность.
Сократ. Но если подходящее заставляет все казаться прекраснее, чем оно
есть на самом деле, тогда подходящее - это какой-то обман относительно
прекрасного, и это, пожалуй, не то, что мы ищем, Гиппий? Ведь мы
исследовали то, чем прекрасны все прекрасные предметы, подобно тому как
все великое велико своим превосходством; благодаря этому превосходству
все бывает великим, и если даже оно не кажется таким, но таково на деле,
оно неизбежно будет великим. Точно так же мы говорим о том, что такое
прекрасное, благодаря которому прекрасно все, кажется ли оно таковым или
нет. Пожалуй, это не подходящее; ведь последнее, как ты сказал, заставляет
предметы казаться прекраснее, чем они есть на самом деле, и не позволяет
видеть их такими, каковы они есть. Нужно попробовать показать, что же
121
делает предметы, как я только что заметил, прекрасными, кажутся они
таковыми или нет. Вот что мы исследуем, коль хотим найти прекрасное.
Гиппий. Но, Сократ, подходящее своим присутствием заставляет предметы и
быть, и казаться прекрасными.
Сократ. Итак, невозможно, чтобы действительно прекрасное не казалось
прекрасным, по крайней мере если присутствует то, что заставляет его таким
казаться.
Гиппий. Невозможно.
Сократ. Признаем ли мы, Гиппий, что все действительно прекрасные
установления и занятия и считаются прекрасными и всегда всем таковыми
кажутся? Или же совсем наоборот, их не узнают, что и вызывает сильные
раздоры и борьбу как в частной жизни между отдельными людьми, так и
между государствами в жизни общественной?
Гиппий. Cкорее именно так, Сократ, их не узнают.
Сократ. Но этого не было бы, если бы им присуще было казаться
прекрасными. А это было бы лишь в том случае, если бы подходящее не
только было прекрасным, но и заставляло предметы казаться такими. Таким
образом, подходящее, если только оно есть то, что заставляет быть
прекрасным, будет, пожалуй, тем прекрасным, которое мы ищем, но не тем,
что заставляет казаться прекрасным. Если же, с другой стороны, подходящее
есть то, что заставляет казаться прекрасным, оно, пожалуй, не будет тем
прекрасным, которое мы ищем. Ведь оно заставляет быть прекрасным, а
одному и тому же, пожалуй, не дано заставлять одновременно и казаться и
быть прекрасным или чем бы то ни было иным. Итак, давай выбирать,
представляется ли нам подходящее тем, что заставляет казаться прекрасным,
или тем, что заставляет им быть.
Гиппий. По-моему, тем, что заставляет казаться, Сократ.
Сократ. Эге, Гиппий! Значит, познание того, что такое прекрасное,
ускользнуло от нас, раз подходящее оказалось чем-то другим, а не
прекрасным.
Гиппий. Да, Сократ, клянусь Зевсом, и, по-моему, ускользнуло как-то
нелепо.
Сократ. Во всяком случае, друг мой, давай его больше не отпускать. У меня
еще теплится надежда, что мы выясним, что же такое прекрасное.
Гиппий. Конечно, Сократ; да и нетрудно найти это. Я по крайней мере
хорошо знаю, что если бы я недолго поразмыслил наедине с самим собой, то
сказал бы тебе это точнее точного.
Сократ. Не говори так самоуверенно, Гиппий! Ты видишь, сколько хлопот
нам уже доставило прекрасное; как бы оно, разгневавшись, не убежало от нас
еще дальше. Впрочем, я говорю пустяки; ты-то, я думаю, легко найдешь его,
когда окажешься один. Но ради богов, разыщи его при мне или, если хочешь,
давай его искать вместе, как делали только что; и, если мы найдем его, это
122
будет отлично, если же нет, я, думается мне, покорюсь своей судьбе, ты же
легко отыщешь его, оставшись один. А если мы найдем его теперь, не
беспокойся, я не буду надоедать тебе расспросами о том, что ты разыщешь
самостоятельно. Сейчас же посмотри снова, чем тебе кажется прекрасное. Я
говорю, что оно... только ты Наблюдай за мной повнимательнее, как бы мне
не сказать чего-нибудь несуразного... пусть у нас будет прекрасным то, что
пригодно. Сказал же я это вот почему: прекрасны, говорим мы, не те глаза,
что кажутся неспособными видеть, но те, что способны видеть и пригодны
для зрения. Не так ли?
Гиппий. Да.
Сократ. Не правда ли, и все тело в целом мы в таком же смысле называем
прекрасным, одно - для бега, другое - для борьбы; и все живые существа мы
называем прекрасными: и коня, и петуха, и перепела; так же как и всякую
утварь и средства передвижения: сухопутные и морские, торговые суда и
триеры; и все инструменты, как музыкальные, так и те, что служат в других
искусствах, а если угодно, и занятия и обычаи - почти все это мы называем
прекрасным таким же образом. В каждом из этих предметов мы отмечаем,
как он явился на свет, как сделан, как составлен, и называем прекрасным то,
что пригодно, смотря по тому, как оно пригодно и в каком отношении, для
чего и когда; то же, что во всех этих отношениях непригодно, мы называем
безобразным. Не думаешь ли и ты так же, Гиппий?
Гиппий. Да, думаю.
Сократ. Так, значит, мы правильно теперь говорим, что пригодное скорее
можно назвать прекрасным, чем все иное?
Гиппий. Конечно, правильно, Сократ.
Сократ. Не правда ли, то, что может выполнить какую-нибудь работу, для
нее и пригодно, то же, что не может, непригодно.
Гиппий. Конечно.
Сократ. Итак, мощь есть нечто прекрасное, а немощь - безобразное?
Гиппий. Вот именно. Все, Сократ, подтверждает, что это так, а в
особенности государственные дела: ведь в государственных делах и в своем
собственном городе быть мощным прекраснее всего, а бессильным - всего
безобразнее.
Сократ. Хорошо сказано! Но ради богов, Гиппий, разве и мудрость не
поэтому прекраснее всего, а невежество всего безобразнее?
Гиппий. А ты как думаешь, Сократ? Сократ. Погоди, мой милый; меня страх
берет - что это мы опять говорим?
Гиппий. Чего же ты боишься, Сократ? Теперь-то уж твое рассуждение
превосходно.
Сократ. Хотел бы я, чтобы это было так; но рассмотри со мной вместе вот
что: разве кто может делать то, чего он не умеет, да и вообще не способен
выполнить?
123
Гиппий. Никоим образом; как же он сделал бы то, на что не способен?
Сократ. Значит, те, кто ошибается и невольно совершает дурные дела,
никогда не стали бы делать этого, если бы не были на это способны?
Гиппий. Это ясно.
Сократ. Но ведь сильные могут делать свое дело с благодаря силе? Ведь не
благодаря же бессилию?
Гиппий. Нет, конечно.
Сократ. Ну а как ты скажешь: все делающие что-либо могут делать то, что
они делают?
Гиппий. Да.
Сократ. Но все люди, начиная с детства, делают гораздо больше дурного,
чем хорошего, и невольно ошибаются.
Гиппий. Это так.
Сократ. И что же? Такую силу и такую пользу - то, что пригодно для
свершения дурного, - мы и их назовем прекрасными или же ни в коем
случае?
Гиппий По-моему, ни в коем случае, Сократ.
Сократ. Следовательно, Гиппий, прекрасное, видимо, не то, что обладает
силой и нам пригодно.
Гиппий. Но, Сократ, я говорю о тех случаях, когда что-то способно к добру и
пригодно для этой цели.
Сократ Значит, наше предположение, будто то, что обладает мощью, и то,
что пригодно, тем самым прекрасно, отпадает. А душа наша, Гиппий, хотела
сказать вот что: прекрасное есть и пригодное, и способное сделать нечто для
блага.
Гиппий. Кажется, так.
Сократ. Но ведь это и есть полезное. Не правда ли?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Таким образом, и прекрасные тела, и прекрасные установления, и
мудрость, и все, о чем мы только что говорили, прекрасно потому, что оно
полезно.
Гиппий. Это очевидно.
Сократ. Итак, нам кажется, что прекрасное есть полезное, Гиппий.
Гиппий. Безусловно, Сократ.
Сократ. Но ведь полезное это то, что творит благо.
Гиппий. Вот именно.
Сократ. А то, что творит, есть не что иное, как причина, не так ли?
Гиппий. Так.
Сократ. Значит, прекрасное есть причина блага
Гиппий. Вот именно.
124
Сократ. Но, Гиппий, ведь причина, с Одной стороны, и причина причины, с
другой - это разные вещи; причина не могла бы быть причиной причины.
Рассмотри это так: не оказалась ли причина чем-то созидающим?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Не правда ли, созидающее творит то, что возникает, а не то, что
созидает?
Гиппий. Это так.
Сократ. Значит, возникающее - это одно, а созидающее - другое?
Гиппий. Да.
Сократ. Следовательно, причина не есть причина причины, но лишь причина
того, что от нее возникает?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Итак, если прекрасное есть причина блага, то благо возникает
благодаря прекрасному. И мы, думается, усердно стремимся к разумному и
ко всему остальному прекрасному потому, что производимое им действие и
его детище, благо, достойны такого стремления; из того, что мы нашли,
видно, что прекрасное выступает как бы в образе отца блага.
Гиппий. Конечно, так. Ты прекрасно говоришь, Сократ.
Сократ. А не прекрасно ли сказано мною и то, что ни отец не есть сын, ни
сын не есть отец?
Гиппий. Разумеется, прекрасно.
Сократ. И как причина не есть то, что возникает, так и возникающее не есть
причина.
Гиппий Ты прав.
Сократ. Клянусь Зевсом, милейший, но ведь тогда ни прекрасное не есть
благо, ни благо не есть прекрасное. Или это тебе кажется возможным после
сказанного раньше?
Гиппий. Нет, клянусь Зевсом, мне так не кажется.
Сократ. Но удовлетворит ли нас, если мы захотим сказать, что прекрасное не
есть благо и благо не есть прекрасное?
Гиппий. Нет, клянусь Зевсом, это меня вовсе не удовлетворяет.
Сократ. Клянусь Зевсом, Гиппий, и меня это наименее удовлетворяет из
сказанного.
Гиппий. Да, это так.
Сократ. Значит, неверно нам представлялось, будто прекраснее всего наше
положение, что полезное, пригодное и способное к созиданию блага и есть
прекрасное. Нет, такое допущение, если только это возможно, еще смешнее
прежних, когда мы думали, что прекрасное - это девушка и все прочее, что
мы перечислили раньше.
Гиппий. Кажется, что так.
Сократ. Уж и не знаю, куда мне деваться, Гиппий, и не нахожу выхода; а у
тебя есть что сказать?
125
Гиппий. Нет, по крайней мере сейчас; но, как я недавно сказал, если я это
обдумаю, то уверен, что найду.
Сократ. Кажется, жажда знать не позволит мне дождаться, пока ты
соберешься; и вот, мне думается, что теперь-то уж я нашел выход. Смотрика: если бы мы назвали прекрасным то, что заставляет нас радоваться, допустим, не все удовольствия, а то, что радует нас через слух и зрение, икак бы мы тогда стали спорить? Дело в том, Гиппий, что и красивые люди, и
пестрые украшения, и картины, и изваяния радуют наш взор, если они
прекрасны. И прекрасные звуки, и все мусичекие искусства, речи, рассказы
производят то же самое действие, так что, если мы ответим тому дерзкому
человеку: "Почтеннейший, прекрасное - это приятное для слуха и зрения" ,не думаешь ли ты, что так мы обуздаем его дерзость?
Гиппий. И правда, кажется, теперь хорошо сказано, что такое прекрасное,
Сократ.
Сократ.. А скажем ли мы о прекрасных занятиях и законах, Гиппий, что они
прекрасны потому, что приятны для слуха и зрения, или же это вещи иного
чуда?
Гиппий. Это, Сократ, может быть, и ускользнет от того человека.
Сократ. Клянусь собакой, Гиппий, это не ускользнет от того, кого я больше
всего постыдился бы, если бы стал болтать вздор и делать вид, будто говорю
дело, когда на самом деле болтаю пустяки.
Гиппий. Кто же это такой?
Сократ. Сократ, сын Софрониска, который, пожалуй, не позволит мне с
легкостью говорить об этих еще не исследованных предметах или делать вид,
что я знаю то, чего я не знаю.
Гиппий. Но мне и самому после твоих слов кажется, что с законами обстоит
как-то по-иному.
Сократ. Не торопись, Гиппий: выходит, мы попали в вопросе о прекрасном в
такой же тупик, как и раньше, а между тем думаем, что нашли хороший
выход. Гиппий. В каком смысле ты это говоришь, Сократ?
Сократ. Я скажу тебе, как мне это представляется, если, конечно, я говорю
дело. Ведь, пожалуй, все, что относится к законам и занятиям, не лежит за
пределами тех ощущений, которые мы получаем благодаря слуху и зрению.
Так давай сохраним это положение - "приятное благодаря этим чувствам есть
прекрасное" - и не будем выдвигать вперед вопрос о законах. Если бы
спросил нас тот, о ком я говорю, или кто другой: "Почему же, Гиппий и
Сократ, вы выделили из приятного приятное, получаемое тем путем, который
вы называете прекрасным, между тем как приятное, связанное со всеми
прочими ощущениями - от пищи, питья, любовных утех и так далее, - вы не
называете прекрасным? Или это все неприятно, и вы утверждаете, что в этом
вообще нет удовольствия? Ни в чем ином, кроме зрения и слуха?" Что мы на
это скажем, Гиппий?
126
Гиппий. Разумеется, мы скажем, Сократ, что и во всем другом есть
величайшее удовольствие. Сократ. "Почему же, -скажет он, -раз все это
удовольствия нисколько не меньшие, чем те, вы отнимаете у них это имя и
лишаете свойства быть прекрасными?" "Потому, - ответим мы, - что
решительно всякий осмеет нас, если мы станем утверждать, что есть - не
приятно, а прекрасно и обонять приятное - не приятно, а прекрасно; что же
касается любовных утех, то все стали бы нам возражать, что хотя они и очень
приятны, но, если кто им предается, делать это надо так, чтобы никто не
видел, ведь видеть это очень стыдно". На эти наши слова, Гиппий, он,
пожалуй, скажет: "Понимаю и я, что вы давно уже стыдитесь назвать эти
удовольствия прекрасными, потому что это неугодно людям; но я-то ведь не
о том спрашивал, что кажется прекрасным большинству, а о том, что
прекрасно на самом деле". Тогда, я думаю, мы ответим в соответствии с
нашим предположением: "Мы говорим, что именно эта часть приятного приятное для зрения и слуха - прекрасна". Годятся тебе эти соображения,
Гиппий, или надо привести еще что-нибудь?
Гиппий. На то, что было сказано, Сократ, надо ответить именно так.
Сократ. "Прекрасно говорите, -возразит он. Не правда ли, если приятное для
зрения и слуха есть с прекрасное, очевидно, иное приятное не будет
прекрасным?" Согласимся ли мы с этим?
Гиппий. Да.
Сократ. "Но разве, -скажет он, - приятное для зрения есть приятное и для
зрения и для слуха или приятное для слуха - то же самое, что и приятное для
зрения?" "Никоим образом, - скажем мы, - то, что приятно для того или
другого, не будет таковым для обоих вместе (ведь об этом ты, по-видимому,
говоришь), но мы сказали, что и каждое из них есть прекрасное само по себе,
и оба они вместе". Не так ли мы ответим?
Гиппий. Конечно.
Сократ. "А разве, - спросит он, - какое бы то ни было приятное отличается от
любого другого приятного тем, что оно есть приятное? Я спрашиваю не о
том, больше или меньше какое-нибудь удовольствие, сильнее оно или слабее,
но спрашиваю, отличается ли какое-нибудь удовольствие от других именно
тем, что одно есть удовольствие, а другое - нет". Нам кажется, это не так.
Верно я отвечаю?
Гиппий. Видимо, верно.
Сократ. "Значит, - скажет он, - вы отобрали эти удовольствия из всех
остальных по какой-то иной причине, а не в силу того, что они удовольствия.
Вы усмотрели и в том и в другом нечто отличное от других удовольствий и,
приняв это во внимание, утверждаете, что они прекрасны. Ведь не потому
прекрасно удовольствие, получаемое через зрение, что оно получается через
зрение: если бы это служило причиной, по которой такое удовольствие
прекрасно, никогда не было бы прекрасным другое удовольствие,
127
получаемое через слух, ибо оно не есть удовольствие зрительное". Скажем ли
мы, что он прав?
Гиппий. Скажем.
Сократ. "С другой стороны, и удовольствие, получаемое через слух, бывает
прекрасным не потому, что оно слуховое. В таком случае зрительному
удовольствию никогда бы не быть прекрасным, ведь оно не есть
удовольствие слуха". Скажем ли мы, Гиппий, что человек, утверждающий
такие вещи, говорит правду?
Гиппий. Да, он говорит правду. Сократ. "Но разумеется, оба удовольствия
прекрасны, как вы утверждаете". Ведь мы это утверждаем?
Гиппий. Утверждаем.
Сократ. "Значит, они имеют нечто тождественное, что заставляет их быть
прекрасными, то общее, что присуще им обоим вместе и каждому из них в
отдельности; ведь иначе они не были бы прекрасны, и оба вместе, и каждое
из них". Отвечай мне так, как ты ответил бы тому человеку.
Гиппий. Я отвечаю: по-моему, все обстоит так, как ты говоришь.
Сократ. Но если оба этих удовольствия обладают указанным свойством,
каждое же из них в отдельности им не обладает, то они, пожалуй, не могут
быть прекрасными вследствие этого свойства.
Гиппий. Да как же это может быть, Сократ, чтобы ни одна из двух вещей не
имела какого-то свойства, а затем чтобы это самое свойство, которого ни
одна из них не имеет, оказалось в обеих? :
Сократ. Тебе кажется, что этого не может быть?
Гиппий. Я, должно быть, не очень искушен в природе таких вещей, а также в
такого вот рода рассуждениях.
Сократ. Успокойся, Гиппий! Мне, наверное, только кажется, будто я вижу,
что дело может происходить так, как тебе это представляется невозможным,
на самом же деле я ничего не вижу.
Гиппий. Не "наверное", Сократ, а совершенно очевидно, что ты смотришь в
сторону.
Сократ. А ведь много такого возникает перед моим мысленным взором;
однако я этому не доверяю, потому что тебе, человеку, из всех
современников заработавшему больше всего денег за свою мудрость, так не
видится, а только мне, который никогда ничего не заработал. И мне приходит
на ум, друг мой, не шутишь ли ты со мною и не обманываешь ли меня
нарочно, до того ясным многое представляется.
Гиппий. Никто, Сократ, не узнает лучше тебя, шучу ли я или нет, если ты
попробуешь рассказать о том, что пред тобой возникает. Ведь тогда станет
очевидным, что ты говорить вздор. Ты никогда не найдешь такого общего
для нас с тобой свойства, которого не имел бы я или ты.
Сократ. Как ты сказал, Гиппий? Может быть, ты и дело говоришь, только я
не понимаю; но выслушай более точно, что я хочу сказать: мне
128
представляется, что то, что не свойственно мне и чем не можем быть ни я, ни
ты, то может быть свойственно обоим нам вместе; с другой стороны, тем, что
свойственно нам обоим, каждый из нас может и не быть.
Гиппий. Похоже, Сократ, что ты рассказываешь чудеса еще большие, чем ты
рассказывал немного раньше. Смотри же: если мы оба справедливы, разве не
справедлив и каждый из нас в отдельности? Или, если каждый из нас
несправедлив, не таковы ли мы и оба вместе? И если мы оба вместе здоровы,
не здоров ли и каждый из нас? Или, если каждый из нас болен, кто ранен,
получил удар или испытывает какое бы то ни было состояние, разве не
испытываем того же самого мы оба вместе? Далее, если бы оказалось, что мы
оба вместе золотые, серебряные, сделанные из слоновой кости, или же, если
угодно, что мы оба благородны, мудры, пользуемся почетом, что мы старцы,
юноши или все, что тебе угодно из того, чем могут быть люди,- разве не
было бы в высшей степени неизбежно, чтобы я каждый из нас в отдельности
был таким же?
Сократ. Конечно.
Гиппий. Дело в том, Сократ, что ты не рассматриваешь вещи в целом; так же
поступают и те, с кем ты имеешь обыкновение рассуждать; вы прекрасное и
каждую сущую вещь исследуете, расчленяя их в своих рассуждениях.
Потому-то и скрыты от вас столь великие и цельные по своей природе
телесные сущности. И теперь это оказалось скрытым от тебя до такой
степени, что ты считаешь, будто существует нечто, состояние или сущность,
что имеет отношение к двум вещам, вместе взятым, но не к каждой из них в
отдельности, или же, наоборот, к каждой из них в отдельности, но не к
обеим, вместе взятым. Вот как вы неразумны, неосмотрительны, просты,
безрассудны!
Сократ. Таково уж наше положение, Гиппий,- не как хочется, а как можется,
говорит в таких случаях пословица. Зато ты помогаешь нам всегда своими
указаниями. Вот и теперь: обнаружить ли мне перед тобой еще больше, как
просты мы были до получения твоих указаний, рассказав тебе, как мы обо
всем этом рассуждали, или лучше об этом не говорить?
Гиппий. Мне говорить, Сократ,- человеку, который все это знает? Ведь я
знаю всех любителей рассуждений, что это за люди. Впрочем, если тебе это
приятно, говори.
Сократ. Разумеется, приятно. Дело в следующем, дорогой мой: прежде чем
ты сказал все это, мы были настолько бестолковы, что представляли себе,
будто и я, и ты, каждый из нас - это один человек, а оба вместе мы, конечно,
не можем быть тем, что каждый из нас есть в отдельности, ведь мы - это не
один, а двое; вот до чего мы были просты. Теперь же ты научил нас, что, если
мы вместе составляем двойку, необходимо, чтобы и каждый из нас был
двойкой, если же каждый из нас один, необходимо, чтобы и оба вместе были
одним: в противном случае, по мнению Гиппия, не может быть сохранено
129
целостное основание бытия. И чем бывают оба вместе, тем должен быть и
каждый из них, и оба вместе - тем, чем бывает каждый. Вот я сижу здесь,
убежденный тобою. Но только раньше, Гиппий, напомни мне: я и ты - будем
ли мы одним, или же и ты - два, и я - два?
Гиппий. Что такое ты говоришь, Сократ?
Сократ. То именно, что я говорю; я боюсь высказаться ясно перед тобой,
потому что ты сердишься на меня, когда тебе кажется, будто ты сказал нечто
значительное. Все-таки скажи мне еще: не есть ли каждый из нас один и не
свойственно ли ему именно то, что он есть один?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Итак, если каждый из нас один, то, пожалуй, он будет также
нечетным; или ты не считаешь единицу нечетным числом?
Гиппий. Считаю.
Сократ. Значит, и оба вместе мы нечет, хотя нас и двое?
Гиппий. Не может этого быть, Сократ.
Сократ. Тогда мы оба вместе чет. Не так ли?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Но ведь из-за того, что мы оба вместе - чет, не будет же четом и
каждый из нас?
Гиппий. Нет, конечно.
Сократ. Значит, совершенно нет необходимости, как ты только что говорил,
чтобы каждый в отдельности был тем же, что оба вместе, и оба вместе - тем
же, что каждый в отдельности?
Гиппий. Для подобных вещей - нет, а для таких, о которых я говорил
прежде, - да.
Сократ. Довольно, Гиппий! Достаточно и того, если одно оказывается
одним, а другое - другим. Ведь и я говорил - если ты помнишь, откуда пошел
у нас этот разговор, - что удовольствия, получаемые через зрение и слух,
прекрасны не тем, что оказывается свойственным каждому из них, а обоим нет или обоим свойственно, а каждому порознь - нет, но тем, что
свойственно обоим вместе и каждому порознь, так как ты признал эти
удовольствия прекрасными - и оба вместе, и каждое в отдельности. Поэтомуто я и думал, что если только оба они прекрасны, то они должны быть
прекрасны благодаря причастной обоим им сущности, а не той, которая
отсутствует в одном из двух случаев; и теперь еще я так думаю. Но повтори
как бы с самого начала: если и зрительное, и слуховое удовольствия
прекрасны и оба вместе, и каждое в отдельности, не будет ли то, что делает
их прекрасными, причастно также им обоим вместе и каждому из них в
отдельности?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Потому ли они прекрасны, что и каждое из них, и оба они вместе удовольствие? Или же по этой причине и все остальные удовольствия
130
должны были бы быть прекрасными ничуть не меньше? Ведь, если ты
помнишь, выяснилось, что они точно так же называются удовольствиями.
Гиппий. Помню.
Сократ. С другой стороны, мы говорили, что эти удовольствия мы получаем
через зрение и слух и оттого они прекрасны.
Гиппий. Это было сказано.
Сократ. Смотри же, правду ли я говорю? Говорилось ведь, насколько я
помню, что прекрасно именно это приятное, не всякое приятное, но приятное
благодаря зрению и слуху.
Гиппий. Да.
Сократ. Не так ли обстоит дело, что это свойство присуще обоим
[удовольствиям] вместе, а каждому из них в отдельности не присуще? Ведь,
как уже говорилось раньше, каждое из них порознь не бывает [приятным]
благодаря обоим [чувствам] вместе; оба они вместе [приятны] благодаря
обоим [чувствам], а каждое в отдельности - нет. Так ведь?
Гиппий. Так.
Сократ. Значит, каждое из этих двух удовольствий прекрасно не тем, что не
присуще каждому из них порознь (ведь то и другое каждому из них не
присуще); таким образом, в соответствии с нашим предположением можно
назвать прекрасными оба этих удовольствия вместе, но нельзя назвать так
каждое из них в отдельности. Разве не обязательно сказать именно так?
Гиппий. Видимо, да.
Сократ. Станем ли мы утверждать, что оба вместе они прекрасны, а каждое
порознь - нет?
Гиппий. Что ж нам мешает?
Сократ. Мешает, мой друг, по-моему, следующее: у нас было, с одной
стороны, нечто, присущее каждому предмету таким образом, что коль скоро
оно присуще обоим вместе, то оно присуще и каждому порознь, и коль скоро
каждому порознь, то оно присуще и обоим вместе,- все то, что ты
перечислил. Не так ли?
Гиппий. Да.
Сократ. Ну а то, что я перечислил, нет; а в это входило и "каждое в
отдельности", и "оба вместе". Так ли это?
Гиппий. Так.
Сократ. К чему же, Гиппий, относится, по-твоему, прекрасное? К тому ли, о
чем ты говоришь: коль скоро силен я и ты тоже, то сильны и мы оба, и коль
скоро я справедлив и ты тоже, то справедливы мы оба вместе, а если мы оба
вместе, то и каждый из нас в отдельности? Точно так же коль скоро я
прекрасен и ты тоже, то прекрасны также мы оба, а если мы оба прекрасны,
то прекрасен и каждый из нас порознь. И что же мешает, чтобы из двух
величин, составляющих вместе четное число, каждая в отдельности была бы
то нечетной, то четной или опять-таки чтобы две величины, каждая из
131
которых неопределенна, взятые вместе, давали бы то определенную, то
неопределенную величину и так далее во множестве других случаев,
которые, как я сказал, возникают передо мною? К какого же рода вещам ты
причисляешь прекрасное? Или ты об этом того же мнения, что и я? Ведь мне
кажется совершенно бессмысленным, чтобы мы оба вместе были прекрасны,
а каждый из нас в отдельности - нет или чтобы каждый из нас в отдельности
был прекрасным, а мы оба вместе - нет и так далее. Решаешь ли ты так же,
как я, или иначе?
Гиппий. Точно так же, Сократ.
Сократ. И хорошо поступаешь, Гиппий, чтобы нам наконец избавиться от
дальнейших исследований. Ведь если прекрасное принадлежит к этому роду,
то приятное благодаря зрению и слуху уже не может быть прекрасным. Дело
в том, что зрение и слух заставляют быть прекрасным то и другое, но не
каждое в отдельности. А ведь это оказалось невозможным, Гиппий, как мы с
тобой уже согласились.
Гиппий. Правда, согласились.
Сократ. Итак, невозможно, чтобы приятное благодаря зрению и слуху было
прекрасным, раз оно, становясь прекрасным, создает нечто невозможное.
Гиппий. Это так.
Сократ. "Начинайте все сызнова, -скажет тот человек, - так как вы в этом
ошиблись. Чем же, по вашему мнению, будет прекрасное, свойственное
обоим этим удовольствиям, раз вы почтили их перед всеми остальными и
назвали прекрасными?" Мне кажется, Гиппий, необходимо сказать, что это
самые безобидные и лучшие из всех удовольствий, и оба они вместе, и
каждое из них порознь. Или ты можешь назвать что-нибудь другое, чем они
отличаются от остальных?
Гиппий. Никоим образом, ведь они действительно самые лучшие.
Сократ. "Итак, - скажет он, -вот что такое, по вашим словам, прекрасное: это
- полезное удовольствие". Кажется, так, скажу я; ну а ты?
Гиппий. И я тоже.
Сократ. "Но не полезно ли то, что создает благо? - скажет он. А создающее и
создания, как только что выяснилось, - это вещи разные. И не возвращается
ли ваше рассуждение к сказанному прежде? Ведь ни благо не может быть
прекрасным, ни прекрасное - благом, если только каждое из них есть нечто
иное". Несомненно так, скажем мы, Гиппий, если только в нас есть здравый
смысл. Ведь недопустимо не соглашаться с тем, кто говорит правильно.
Гиппий. Но что же это такое, по-твоему, Сократ, все вместе взятое? Какая-то
шелуха и обрывки речей, как я сейчас только говорил, разорванные на
мелкие части. Прекрасно и ценно нечто иное: уметь выступить с хорошей,
красивой речью в суде, совете или перед иными властями, к которым ты ее
держишь; убедить слушателей и удалиться с наградой, не ничтожнейшей, но
величайшей - спасти самого себя, свои деньги, друзей. Вот чего следует
132
держаться, распростившись со всеми этими словесными безделками, чтобы
не показаться слишком уж глупыми, если станем заниматься, как сейчас,
пустословием и болтовней.
Сократ. Милый Гиппий, ты счастлив, потому что знаешь, чем следует
заниматься человеку, и занимаешься определения этим как должно - ты сам
говоришь. Мною же как будто владеет какая-то роковая сила, так как я вечно
блуждаю и не нахожу выхода; а стоит мне обнаружить свое безвыходное
положение перед вами, мудрыми людьми, я слышу от вас оскорбления
всякий раз, как его обнаружу. Вы всегда говорите то же, что говоришь теперь
ты, - будто я хлопочу о глупых, мелких и ничего не стоящих вещах. Когда
же, переубежденный вами, я говорю то же, что и вы, - что всего лучше уметь,
выступив в суде или в ином собрании с хорошей, красивой речью, довести ее
до конца, - я выслушиваю много дурного от здешних людей, а особенно от
этого человека, который постоянно меня обличает. Дело в том, что он
чрезвычайно близок мне по рождению и живет в одном доме со мной. И вот,
как только я прихожу к себе домой и он слышит, как я начинаю рассуждать о
таких вещах, он спрашивает, не стыдно ли мне отваживаться на рассуждение
о прекрасных занятиях, когда меня ясно изобличили, что я не знаю о
прекрасном даже того, что оно собой представляет. "Как же ты будешь знать,
- говорит он, - с прекрасной речью выступает кто-нибудь или нет, и так же в
любом другом деле, раз ты не знаешь самого прекрасного? И если ты таков,
неужели ты думаешь, что тебе лучше жить, чем быть мертвым?" И вот,
говорю я, мне приходится выслушивать брань и колкости и от вас, и от того
человека. Но быть может, и нужно терпеть. А может быть, как ни странно, я
получу от этого пользу. Итак, мне кажется, Гиппий, что я получил пользу от
твоей беседы с ним: ведь, кажется мне, я узнал, что значит пословица
"прекрасное - трудно".
Перевод: М.С. Соловьева
Платон
Апология Сократа.
ПОСЛЕ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ РЕЧЕЙ
Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи афиняне, я не знаю; что
же меня касается, то от их речей я чуть было и сам себя не забыл: так
убедительно они говорили. Тем не менее, говоря без обиняков, верного они
ничего не сказали. Но сколько они ни лгали, всего больше удивился я одному
- тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не
провел своим ораторским искусством; не смутиться перед тем, что они
тотчас же будут опровергнуты мною на деле, как только окажется, что я
вовсе не силен в красноречии, это с их стороны показалось мне всего
бесстыднее, конечно, если только они не считают сильным в красноречии
133
того, кто говорит правду; а если это они разумеют, то я готов согласиться,
что я - оратор, только не на их образец. Они, повторяю, не сказали ни слова
правды, а от меня вы услышите ее всю. Только уж, клянусь Зевсом, афиняне,
вы не услышите речи с разнаряженной, украшенной, как у этих людей,
изысканными выражениями, а услышите речь простую, состоящую из
первых попавшихся слов. Ибо я верю, что то, что я буду говорить, - правда, и
пусть никто из вас не ждет ничего другого; да и неприлично было бы мне в
моем возрасте выступать перед вами, о мужи, наподобие юноши с
придуманною речью.
Так вот я и прошу вас убедительно и умоляю, о мужи афиняне: услыхавши,
что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить и на площади у
меняльных лавок, где многие из вас слыхали меня, и в других местах, не
удивляйтесь и не поднимайте из-за этого шума. Дело-то вот в чем: в первый
раз пришел я теперь в суд, будучи семидесяти лет от роду ; так ведь
здешний-то язык просто оказывается для меня чужим, и как вы извинили бы
меня, если бы я, будучи в самом деле чужеземцем, говорил на том языке и
тем складом речи, к которым привык с детства, так и теперь я прошу у вас не
более, чем справедливости, как мне кажется, - позволить мне говорить по
моему обычаю, хорош он или нехорош - все равно, и смотреть только на то,
буду ли я говорить правду или нет; в этом ведь и заключается долг судьи,
долг же оратора - говорить правду.
И вот правильно будет, о мужи афиняне, если сначала я буду защищаться
против обвинений, которым подвергался раньше, и против первых моих
обвинителей, а уж потом против теперешних обвинений и против
теперешних обвинителей. Ведь у меня много было обвинителей перед вами и
раньше, много уже лет, и все-таки ничего истинного они не сказали; их-то
опасаюсь я больше, чем Анита с товарищами. И эти тоже страшны, но те еще
страшнее, о мужи! Большинство из вас они восстановляли против меня,
когда вы были детьми, и внушали вам против меня обвинение, в котором не
было ни слова правды, говоря, что существует некий Сократ, мудрый муж,
который испытует и исследует все, что над землею, и все, что под землею, и
выдает ложь за правду. Вот эти-то люди, о мужи афиняне, пустившие эту
молву, и суть страшные мои обвинители, потому что слушающие их думают,
что тот, кто исследует подобные вещи, тот и богов не признает. Кроме того,
обвинителей этих много и обвиняют они уже давно, да и говорили они с вами
в том возрасте, когда вы больше всего верили на слово, будучи детьми,
некоторые же юношами, словом - обвиняли заочно, в отсутствие
обвиняемого. Но всего нелепее то, что и по имени-то их никак не узнаешь и
не назовешь, разве вот только сочинителей комедий. Ну а все те, которые
восстановляли вас против меня по зависти и злобе или потому, что сами
были восстановлены другими, те всего неудобнее, потому что никого из них
нельзя ни привести сюда, ни опровергнуть, а просто приходится как бы
134
сражаться с тенями, защищаться и опровергать, когда никто не возражает.
Так уж и вы тоже согласитесь, что у меня, как я сказал, два рода
обвинителей: одни - обвинившие меня теперь, а другие - давнишние, о
которых я сейчас говорил, и признайте, что сначала я должен защищаться
против давнишних, потому что и они обвиняли меня перед вами раньше и
гораздо больше, чем теперешние. Хорошо.
Итак, о мужи афиняне, следует защищаться и постараться в малое время
опровергнуть клевету, которая уже много времени держится между вами.
Желал бы я, разумеется, чтобы так оно и случилось и чтобы защита моя была
успешной, конечно, если это к лучшему и для вас, и для меня. Только я
думаю, что это трудно, и для меня вовсе не тайна, какое это предприятие. Ну
да уж относительно этого пусть будет, как угодно богу , а закон следует
исполнять и защищаться.
Припомним же сначала, в чем состоит обвинение, от которого пошла обо мне
дурная молва, полагаясь на которую Мелет и подал на меня жалобу. Хорошо.
В каких именно выражениях клеветали на меня клеветники? Следует
привести их показание, как показание настоящих обвинителей: Сократ
преступает закон, тщетно испытуя то, что под землею, и то, что в небесах, с
выдавая ложь за правду и других научая тому же. Вот в каком роде это
обвинение. Вы и сами видели в комедии Аристофана, как какой-то Сократ
болтается там в корзинке, говоря, что он гуляет по воздуху, и несет еще
много разного вздору, в котором я ничего не смыслю. Говорю я это не в укор
подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах (недоставало,
чтобы Мелет обвинил меня еще и в этом!), а только ведь это, о мужи
афиняне, нисколько меня не касается. А в свидетели этого призываю
большинство из вас самих и требую, чтобы это дело обсудили между собою
все те, кто когда-либо меня слышал; ведь из вас много таких. Спросите же
друг у друга, слышал ли кто из вас когда-либо, чтобы я хоть сколько-нибудь
рассуждал о подобных вещах, и тогда вы узнаете, что настолько же
справедливо и все остальное, что обо мне говорят.
А если еще кроме всего подобного вы слышали от в кого-нибудь, что я
берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, то и это неправда;
хотя мне кажется, что и это дело хорошее, если кто способен воспитывать
людей, как, например, леонтинец Горгий, кеосец Продик, элидец Гиппий .
Все они, о мужи, разъезжают по городам и убеждают юношей, которые могут
даром пользоваться наставлениями любого из своих сограждан, оставлять
своих и поступать к ним в ученики, платя им деньги, да еще с
благодарностью. А вот и еще, как я узнал, проживает здесь один ученый муж
с Пароса. Встретился мне на дороге человек, который переплатил софистам
денег больше, чем все остальные вместе, - Каллий, сын Гиппоника; я и
говорю ему (а у него двое сыновей): "Каллий! Если бы твои сыновья
родились жеребятами или бычками, то нам следовало бы нанять для них
135
воспитателя, который бы усовершенствовал присущую им породу, и человек
этот был бы из наездников или земледельцев; ну а теперь, раз они люди, кого
думаешь взять для них в воспитатели? Кто бы это мог быть знатоком
подобной доблести, человеческой или гражданской? Полагаю, ты об этом
подумал, приобретя сыновей? Есть ли таковой, спрашиваю, или нет?"
"Конечно, - отвечает он, - есть". "Кто же это? - спрашиваю я. Откуда он и
сколько берет за обучение?" "Эвен, - отвечает он, - с Пароса, берет по пяти
мин , Сократ". И благословил я этого Эвена, если правда, что он обладает
таким искусством и так недорого берет за с обучение. Я бы и сам чванился и
гордился, если бы был искусен в этом деле; только ведь я в этом не искусен,
о мужи афиняне!
Может быть, кто-нибудь из вас возразит: "Однако, Сократ, чем же ты
занимаешься? Откуда на тебя эти клеветы? В самом деле, если бы сам ты не
занимался чем-нибудь особенным, то и не говорили бы о тебе так много.
Скажи нам, что это такое, чтобы нам зря не выдумывать". Вот это, мне
кажется, правильно, и я сам постараюсь вам показать, что именно дало мне
известность и навлекло на меня клевету. Слушайте же. И хотя бы комунибудь из вас показалось, что я шучу, будьте уверены, что я говорю сущую
правду. Эту известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как
благодаря некоторой мудрости. Какая же это такая мудрость? Да уж, должно
быть, человеческая мудрость. Этой мудростью я, пожалуй, в самом деле
мудр; а те, о которых я сейчас говорил, мудры или сверхчеловеческой
мудростью, или уж не знаю, как и сказать; что же меня касается, то я,
конечно, этой мудрости не понимаю, а кто утверждает обратное, тот лжет и
говорит это для того, чтобы оклеветать меня. И вы не шумите, О мужи
афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно; не
свои слова буду я говорить, а сошлюсь на слова, для вас достоверные.
Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она
состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах. Ведь вы знаете Херефонта.
Человек этот смолоду был и моим, и вашим приверженцем, разделял с вами
изгнание и возвратился вместе с вами. И вы, конечно, знаете, каков был
Херефонт, до чего он был неудержим во всем, что бы ни затевал. Ну вот же,
приехав однажды в Дельфы, дерзнул он обратиться к оракулу с таким
вопросом. Я вам сказал не шумите, о мужи! Вот он и спросил, есть ли ктонибудь на свете мудрее меня, и Пифия ему ответила, что никого нет мудрее.
И хотя сам он умер, но вот брат его засвидетельствует вам об этом.
Посмотрите теперь, зачем я это говорю; ведь мое намерение - объяснить вам,
откуда пошла клевета на меня. Услыхав это, стал я размышлять сам с собою
таким образом: что бы такое бог хотел сказать и что это он подразумевает?
Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым; что же это он
хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он лгать: не
полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он хочет сказать; потом,
136
собравшись с силами, прибегнул к такому решению вопроса: пошел я к
одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что тут-то я скорее
всего опровергну прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее
меня, а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к этому
человеку - называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что
человек, глядя на которого я увидал то, что я увидал, был одним из
государственных людей, о мужи афиняне, - так вот, когда я к нему
присмотрелся (да побеседовал с ним), то мне показалось, что этот муж
только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в
самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он
только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и
многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал
сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй,
оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает,
а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается
мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю
эту вещь. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем
тот, и увидал то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие
другие.
Ну и после этого стал я уже ходить по порядку. Замечал я, что делаюсь
ненавистным, огорчался этим и боялся этого, но в то же время мне казалось,
что слова бога необходимо ставить выше всего. Итак, чтобы понять, что
означает изречение бога, мне казалось необходимым пойти ко всем, которые
слывут знающими что- либо. И, клянусь собакой, о мужи афиняне, уж вам-то
я должен говорить правду, что я поистине испытал нечто в таком роде: те,
что пользуются самою большою славой, показались мне, когда я исследовал
дело по указанию бога, чуть ли не самыми бедными разумом, а другие, те,
что считаются похуже, - более им одаренными. Но нужно мне рассказать вам
о том, как я странствовал, точно я труд какой-то нес, и все это для того
только,
чтобы
прорицание
оказалось
неопровергнутым.
После
государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к
дифирамбическим, и ко всем прочим, чтобы на месте уличить себя в том, что
я невежественнее, чем они. Брал я те из их произведений, которые, как мне
казалось, всего тщательнее ими отработаны, и спрашивал у них, что именно
они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них кое-чему. Стыдно мне,
о мужи, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Ну да, одним словом,
чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано
этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов вот что
я узнал в короткое время: не мудростью могут они творить то, что они
творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно
гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но
совсем не знают того, о чем говорят . Нечто подобное, как мне показалось,
137
испытывают и поэты; и в то же время я заметил, что вследствие своего
поэтического дарования они считали себя мудрейшими из людей и в
остальных отношениях, чего на деле не было. Ушел я и оттуда, думая, что
превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей.
Под конец уж пошел я к ремесленникам. Про себя я знал, что я попросту
ничего не знаю, ну а уж про этих мне было известно, что я найду их
знающими много хорошего. И в этом я не ошибся: в самом деле, они знали
то, чего я не знал, и этим были мудрее меня. Но, о мужи афиняне, мне
показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого, что они хорошо
владели искусством, каждый считал себя самым мудрым также и
относительно прочего, самого важного, и эта ошибка заслоняла собою ту
мудрость, какая у них была; так что, возвращаясь к изречению, я спрашивал
сам себя, что бы я для себя предпочел, оставаться ли мне так, как есть, не
будущий ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством,
или, как они, быть и тем и другим. И я отвечал самому себе и оракулу, что
для меня выгоднее оставаться как есть.
Вот от этого самого исследования, о мужи афиняне, с одной стороны, многие
меня возненавидели, притом как нельзя сильнее и глубже, отчего произошло
и множество клевет, а с другой стороны, начали мне давать это название
мудреца, потому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр в
том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. А на самом деле, о
мужи, мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что
человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит, и,
кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим
именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди,
мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не
стоит его мудрость. Ну и что меня касается, то я и теперь, обходя разные
места, выискиваю и допытываюсь по слову бога, не покажется ли мне ктонибудь из граждан или чужеземцев мудрым, и, как только мне это не
кажется, спешу поддержать бога и показываю этому человеку, что он не
мудр. И благодаря этой работе не было у меня досуга сделать что-нибудь
достойное упоминания ни для города, ни для домашнего дела, но через эту
службу богу пребываю я в крайней бедности.
Кроме того, следующие за мною по собственному почину молодые люди, у
которых всего больше досуга, сыновья самых богатых граждан, рады бывают
послушать, как я испытываю людей, и часто подражают мне сами,
принимаясь пытать других; ну и я полагаю, что они находят многое
множество таких, которые думают, что они что-то знают, а на деле ничего не
знают или знают одни пустяки. От этого те, кого они испытывают, сердятся
не на самих себя, а на меня и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший
человек, который развращает молодых людей. А когда спросят их, что он
делает и чему он учит, то они не знают, что сказать, но, чтобы скрыть свое
138
затруднение, говорят то, что вообще принято говорить обо всех любителях
мудрости: он-де занимается тем, что в небесах и под землею, богов не
признает, ложь выдает за истину. А сказать правду, думаю, им не очень-то
хочется, потому что тогда оказалось бы, что они только делают вид, будто
что-то знают, а на деле ничего не знают. Ну а так как они, думается мне,
честолюбивы, могущественны и многочисленны и говорят обо мне согласно
и убедительно, то и переполнили ваши уши, клевеща на меня издавна и
громко. От этого обрушились на меня и Мелет, и Анит, и Ликон: Мелет,
негодуя за поэтов, Анит - за ремесленников, а Ликон - за риторов. Так что я
удивился бы, как говорил вначале, если бы оказался способным опровергнуть
перед вами в столь малое время столь великую клевету. Вот вам, о мужи
афиняне, правда, как она есть, и говорю я вам без утайки, не умалчивая ни о
важном, ни о пустяках. Хотя я, может быть, и знаю, что через это становлюсь
ненавистным, но это и служит доказательством, что я сказал правду и что в
этом-то и состоит клевета на меня и таковы именно ее причины. И когда бы
вы ни стали исследовать это дело, теперь или потом, всегда вы найдете, что
это так.
Итак, что касается первых моих обвинителей, этой моей защиты будет
обвинителей достаточно; а теперь я постараюсь защищаться против Мелета,
любящего, как он говорит, наш город, и против остальных обвинителей.
Опять-таки, конечно, примем их обвинение за формальную присягу других
обвинителей. Кажется, так: Сократ, говорят они, преступает закон тем, что
развращает молодых людей и богов, которых признает город, не при- с знает,
а признает другие, новые божественные знамения. Таково именно обвинение;
рассмотрим же каждое слово этого обвинения отдельно. Мелет говорит, что я
преступаю закон, развращая молодых людей, а я, о мужи афиняне,
утверждаю, что преступает закон Мелет, потому что он шутит важными
вещами и легкомысленно призывает людей на суд, делая вид, что он
заботится и печалится о вещах, до которых ему никогда не было никакого
дела; а что оно так, я постараюсь показать это и вам.
- Ну вот, Мелет, скажи-ка ты мне: неправда ли, для тебя очень важно, чтобы
молодые люди были как можно лучше?
- Конечно.
- В таком случае скажи-ка ты вот этим людям, кто именно делает их
лучшими? Очевидно, ты знаешь, коли заботишься об этом. Развратителя ты
нашел, как говоришь: привел сюда меня и обвиняешь; а назови-ка теперь
того, кто делает их лучшими, напомни им, кто это. Вот видишь, Мелет, ты
молчишь и не знаешь что сказать. И тебе не стыдно? И это не кажется тебе
достаточным доказательством, что тебе нет до этого никакого дела? Однако,
добрейший, говори же: кто делает их лучшими?
- Законы.
139
- Да не об этом я спрашиваю, любезнейший, а о том, кто эти люди, что
прежде всего знают их, эти законы.
- А вот они, Сократ, - судьи.
- Что ты говоришь, Мелет! Вот эти самые люди способны воспитывать
юношей и делать их лучшими?
- Как нельзя более.
- Все? Или одни способны, а другие нет?
- Все.
- Хорошо же ты говоришь, клянусь Герой, и какое множество людей,
полезных для других! Ну а вот они, слушающие, делают юношей лучшими
или же нет?
- И они тоже.
- А члены Совета?
- Да, и члены Совета.
- Но в таком случае, Мелет, не портят ли юношей те, что участвуют в
Народном собрании? Или и те тоже, все до единого, делают их лучшими?
- И те тоже.
- По-видимому, кроме меня, все афиняне делают их добрыми и прекрасными,
только я один порчу. Ты это хочешь сказать?
- Как раз это самое.
- Большое же ты мне, однако, приписываешь несчастье. Но ответь-ка мне:
кажется ли тебе, что так же бывает и относительно лошадей, что улучшают
их все, а портит кто-нибудь один? Или же совсем напротив, улучшать
способен кто-нибудь один или очень немногие, именно знатоки верховой
езды, а когда ухаживают за лошадьми и пользуются ими все, то портят их?
Не бывает ли. Мелет, точно так же не только относительно лошадей, но и
относительно всех других животных? Да уж само собою разумеется,
согласны ли вы с Анитом на это или не согласны, потому что это было бы
удивительное счастье для юношей, если бы их портил только один,
остальные же приносили бы им пользу. Впрочем, Мелет, ты достаточно
показал, что никогда не заботился о юношах, и ясно обнаруживаешь свое
равнодушие: тебе нет никакого дела до того самого, из-за чего ты привел
меня в суд.
А вот, Мелет, скажи нам еще, ради Зевса: что приятнее, жить ли с хорошими
гражданами или с дурными? Ну, друг, отвечай! Я ведь не спрашиваю ничего
трудного. Не причиняют ли дурные какого-нибудь зла тем, которые всегда с
ними в самых близких отношениях, а добрые - какого-нибудь добра?
- Конечно.
- Так найдется ли кто-нибудь, кто желал бы скорее получать от ближних
вред, чем пользу? Отвечай, добрейший, ведь и закон повелевает отвечать.
Существует ли кто-нибудь, кто желал бы получать вред?
- Конечно, нет.
140
- Ну вот. А привел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает
юношей намеренно или ненамеренно?
- Который портит намеренно.
- Как же это так, Мелет? Ты, такой молодой, настолько мудрее меня, что тебе
уже известно, что злые причиняют своим ближним какое-нибудь зло, а
добрые - добро, а я, такой старый, до того невежествен, что не знаю даже, что
если я кого-нибудь из близких сделаю негодным, то должен опасаться от
него какого-нибудь зла, и вот такое-то великое зло я добровольно на себя
навлекаю, как ты утверждаешь! В этом я тебе не поверю, Мелет, да и никто
другой, я думаю, не поверит. Но или я не порчу, или если порчу, то
ненамеренно; таким образом, у тебя-то выходит ложь в обоих случаях. Если
же я порчу ненамеренно, то за такие невольные проступки не следует по
закону приводить сюда, а следует, обратившись частным образом, учить и
наставлять; потому, ясное дело, что, уразумевши, я перестану делать то, что
делаю ненамеренно. Ты же меня избегал и не хотел научить, а привел меня
сюда, куда по закону следует приводить тех, которые имеют нужду в
наказании, а не в научении.
Но ведь это уже ясно, о мужи афиняне, что Мелету, как я говорил, никогда не
было до этих вещей никакого дела; а все-таки ты нам скажи. Мелет, каким
образом, по-твоему, порчу я юношей? Не ясно ли, по обвинению, которое ты
против меня подал, что я порчу их тем, что учу не почитать богов, которых
почитает город, а почитать другие, новые божественные знамения? Не это ли
ты разумеешь, говоря, что своим учением я врежу?
- Вот именно это самое
- Так ради них. Мелет, ради этих богов, о которых теперь идет речь, скажи
еще раз то же самое яснее и для меня, и для этих вот мужей. Дело в том, что я
не могу понять, что ты хочешь сказать: то ли, что некоторых богов я учу
признавать, а следовательно, и сам признаю богов, так что я не совсем
безбожник и не в этом мое преступление, а только я учу признавать не тех
богов, которых признает город, а других, и в этом-то ты меня и обвиняешь,
что я признаю других богов; или же ты утверждаешь, что я вообще не
признаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.
- Вот именно, я говорю, что ты вообще не признаешь богов.
- Удивительный ты человек, Мелет! Зачем ты это говоришь? Значит, я не
признаю богами ни Солнце, ни Луну, как признают прочие люди?
- Право же так, о мужи судьи, потому что он утверждает, что Солнце-камень,
а Луна-земля.
- Берешься обвинять Анаксагора, друг Мелет, и так презираешь судей и
считаешь их столь несведущими по части литературы! Ты думаешь, им
неизвестно, что книги Анаксагора Клазоменского переполнены подобными
мыслями? А молодые люди, оказывается, узнают это от меня, когда они
могут узнать то же самое, заплативши за это в орхестре иной раз не больше
141
драхмы, и потом смеяться над Сократом, если бы он приписывал эти мысли
себе, к тому же еще столь нелепые! Но скажи, ради Зевса, так-таки я, потвоему, никаких богов и не признаю?
- То есть вот ничуточки!
- Это невероятно, Мелет, да, мне кажется, ты и сам этому не веришь. Что
касается меня, о мужи афиняне, то мне кажется, что человек этот большой
наглец и озорник и что он подал на меня эту жалобу просто по наглости и
озорству да еще по молодости лет. Похоже, что он придумал загадку и
пробует: заметит ли Сократ, наш мудрец, что я шучу и противоречу сам себе,
или мне удастся провести и его, и прочих слушателей? Потому что мне
кажется, что в своем обвинении он сам себе противоречит, все равно как если
бы он сказал: Сократ нарушает закон тем, что не признает богов, а признает
богов. Ведь это же шутка!
Ну вот посмотрите, так ли он это говорит, как мне кажется. Ты,
почтеннейший Мелет, отвечай нам, а вы помните, о чем я вас просил
вначале, - не шуметь, если я буду говорить по-своему. Есть ли. Мелет, на
свете такой человек, который дела бы людские признавал, а людей не
признавал? Скажите ему, о мужи, чтобы он отвечал, а не шумел бы то и дело.
Есть ли на свете кто-нибудь, кто бы лошадей не признавал, а все лошадиное
признавал бы? Или: флейтистов бы не признавал, а игру на флейте признавал
бы? Не существует такого, любезнейший! Если ты не желаешь отвечать, то я
сам буду говорить тебе, а также вот и им. Ну а уж на следующее ты должен
сам ответить: есть ли на свете кто-нибудь кто бы знамения божественные
признавал, а гениев бы не признавал?
- Нет.
- Наконец-то! Как это хорошо, что они тебя заставили ответить! Итак, ты
утверждаешь, что божественные знамения я признаю и научаю других
признавать - новые или старые все равно, только уж самые-то божественные
знамения признаю, как ты говоришь, и ты подтвердил это клятвою; а если я
признаю божественные знамения, то мне уже никак невозможно не
признавать гениев. Разве не так? Конечно, так. Принимаю, что ты согласен,
если не отвечаешь. А не считаем ли мы гениев или богами, или детьми
богов? Да или нет?
- Конечно, считаем.
- Итак, если гениев я признаю, как ты утверждаешь, а гении суть своего рода
боги, то оно и выходит так, как я сказал, что ты шутишь и предлагаешь
загадку, утверждая, что я не признаю богов и в то же время что я признаю
богов, потому что гениев-то я по крайней мере признаю. А с другой стороны,
если гении вроде как побочные дети богов, от нимф или каких-то еще
существ, как это и принято думать, то какой же человек, признавая божьих
детей, не будет признавать богов? Это было бы так же нелепо, как если бы
кто-нибудь признавал, что существуют мулы - лошадиные и ослиные дети, а
142
что существуют лошади и ослы, не признавал бы. Нет, Мелет, не может быть,
чтобы ты подал это обвинение иначе, как желая испытать нас, или же ты
недоумевал, в каком бы настоящем преступлении обвинить меня. А чтобы ты
мог убедить кого-нибудь, у кого есть хоть немного ума, что один и тот же
человек может и признавать и демоническое, и божественное и в то же время
не признавать ни демонов, ни богов, это никоим образом невозможно.
Впрочем, о мужи афиняне, что я невиновен в том, в чем меня обвиняет
Мелет, это, мне кажется, не требует дальнейших доказательств, довольно
будет и сказанного. А что у многих явилось против меня сильное
ожесточение, о чем я и говорил вначале, это, будьте уверены, истинная
правда. И если что погубит меня, так именно это; не Мелет и не Анит, а
клевета и недоброжелательство многих - то, что погубило уже немало
честных людей, думаю, что и еще погубит. Не думайте, что дело на мне
остановится!
Но пожалуй, кто-нибудь скажет: не Сократ стыдно ли тебе, заниматься таким
делом, от которого, может быть, тебе придется теперь умереть? А на это я по
справедливости могу возразить: нехорошо ты это говоришь, мой милый,
будто человеку, который приносит хотя бы малую пользу, следует принимать
в расчет смерть, а не думать всегда лишь о том, делает ли он дела с
справедливые или несправедливые, дела доброго человека или злого.
Плохими, по твоему рассуждению, окажутся все те полубоги, которые пали
под Троей, в том числе и сын Фетиды, который из страха сделать что-нибудь
постыдное до того презирал опасность, что, когда мать его, богиня, видя, что
он горит желанием убить Гектора, сказала ему, помнится, так: "Дитя мое,
если ты отомстишь за убийство друга твоего Патрокла и убьешь Гектора, то
сам умрешь: "Скоро за сыном Приама конец и тебе уготован"",- он, услыхав
это, не посмотрел на смерть и опасность, а гораздо больше убоялся
оставаться в живых, будучи трусом и не мстя за друзей. "Умереть бы, говорит он, - мне тотчас, покарав обидчика, только бы не оставаться еще
здесь, у кораблей дуговидных, посмешищем для народа и бременем для
земли". Кажется ли тебе, что он подумал при этом о смерти и об опасности?
Вот оно как бывает поистине, о мужи афиняне: где кто поставил себя, думая,
что для него это самое лучшее место, или же поставлен начальником, там и
должен переносить опасность, не принимая в расчет ничего, кроме позора, ни смерти, ни еще чего-нибудь.
Было бы ужасно, о мужи афиняне, если бы, после того как я оставался в
строю, как и всякий другой, и подвергался опасности умереть тогда, когда
меня ставили начальники, вами выбранные для начальства надо мною, -под
Потидеей, Амфиполем и Делием, - если бы теперь, когда меня поставил сам
бог, для того, думаю, чтобы мне жить, занимаясь философией, и испытывать
самого себя и других, если бы теперь я испугался смерти или еще чегонибудь и бежал из строя; это 29 было бы ужасно, и тогда в самом деле можно
143
было бы по справедливости судить меня за то, что я не признаю богов, так
как не слушаюсь оракула, боюсь смерти и считаю себя мудрым, не будучи
таковым, потому что бояться смерти есть не что иное, как думать, что знаешь
то, чего не знаешь. Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того,
не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто
знают наверное, что она есть величайшее из зол. Но не самое ли это позорное
невежество - думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня касается, о
мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей только одним:
если я кому-нибудь и кажусь мудрее других, то разве только тем, что,
недостаточно зная об Аиде, так и думаю, что не знаю. А что нарушать закон
и не слушаться того, кто лучше меня, будь это бог или человек, нехорошо и
постыдно - это вот я знаю. Никогда поэтому не буду я бояться и избегать
того, что может оказаться и благом, более, чем того, что наверное есть зло.
Так что с если бы вы меня отпустили, не поверив Аниту, который сказал, что
или мне вообще не следовало приходить сюда, а уж если пришел, то
невозможно не казнить меня, и внушал вам, что если я уйду от наказания, то
сыновья ваши, занимаясь тем, чему учит Сократ, развратятся уже вконец все
до единого, - даже если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: на
этот раз, Сократ, мы не согласимся с Анитом и отпустим тебя, с тем, однако,
чтобы ты больше не занимался этим исследованием и оставил философию, а
если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть, - так вот,
говорю я, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал:
"Желать вам всякого добра - я желаю, о мужи афиняне, и люблю вас, а
слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и
способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого
из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о
лучший из мужей, гражданин города Афин, величайшего из городов и
больше всех прославленного за мудрость и силу, не стыдно ли тебе, что ты
заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о
почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как
можно лучше, -не заботишься и не помышляешь?" И если кто из вас станет
возражать и утверждать, что он об этом заботится, то я не оставлю его и не
уйду от него тотчас же, а буду его расспрашивать, пытать, опровергать и,
если мне покажется, что в нем нет доблести, а он только говорит, что есть,
буду попрекать его за то, что он самое дорогое не ценит ни во что, а плохое
ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с
молодым и старым, с чужеземцами и с вами, с вами особенно, потому что вы
мне ближе по крови. Могу вас уверить, что так велит бог, и я думаю, что во
всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение богу. Ведь я
только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и старого,
заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе,
чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается
144
доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги и все прочие блага, как в
частной жизни, так и в общественной. Да, если бы такими словами я
развращал юношей, то слова эти были бы вредными. А кто утверждает, что я
говорю что-нибудь другое, а не это, тот несет вздор. Вот почему я могу вам
сказать, афиняне: послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет поступать с иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло
умирать много раз.
Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу - не шуметь по поводу
того, что я говорю, а слушать; слушать вам будет полезно, как я думаю. Я
намерен сказать вам и еще кое-что, от чего вы, наверное, пожелаете кричать,
только вы никоим образом этого не делайте. Будьте уверены, что если вы
меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, нежели мне.
Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Мелета, ни от Анита, да они и не
могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было
позволено вредить лучшему. Разумеется, он может убить, изгнать из
отечества, отнять все права. Но ведь это он или еще кто-нибудь считает все
подобное за великое зло, а я не считаю; гораздо же скорее считаю я злом
именно то, что он теперь делает, замышляя несправедливо осудить человека
на смерть. Таким образом, о мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не
ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудивши меня на в
смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если
вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который,
смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и
благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее
подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как
такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас
будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о
мужи, а меня вы можете сохранить, если вы мне поверите. Но очень может
статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с
легкостью убьете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь
проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще когонибудь. А что я такой как будто бы дан городу богом, это вы можете
усмотреть вот из чего: похоже ли на что-нибудь человеческое, что я забросил
все свои собственные дела и сколько уже лет терпеливо переношу упадок
домашнего хозяйства, а вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к
каждому частным образом, как отец или старший брат, и убеждая заботиться
о добродетели. И если бы я от этого пользовался чем-нибудь и получал бы
плату за эти наставления, тогда бы еще был у меня какой-нибудь расчет, а то
сами вы теперь видите, что мои обвинители, которые так бесстыдно
обвиняли меня во всем прочем, тут по крайней мере оказались неспособными
к бесстыдству и не представили свидетеля, который с показал бы, что я
когда-либо получал какую-нибудь плату или требовал ее; потому, думаю, что
145
я могу представить верного свидетеля того, что я говорю правду, - мою
бедность.
Может в таком случае показаться странным, что я подаю эти советы частным
образом, обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно в вашем
собрании и давать советы городу не решаюсь. Причина этому та самая, о
которой вы часто и повсюду от меня слышали, а именно что мне бывает
какое-то чудесное божественное знамение; ведь над этим и Мелет посмеялся
в своей жалобе. Началось у меня это с детства: вдруг - какой-то голос,
который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а
склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и не
допускает меня заниматься государственными делами. И кажется, прекрасно
делает, что не допускает. Будьте уверены, о мужи афиняне, что если бы я
попробовал заниматься государственными делами, то уже давно бы погиб и
не принес бы пользы ни себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь, если я вам
скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал
откровенно противиться вам или какому-нибудь другому большинству и
хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий,
которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за
справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое время, должен
оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не
должен.
Доказательства этого я вам представлю самые веские, не рассуждения, а то,
что вы цените дороже, - дела. Итак, выслушайте, что со мною случилось, и
тогда вы увидите, что я и под страхом смерти никого не могу послушаться
вопреки справедливости, а не слушаясь, могу от этого погибнуть. То, что я
намерен вам рассказать, досадно и скучно слушать, зато это истинная правда.
Никогда, афиняне, не занимал я в городе никакой другой должности, но в
Совете я был. И пришла нашей филе Антиохиде очередь заседать в то время,
когда вы желали судить огулом десятерых стратегов, которые не подобрали
пострадавших в морском сражении, - судить незаконно, как вы сами
признали это впоследствии. Тогда я, единственный из пританов, восстал
против нарушения закона, и в то время, когда ораторы готовы были обвинить
меня и посадить в тюрьму и вы сами этого требовали и кричали, - в то время
я думал, с что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне
закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмою или смертью
быть заодно с вами, желающими несправедливого. Это еще было тогда, когда
город управлялся народом, а когда наступила олигархия, то и Тридцать в
свою очередь призвали меня и еще четверых граждан в Круглую палату и
велели нам привезти из Саламина саламинца Леонта, чтобы казнить его.
Многое в этом роде приказывали они делать и многим другим, желая
отыскать как можно больше виновных. Только и на этот раз опять я доказал
не словами, а делом, что для меня смерть, если не грубо так выразиться, 146
самое пустое дело, а вот воздерживаться от всего беззаконного и безбожного
- это для меня самое важное. Таким образом, как ни могущественно было это
правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить сделать
что-нибудь несправедливое, но, когда вышли мы из Круглой палаты, четверо
из нас отправились в Саламин и привезли Леонта, а я отправился домой. И по
всей вероятности, мне пришлось бы за это умереть, если бы правительство не
распалось в самом скором времени. И всему этому у вас найдется много
свидетелей.
Кажется ли вам после этого, что я мог бы прожить столько лет, если бы
занимался общественными делами, занимался бы притом достойно
порядочного человека, спешил бы на помощь к правым и считал бы это
самым важным, как оно и следует? Никоим образом, о мужи афиняне! И
никому другому это не возможно. А я всю жизнь оставался таким, как в
общественных делах, насколько в них участвовал, так и в частных, никогда и
ни с кем не соглашаясь вопреки справедливости, ни с теми, которых
клеветники мои называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь. Да я не
был никогда ничьим учителем, а если кто, молодой или старый, желал меня
слушать и видеть, как я делаю свое дело, то я никому никогда не
препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы, а не получая, не
вел, но одинаково как богатому, так и бедному позволяю я меня спрашивать,
а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать то, что я говорю. И за то,
хороши ли эти люди или дурны, я по справедливости не могу отвечать,
потому что никого из них никогда никакой науке я не учил и не обещал
научить. Если же кто-нибудь утверждает, что он частным образом научился
от меня чему-нибудь или слышал от меня что-нибудь, чего бы не слыхали и
все прочие, тот, будьте уверены, говорит неправду.
Но отчего же некоторые любят подолгу бывать со с мною? Слышали вы это,
о мужи афиняне; сам я вам сказал всю правду: потому что они любят
слушать, как я пытаю тех, которые считают себя мудрыми, не будучи
таковыми. Это ведь не лишено удовольствия. А делать это, говорю я,
поручено мне богом и через прорицания, и в сновидениях, вообще всякими
способами, какими когда-либо еще обнаруживалось божественное
определение и поручалось человеку делать что-нибудь. Это не только верно,
афиняне, но и легко доказуемо. В самом деле, если одних юношей я
развращаю, а других уже развратил, то ведь те из них, которые уже
состарились и узнали, что когда-то, во время их молодости, я советовал им
что-то дурное, должны были бы теперь прийти мстить мне и обвинять меня.
А если сами они не захотели, то кто-нибудь из их домашних, отцы, братья,
другие родственники, если бы только их близкие потерпели от меня чтонибудь дурное, вспомнили бы теперь об этом. Да уж, конечно, многие из них
тут, как я вижу: ну в вот, во-первых, Критон, мой сверстник и из одного со
мною дема, отец вот его, Критобула; затем сфеттиец Лисаний, отец вот его,
147
Эсхина; еще кефисиец Антифон, отец Эпигена; а еще вот братья тех, которые
ходили за мною, - Никострат, сын Феозотида и брат Феодота; самого
Феодота уже нет в живых, так что он по крайней мере не мог упросить брата,
чтобы он не говорил против меня; вот и Парад, Демодоков сын, которому
Феаг приходился братом; а вот Адимант, Аристонов сын, которому вот он,
Платон, приходится братом, и Эантодор, брат вот этого, Аполлодора. Я могу
назвать еще многих других, и Мелету в его речи всего нужнее было
выставить кого-нибудь из них как свидетеля; а если тогда он забыл это
сделать, то пусть сделает теперь, я ему разрешаю, и, если он может заявить
что-нибудь такое, пусть говорит. Но вы увидите совсем противоположное, о
мужи, увидите, что все готовы броситься на помощь ко мне, к тому
развратителю, который делает зло их домашним, как утверждают Мелет и
Анит. У самих развращенных, пожалуй, еще может быть основание
защищать меня, но у их родных, которые не развращены, у людей уже
старых, какое может быть другое основание защищать меня, кроме прямой и
справедливой уверенности, что Мелет лжет, а я говорю правду.
Но об этом довольно, о мужи! Вот приблизительно то, что я могу так или
иначе привести в свое оправдание. с Возможно, что кто-нибудь из вас
рассердится, вспомнив о себе самом, как сам он, хотя дело его было и не так
важно, как мое, упрашивал и умолял судей с обильными слезами и, чтобы
разжалобить их как можно больше, приводил своих детей и множество
других родных и друзей, а вот я ничего такого делать не намерен, хотя
подвергаюсь, как оно может казаться, самой крайней опасности. Так вот
возможно, что, подумав об этом, кто-нибудь не сочтет уже нужным
стесняться со мною и, рассердившись, подаст в сердцах свой голос. Думает
ли так кто-нибудь из вас в самом деле, я этого не утверждаю; а если думает,
то мне кажется, что я отвечу ему правильно, если скажу: есть и у меня,
любезнейший, кое-какие родные; тоже ведь и я, как говорится у Гомера, не
от дуба родился и не от скалы, а произошел от людей; есть у меня и родные,
есть и сыновья, о мужи афиняне, целых трое, один уже взрослый, а двое младенцы; тем не менее ни одного из них не приведу я сюда и не буду
просить вас о помиловании. Почему же, однако, не намерен я ничего этого
делать? Не по презрению к вам, о мужи афиняне, и не потому, что я бы не
желал вас уважить. Боюсь ли я или не боюсь смерти, это мы теперь оставим,
но для чести моей и вашей, для чести всего города, мне кажется, было бы
нехорошо, если бы я стал делать что-нибудь такое в мои года и при том
прозвище, которое мне дано, верно оно или неверно - все равно. Как-никак, а
ведь принято все-таки думать, что Сократ отличается кое-чем от
большинства людей; а если так будут вести себя те из вас, которые, повидимому, отличаются или мудростью, или мужеством, или еще какоюнибудь доблестью, то это будет позорно. Мне не раз приходилось видеть, как
люди, казалось бы, почтенные проделывали во время суда над ними
148
удивительные вещи, как будто они думали, что им предстоит испытать чтото ужасное, если они умрут; можно было подумать, что они стали бы
бессмертными, если бы вы их не убили! Мне кажется, эти люди позорят
город, так что и какой-нибудь чужеземец может заподозрить, что у афинян
люди, которые отличаются доблестью и которых они сами выбирают на
главные государственные и прочие почетные должности, ничем не
отличаются от женщин. Так вот, о мужи афиняне, не только нам, людям как
бы то ни было почтенным, не следует этого делать, но и вам не следует этого
позволять, если мы станем это делать, - напротив, вам нужно делать вид, что
вы гораздо скорее признаете виновным того, кто устраивает эти слезные
представления и навлекает насмешки над городом, нежели того, кто ведет
себя спокойно.
Не говоря уже о чести, мне кажется, что это и не- с правильно, о мужи, просить судью и избегать наказания просьбою, вместо того чтобы разъяснять
дело и убеждать. Ведь судья посажен не для того, чтобы миловать по
произволу, но для того, чтобы творить суд; и присягал он не в том, что будет
миловать кого захочет, но в том, что будет судить по законам. А потому и
нам ни следует приучать вас нарушать присягу, и вам не следует к этому
приучаться, а иначе мы можем с вами одинаково впасть в нечестие. Так уж
вы мне не говорите, о мужи афиняне, будто я должен проделывать перед
вами то, чего я и так не считаю ни хорошим, ни правильным, ни согласным с
волею богов, да еще проделывать это теперь, когда вот он, Мелет, обвиняет
меня в нечестии. Ибо очевидно, что если бы я вас уговаривал и вынуждал бы
своею просьбою нарушить присягу, то научал бы вас думать, что богов не
существует, и, вместо того чтобы защищаться, попросту сам бы обвинял себя
в том, что не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе; почитаю я их, о
мужи афиняне, больше, чем кто-либо из моих обвинителей, и предоставляю
вам и богу рассудить меня так, как будет всего лучше и для меня, и для вас.
ПОСЛЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА
Многое, о мужи афиняне, не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас
случилось, тем, что вы меня осудили, между прочим и то, что это не было
для меня неожиданностью. Гораздо более удивляет меня число голосов на
той и на другой стороне. Что меня касается, то ведь я и не думал, что буду
осужден столь малым числом голосов, я думал, что буду осужден большим
числом голосов. Теперь же, как мне кажется, перепади тридцать один
камешек с одной стороны на другую, и я был бы оправдан. Ну а от Мелета,
по-моему, я и теперь ушел; да не только ушел, а еще вот что очевидно для
всякого: если бы Анит и Ликон не пришли сюда, чтобы обвинять меня, то он
был бы принужден уплатить тысячу драхм как не получивший пятой части
голосов.
Ну а наказанием для меня этот муж полагает смерть. Хорошо. Какое же
наказание, о мужи афиняне, должен я положить себе сам? Не ясно ли, что
149
заслуженное? Так какое же? Чему по справедливости подвергнуться или
сколько должен я уплатить за то, что ни с того ни с сего всю свою жизнь не
давал себе покоя, за то, что не старался ни о чем таком, о чем старается
большинство: ни о наживе денег, ни о домашнем устроении, ни о том, чтобы
попасть в стратеги, ни о том, чтобы руководить народом; вообще не
участвовал ни в управлении, ни в заговорах, ни в восстаниях, какие бывают в
нашем городе, считая с себя, право же, слишком порядочным человеком,
чтобы оставаться целым, участвуя во всем этом; за то, что я не шел туда, где
я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где мог
частным образом всякому оказать величайшее, повторяю, благодеяние,
стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своем раньше, чем
о себе самом, - как бы ему быть что ни на есть лучше и умнее, не заботиться
также и о том, что принадлежит городу, раньше, чем о самом городе, и обо
всем прочем таким же образом. Итак, чего же я заслуживаю, будучи
таковым? Чего-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уже в самом деле
воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, что бы для меня
подходило. Что же подходит для человека заслуженного и в то же время
бедного, который нуждается в досуге вашего же ради назидания? Для
подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего более подходящего, как
получать даровой обед в Пританее, по крайней мере для него это подходит
гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии
верхом, или на паре, или на тройке, потому что такой человек старается ч о
том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были
счастливыми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь. Итак,
если я должен назначить себе что-нибудь мною заслуженное, то вот я что
себе назначаю - даровой обед в Пританее.
Может быть, вам кажется, что я и это говорю по высокомерию, как говорил о
просьбах со слезами и с коленопреклонениями; но это не так, афиняне, а
скорее дело вот в чем: сам-то я убежден в том, что ни одного человека не
обижаю сознательно, но убедить в этом вас я не могу, потому что мало
времени беседовали мы друг с другом; в самом деле, мне думается, что вы бы
убедились, если бы у вас, как у других людей , существовал закон решать
дело о смертной казни в течение не одного дня, а нескольких; а теперь не
так-то это легко - в малое время снимать с себя великие клеветы. Ну так вот,
убежденный в том, что я не обижаю ни одного человека, ни в каком случае
не стану я обижать самого себя, говорить о себе самом, что я достоин чего нибудь нехорошего, и назначать себе наказание. С какой стати? Из страха
подвергнуться тому, чего требует для меня Мелет и о чем, повторяю еще раз,
я не знаю, хорошо это или дурно? Так вот вместо этого я выберу и назначу
себе наказанием что-нибудь такое, о чем я знаю наверное, что это - зло?
Вечное заточение? Но ради чего стал бы я жить в тюрьме рабом
Одиннадцати, постоянно меняющейся власти? Денежную пеню и быть в
150
заключении, пока не уплачу? Но для меня это то же, что вечное заточение,
потому что мне не из чего уплатить.
В таком случае не должен ли я назначить для себя изгнание? К этому вы
меня, пожалуй, охотно присудите. Сильно бы, однако, должен был я трусить,
если бы растерялся настолько, что не мог бы сообразить вот чего: вы,
собственные мои сограждане, не были в состоянии вынести мое присутствие
и слова мои оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что
вы ищете теперь, как бы от них отделаться; ну а другие легко их вынесут?
Никоим образом, афиняне. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь уйти на старости лет из отечества и жить, переходя из города в город, будучи
отовсюду изгоняемым. Я ведь отлично знаю, что, куда бы я ни пришел,
молодые люди везде будут меня слушать так же, как и здесь; и если я буду их
отгонять, то они сами меня выгонят, подговорив старших, а если я не буду их
отгонять, то их отцы и домашние выгонят меня из-за них же.
В таком случае кто-нибудь может сказать: "Но разве, Сократ, уйдя от нас, ты
не был бы способен проживать спокойно и в молчании?" Вот в этом-то и
всего труднее убедить некоторых из вас. В самом деле, если я скажу, что это
значит не слушаться бога, а что, не слушаясь бога, нельзя оставаться
спокойным, то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу; с другой
стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о доблестях и обо всем
прочем, о чем я с вами беседую, пытая и себя, и других, есть к тому же и
величайшее благо для человека, а жизнь без такого исследования не есть
жизнь для человека, - если это я вам скажу, то вы поверите мне еще меньше.
На деле-то оно как раз так, о мужи, как я это утверждаю, но убедить в этом
нелегко. Да к тому же я и не привык считать себя достойным чего-нибудь
дурного. Будь у меня деньги, тогда бы я назначил уплатить деньги сколько
полагается, в этом для меня не было бы никакого вреда, но ведь их же нет,
разве если вы мне назначите уплатить столько, сколько я могу. Пожалуй, я
вам могу уплатить мину серебра; ну столько и назначаю. А вот они, о мужи
афиняне, - Платон, Критон, Критобул, Аполлодор - велят мне назначить
тридцать мин, а поручительство берут на себя; ну так назначаю тридцать, а
поручители в уплате денег будут у вас надежные.
ПОСЛЕ СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА
Немного не захотели вы подождать, о мужи афиняне, а вот от этого пойдет о
вас дурная слава между людьми, желающими хулить наш город, и они будут
обвинять вас в том, что вы убили Сократа, известного мудреца. Конечно, кто
пожелает вас хулить, тот будет утверждать, что я мудрец, пусть это и не так.
Вот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось для вас само
собою; подумайте о моих годах, как много уже прожито жизни и как близко
смерть. Это я говорю не а всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть.
А еще вот что хочу я сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, о
мужи, что я осужден потому, что у меня не хватило таких слов, которыми я
151
мог бы склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и
говорить все, чтобы уйти от наказания. Вовсе не так. Не хватить-то у меня,
правда что, не хватило, только не слов, а дерзости и бесстыдства и желания
говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать, вопия и рыдая,
делая и говоря, повторяю я вам, еще многое меня недостойное - все то, что
вы привыкли слышать от других. Но и тогда, когда угрожала опасность, не
находил я нужным делать из-за этого что-нибудь рабское, и теперь не
раскаиваюсь в том, что защищался таким образом, и гораздо скорее
предпочитаю умереть после такой защиты, нежели оставаться живым,
защищавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни комулибо другому не следует избегать смерти всякими способами без разбора.
Потому что и в сражениях часто бывает очевидно, что от смерти-то можно
иной раз уйти, или бросив оружие, или начавши умолять преследующих;
много есть и других способов избегать смерти в случае какой-нибудь
опасности для того, кто отважится делать и говорить все. От смерти уйти
нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее - уйти от нравственной порчи,
потому что она идет скорее, чем смерть. И вот я, человек тихий и старый,
настигнут тем, что идет тише, а мои обвинители, люди сильные и проворные,
- тем, что идет проворнее, - нравственною порчей. И вот я, осужденный вами,
ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, уходят на зло и неправду; и я
остаюсь при своем наказании, и они - при своем. Так оно, пожалуй, и должно
было случиться, и мне думается, что это правильно.
А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после
этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают
способны пророчествовать, - когда им предстоит умереть. И вот я
утверждаю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас
мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня
осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходимости
давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное:
больше будет у вас обличителей - тех, которых я до сих пор сдерживал и
которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и
вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что,
убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете
неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не
вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый
легкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше.
Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, я ухожу от вас.
А с теми, которые меня оправдали, я бы охотно побеседовал о самом этом
происшествии, пока архонты заняты своим делом и мне нельзя еще идти
туда, где я должен умереть. Побудьте пока со мною, о мужи! Ничто не
мешает нам поболтать друг с другом, пока есть время. Вам, друзьям моим, я
хочу показать, что, собственно, означает теперешнее происшествие. Со
152
мною, о мужи судьи, - вас-то я по справедливости могу называть судьями случилось что-то удивительное. В самом деле, в течение всего прошлого
времени обычный для меня вещий голос слышался мне постоянно и
останавливал меня в самых неважных случаях, когда я намеревался сделать
что-нибудь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случилось то,
что может показаться величайшим из зол, по крайней мере так принято
думать; тем не менее божественное знамение не остановило меня ни утром,
когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время
всей речи, что бы я ни хотел сказать. Ведь прежде-то, когда я что-нибудь
говорил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во всем этом
деле ни разу оно не удержало меня от какого-нибудь поступка, от какогонибудь слова. Как же мне это понимать? А вот я вам скажу: похоже, в самом
деле, что все это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы
правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло. Этому с у меня
теперь есть великое доказательство, потому что быть этого не может, чтобы
не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был
сделать, не было благом.
А рассудим-ка еще вот как - велика ли надежда, что смерть есть благо?
Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы
то ни было, так что умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы
то ни было, или же это есть для души какой-то переход, переселение ее
отсюда в другое место, если верить тому, что об этом говорят. И если бы это
было отсутствием всякого ощущения, все равно что сон, когда спят так, что
даже ничего не видят во сне, то смерть была бы удивительным
приобретением. Мне думается, в самом деле, что если бы кто-нибудь должен
был взять ту ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, сравнить эту
ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, сказать,
сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту
ночь, то, я думаю, не только всякий простой человек, но и сам Великий царь
нашел бы, что сосчитать такие дни и ночи сравнительно с остальными ничего
не стоит. Так если смерть такова, я со своей стороны назову ее
приобретением, потому что таким-то образом выходит, что вся жизнь ничем
не лучше одной ночи. С другой стороны, если смерть есть как бы
переселение отсюда в другое место и если правду говорят, будто бы там все
умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, о мужи судьи? В самом деле,
если прибудешь в Аид, освободившись вот от этих так называемых судей, и
найдешь там судей настоящих, тех, что, говорят, судят в Аиде, - Миноса,
Радаманта, Эака, Триптолема, и всех тех полубогов, которые в своей жизни
отличались справедливостью, - разве это будет плохое переселение? А чего
бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом,
Гомером! Что меня касается, то я желаю умирать много раз, если все это
правда; для кого другого, а для меня было бы удивительно вести там беседы,
153
если бы я встретился, например, с Паламедом и Теламоновым сыном Аяксом
или еще с кем-нибудь из древних, кто умер жертвою неправедного суда, и
мне думается, что сравнивать мою судьбу с их было бы не неприятно. И
наконец, самое главное - это проводить время в том, чтобы распознавать и
разбирать тамошних людей точно так же, как здешних, а именно кто из них
мудр и кто из них только думает, что мудр, а на самом деле не мудр; чего не
дал бы всякий, о мужи судьи, чтобы узнать доподлинно с человека, который
привел великую рать под Трою, или узнать Одиссея, Сисифа и множество
других мужей и жен, которых распознавать, с которыми беседовать и жить
вместе было бы несказанным блаженством. Не может быть никакого
сомнения, что уж там-то за это не убивают, потому что помимо всего прочего
тамошние люди блаженнее здешних еще и тем, что остаются все время
бессмертными, если верно то, что об этом говорят.
Но и вам, о мужи судьи, не следует ожидать ничего дурного от смерти, и уж
если что принимать за верное, а так это то, что с человеком хорошим не
бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти и что боги не
перестают заботиться о его делах; тоже вот и моя судьба устроилась не сама
собою, напротив, для меня очевидно, что мне лучше уж умереть и
освободиться от хлопот. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало, и
я сам не очень-то пеняю на тех, кто приговорил меня к наказанию, и на моих
обвинителей. Положим, что они выносили приговор и обвиняли меня не по
такому соображению, а думая мне повредить; это в них заслуживает
порицания. А все-таки я обращаюсь к ним с такою маленькою просьбой:
если, о мужи, вам будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми,
больше заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о доблести, отомстите
им за это, преследуя их тем же самым, чем и я вас преследовал; и если они
будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас
укорял, за то, что они не заботятся о должном и воображают о себе невесть
что, между тем как на самом деле ничтожны. И, делая это, вы накажете по
справедливости не только моих сыновей, но и меня самого. Но вот уже время
идти отсюда, мне - чтобы умереть, вам - чтобы жить, а кто из нас идет на
лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога.
РАЗДЕЛ З Средневековая философия
РАЗДЕЛ 4 Философия Нового времени и эпохи просвещения
154
Р.Декарт
РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ, ЧТОБЫ ВЕРНО НАПРАВЛЯТЬ
СВОЙ РАЗУМ И ОТЫСКИВАТЬ ИСТИНУ В НАУКАХ
Если рассуждение это покажется слишком длинным для прочтения за
один раз, то его можно разделить на шесть частей. В первой окажутся
различные соображения относительно наук; во второй - основные правила
метода, найденного автором; в третьей - некоторые из правил морали,
извлеченных автором из этого метода; в четвертой - доводы, с помощью коих
он доказывает существование Бога и человеческой души, которые
составляют основание его метафизики; в пятой можно будет найти
последовательность вопросов физики, какие он рассмотрел, и, в частности,
объяснение движения сердца и рассмотрение некоторых других трудных
вопросов, относящихся к медицине, а также различие, существующее между
нашей душой и душой животных; и в последней - указание на то, что, по
мнению автора, необходимо для того, чтобы продвинуться в исследовании
природы дальше, чем это удалось ему, а также объяснение соображений,
побудивших его писать.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАУК
Здравомыслие есть вещь, распределенная справедливее всего; каждый
считает себя настолько им наделенным, что даже те, кого всего труднее
удовлетворить в каком-либо другом отношении, обыкновенно не стремятся
иметь здравого смысла больше, чем у них есть. При этом невероятно, чтобы
все заблуждались. Это свидетельствует скорее о том, что способность
правильно рассуждать и отличать истину от заблуждения - что, собственно, и
составляет, как принято выражаться, здравомыслие, или разум (raison),- от
природы одинакова у всех людей, а также о том, что различие наших мнений
происходит не от того, что один разумнее других, а только от того, что мы
направляем наши мысли различными путями и рассматриваем не одни и те
же вещи. Ибо недостаточно просто иметь хороший ум (esprit), но главное это хорошо применять его. Самая великая душа способна как к величайшим
порокам, так и к величайшим добродетелям, и те, кто идет очень медленно,
может, всегда следуя прямым путем, продвинуться значительно дальше того,
кто бежит и удаляется от этого пути.
Что касается меня, то я никогда не считал свой ум более совершенным,
чем у других, и часто даже желал иметь столь быструю мысль, или столь
ясное и отчетливое воображение, или такую обширную и надежную память,
как у некоторых других. Иных качеств, которые требовались бы для
совершенства ума, кроме названных, указать не могу; что же касается разума,
или здравомыслия, то, поскольку это единственная вещь, делающая нас
людьми и отличающая нас от животных, то я хочу верить, что он полностью
наличествует в каждом, следуя при этом общему мнению философов,
155
которые говорят, что количественное различие может быть только между
случайными свойствами, а не между формами, или природами,
индивидуумов одного рода.
Однако не побоюсь сказать, что, по моему мнению, я имел счастье с
юности ступить на такие пути, которые привели меня к соображениям и
правилам, позволившим мне составить метод, с помощью которого я могу,
как мне кажется, постепенно усовершенствовать мои знания и довести их
мало-помалу до высшей степени, которой позволяет достигнуть
посредственность моего ума и краткий срок жизни. С помощью этого метода
я собрал уже многие плоды, хотя в суждении о самом себе стараюсь
склоняться более к недоверию, чем к самомнению. И хотя, рассматривая
взором философа различные действия и предприятия людей, я не могу найти
почти ни одного, которое не казалось бы мне суетным и бесполезным, однако
я не могу не чувствовать особого удовлетворения по поводу успехов, какие,
по моему мнению, я уже сделал в отыскании истины, и на будущее питаю
надежды и даже осмеливаюсь думать, что если между чисто человеческими
занятиями есть действительно хорошее и важное, так это именно то, которое
я избрал.
Впрочем, возможно, что я ошибаюсь и то, что принимаю за золото и
алмаз, не более чем крупицы меди и стекла. Я знаю, как мы подвержены
ошибкам во всем, что нас касается, и как недоверчиво должны мы относиться
к суждениям друзей, когда они высказываются в нашу пользу. Но мне очень
хотелось бы показать в этом рассуждении, какими путями я следовал, и
изобразить свою жизнь, как на картине, чтобы каждый мог составить свое
суждение и чтобы я, узнав из молвы мнения о ней, обрел бы новое средство
самообучения и присоединил бы его к тем, которыми обычно я пользуюсь.
Таким образом, мое намерение состоит не в том, чтобы научить здесь
методу, которому каждый должен следовать, чтобы верно направлять свой
разум, а только в том, чтобы показать, каким образом старался я направить
свой собственный разум. Кто берется давать наставления другим, должен
считать себя искуснее тех, кого наставляет, и если он хоть в малейшем
окажется несостоятельным, то подлежит порицанию. Но, предлагая
настоящее сочинение только как рассказ или, если угодно, как вымысел, где
среди примеров, достойных подражания, вы, может быть, найдете такие,
которым не надо следовать, я надеюсь, что оно для кого-нибудь окажется
полезным, не повредив при этом никому, и что все будут благодарны за мою
откровенность.
Я с детства был вскормлен науками, и так как меня уверили, что с их
помощью можно приобрести ясное и надежное познание всего полезного для
жизни, то у меня было чрезвычайно большое желание изучить эти науки. Но
как только я окончил курс учения, завершаемый обычно принятием в ряды
ученых, я совершенно переменил свое мнение, ибо так запутался в
156
сомнениях и заблуждениях, что, казалось, своими стараниями в учении
достиг лишь одного: все более и более убеждался в своем незнании. А между
тем я учился в одной из самых известных школ в Европе и полагал, что если
есть на земле где-нибудь ученые люди, то именно там они и должны быть. Я
изучал там все, что изучали другие, и, не довольствуясь сообщаемыми
сведениями, пробегал все попадавшиеся мне под руку книги, где трактуется о
наиболее редкостных и любопытнейших науках. Вместе с тем я знал, что
думают обо мне другие, и не замечал, чтобы меня считали ниже моих
соучеников, среди которых были и те, кто предназначался к занятию мест
наших наставников. Наконец, наш век казался мне цветущим и богатым
высокими умами не менее какого-либо из предшествующих веков. Все это
дало мне смелость судить по себе о других и думать, что такой науки, какой
меня вначале обнадеживали, в мире нет.
Но все же я весьма ценил упражнения, которыми занимаются в школах.
Я знал, что изучаемые там языки необходимы для понимания сочинений
древних; что прелесть вымыслов оживляет ум; что памятные исторические
деяния его возвышают и что знакомство с ними в разумных пределах
развивает способность суждения; что чтение хороших книг является как бы
беседой с их авторами - наиболее достойными людьми прошлых веков, и при
этом беседой содержательной, в которой авторы раскрывают лучшие из
своих мыслей; что красноречие обладает несравненной силой и красотой,
поэзия полна пленительного изящества и нежности; что математика
доставляет искуснейшие изобретения, не только способные удовлетворить
любознательных, облегчить ремесла и сократить труд людей; что сочинения,
трактующие о нравственности, содержат множество указаний и поучений,
очень полезных и склоняющих к добродетели; что богословие учит, как
достичь небес; что философия дает средство говорить правдоподобно о
всевозможных вещах и удивлять малосведущих; что юриспруденция,
медицина и другие науки приносят почести и богатство тем, кто ими
занимается, и что, наконец, полезно ознакомиться со всякими отраслями
знания, даже с теми, которые наиболее полны суеверий и заблуждений,
чтобы определить их истинную цену и не быть ими обманутыми.
Но я полагал, что достаточно уже посвятил времени языкам, а также
чтению древних книг с их историями и вымыслами, ибо беседовать с
писателями других веков - то же, что путешествовать. Полезно в известной
мере познакомиться с нравами разных народов, чтобы более здраво судить о
наших и не считать смешным и неразумным все то, что не совпадает с
нашими обычаями, как нередко делают люди, ничего не видевшие. Но кто
тратит слишком много времени на путешествия, может в конце концов стать
чужим своей стране, а кто слишком интересуется делами прошлых веков,
обыкновенно сам становится несведущим в том, что происходит в его время.
Кроме того, сказки представляют возможными такие события, которые в
157
действительности невозможны. И даже в самых достоверных исторических
описаниях, где значение событий не преувеличивается и не представляется в
ложном свете, чтобы сделать эти описания более заслуживающими чтения,
авторы почти всегда опускают низменное и менее достойное славы, и от
этого и остальное предстает не таким, как было. Поэтому те, кто соотносит
свою нравственность с такими образцами, могут легко впасть в
сумасбродство рыцарей наших романов и замышлять дела, превышающие их
силы.
Я высоко ценил красноречие и был влюблен в поэзию, но полагал, что
то и другое являются более дарованием ума, чем плодом учения. Те, кто
сильнее в рассуждениях и кто лучше оттачивает свои мысли, так что они
становятся ясными и понятными, всегда лучше, чем другие, могут убедить в
том, что они предлагают, даже если бы они говорили по-нижнебретонски и
никогда не учились риторике. А те, кто способен к самым приятным
вымыслам и может весьма нежно и красочно изъясняться, будут лучшими
поэтами, хотя бы искусство поэзии было им незнакомо.
Особенно правилась мне математика из-за достоверности и
очевидности своих доводов, но я еще не видел ее истинного применения, а
полагал, что она служит только ремеслам, и дивился тому, что на столь
прочном и крепком фундаменте не воздвигнуто чего-либо более
возвышенного. Наоборот, сочинения древних язычников, трактующие о
нравственности, я сравниваю с пышными и величественными дворцами,
построенными на песке и грязи. Они превозносят добродетели и побуждают
дорожить ими превыше всего на свете, но недостаточно научают
распознавать их, и часто то, что они называют этим прекрасным именем,
оказывается не чем иным, как бесчувственностью, или гордостью, или
отчаянием, или отцеубийством.
Я почитал наше богословие и не менее, чем кто-либо, надеялся обрести
путь на небеса. Но, узнав как вещь вполне достоверную, что путь этот открыт
одинаково как для несведущих, так и для ученейших и что полученные путем
откровения истины, которые туда ведут, выше нашего разумения, я не
осмеливался подвергать их моему слабому рассуждению и полагал, что для
их успешного исследования надо получить особую помощь свыше и быть
более, чем человеком.
О философии скажу одно: видя, что в течение многих веков она
разрабатывается превосходнейшими умами и, несмотря на это, в ней доныне
нет положения, которое не служило бы предметом споров и, следовательно,
не было бы сомнительным, я не нашел в себе такой самонадеянности, чтобы
рассчитывать на больший успех, чем другие. И, принимая во внимание,
сколько относительно одного и того же предмета может быть разных мнений,
поддерживаемых учеными людьми, тогда как истинным среди этих мнений
158
может быть только одно, я стал считать ложным почти все, что было не более
чем правдоподобным.
Далее, что касается других наук, то, поскольку они заимствуют свои
принципы из философии, я полагал, что на столь слабых основаниях нельзя
построить ничего прочного. Мне недостаточно было почестей и выгод, чтобы
посвятить себя их изучению. Слава Богу, я не был в таком положении, чтобы
делать из науки ремесло для обеспечения своего благосостояния. И хотя я не
считал себя обязанным презирать славу, как это делают киники, однако я
мало ценил ту славу, которую мог бы приобрести незаслуженно . Наконец,
что касается ложных учений, то я достаточно знал им цену, чтобы не быть
обманутым ни обещаниями какого-нибудь алхимика, ни предсказаниями
астролога, ни проделками мага, ни всякими хитростями или хвастовством
тех, что выдают себя за людей, знающих более того, что им действительно
известно.
Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения
моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решил искать только
ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и
употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, видеть дворы и
армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать
разнообразный опыт, испытав себя во встречах, которые пошлет судьба, и
всюду размышлять над встречающимися предметами так, чтобы извлечь
какую-нибудь пользу из таких занятий. Ибо мне казалось, что я могу
встретить более истины в рассуждениях каждого, касающихся
непосредственно интересующих его дел, исход которых немедленно накажет
его, если он неправильно рассудил, чем в кабинетных умозрениях
образованного человека, не завершающихся действием и имеющих для него,
может быть, единственное последствие, а именно: он тем больше
тщеславится ими, чем дальше они от здравого смысла, так как в этом случае
ему приходится потратить больше ума и искусства, чтобы попытаться
сделать их правдоподобными. Я же всегда имел величайшее желание
научиться различать истинное от ложного, чтобы лучше разбираться в своих
действиях и уверенно двигаться в этой жизни.
Правда, в то время, когда я только наблюдал нравы других людей, я не
находил в них ничего, на что мог бы опереться, так как заметил здесь такое
же разнообразие, какое ранее усмотрел в мнениях философов. Самая
большая польза, полученная мною, состояла в том, что я научился не
особенно верить тому, что мне было внушено только посредством примера и
обычая, так как видел, как многое из того, что представляется нам смешным
и странным, оказывается общепринятым и одобряемым у других великих
народов. Так я мало-помалу освободился от многих ошибок, которые могут
заслонить естественный свет и сделать нас менее способными внимать
голосу разума. После того как я употребил несколько лет на такие изучение
159
книги мира и попытался приобрести некоторый запас опыта, я принял в один
день решение изучить самого себя и употребить все силы ума, чтобы выбрать
пути, которым я должен следовать. Это, кажется, удалось мне в большей
степени, чем если бы я никогда не удалялся из моего отечества и от моих
книг.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МЕТОДА
Я находился тогда в Германии, где оказался призванным в связи с
войной, не кончившейся там и доныне. Когда я возвращался с коронации
императора в армию, начавшаяся зима остановила меня на одной из стоянок,
где, лишенный развлекающих меня собеседников и, кроме того, не
тревожимый, по счастью, никакими заботами и страстями, я оставался целый
день один в теплой комнате, имея полный досуг предаваться размышлениям.
Среди них первым было соображение о том, что часто творение,
составленное из многих частей и сделанное руками многих мастеров, не
столь совершенно, как творение, над которым трудился один человек. Так,
мы видим, что здания, задуманные и исполненные одним архитектором,
обыкновенно красивее и лучше устроены, чем те, в переделке которых
принимали участие многие, пользуясь старыми стенами, построенными для
других целей. Точно так же старинные города, разрастаясь с течением
времени из небольших посадов и становясь большими городами, обычно
столь плохо распланированы по сравнению с городами-крепостями,
построенными на равнине по замыслу одного инженера, что, хотя,
рассматривая эти здания по отдельности, нередко находишь в них никак не
меньше искусства, нежели в зданиях крепостей, однако при виде того, как
они расположены - здесь маленькое здание, там большое - и как улицы от
них становятся искривленными и неравными по длине, можно подумать, что
это скорее дело случая, чем разумной воли людей. А если иметь в виду, что
тем не менее всегда были должностные лица, обязанные заботиться о том,
чтобы частные постройки служили и украшению города, то станет ясным,
как нелегко создать что-либо совершенное, имея дело только с чужим
творением. Подобным образом я представил себе. что народы, бывшие
прежде в полудиком состоянии и лишь постепенно цивилизовавшиеся и
учреждавшие свои законы только по мере того, как бедствия от совершаемых
преступлений и возникавшие жалобы принуждали их к этому, не могут иметь
такие же хорошие гражданские порядки, как те, которые соблюдают
установления какого-нибудь мудрого законодателя с самого начала своего
объединения. Так же очевидно, что истинная религия, заповеди которой
установлены самим Богом, должна быть несравненно лучше устроена, чем
какая-либо другая. Если же говорить о людских делах, то я полагаю, что
Спарта была некогда в столь цветущем состоянии не оттого, что законы ее
160
были хороши каждый в отдельности, ибо некоторые из них были очень
странны и даже противоречили добрым нравам, но потому, что все они,
будучи составлены одним человеком, направлялись к одной цели. Подобным
образом мне пришло в голову, что и науки, заключенные в книгах, по
крайней мере те, которые лишены доказательств и доводы которых лишь
вероятны, сложившись и мало-помалу разросшись из мнений множества
разных лиц, не так близки к истине, как простые рассуждения
здравомыслящего человека относительно встречающихся ему вещей. К тому
же, думал я, так как все мы были детьми, прежде чем стать взрослыми, и
долгое время нами руководили наши желания и наши наставники, часто
противоречившие одни другим и, возможно, не всегда советовавшие нам
лучшее, то почти невозможно, чтобы суждения наши были так же чисты и
основательны, какими бы они были, если бы мы пользовались нашим
разумом во всей полноте с самого рождения и руководствовались всегда
только им.
Правда, мы не наблюдаем того, чтобы разрушали все дома в городе с
единственной целью переделать их и сделать улицы красивее; но мы видим,
что многие ломают свои собственные дома, чтобы их перестроить, а иногда и
вынуждены это сделать, если фундамент их непрочен и дома могут
обрушиться. На этом примере я убедился, что вряд ли разумно отдельному
человеку замышлять переустройство государства, изменяя и переворачивая
все до основания, чтобы вновь его восстановить, либо затевать
преобразование всей совокупности наук или порядка, установленного в
школах для их преподавания. Однако, что касается взглядов, воспринятых
мною до того времени, я не мог предпринять ничего лучшего, как избавиться
от них раз и навсегда, чтобы заменить их потом лучшими или теми же, но
согласованными с требованиями разума. И я твердо уверовал, что этим
способом мне удастся прожить свою жизнь гораздо лучше, чем если бы я
строил ее только на прежних основаниях и опирался только на те начала,
которые воспринял в юности, никогда не подвергая сомнению их истинность.
Ибо, хотя я и предвидел в этом разные трудности, они вовсе не были
неустранимыми и их нельзя было сравнивать с теми, которые
обнаруживаются при малейших преобразованиях, касающихся
общественных дел. Эти громады слишком трудно восстанавливать, если они
рухнули, трудно даже удержать их от падения, если они расшатаны, и
падение их сокрушительно. Далее, что касается их несовершенств, если
таковые имеются - в том, что они существуют, нетрудно убедиться по их
разнообразию, - то привычка, без сомнения, сильно сгладила их и позволила
безболезненно устранить и исправить многое, что нельзя было
предусмотреть заранее ни при каком благоразумии. Наконец, почти всегда их
несовершенства легче переносятся, чем их перемены. Так, большие дороги,
извивающиеся между гор, из-за частой езды мало-помалу становятся
161
настолько гладкими и удобными, что гораздо лучше следовать по ним, чем
идти более прямым путем, карабкаясь по скалам и спускаясь в пропасти.
Поэтому я никоим образом не одобряю беспокойного и вздорного
нрава тех, кто, не будучи призван ни по рождению, ни по состоянию к
управлению общественными делами, неутомимо тщится измыслить какиенибудь новые преобразования. И если бы я мог подумать, что в этом
сочинении есть хоть что-нибудь, на основании чего меня можно подозревать
в этом сумасбродстве, я очень огорчился бы, что опубликовал его. Мое
намерение никогда не простиралось дальше того, чтобы преобразовывать
мои собственные мысли и строить на участке, целиком мне принадлежащем.
Из того, что мое произведение мне настолько понравилось, что я решился
показать здесь его образец, не следует, что я хотел посоветовать кому-либо
ему подражать. У тех, кого Бог наделил своими милостями больше, чем меня,
возможно, будут более возвышенные намерения; но я боюсь, не было бы и
мое уж слишком смелым для многих. Само решение освободиться от всех
принятых на веру мнений не является примером, которому всякий должен
следовать. Есть только два вида умов, ни одному из которых мое намерение
ни в коей мере не подходит. Во-первых, те, которые, воображая себя умнее,
чем они есть на самом деле, не могут удержаться от поспешных суждений и
не имеют достаточного терпения, чтобы располагать свои мысли в
определенном порядке, поэтому, раз решившись усомниться в воспринятых
принципах и уклониться от общей дороги, они никогда не пойдут по стезе,
которой следует держаться, чтобы идти прямо, и будут пребывать в
заблуждении всю жизнь. Во-вторых, те, которые достаточно разумны и
скромны, чтобы считать себя менее способными отличать истину от лжи, чем
другие, у кого они могут поучиться; они должны довольствоваться тем,
чтобы следовать мнениям других, не занимаясь собственными поисками
лучших мнений.
Да я и сам, конечно, был бы в числе последних, если бы имел всего
одного учителя или не знал существовавшего во все времена различия во
мнениях ученых. Но я еще на школьной скамье узнал, что нельзя придумать
ничего столь странного и невероятного, что не было бы уже высказано кемлибо из философов. Затем во время путешествий я убедился, что люди,
имеющие понятия, противоречащие нашим, не являются из-за этого
варварами или дикарями и многие из них так же разумны, как и мы, или даже
более разумны. Тот же человек, с тем же умом, воспитанный с детства среди
французов или немцев, становится иным, чем он был бы, живя среди
китайцев или каннибалов. И вплоть до мод в одежде: та же вещь, которая
нравилась нам десять лет назад и, может быть, опять понравится нам менее
чем через десять лет, теперь кажется нам странной и смешной. Таким
образом, привычка и пример убеждают нас больше, чем какое бы то ни было
точное знание. Но при всем том большинство голосов не является
162
доказательством, имеющим какое-нибудь значение для истин, открываемых с
некоторым трудом, так как гораздо вероятнее, чтобы истину нашел один
человек, чем целый народ. По этим соображениям я не мог выбрать никого,
чьи мнения я должен был бы предпочесть мнениям других, и оказался как бы
вынужденным сам стать своим руководителем.
Но как человек, идущий один в темноте, я решился идти так медленно
и с такой осмотрительностью, что если и мало буду продвигаться вперед, то
по крайней мере смогу обезопасить себя от падения. Я даже не хотел сразу
полностью отбрасывать ни одно из мнений, которые прокрались в мои
убеждения помимо моего разума, до тех пор пока не посвящу достаточно
времени составлению плана предпринимаемой работы и разысканию
истинного метода для познания всего того, к чему способен мой ум.
Будучи моложе, я изучал немного из области философии - логику, а из
математики - анализ геометров и алгебру - эти три искусства, или науки,
которые, как мне казалось, должны были служить намеченной мною цели.
Но, изучив их, я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство других
правил служат больше для объяснения другим того, что нам известно, или,
как искусство Луллия, учат тому, чтобы говорить, не задумываясь о том, чего
не знаешь, вместо того чтобы познавать это. Хотя логика в самом деле
содержит немало очень верных и хороших правил, однако к ним примешано
столько вредных и излишних, что отделить их от этих последних почти так
же трудно, как извлечь Диану или Минерву из куска необработанного
мрамора. Что касается анализа древних и алгебры современников, то, кроме
того, что они относятся к предметам весьма отвлеченным и кажущимся
бесполезными, первый всегда так ограничен рассмотрением фигур, что не
может упражнять рассудок (entendement), не утомляя сильно воображение;
вторая же настолько подчинилась разным правилам и знакам, что
превратилась в темное и запутанное искусство, затрудняющее наш ум, а не в
науку, развивающую его. По этой причине я и решил, что следует искать
другой метод, который совмещал бы достоинства этих трех и был бы
свободен от их недостатков. И подобно тому как обилие законов нередко
дает повод к оправданию пороков и государство лучше управляется, если
законов немного, но они строго соблюдаются, так и вместо большого числа
правил, составляющих логику, я заключил, что было бы достаточно четырех
следующих, лишь бы только я принял твердое решение постоянно соблюдать
их без единого отступления.
Первое - никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал
бы таковым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и
предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется
моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод
к сомнению.
163
Второе - делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на
столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.
Третье - располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с
предметов простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как
по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование
порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не
предшествуют друг другу.
И последнее - делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь
всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.
Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми
геометры обычно пользуются, чтобы дойти до своих наиболее трудных
доказательств, дали мне возможность представить себе, что и все вещи,
которые могут стать для людей предметом знания, находятся между собой в
такой же последовательности. Таким образом, если воздерживаться от того,
чтобы принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда
соблюдать порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может
существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни
столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть. Мне не составило
большого труда отыскать то, с чего следовало начать, так как я уже знал, что
начинать надо с простейшего и легко познаваемого. Приняв во внимание, что
среди всех искавших истину в науках только математикам удалось найти
некоторые доказательства, т. е. некоторые точные и очевидные соображения,
я не сомневался, что и мне надлежало начать с того, что было ими
исследовано, хотя и не ожидал от этого другой пользы, кроме той, что они
приучат мой ум питаться истиной и никак не довольствоваться ложными
доводами. Однако я не намеревался изучать все те отдельные науки, которые
составляют то, что называется математикой. Я видел, что, хотя их предметы
различны, тем не менее все они согласуются между собой в том, что
исследуют только различные встречающиеся в них отношения или
пропорции, поэтому я решил, что лучше исследовать только эти отношения
вообще и искать их только в предметах, которые облегчили бы мне их
познание, нисколько, однако, не связывая их этими предметами, чтобы иметь
возможность применять их потом ко всем другим подходящим к ним
предметам. Затем, приняв во внимание, что для лучшего познания этих
отношений мне придется рассматривать каждую пропорцию в отдельности и
лишь иногда удерживать их в памяти или рассматривать сразу несколько, я
предположил, что для лучшего исследования их по отдельности надо
представлять их в виде линий, так как не находил ничего более простого или
более наглядно представляемого моим воображением и моими чувствами. Но
для того чтобы удерживать их или рассматривать по нескольку
одновременно, требовалось выразить их возможно меньшим числом знаков.
164
Таким путем я заимствовал бы все лучшее из геометрического анализа и из
алгебры и исправлял бы недостатки первого с помощью второй.
И действительно, смею сказать, что точное соблюдение немногих
избранных мною правил позволило мне так легко разрешить все вопросы,
которыми занимаются эти две науки, что, начав с простейших и наиболее
общих и пользуясь каждой найденной истиной для нахождения новых, я
через два или три месяца изучения не только справился со многими
вопросами, казавшимися мне прежде трудными, но и пришел к тому, что под
конец мог, как мне казалось, определять, какими средствами и в каких
пределах возможно решать даже неизвестные мне задачи. И при этом я, быть
может, не покажусь вам слишком тщеславным, если вы примете во
внимание, что существует лишь одна истина касательно каждой вещи и кто
нашел ее, знает о ней все, что можно знать. Так, например, ребенок,
учившийся арифметике, сделав правильно сложение, может быть уверен, что
нашел касательно искомой суммы все, что может найти человеческий ум; ибо
метод, который учит следовать истинному порядку и точно перечислять все
обстоятельства того, что отыскивается, обладает всем, что дает
достоверность правилам арифметики.
Но что больше всего удовлетворяло меня в этом методе - это
уверенность в том, что с его помощью я во всем пользовался собственным
разумом если не в совершенстве, то по крайней мере как мог лучше. Кроме
того, пользуясь им, я чувствовал, что мой ум мало-помалу привыкает
представлять предметы яснее и отчетливее, хотя свой метод я не связывал
еще ни с каким определенным вопросом, я рассчитывал столь же успешно
применять его к трудностям других наук, как это сделал в алгебре. Это не
значит, что я бы дерзнул немедленно приняться за пересмотр всех
представившихся мне наук, так как это противоречило бы порядку, который
предписывается методом. Но, приняв во внимание, что начала наук должны
быть заимствованы из философии, в которой я пока еще не усмотрел
достоверных начал, я решил, что прежде всего надлежит установить таковые.
А поскольку это дело важнее всего на свече., причем поспешность или
предубеждение в нем опаснее всего, я не должен был спешить с окончанием
этого дела до того времени, пока не достигну возраста более зрелого - а мне
тогда было двадцать три года,- пока не употреблю много времени на
подготовительную работу, искореняя в моем уме все приобретенные прежде
неверные мнения, накопляя запас опытов, который послужил бы мне
материалом для размышлений; пока, упражняясь постоянно в принятом
мною методе, смог бы укрепляться в нем все более и более.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ МОРАЛИ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ ЭТОГО
МЕТОДА
165
Наконец, начиная перестройку помещения, в котором живешь, мало
сломать старое, запастись материалами и архитекторами или самому
приобрести навыки в архитектуре и, кроме того, тщательно наметить план необходимо предусмотреть другое помещение, где можно было бы с
удобством поселиться во время работ; точно так же, чтобы не быть
нерешительным в действиях, пока разум обязывал меня к нерешительности в
суждениях, и чтобы иметь возможность прожить это время как можно более
счастливо, я составил себе наперед некоторые правила морали - три или
четыре максимы, которые охотно вам изложу.
Во-первых, повиноваться законам и обычаям моей страны, неотступно
придерживаясь религии, в которой, по милости божией, я был воспитай с
детства, и руководствуясь во всем остальном наиболее умеренными и
чуждыми крайностей мнениями, сообща выработанными самыми
благоразумными людьми, в кругу которых мне предстояло жить. Не
придавая с этого времени никакой цены собственным мнениям, так как я
собирался их все подвергнуть проверке, я был убежден, что лучше всего
следовать мнениям наиболее благоразумных людей. Несмотря на то что
благоразумные люди могут быть и среди персов, китайцев, так же как и
между нами, мне казалось полезнее всего сообразоваться с поступками тех,
среди которых я буду жить. А чтобы знать, каковы действительно их мнения,
я должен был обращать больше внимания на то, как они поступают, чем на
то, что они говорят, и не только потому, что вследствие испорченности
наших нравов людей, готовых высказывать то, что они думают, мало, но и
потому, что многие сами этого не знают; ибо поскольку действие мысли,
посредством которой мы думаем о вещи, отличается от действия мысли,
посредством которой мы сознаем, что думаем о ней, то они часто независимы
одна от другой. Между многими мнениями, одинаково распространенными, я
всегда выбирал самые умеренные, поскольку они и наиболее удобные в
практике, и, по всей вероятности, лучшие, так как всякая крайность плоха, а
также и для того, чтобы в случае ошибки менее отклоняться от истинного
пути, чем если бы я, выбрав одну крайность, должен был перейти к другой
крайности. Я отнес к крайностям в особенности все обещания, в какой-либо
мере ограничивающие свободу, не потому, что я не одобрял законов, которые
ради того, чтобы уберечь слабых духом от непостоянства, позволяют то ли
для какого-нибудь доброго намерения или даже ради надежности торговли,
то ли для цели безразличной в отношении добра давать обещания заключать
договоры, принуждающие к постоянному их соблюдению, но потому, что я
не видел в мире ничего, что всегда оставалось бы неизменным, и так как
лично я стремился все более и более совершенствовать свои суждения, а не
ухудшать их, то я полагал, что совершил бы большую ошибку против
здравого смысла, если бы, одобряя что-либо, обязал себя считать это
166
хорошим и тогда, когда оно перестало быть таковым или когда я перестал
считать его таковым.
Моим вторым правилом было оставаться настолько твердым и
решительным в своих действиях, насколько это было в моих силах, и с не
меньшим постоянством следовать даже самым сомнительным мнениям, если
я принял их за вполне правильные. В этом я уподоблял себя путникам,
заблудившимся в лесу: они не должны кружить или блуждать из стороны в
сторону, ни тем паче оставаться на одном месте, но должны идти как можно
прямее в одну сторону, не меняя направления по ничтожному поводу, хотя
первоначально всего лишь случайность побудила их избрать именно это
направление. Если они и не придут к своей цели, то все-таки выйдут куданибудь, где им, по всей вероятности, будет лучше, чем среди леса. Так как
житейские дела часто не терпят отлагательств, то несомненно, что если мы
не в состоянии отличить истинное мнение, то должны довольствоваться
наиболее вероятным. И даже в случае, если мы между несколькими
мнениями не усматриваем разницы в степени вероятности, все же должны
решиться на какое-нибудь одно и уверенно принимать его по отношению к
практике не как сомнительное, но как вполне истинное по той причине, что
были верны соображения, заставившие нас избрать его. Этого оказалось
достаточно, чтобы избавить меня от всяких раскаянии и угрызений,
обыкновенно беспокоящих совесть слабых и колеблющихся умов, часто
непоследовательно разрешающих себе совершать как нечто хорошее то, что
они потом признают за дурное.
Третьим моим правилом было всегда стремиться побеждать скорее
себя, чем судьбу (fortune), изменять свои желания, а не порядок мира и
вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти находятся только
наши мысли и что после того, как мы сделали все возможное с
окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует
рассматривать как нечто абсолютно невозможное. Этого одного казалось мне
достаточно, чтобы не желать в будущем чего-либо сверх уже достигнутого и
таким образом находить удовлетворение. Ибо поскольку наша воля по самой
природе вещей стремится только к тому, что наш разум представляет ей так
или иначе возможным, то очевидно, что, считая все внешние блага одинаково
далекими от наших возможностей, мы не станем более сожалеть о том, что
лишены тех благ, на которые мы, казалось бы, имеем право от рождения,
если сами не виновны в этом лишении, как не сожалеем о том, что не
владеем Китаем или Мексикой. Обратив, как говорится, нужду в
добродетель, мы так же не возжелаем стать здоровыми, будучи больными,
или свободными, находясь в темнице, как и теперь не желаем иметь тело из
столь же несокрушимого вещества, как алмаз, или иметь крылья, чтобы
летать, как птицы. Признаюсь, что требуется продолжительное упражнение и
зачастую повторное размышление, чтобы привыкнуть смотреть на вещи под
167
таким углом. В этом, я думаю, главным образом состояла тайна тех
философов, которые некогда умели поставить себя вне власти судьбы и,
несмотря на страдания и бедность, соперничать в блаженстве со своими
богами. Постоянно рассматривая пределы, предписанные им природой, они
пришли к полнейшему убеждению, что в их власти находятся только
собственные мысли, и одного этого было достаточно, чтобы помешать им
стремиться к чему-то другому; над мыслями же они владычествовали так
неограниченно, что имели основание почитать себя богаче, могущественнее,
свободнее и счастливее, чем люди, не имеющие такой философии и никогда
не обладающие всем, чего они желают, несмотря на то что им
благоприятствуют и природа и счастье. Наконец, в завершение этой морали я
решил рассмотреть различные занятия людей в этой жизни, чтобы
постараться выбрать лучшее из них. Не касаясь занятий других, для себя я
решил, что нет ничего лучшего, как продолжать те дела, которыми я
занимаюсь, т. е. посвятить всю мою жизнь совершенствованию моего разума
и подвигаться, насколько буду в силах, в познании истины по принятому
мною методу. С тех пор как я стал пользоваться этим методом, я испытал
много раз чрезвычайное наслаждение, приятнее и чище которого вряд ли
можно получить в этой жизни. Открывая каждый день при помощи моего
метода некоторые, на мой взгляд, достаточно важные истины, обыкновенно
неизвестные другим людям, я переполнялся таким чувством удовлетворения,
что все остальное для меня как бы не существовало. Кроме того, три
предыдущих правила имели источником намерение продолжать собственное
обучение: так как Бог дал каждому из нас некоторую способность различать
ложное от истинного, то я ни на минуту не счел бы себя обязанным
следовать мнениям других, если бы не предполагал использовать
собственную способность суждения для их проверки, когда наступит время.
Следуя чужим мнениям, я не мог бы освободиться от сомнения, если бы не
надеялся, что это не лишает меня возможности найти лучшие, буде таковые
имеются.
Наконец, я не мог бы ни ограничить свои желания, ни быть довольным,
если бы не шел по пути, который, я был уверен, не только обеспечивал мне
приобретение всех знаний, к которым я способен, но и вел к приобретению
всех доступных мне истинных благ, тем более что наша воля стремится к
какой-нибудь цели или избегает ее в зависимости от того, представляет ли ее
наш разум хорошей или дурной. А потому достаточно правильно судить,
чтобы правильно поступать, и достаточно самого правильного рассуждения,
чтобы и поступать наилучшим образом, т. е. чтобы приобрести все
добродетели и вместе с ними все доступные блага. Уверенность в том, что
это так, не может не вызвать большое удовлетворение.
Утвердившись в этих правилах и поставив их рядом с истинами
религии, которые всегда были первым предметом моей веры, я счел себя
168
вправе избавиться от всех остальных своих мнений. И надеясь, что лучше
достигну цели, общаясь с людьми, чем оставаясь дома, у очага, где у меня
возникли эти мысли, я, не дожидаясь окончания зимы, опять отправился
путешествовать. Целых девять лет я ничем иным не занимался, как скитался
по свету, стараясь быть более зрителем, чем действующим лицом, во всех
разыгрывавшихся передо мною комедиях. По поводу каждого предмета я
размышлял в особенности о том, что может сделать его сомнительным и
ввести нас в заблуждение, и между тем искоренял из моего ума все
заблуждения, какие прежде могли в него закрасться. Но я не подражал,
однако, тем скептикам, которые сомневаются только для того, чтобы
сомневаться, и притворяются пребывающими в постоянной
нерешительности. Моя цель, напротив, заключалась в том, чтобы достичь
уверенности и, отбросив зыбучие наносы и пески, найти твердую почву. Это
мне удавалось, кажется, довольно хорошо, тем более что при стараниях
открыть ложность или сомнительность исследуемых положений не с
помощью слабых догадок, а посредством ясных и надежных рассуждений я
не встречал ни одного сомнительного положения, из которого нельзя было
бы извлечь какого-либо достаточно надежного заключения, хотя бы того, что
в этом положении нет ничего достоверного. И подобно тому как при сломе
старого здания обыкновенно сохраняют разрушенные части для постройки
нового, так и я, разрушая все свои мнения, которые считал плохо
обоснованными, делал разные наблюдения и приобретал опыт, послуживший
мне потом для установления новых, более надежных мнений. В то же время я
продолжал упражняться в принятом мною методе. Таким образом, стараясь
вообще располагать свои мысли согласно его правилам, я время от времени
отводил несколько часов специально на то, чтобы упражняться в приложении
метода к трудным проблемам математики или других наук, которые я как бы
уподоблял математическим, освобождая их от исходных положений других
наук, по моему мнению недостаточно прочных. Примеры этого можно найти
во многом, что изложено в данном томе. Таким-то образом, не отличаясь по
видимости от тех, чье единственное занятие - проводить в невинности тихую
жизнь, стремясь отделять удовольствия от пороков, и во избежание скуки
при полном досуге прибегать ко всем пристойным удовольствиям, я жил, не
продолжая преследовать свою цель, и, кажется, преуспевал в познании
истины более, чем если бы занимался только чтением книг и посещением
ученых людей.
Впрочем, эти девять лет протекли прежде, чем я принял какое-либо
решение относительно трудностей, служащих обычно предметом споров
между учеными, и начал обдумывать основания новой философии, более
достоверной, чем общепринятая. Пример многих превосходных умов,
которые брались за это прежде меня, но, как мне казалось, безуспешно,
заставлял меня представлять себе дело окруженным такими трудностями, что
169
я, может быть, долго еще не решился бы приступить к нему, если бы до меня
не дошли слухи, будто я его успешно завершил. Не знаю, что дало повод к
такому утверждению. Если я и содействовал немного этому своими речами,
то лишь признаваясь в своем незнании более откровенно, чем это
обыкновенно делают люди, чему-нибудь учившиеся, а может быть, и
указывая основания, почему я сомневался во многих вещах, считавшихся у
других достоверными, но уж никак не хвастаясь каким-либо учением. Но так
как у меня достаточно совести, чтобы не желать быть принятым за того, кем
на самом деле не являюсь, я считал, что должен приложить все усилия, чтобы
сделаться достойным сложившейся репутации. Ровно восемь лет тому назад
это желание побудило меня удалиться от всех мест, где я мог иметь
знакомства, и уединиться здесь, в стране, где продолжительная война
породила такие порядки, что находящиеся здесь войска кажутся
предназначенными только для того, чтобы с большой безопасностью
пользоваться плодами мира, и где в толпе весьма деятельного народа, более
заботящегося о своих делах, чем любопытного к чужим, я могу, не лишая
себя всех удобств большого города, жить в таком уединении, как в самой
отдаленной пустыне.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ДОВОДЫ, ДОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА И
БЕССМЕРТИЕ ДУШИ, ИЛИ ОСНОВАНИЯ МЕТАФИЗИКИ
Не знаю даже, должен ли я говорить о первых размышлениях, которые
у меня там возникли. Они носят столь метафизический характер и столь
необычны, что, может быть, не всем понравятся. Однако, чтобы можно было
судить, насколько прочны принятые мною основания, я некоторым образом
принужден говорить о них. С давних пор я заметил, что в вопросах
нравственности иногда необходимо мнениям, заведомо сомнительным,
следовать так, как если бы они были бесспорны. Об этом уже было сказано
выше. Но так как в это время я желал заняться исключительно разысканием
истины, то считал, что должен поступить совсем наоборот, т. е. отбросить
как безусловно ложное все, в чем мог вообразить малейший повод к
сомнению, и посмотреть, не останется ли после этого в моих воззрениях
чего-либо уже вполне несомненного. Таким образом, поскольку чувства нас
иногда обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни одной вещи,
которая была бы такова, какой она нам представляется; и поскольку есть
люди, которые ошибаются даже в простейших вопросах геометрии и
допускают в них паралогизмы, то я, считая и себя способным ошибаться не
менее других, отбросил как ложные все доводы, которые прежде принимал за
доказательства. Наконец, принимая во внимание, что любое представление,
которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам и во сне,
не будучи действительностью, я решился представить себе, что все когдалибо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих снов. Но я
170
тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонятся к
мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким
образом рассуждающий, действительно существовал. И заметив, что истина
Я мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые
сумасбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил,
что могу без опасений принять ее за первый принцип искомой мною
философии.
Затем, внимательно исследуя, что такое я сам, я мог вообразить себе,
что у меня нет тела, что нет ни мира, ни места, где я находился бы, но я
никак не мог представить себе, что вследствие этого я не существую;
напротив, из того, что я сомневался в истине других предметов, ясно и
несомненно следовало, что я существую. А если бы я перестал мыслить, то,
хотя бы все остальное, что я когда-либо себе представлял, и было истинным,
все же не было основания для заключения о том, что я существую. Из этого я
узнал, что я - субстанция, вся сущность, или природа, которой состоит в
мышлении и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не
зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, мое я, душа,
которая делает меня тем, что я семь, совершенно отлична от тела и ее легче
познать, чем тело; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы
быть тем, что она есть. Затем я рассмотрел, что вообще требуется для того,
чтобы то или иное положение было истинно и достоверно; ибо, найдя одно
положение достоверно истинным, я должен был также знать, в чем
заключается эта достоверность. И, заметив, что в истине положения Я
мыслю, следовательно, я существую меня убеждает единственно ясное
представление, что для мышления надо существовать, я заключил, что можно
взять за общее правило следующее: все представляемое нами вполне ясно и
отчетливо - истинно. Однако некоторая трудность заключается в правильном
различении того, что именно мы способны представлять себе вполне
отчетливо.
Вследствие чего, размышляя о том, что, раз я сомневаюсь, значит, мое
бытие не вполне совершенно, ибо я вполне ясно различал, что полное
постижение - это нечто большее, чем сомнение, я стал искать, откуда я
приобрел способность мыслить о чем-нибудь более совершенном, чем я сам,
и понял со всей очевидностью, что это должно прийти от чего-либо по
природе действительно более совершенного. Что касается мыслей о многих
других вещах, находящихся вне меня,- о небе, Земле, свете, тепле и тысяче
других, то я не так затруднялся ответить, откуда они явились.
Ибо, заметив, что в моих мыслях о них нет ничего, что ставило бы их
выше меня, я мог думать, что если они истинны, то это зависит от моей
природы, насколько она наделена некоторыми совершенствами; если же они
ложны, то они у меня от бытия, т. е. они находятся во мне потому, что у меня
чего-то недостает. Но это не может относиться к идее" существа более
171
совершенного, чем я: получить ее из ничего - вещь явно невозможная.
Поскольку неприемлемо допускать, чтобы более совершенное было
следствием менее совершенного, как и предполагать возникновение какойлибо вещи из ничего, то я не мог сам ее создать. Таким образом, оставалось
допустить, что эта идея была вложена в меня тем, чья природа совершеннее
моей и кто соединяет в себе все совершенства, доступные моему
воображению,- одним словом. Богом. К этому я добавил, что, поскольку я
знаю некоторые совершенства, каких у меня самого нет, то я не являюсь
единственным существом, обладающим бытием (если вы разрешите, я
воспользуюсь здесь терминами схоластически), и что по необходимости
должно быть некоторое другое существо, более совершенное, чем я, от
которого я завишу и от которого получил все, что имею. Ибо если бы я был
один и не зависел ни от кого другого, так что имел бы от самого себя то
немногое, что я имею общего с высшим существом, то мог бы на том же
основании получить от самого себя и все остальное, чего, я знаю, мне
недостает. Таким образом, я мог бы сам стать бесконечным, вечным,
неизменным, всеведущим, всемогущим и, наконец, обладал бы всеми
совершенствами, какие я могу усмотреть у Бога. Соответственно этим
последним соображениям, для того чтобы познать природу Бога, насколько
мне это доступно, мне оставалось только рассмотреть все, о чем я имею
представление, с точки зрения того, является ли обладание ими
совершенством или нет, и я обрел бы уверенность в том, что все то, что носит
признаки несовершенства, в нем отсутствует, а все совершенное находится в
нем. Таким образом, я видел, что у него не может быть сомнений,
непостоянства, грусти и тому подобных чувств, отсутствие которых радовало
бы меня. Кроме того, у меня были представления о многих телесных и
чувственных предметах, ибо, хотя я и предполагал, что грежу и все видимое
или воображаемое мною является ложным, я все же не мог отрицать того, что
представления эти действительно присутствовали в моем мышлении. Но,
познав отчетливо, что разумная природа во мне отлична от телесной, и
сообразив, что всякое соединение свидетельствует о зависимости, а
зависимость очевидно является недостатком, я заключил отсюда, что
состоять из двух природ не было бы совершенством для Бога и,
следовательно, он не состоит из них. А если в мире и имеются какие-либо
тела, какие-либо интеллигенции или иные природы, не имеющие всех
совершенств, то существование их должно зависеть от его могущества, так
что без него они не могли бы просуществовать и одного мгновения.
После этого я решил искать другие истины. Я остановился на объекте
геометров, который я представлял себе непрерывным телом, или
пространством, неограниченно простирающимся в длину, ширину и высоту
или глубину, делимым на разные части, которые могут иметь разную форму
и величину и могут двигаться и перемещаться любым образом (так как
172
геометры наделяют свой объект всеми этими свойствами), и просмотрел
некоторые из простейших геометрических доказательств. Приняв во
внимание то, что большая достоверность, которую им все приписывают,
основывается - в соответствии с правилом, в свое время мною указанным,лишь на очевидности, я заметил, с другой стороны, что в них самих нет
ничего, что убеждало бы меня в самом существовании этого объекта
геометров. Например, я ясно видел, что, если дан треугольник, необходимо
заключить, что сумма трех углов его равна двум прямым, но еще я не видел в
этом ничего, что бы убеждало меня в существовании в мире какого-либо
треугольника. А между тем, возвращаясь к рассмотрению идеи, какую я имел
о совершенном существе, я находил, что существование заключается в
представлении о нем точно так же, как в представлении о треугольнике равенство его углов двум прямым или как в представлении о сфере одинаковое расстояние всех ее частей от центра, или еще очевиднее. А
потому утверждение, что Бог - совершеннейшее существо - есть, или
существует, по меньшей мере настолько же достоверно, насколько
достоверно геометрическое доказательство.
Причина, почему многие убеждены, что трудно познать Бога и
уразуметь, что такое душа, заключается в том, что они никогда не
поднимаются умом выше того, что может быть познано чувствами, и так
привыкли рассматривать все с помощью воображения, которое представляет
собой лишь частный род мышления о материальных вещах, что все, чего
нельзя вообразить, кажется им непонятным. Это явствует также из того, что
даже философы держатся в своих учениях правила, что не может быть
ничего в разуме, чего прежде не было в чувствах, а ведь идеи Бога и души
там никогда не было. Мне кажется, что те, кто хочет пользоваться
воображением, чтобы понять эти идеи, поступают так, как если бы они
хотели пользоваться зрением, чтобы услышать звук или обонять запах, но с
той, впрочем, разницей, что чувство зрения убеждает нас в достоверности
предметов не менее, нежели чувства слуха и обоняния, тогда как ни
воображение, ни чувства никогда не могут убедить нас в чем-либо, если не
вмешается наш разум.
Наконец, если существуют еще люди, которых и приведенные доводы
не убедят в существовании Бога и их души, то пусть они узнают, что все
другое, во что они, быть может, верят больше, как, например, что они имеют
тело, что есть звезды. Земля и тому подобное,- все это менее достоверно. Ибо
хотя есть моральная уверенность в подлинности этих вещей, так что в них
невозможно сомневаться, не впадая в чудачество, однако, когда дело
касается метафизической достоверности, то нельзя, не отступая от
разумности, отрицать, что есть основание не быть в них вполне уверенным.
Стоит только отметить, что точно так же можно вообразить во сне, что мы
имеем другое тело, видим другие звезды, другую Землю, тогда как на самом
173
деле ничего этого нет. Ибо откуда мы знаем, что мысли, приходящие во сне,
более ложны, чем другие? Ведь часто они столь же живы и выразительны.
Пусть лучшие умы разбираются в этом, сколько им угодно; я не думаю,
чтобы они могли привести какое-нибудь основание, достаточное, чтобы
устранить это сомнение, если не предположить бытие Бога. Ибо, во-первых,
само правило, принятое мною, а именно что вещи, которые мы представляем
себе вполне ясно и отчетливо, все истинны, имеет силу только вследствие
того, что Бог есть, или существует, и является совершенным существом, от
которого проистекает все, что есть в нас. Отсюда следует, что наши идеи или
понятия, будучи реальностями и происходя от Бога, в силу этого не могут не
быть истинными во всем том, что в них есть ясного и отчетливого. И если мы
довольно часто имеем представления, заключающие в себе ложь, то это
именно те представления, которые содержат нечто смутное и темное, по той
причине, что они причастны небытию. Они в нас только потому неясны и
сбивчивы, что мы не вполне совершенны. Очевидно, что одинаково
недопустимо, чтобы ложь или несовершенство как таковые проистекали от
Бога и чтобы истина или совершенство происходили от небытия. Но если бы
мы вовсе по знали, что все, что есть в нас реального и истинного, происходит
от существа совершенного и бесконечного, то, как бы ясны и отчетливы ни
были наши представления, мы не имели бы никакого основания быть
уверенными в том, что они обладают совершенством истины.
После того как познание Бога и души подтвердило упомянутое
правило, легко понять, что сновидения нисколько не должны заставлять нас
сомневаться в истине мыслей, которые мы имеем наяву. Если бы случилось,
что во сне пришли вполне отчетливые мысли, например геометр нашел
какое-нибудь новое доказательство, то его сон не мешал бы этому
доказательству быть верным. Что же касается самого обыкновенного обмана,
вызываемого нашими снами и состоящего в том, что они представляют нам
различные предметы точно так, как их представляют наши внешние чувства,
то неважно, что этот обман дает повод сомневаться в истине подобных
представлений, так как они могут довольно часто обманывать нас и без сна.
Так, больные желтухой видят все в желтом цвете, звезды и другие слишком
отдаленные предметы кажутся много меньше, чем они есть на самом деле. И
наконец, спим ли мы или бодрствуем, мы должны доверяться в суждениях
наших только очевидности нашего разума. Надлежит заметить, что я говорю
о нашем разуме, а отнюдь не о нашем воображении или наших чувствах.
Хотя Солнце мы видим ясно, однако мы не должны заключать, что оно такой
величины, как мы его видим; можно так же отчетливо представить себе
львиную голову на теле козы, но вовсе не следует заключать отсюда, что на
свете существует химера.
Ибо разум вовсе не требует, чтобы все подобным образом видимое или
воображаемое нами было истинным, но он ясно указывает, что все наши
174
представления или понятия должны иметь какое-либо основание истины, ибо
невозможно, чтобы Бог, всесовершенный и всеправедный, вложил их в нас
без такового. А так как наши рассуждения во время сна никогда не бывают
столь ясными и целостными, как во время бодрствования, хотя некоторые
представляющиеся нам образы бывают иногда так же живы и выразительны,
то разум указывает нам, что в мыслях наших, не могущих быть всегда
верными по причине нашего несовершенства, во время бодрствования
должно быть больше правды, чем во время сна.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ПОРЯДОК ФИЗИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
Мне хотелось бы показать здесь всю цепь других истин, которые я
вывел из этих первых. Но так как для этого сразу пришлось бы говорить о
многих вопросах, составляющих предмет споров между учеными, с
которыми я не желал бы портить отношения, то я предпочитаю воздержаться
и указать только, какие это вообще вопросы, предоставляя более мудрым
судить, полезно ли подробнее ознакомить с ними публику. Остаюсь тверд в
решении не исходить из какого-либо другого принципа, кроме того, которым
я воспользовался для доказательства существования Бога и души, и не
считать ничего истинным, что не казалось бы мне более ясным и верным, чем
казались прежде доказательства геометров. И тем не менее я осмеливаюсь
сказать, что я не только нашел средство в короткое время удовлетворительно
решить все главные трудности, обычно трактуемые в философии, но и
подметил также достоверные законы, которые Бог так установил в природе и
понятия о которых так вложил в наши души, что мы после некоторого
размышления не можем сомневаться в том, что законы эти точно
соблюдаются во всем, что есть или что происходит в мире. Потом,
рассматривая следствие этих законов, я, как мне кажется, открыл многие
истины, более полезные и более важные, чем все прежде изученное мною и
даже чем то, что я надеялся изучить.
Но так как я постарался разъяснить главные из них в трактате, от
издания которого меня удерживают некоторые соображения, то полагаю, что
лучше всего могу ознакомить с ними, изложив здесь кратко его содержание.
Я имел намерение включить в него все, что считал известным мне до его
написания относительно природы материальных вещей. Но, подобно
художникам, не имеющим возможности на плоской картине изобразить все
стороны объемного предмета и избирающим одну из главных, которую ярче
изображают, тогда как остальные затемняют и показывают лишь настолько,
насколько они видны при рассматривании предмета, так и я, опасаясь, что
буду не в состоянии включить в мой трактат все, что имел в мыслях, решил
изложить обстоятельно лишь то, что знаю касательно света, а затем в связи с
ним прибавить кое-что о Солнце и о неподвижных звездах, откуда главным
175
образом и происходит свет, о небесных пространствах, через которые он
проходит, о планетах, кометах и Земле, которые его отражают, и особо обо
всех земных телах, ибо они бывают цветные, или прозрачные, или
светящиеся, и, наконец, о человеке, наблюдающем все эти тела. Но чтобы
несколько затенить все это и иметь возможность более свободно высказывать
свои соображения, не будучи обязанным следовать мнениям, принятым
учеными, или опровергать их, я решил предоставить весь этот мир их спорам
и говорить только о том, что произошло бы в новом мире, если бы Бог создал
теперь где-либо в воображаемых пространствах достаточно вещества для его
образования и привел бы в беспорядочное движение различные части этого
вещества так, чтобы образовался хаос, столь запутанный, как только могут
вообразить поэты, и затем, лишь оказывая свое обычное содействие природе,
предоставил бы ей действовать по законам, им установленным. Таким
образом, я прежде всего описал это вещество и старался изобразить его так,
что в мире нет ничего, по моему мнению, более ясного и понятного, за
исключением того, что уже сказано было мною о Боге и душе. Я даже
нарочно предположил, что это вещество не имеет никаких форм и качеств, о
которых спорят схоластики, и вообще чего-либо, познание чего не было бы
так естественно для нашего ума, что даже нельзя было бы притвориться не
знающим этого. Кроме того, я показал, каковы законы природы, и, опираясь
в своих доводах только на принцип бесконечного совершенства божия, я
постарался доказать все те законы, относительно которых могли быть
сомнения, и показать, что даже если бы Бог создал много миров, то между
ними не было бы ни одного такого, где они не соблюдались бы. Потом я
показал, как в силу этих законов большая часть материи хаоса должна была
расположиться и упорядочиться так, что образовала бы нечто подобное
нашим небесам, и как при этом некоторые ее части должны были образовать
Землю, планеты, кометы, а другие - Солнце и неподвижные звезды. И здесь,
распространяясь о свете, я подробно объяснил, каков свет, который должен
быть в Солнце и звездах, как он оттуда мгновенно пробегает неизмеримые
небесные пространства и как он отражается от планет и комет к Земле. К
этому я прибавил соображения, касающиеся субстанции, положения,
движений и всех разнообразных свойств этих небес и звезд. Таким образом,
представлялось мне, я достаточно сказал, чтобы могли понять, что среди
свойств нашего мира не замечается ничего, что не должно или не могло бы
оказаться подобным свойством мира, описанного мною. Затем я говорил
особо о Земле и нарочно, не делая предположения, что Бог вложил тяготение
в вещество, составляющее Землю, показал, что все ее частицы тем не менее
должны стремиться к своему центру; показал, как при существовании на ее
поверхности воды и воздуха расположение небес и светил, а в особенности
Луны, должно вызывать на ней приливы и отливы, совершенно подобные
тем, какие при тех же обстоятельствах наблюдаются в наших морях, а также
176
некоторое особое течение воды и воздуха с востока на запад, равным образом
наблюдаемое под тропиками. Я показал, как горы, моря, родники и реки
могли образоваться естественным путем, металлы - появиться в недрах
Земли, растения - возрасти на полях и вообще как могли возникнуть все тела,
называемые смешанными и сложными. Не зная, за исключением небесных
светил, ничего на свете, кроме огня, что производило бы свет, я постарался
как можно понятнее разъяснить все, что относится к его природе: как он
образуется, чем поддерживается, как он иногда дает теплоту без света, а
иногда свет без теплоты; каким образом он может придавать разным телам
разную окраску и различные другие свойства; как он плавит одни тела, а
другие делает более твердыми; как он может почти все их сжечь или
превратить в дым и золу и, наконец, как из этой золы единственно
неукротимой силой своего действия образует стекло. Так как это
превращение золы в стекло мне казалось одним из наиболее удивительных в
природе, то я описал его с особою охотой.
Однако я не хотел из всего этого сделать вывод, что наш мир был
создан описанным мною образом, ибо более вероятно, что Бог с самого
начала сотворил его таким, каким ему надлежало быть. Но достоверно (это
мнение общепринято у богословов), что действие, каким он сохраняет теперь
мир, тождественно тому, каким он его создал; так что, если бы даже он дал
миру первоначально форму хаоса, чтобы затем, установив законы природы,
содействовать ее нормальному развитию, можно полагать без ущерба для
чуда творения, что в силу одного этого все чисто материальные вещи могли
бы с течением времени сделаться такими, какими мы видим их теперь; к
тому же их природа гораздо легче познается, когда мы видим их постепенное
возникновение, нежели тогда, когда мы рассматриваем их как вполне уже
образовавшиеся.
От описания неодушевленных тел и растений я перешел к описанию
животных и в особенности человека. Но так как мне недоставало знаний,
чтобы говорить о них таким же образом, как об остальном, т. е. выводя
следствия из причин и показывая, как и из каких семян природа должна их
производить, я ограничился предположением, что Бог создал тело точно
таким же, каким обладаем мы, как по внешнему виду членов, так и по
внутреннему устройству органов, сотворив его из той самой материи,
которую я только что описал, и не вложил в него с самого начала никакой
разумной души и ничего, что могло бы служить растительной или
чувствующей душой, а только возбудил в его сердце один из тех огней без
света (упомянутый мною ранее), который нагревает сено, сложенное сырым,
или вызывает брожение в молодом вине, оставленном вместе с
виноградными кистями. Рассматривая воздействия, вызванные этим огнем в
теле, я нашел все отправления, какие могут в нас происходить, не
сопровождаясь мышлением и, следовательно, без участия нашей души, т. е.
177
той отличной от тела части, природа которой, как сказано выше, состоит в
мышлении. Это те отправления, которые являются общими как для
животных, лишенных разума, так и для нас. Я не нашел среди них ни одного,
которое было бы связано с мышлением и являлось бы единственным
принадлежащим нам как людям. Я нашел все эти явления впоследствии,
когда предположил, что Бог создал разумную душу и соединил ее с телом
определенным образом, так, как я описал.
Но чтобы можно было бы до известной степени видеть, каким образом
я рассматривал эти вопросы, я хочу поместить здесь объяснение движения
сердца и артерий, первое и важнейшее, что наблюдается у животных и по
чему легко судить обо всех других движениях. А чтобы излагаемое мною
легче было понять, я желал бы, чтобы лица, несведущие в анатомии, прежде
чем читать это, потрудились разрезать сердце какого-нибудь крупного
животного, имеющего легкие,- оно совершенно подобно человеческому - и
обратили внимание на две находящиеся там камеры, или полости. Одна на
правой стороне, и ей соответствуют две весьма широкие трубки, а именно
полая вена, главный приемник крови и как бы ствол дерева, ветвями
которого являются все другие вены тела, и вена артериальная, неправильно
так именуемая, ибо в действительности это - артерия, выходящая из сердца и
разделяющаяся на многие ветви, распространяющиеся по легким. Другая
полость на левой стороне, которой также соответствуют две трубки, столь же
или еще более широкие, чем предыдущие, а именно: во-первых, венозная
артерия, тоже неудачно названная, ибо она не что иное, как вена, идущая от
легких, где она разделена на несколько ветвей, переплетающихся с ветвями
артериальной вены и с ветвями прохода, называемого горлом, через которое
вдыхается воздух; во-вторых, большая артерия, которая, выходя из сердца,
распространяет свои ветви по всему телу. Я желал бы также, чтобы
читателям показали одиннадцать кожиц, которые, словно дверцы, открывают
и закрывают четыре отверстия, находящиеся в этих двух полостях, а именно:
три - при входе полой вены, расположенные так, что они никак не могут
помешать содержащейся в ней крови втекать в правую полость сердца, но не
дают выходить из нее обратно; три - при входе артериальной вены,
повернутые в обратную сторону и позволяющие крови, находящейся в этой
полости, идти в легкие, но не позволяющие крови, находящейся в легких,
течь обратно в сердце; подобным же образом две - при входе венозной
артерии, позволяющие крови течь из легких в левую полость сердца, но
препятствующие ее возвращению, а три - при входе большой артерии,
позволяющие крови выходить из сердца, но препятствующие ей течь
обратно. Нет надобности искать иного объяснения числа этих кожиц, чем то,
что отверстие венозной артерии овальное и благодаря занимаемому им месту
легко может закрываться двумя клапанами, тогда как другие отверстия круглые - удобнее закрываются тремя клапанами. Кроме того, я желал бы,
178
чтобы читателям показали, что большая артерия и артериальная вена гораздо более твердого и прочного строения, чем венозная артерия и полая
вена, и что две последние расширяются перед входом в сердце и образуют
как бы два мешка, именуемые сердечными ушками и состоящие из вещества,
подобного ткани сердца; что в сердце всегда более теплоты, чем в какой-либо
иной части тела, и, наконец, что эта теплота способна, как только капля
крови войдет в полость сердца, вызвать быстрое набухание и расширение,
как это бывает вообще, когда какая-нибудь жидкость капля за каплей падает
в горячий сосуд.
После этого, чтобы объяснить движение сердца, мне достаточно
сказать, что, когда его полости не наполнены кровью, она необходимо
должна втекать через полую вену в правую, а через венозную артерию - в
левую полость, так как эти два кровеносных сосуда постоянно наполнены
кровью, а отверстия, открывающиеся в сторону сердца, не могут быть
закупорены. Но как только две капли крови вошли в полости, одна в правую,
другая в левую, поскольку капли эти довольно большие, так как входят через
широкие отверстия и поступают из сосудов, наполненных кровью, они
разжижаются и расширяются под действием теплоты, какую они там
находят. Вследствие этого, раздувая все сердце, они толкают и закрывают
пять малых дверец, находящихся у входных отверстий двух сосудов, откуда
они раньше вышли, и таким образом препятствуют дальнейшему
проникновению крови в сердце. Продолжая расширяться все больше и
больше, они толкают и открывают шесть других маленьких дверец,
находящихся при входных отверстиях двух других сосудов, откуда они
выходят, раздувая почти одновременно с сердцем ветви артериальной вены и
большой артерии. Затем сердце и артерии немедленно опадают и сжимаются
по той причине, что вошедшая в артерии кровь охлаждается. Шесть малых
дверец закрываются, а пять, соответствующих полой вене я венозной
артерии, открываются, давая доступ двум другим каплям, вновь
раздувающим, подобно предыдущим, сердце и артерии. А так как кровь,
входя таким образом в сердце, проходит через два мешка, называемые
ушками, то их движение противоположно движению сердца, и они
сжимаются, когда оно раздувается. Впрочем, для того чтобы те, кто не знает
силы математических доказательств и не привык отличать истинные доводы
от правдоподобных, не вздумали без исследования опровергать изложенное,
я хочу предупредить их, что указанное мною движение с необходимостью
следует из расположения органов в сердце, которое можно видеть
невооруженным глазом, из теплоты, которую можно ощущать пальцами, и из
природы крови, с которой можно ознакомиться на опыте. Движение это так
же необходимо следует из указанного, как движение часов следует из силы,
расположения и фигуры гирь и колес.
179
Но если спросят, почему венозная кровь, постоянно вливаясь в сердце,
не истощается и почему не переполняются кровью артерии, куда
направляется вся кровь, проходящая через сердце, могу только повторить
ответ, приведенный в сочинении английского врача, которому следует
воздать хвалу за то, что он первый пробил лед в этом месте и показал, что в
окончаниях артерий находится множество мелких протоков, через которые
кровь, получаемая ими из сердца, входит в малые ветви вен, откуда снова
направляется к сердцу, так что движение ее есть не что иное, как постоянное
кругообращение. Он очень хорошо доказывает это обыкновенным опытом
хирургов, которые, легко перевязав руку выше того места, где вскрывают
вену, получают струю крови более обильную, чем если бы перевязки не
было. Но получилось бы обратное, если бы они перевязали руку ниже, между
кистью и разрезом, или очень крепко - выше этого последнего. Очевидно,
слабозатянутая повязка препятствует крови, уже находящейся в руке,
возвращаться к сердцу через вены, но не мешает притоку новой крови через
артерии, ибо они лежат глубже вен и имеют стенки более плотные и не столь
легко сжимаемые, и кровь, идущая из сердца, с большей силой устремляется
через них к кисти руки, чем возвращается оттуда к сердцу через вены. А так
как кровь выходит из руки через разрез одной из вен, то необходимо должен
быть какой-нибудь проток ниже перевязки, т. е. у оконечности руки, через
который она может пройти из артерий. Он великолепно доказывает также это
кровообращение существованием маленьких клапанов, расположенных в
разных местах вдоль вен так, что они не позволяют крови идти от середины
тела к конечностям и пропускают ее лишь от конечностей к сердцу, а также
опытом, показывающим, что вся кровь может вытечь из тела в короткое
время через одну артерию, если она перерезана, хотя бы она была очень
крепко перевязана недалеко от сердца и перерезана между сердцем и
перевязкой, так что нет ни малейшего основания допускать, что она пришла
откуда-либо, кроме сердца.
Но есть и много других оснований, свидетельствующих, что истинная
причина движения крови есть та, какую я указал. Во-первых, разница между
кровью, выходящей из вен, и кровью, выходящей из артерий, происходит
только оттого, что кровь, разжиженная и как бы дистиллированная при
прохождении через сердце, при выходе из него, т. е. в артериях, становится
легче, жиже и теплее, чем она была в венах перед входом в сердце.
Присмотревшись внимательнее, можно заметить, что эта разница ясно
наблюдается лишь вблизи сердца, а не в отдаленных от него местах. Затем,
плотность стенок артериальной вены и большой артерии в достаточной мере
показывает нам, что кровь ударяет в них сильнее, чем в стенки вен. И отчего
левая полость сердца и большая артерия объемистее и шире, чем правая
полость и артериальная вена, как не оттого, что кровь венозной артерии,
прошедшая только через легкие, по выходе из сердца более тонка и
180
разжижается сильнее и легче, чем кровь, идущая непосредственно из полой
вены. И что могут угадать врачи, щупая пульс, если они не знают, что кровь
в зависимости от изменений своей природы от теплоты сердца может
расширяться сильнее или слабее прежнего, быстрее или медленнее
прежнего? И если рассмотреть, как эта теплота передается другим органам,
то не следует ли признать, что это производится кровью, которая, пройдя
через сердце и там нагреваясь, распространяется оттуда по всему телу?
Поэтому если лишить крови какую-нибудь часть тела, то тем самым от нее
отнимется и теплота. И даже если бы сердце было нагрето, как раскаленное
железо, этого было бы недостаточно для того, чтобы согреть руки и ноги так,
как их греет сердце, если бы оно постоянно не посылало туда кровь. Затем,
мы узнаем отсюда, что истинное назначение дыхания заключается в том, что
оно приносит в легкие достаточно свежего воздуха для того, чтобы кровь,
поступающая туда из правой части сердца, где она разжижалась и как бы
превращалась в пар, снова обратилась из пара в кровь. Без этого, поступая в
левую полость сердца, она не могла бы служить там пищей огня. Это
подтверждается тем, что у животных, не имеющих легких, в сердце есть
только одна полость, а также тем, что у детей, находящихся в утробе матери
и не пользующихся легкими, имеется отверстие, через которое кровь из
полой вены вливается в левую полость сердца, и проток, через который кровь
из артериальной вены течет в большую артерию, не проходя через легкие.
Далее, как могло бы происходить пищеварение в желудке, если бы сердце не
посылало туда с помощью артерий теплоты и с нею некоторых наиболее
подвижных частей крови, способствующих растворению пищи? А действие,
обращающее сок из пищи в кровь, не разъясняется ли тем, что он
дистиллируется вновь и вновь, проходя через сердце, может быть, более ста
или двухсот раз в сутки? И для объяснения питания и образования в теле
различных выделений достаточно сказать, что та же сила, при помощи
которой кровь, разжижаясь, продвигается из сердца к окончаниям артерий,
задерживает некоторые части крови в органах, через которые они проходят, и
замещает там другие части, вытесняемые оттуда, и при этом в зависимости от
положения, фигуры и малости пор, встречающихся крови, одни ее части
занимают известные места скорее других, подобно тому как зерна
разделяются между собой, проходя через сито с разными отверстиями, что
может наблюдать каждый. Наконец, самое замечательное во всем этом образование животных духов, которые, как нежнейший ветер или, лучше
сказать, как в высшей степени чистое и подвижное пламя, постоянно
восходят в большом количестве от сердца к мозгу, а оттуда - через нервы к
мышцам и приводят все члены в движение. При этом нет надобности
воображать какую-нибудь иную причину того, что наиболее подвижные и
легко проникающие части крови, служащие для образования этих духов,
идут от сердца именно в мозг, а не в иное место, кроме той, что артерии,
181
несущие кровь в мозг, идут по наиболее прямому пути. А по правилам
механики, тождественным с правилами природы, когда несколько предметов
стремятся двигаться вместе в одну сторону, где нет достаточно места для
всех, так же как стремятся по направлению к мозгу части крови, выходящие
из левой полости сердца,- слабейшие и наименее подвижные оттесняются
более сильными, которые и проходят одни.
Я довольно подробно изложил все это в сочинении, которое прежде
намеревался издать. Затем я показал там, каково должно быть устройство
нервов и мышц человеческого тела, чтобы находящиеся внутри животные
духи имели силу двигать члены, так же как только что отрубленные головы
двигаются и кусают землю, хотя уже не одушевлены. Я показал, какие
изменения должны происходить в мозгу, чтобы вызывать бодрствование, сон
и сновидения; как свет, звуки, запахи, вкус, тепло и все другие качества
внешних предметов могут через посредство чувств запечатлевать в нем
разные представления; как голод, жажда и другие внутренние состояния
оказываются способными в свою очередь вызывать представления в мозгу; я
показал, что там должно быть принято в качестве общего чувствилища,
воспринимающего эти представления, в качестве памяти, сохраняющей их,
воображения, способного различно преобразовывать их и формировать из
них новые идеи, могущего путем распределения животных духов в мышцах
приводить в движение члены рассматриваемого тела столькими различными
способами - как под влиянием внешних предметов, действующих на чувства,
так и в результате внутренних чувств,- с какими двигаются члены нашего
тела в том случае, когда их не направляет воля. Это не покажется странным
тем, кто знает, сколько разных автоматов и самодвижущихся инструментов
может произвести человеческое искусство, пользуясь совсем немногими
деталями сравнительно с великим множеством костей, мышц, нервов,
артерий, вен и всех других частей, имеющихся в теле каждого животного;
они будут рассматривать это тело как машину, которая, будучи сделана
руками божьими, несравненно лучше устроена и способна к более
удивительным движениям, нежели машины, изобретенные людьми. В
особенности я старался показать здесь, что если бы существовали такие
машины, которые имели бы органы и внешний вид обезьяны или какогонибудь другого неразумного животного, то у нас не было бы никакого
средства узнать, что они не той же природы, как и эти животные. Но если бы
сделать машины, которые имели бы сходство с нашим телом и подражали бы
нашим действиям, насколько это мыслимо, то у нас все же было бы два
верных средства узнать, что эта не настоящие люди. Во-первых, такая
машина никогда не могла бы пользоваться словами или другими знаками,
сочетая их так, как это делаем мы, чтобы сообщать другим свои мысли.
Можно, конечно, представить себе, что машина сделана так, что произносит
слова, и некоторые из них - даже в связи с телесным воздействием,
182
вызывающим то или иное изменение в ее органах, как, например, если
тронуть ее в каком-нибудь месте, и она спросит, что от нее хотят, тронуть в
другом - закричит, что ей больно, и т. п. Но никак нельзя себе представить,
что она расположит слова различным образом, чтобы ответить на сказанное в
ее присутствии, на что, однако, способны даже самые тупые люди. Вовторых, хотя такая машина многое могла бы сделать так же хорошо и,
возможно, лучше, чем мы, в другом она непременно оказалась бы
несостоятельной, и обнаружилось бы, что она действует не сознательно, а
лишь благодаря расположению своих органов. Ибо в то время как разум универсальное орудие, могущее служить при самых разных обстоятельствах,
органы машины нуждаются в особом расположении для каждого отдельного
действия. Отсюда немыслимо, чтобы в машине было столько различных
расположении, чтобы она могла действовать во всех случаях жизни так, как
нас заставляет действовать наш разум.
С помощью этих же двух средств можно узнать разницу между
человеком и животным, ибо замечательно, что нет людей настолько тупых и
глупых, не исключая и полоумных, которые бы не были способны связать
несколько слов и составить из них речь, чтобы передать мысль. И напротив,
нет ни одного животного, как бы совершенно оно ни было и в каких бы
счастливых условиях ни родилось, которое могло бы сделать нечто подобное.
Это происходит не от недостатка органов, ибо сороки и попугаи могут
произносить слова, как и мы, но не могут, однако, говорить, как мы, т. е.
показывая, что они мыслят то, что говорят, тогда как люди, родившиеся
глухонемыми и лишенные, подобно животным, органов, служащих другим
людям для речи, обыкновенно сами изобретают некоторые знаки, которыми
они объясняются с людьми, постоянно находящимися рядом с ними и
имеющими досуг изучить их язык. Это свидетельствует не только о том, что
животные менее одарены разумом, чем люди, но и о том, что они вовсе его
не имеют. Ибо мы видим, что требуется очень немного разума, чтобы уметь
говорить, а поскольку наблюдается известное неравенство между животными
одного рода, равно как и между людьми, причем одни легче поддаются
обучению, чем другие, постольку невероятно, чтобы обезьяна или попугай,
совершеннейшие в своем роде, не сравнялись с самым глупым ребенком или по крайней мере с ребенком, у которого поврежден мозг,- если бы их
душа не обладала природой, совершенно отличной от нашей. И не следует ни
смешивать дар слова с естественными движениями, которые выражают
страсти и которым могут подражать машины, так же как и животные, ни,
подобно некоторым древним, полагать, что животные говорят, но мы не
понимаем их языка; если бы это было справедливо, то, имея органы, сходные
с нашими, они могли бы объясняться с нами, как и с себе подобными.
Замечательно также, что, хотя многие животные обнаруживают в некоторых
своих действиях больше искусства, чем мы, однако в других они совсем его
183
не обнаруживают, поэтому то, что они лучше нас действуют, не доказывает,
что у них есть ум; ибо по такому расчету они обладали бы им в большей
мере, чем любой из нас, и делали бы все лучше нас; это доказывает скорее,
что ума они не имеют и природа в них действует сообразно расположению
их органов, подобно тому как часы, состоящие только из колес и пружин,
точнее показывают и измеряют время, чем мы со всем нашим благоразумием.
Затем я описал разумную душу и показал, что ее никак нельзя получить
из свойств материи, как все прочее, о чем я говорил, но что она должна быть
особо создана, и недостаточно, чтобы она помещалась в человеческом теле,
как кормчий на своем корабле, только разве затем, чтобы двигать его члены;
необходимо, чтобы она была теснее соединена и связана с телом, чтобы
возбудить чувства и желания, подобные нашим, и таким образом создать
настоящего человека. Впрочем, я здесь несколько распространился о душе по
той причине, что это один из важнейших вопросов. За исключением
заблуждения тех, кто отрицает Бога, заблуждения, по-моему, достаточно
опровергнутого выше, нет ничего, что отклоняло бы слабые умы от прямого
пути добродетели дальше, чем представление о том, будто душа животных
имеет ту же природу, что и наша, и что, следовательно, нам наравне с мухами
и муравьями не к чему стремиться и не на что надеяться после смерти; тогда
как, зная, сколь наши души отличны от душ животных, гораздо легче понять
доводы, доказывающие, что наша душа имеет природу, совершенно
независимую от тела, и, следовательно, не подвержена смерти одновременно
с ним. А поскольку не видно других причин, которые могли бы ее
уничтожить, то, естественно, из этого складывается заключение о ее
бессмертии.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ЧТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПРОДВИНУТЬСЯ ВПЕРЕД В
ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДЫ
Прошло уже три года с тех пор, как я окончил трактат, содержащий все
изложенное. Я начал его пересматривать, чтобы передать в руки издателя,
когда узнал, что лица, которых я уважаю и чей авторитет для моих действий
не меньше, чем авторитет собственного разума по отношению к моим
мыслям, не одобрили одного положения из области физики,
опубликованного ранее другим автором. Я не хочу сказать, что
придерживаюсь того же мнения, но до этого осуждения я не заметил в нем
ничего, что бы мог посчитать предосудительным с точки зрения религии или
государства и что, следовательно, воспрепятствовало бы мне самому
написать так же, если бы разум убедил меня в его правильности. Это
заставило меня опасаться, нет ли все же и среди моих взглядов чего-либо
ошибочного, несмотря на то что я прилагал большое старание, чтобы
принимать лишь такие положения, для которых имел совершенно верные
доказательства, и не писать ничего, что могло бы кому-либо повредить.
184
Этого было достаточно, чтобы заставить меня изменить решение
опубликовать свой труд. И хотя доводы, по которым я принял свое
первоначальное решение, были очень сильны, моя давнишняя ненависть к
ремеслу писания книг немедленно подсказала мне другие, чтобы уклониться
от него. Те и другие доводы таковы, что не только я сам в известной мере
заинтересован в том, чтобы их изложить, но и читатели, может быть,
пожелают их узнать.
Я никогда не придавал большого значения тому, что исходило от моего
разума, и поскольку я не собрал других плодов от метода, которым
пользуюсь, за исключением удовлетворения от преодоления некоторых
трудностей умозрительных наук, или от того, что я старался согласовать свое
поведение с правилами, которым этот метод меня учил, я и не считал себя
обязанным об этом писать. Что касается нравов, то каждый в избытке
наделен собственным мнением о них, и нашлось бы столько реформаторов,
сколько голов, если бы было позволено совершать здесь перемены комулибо, кроме тех, кого Бог поставил государями над народами или кому он
дал благодать и силу быть пророками. И хотя мои умозрения мне очень
нравились, я счел, что и другие имеют свои, которые им, может быть,
нравятся еще больше. Однако, как только я приобрел некоторые общие
понятия относительно физики и заметил, испытывая их в различных трудных
частных случаях, как далеко они могут вести и насколько они отличаются от
принципов, которыми пользовались до сих пор, я решил, что не могу их
скрывать, не греша сильно против закона, который обязывает нас по мере сил
наших содействовать общему благу всех людей. Эти основные понятия
показали мне, что можно достичь знаний, весьма полезных в жизни, и что
вместо умозрительной философии, преподаваемой в школах, можно создать
практическую, с помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха,
звезд, небес и всех прочих окружающих нас тел, так же отчетливо, как мы
знаем различные ремесла наших мастеров, мы могли бы, как и они,
использовать и эти силы во всех свойственных им применениях и стать,
таким образом, как бы господами и владетелями природы. Такие знания
желательны не только для того, чтобы изобрести множество приемов,
позволяющих без труда наслаждаться плодами земли и всеми благами, на ней
находящимися, но главным образом для сохранения здоровья, которое, без
сомнения, есть первое благо и основание всех других благ этой жизни. Ведь
дух так сильно зависит от состояния и от расположения органов тела, что
если можно найти какое-либо средство сделать людей более мудрыми или
более ловкими, чем они были до сих пор, то, я думаю, его надо искать в
медицине. Правда, в нынешней медицине мало такого, что приносило бы
значительную пользу, но, не имея намерения хулить ее, я уверен, что даже
среди занимающихся ею по профессии нет человека, который не признался
бы, что все известное в ней почти ничто по сравнению с тем, что еще
185
предстоит узнать, и что можно было бы избавиться от множества болезней
как тела, так и духа, а может быть, даже от старческой слабости, если бы
имели достаточно знаний об их причинах и о тех лекарствах, которыми
снабдила нас природа. Возымев намерение посвятить всю жизнь исканию
столь необходимой науки, я, найдя путь, долженствующий, кажется мне,
безошибочно привести к ней, если краткость жизни или недостаток опыта
тому не помешают, полагал, что нет лучше средства против этих двух
препятствий, как добросовестно сообщать публике то немногое, что я найду,
и побуждать способные умы идти далее, содействуя сообразно своим
склонностям и возможностям опытам, которые необходимо производить, и
сообщая все приобретенное народу, чтобы следующие за ними начинали там,
где кончили их предшественники; соединяя таким образом жизнь и труд
многих, мы бы все совместно продвинулись значительно дальше, чем мог бы
сделать каждый в отдельности.
Что касается опытов, то я заметил, что они тем более необходимы, чем
далее мы продвигаемся в знании. Ибо для начала лучше пользоваться лишь
теми, которые сами представляются нашим чувствам и о которых мы не
можем оставаться в неведении при малейшем о них размышлении; это
лучше, чем искать редких и искусственных опытов. Доводом в пользу этого
является то, что такие опыты часто обманывают нас, когда мы еще не знаем
наиболее простых причин, а обстоятельства, от которых они зависят, почти
всегда так исключительны и скрыты, что их крайне трудно обнаружить.
Порядок, которого я здесь придерживался, таков: во-первых, я старался
вообще найти начала, или первопричины, всего, что существует и может
существовать в мире, рассматривая для этой цели только Бога, сотворившего
его, и выводя их только из неких ростков тех истин, которые от природы
заложены в наших душах. После этого я рассмотрел, каковы первые и
наиболее простые следствия, которые можно вывести из этих причин; и мне
кажется, что таким путем я нашел небеса, звезды, Землю и даже воду, воздух,
огонь, минералы на Земле и другие вещи, являющиеся самыми обычными и
простыми, а потому и более доступными познанию. Затем, когда я захотел
перейти к более частным следствиям, мне представилось их большое
разнообразие, и я пришел к мысли, что человеческий ум не в силах отличить
формы и виды тел, существующих на Земле, от множества других, которые
могли бы быть на ней, если бы Бог захотел их там поместить. Следовательно,
обратить их на пользу можно, только продвигаясь от следствий к причинам и
используя многочисленные частные опыты. Именно в силу этого, пробегая
мысленным взором предметы, которые когда-либо представлялись моим
чувствам, я смею сказать, что не заметил ни одной вещи, которую бы я не
мог без особого труда объяснить с помощью найденных мною начал. Но я
должен также сознаться, что могущество природы простирается так далеко, а
начала мои так просты и общи, что мне не представляется никакого частного
186
следствия, которое не могло бы быть выведено из начал несколькими
различными способами, так что самым трудным для меня было найти, каким
способом лучше всего выразить эту зависимость. Ибо тут я не знаю другого
приема, как вновь подобрать несколько опытов, с тем чтобы их исход
различался в зависимости от того, каким способом приходится объяснять это
действие. Впрочем, я уже достиг того, что, кажется, хорошо различаю, каких
обходных путей требует большинство опытов, которые могли бы служить
этой цели. Но я вижу также, что опыты эти такого свойства и столь
многочисленны, что для них не хватило бы ни моих рук, ни моего состояния,
будь оно в тысячу раз большим, чем то, что я имею. Таким образом, в
зависимости от больших или меньших возможностей производить опыты я
буду быстрее или медленнее продвигаться в познании природы. Я обещал
себе высказать это в трактате, который я написал. Там же я старался так ясно
показать всю пользу, какую может извлечь из этого общество, что тем самым
побудил всех желающих общего блага - т. е. тех, кто добродетелен на деле, а
не тех, кто лишь притворяется таковым или является таковым лишь в мнении
других,- сообщать мне о проделанных опытах, а также помочь мне в
отыскании тех, которые еще осталось сделать.
Но с тех пор мне представились другие доводы, побудившие меня
изменить свое мнение, и я стал думать, что действительно должен по мере
открытия новых истин излагать их письменно, если они покажутся мне
важными, и прилагать такое старание, как если бы я хотел их напечатать. Это
принудило к более подробному их исследованию, так как, без сомнения, мы
более тщательно рассматриваем то, что должно быть просмотрено многими,
чем то, что делаем для себя. Часто вещи, казавшиеся мне истинными, когда я
лишь начинал о них думать, оказывались ложными, когда я излагал их на
бумаге. Вместе с тем, чтобы не упускать ни одного случая принести пользу
обществу, если я к этому способен и если мои сочинения имеют какую-либо
цену, я хотел, чтобы те, к кому они попадут после моей смерти, могли
использовать их наилучшим образом. Но я ни в коем случае не должен
соглашаться на издание их при жизни, чтобы ни противоречия, ни споры,
которые они могут вызвать, ни даже известность, которую они могли бы
доставить, какая бы она ни была, не отняли у меня времени, которое я
намерен посвятить собственному просвещению. Правда, каждый человек по
мере сил обязан заботиться о благе других, и тот, кто не приносит пользы
другим, ничего не стоит. Однако верно также и то, что наши заботы должны
простираться дальше настоящего времени, в лучше пренебречь тем, что
может принести некоторую пользу живущим теперь людям, с целью заняться
тем, что принесет больше пользы нашим потомкам. Мне действительно
хочется, чтобы знали, что то немногое, что я узнал, почти ничто по
сравнению с тем, что мне неизвестно и что я не теряю надежды изучить. Те,
кто мало-помалу открывает истину в науке, схожи с теми, кто, становясь
187
богаче, тратит меньше труда на большие приобретения, чем они ранее
тратили на гораздо меньшие, пока были бедны. Их можно сравнить с
полководцами, силы которых обычно умножаются по мере одерживаемых
ими побед и которым требуется больше искусства, чтобы удержаться после
поражения, чем для того, чтобы с победой брать города и провинции. Ибо
стремиться побеждать все трудности и заблуждения, мешающие нам достичь
познания истины, есть поистине то же, что давать сражение, а составить
ложное мнение относительно какого-либо важного и общего предмета - то
же, что потерпеть поражение; впоследствии потребуется больше искусства,
чтобы оправиться и прийти в прежнее состояние, чем его нужно было для
достижения больших успехов, когда располагаешь вполне обоснованными
принципами.
Что касается меня, то, если раньше я и открыл несколько научных
истин (содержание этого тома, я надеюсь, убеждает в том, что это мне в
какой-то мере удалось), могу сказать, что они суть всего лишь следствия и
выводы из пяти или шести преодоленных мною главных затруднений, победу
над которыми я рассматриваю как сражение, где счастье было на моей
стороне. Я даже не побоялся бы сказать, что, выиграй я еще два-три
подобных сражения, и я считал бы, что привел свои планы в исполнение;
возраст же мой не столь преклонен, чтобы я, согласно обычному течению
природы, не мог иметь достаточно досуга для совершения этого. Но я
полагаю, что я тем более обязан беречь оставшееся у меня время, чем больше
у меня надежды хорошо его использовать. А я, без сомнения, имел бы много
случаев терять его, если бы обнародовал основания моей физики; хотя почти
все они настолько очевидны, что достаточно услышать их, чтобы с ними
согласиться, и нет между ними ни одного, которого я не мог бы доказать,
однако невозможно, чтобы они совпали со всеми различными мнениями
других людей; поэтому я предвижу, что меня будут часто отвлекать
возражениями, которые они вызовут.
Можно сказать, что эти возражения были бы мне полезны постольку,
поскольку они указали бы мне мои ошибки и поскольку, если у меня есть
что-либо хорошее, таким путем другие лучше бы это уразумели. А так как
несколько человек могут видеть больше, чем один, то, пользуясь уже сейчас
открытыми мною принципами, они могли бы также помочь мне своими
изобретениями. Но хотя я, признаюсь, чрезвычайно склонен впадать в
заблуждения и почти никогда не доверяюсь первым приходящим мне
мыслям, однако имеющийся у меня опыт не позволяет мне надеяться извлечь
пользу от возражений, которые могут быть мне сделаны. Ибо я часто
проверял суждения как тех, кого я почитал своими друзьями, так и тех, кого я
считал беспристрастными, и даже тех, кого злоба и зависть побуждали
обнаруживать то, что благосклонность скрывала от друзей, но редко
случалось, чтобы мне возражали что-либо не предвиденное мною, разве
188
только нечто крайне далекое от моего предмета. Я почти никогда не встречал
такого критика моих мнений, который представлялся бы мне более строгим и
более справедливым, чем я сам. И я никогда не замечал, чтобы с помощью
диспутов, практикуемых в школах, была открыта хоть какая-нибудь истина,
дотоле неизвестная, ибо, когда каждый старается победить, тогда более
заботятся набить цену правдоподобию, а не взвешивать доводы той и другой
стороны. И те, что долго были хорошими адвокатами, не становятся
благодаря этому лучшими судьями.
Что касается пользы, которую другие извлекли бы из опубликования
моих мыслей, то она также не может быть весьма значительной, так как я эти
мысли не развил еще настолько, чтобы не было необходимости многое к ним
добавить, прежде чем применять их на практике. И я думаю, что могу сказать
без тщеславия, что если кто-либо к этому способен, то это скорее я, чем ктолибо иной: не потому, чтобы на свете не было множества умов, несравненно
лучших, чем мой, но потому, что нельзя понять и усвоить мысль,
сообщенную кем-то другим, так же хорошо, как если бы сам до нее дошел.
Это настолько верно в данном случае, что, хотя я нередко излагал некоторые
из моих положений людям весьма высокого ума и они, казалось, понимали
меня вполне ясно, пока я им излагал, но потом, когда они их пересказывали,
я замечал, что они почти всегда так изменяли мои мысли, что я не мог
признать их за свои. Вследствие этого пользуюсь случаем просить наших
потомков никогда не верить, когда им говорят, что та или другая мысль
исходит от меня, и считать моим только то, что я сам обнародовал. Меня
нисколько не удивляют те странности, которые приписываются древним
философам, чьи сочинения до нас не дошли, и я не считаю их от этого
неразумными, так как они были лучшими умами своего времени, а полагаю,
что их мысли плохо нам переданы. Это видно из того, что их последователи
почти никогда не превосходили своих учителей. Я уверен, что самые
страстные из нынешних последователей Аристотеля сочли бы себя
счастливыми, будь у них такое же знание природы, какое было у него, даже
при условии, что они никогда не превзойдут его в этом отношении. Они
подобны плющу, который не стремится подняться выше дерева, его
поддерживающего, а, поднявшись до его вершины, нередко спускается вниз;
ибо мне кажется также, что и эти опускаются, становясь в каком-то смысле
менее знающими, чем были бы, воздержавшись от учения: не довольствуясь
знанием того, что вразумительно изложено автором, они хотят у него найти к
тому же решение многих вопросов, о которых он ничего не говорит, а может
быть, никогда и не думал. Однако их способ философствования очень удобен
для весьма посредственных умов, ибо неясность различении и принципов,
которыми они пользуются, позволяет им говорить обо всем так смело, как
если бы они это знали, и все свои утверждения защищать от самых тонких и
искусных противников, не поддаваясь переубеждению. В этом они кажутся
189
мне похожими на слепого, который, чтобы драться на равных условиях со
зрячим, завел бы его в какой-нибудь темный подвал. Могу сказать, что эти
люди заинтересованы в том, чтобы я воздержался от опубликования моих
принципов философии. Так как они крайне просты и очевидны, то, публикуя
их, я как бы приоткрывал окна и впускал свет в подвал, куда противники
сошли, чтобы драться. Но даже лучшие умы не имеют повода желать с ними
ознакомиться; ибо, если они хотят говорить обо всем на свете и приобрести
славу ученых людей, они легче достигнут этого, довольствуясь
правдоподобием, которое можно легко найти во всякого рода вопросах,
нежели отыскивая истину, раскрывающуюся с трудом лишь в некоторых из
них и требующую откровенного признания в своем неведении, как только
речь заходит о прочих. Если же они предпочитают знание немногих истин
тщеславию казаться всезнающими (а это, без сомнения, предпочтительно) и
хотят следовать моему примеру, то достаточно того, что я уже сказал в
настоящем "Рассуждении"; ибо если они способны пойти дальше меня, то
тем более откроют то, к чему я сам пришел. Поскольку я все исследовал
строго по порядку, то очевидно, что то, что мне еще предстоит открыть,
несомненно, само по себе более трудно и сокровенно, чем то, что я встретил
до сих пор: им будет не так приятно узнать это от меня, как найти самим.
Кроме того, навык, который они приобретут, исследуя сначала легкие
вопросы и переходя постепенно к более сложным, принесет им больше
пользы, чем все наставления, которые я мог бы дать. Что касается меня, я
убежден, что, если бы мне в юности преподали все истины, доказательства
которых я потом нашел, если бы я познал их без всякого труда, я, может
быть, не узнал бы никаких других или по крайней мере никогда не приобрел
бы той привычки и способности их находить, когда я стараюсь их отыскать,
какими я, думаю, обладаю теперь. Одним словом, если на свете есть какоелибо произведение, которое может быть успешно завершено только тем, кто
его начал, то это именно то, над которым я работаю.
Правда, что касается требуемых для этого опытов, то они таковы, что
один человек не был бы в состоянии все их произвести; но, с другой стороны,
он не мог бы успешно использовать другие руки, кроме своих, разве только
еще руки ремесленников и вообще оплачиваемых людей, которых надежда
заработка - весьма действенное средство - побудит делать в точности то, что
им предписано. Что касается любителей, которые из любопытства или из
желания поучиться могут предложить свои услуги, то, не говоря уже о том,
что они обычно более обещают, чем выполняют, а также делают хорошие
предложения, из которых ни одно никогда не удается, они неизбежно
потребуют себе платы в виде объяснения некоторых трудностей или по
крайней мере в виде комплиментов и бесполезных разговоров, что всегда
обойдется дороже, как бы мало времени ни было затрачено. Относительно же
опытов, произведенных другими, даже если бы последние согласились
190
сообщить о них автору (чего, конечно, никогда не сделают те, кто держит их
в секрете), надлежит сказать, что эти опыты предполагают столько условий и
не относящихся к делу обстоятельств, что нелегко выявить в них истину;
кроме того, они оказались бы почти все плохо истолкованными и даже
ложными вследствие того, что те, кто их выполнил, старались бы подогнать
их к своим принципам; а если некоторые из них и пригодились бы, то едва ли
они окупят время, потраченное на их отбор. Таким образом, если бы в мире
существовал человек, заведомо способный открывать самые важные и самые
полезные вещи для общества, и если бы другие люди старались ради этого
всяческими способами помочь ему в осуществлении его планов, то, помоему, самое лучшее, что они могли бы сделать для него,- это предоставить
ему средства на расходы по опытам, в которых он нуждается, и к тому же не
позволять никому нарушать его досуг. Но, даже не будучи столь высокого
мнения о себе, чтобы обещать что-нибудь необыкновенное, я не обольщаю
себя пустой надеждой, что общество должно особенно интересоваться моими
планами; я не столь низок душой, чтобы принять от кого бы то ни было
милость, которую могут счесть незаслуженной.
Все эти соображения, вместе взятые, были причиной того, что три года
назад я не захотел опубликовывать уже готовый трактат и даже принял
решение в течение моей жизни не выпускать другого, столь же общего, из
которого можно было бы узнать основания моей физики '8. Но потом два
новых соображения побудили меня напечатать здесь несколько опытов,
посвященных специальным вопросам, и тем самым отчитаться в моих
действиях и планах. Первое соображение заключается в том, что если бы я не
выполнил этого, то многие знавшие мое прежнее намерение опубликовать
некоторые сочинения могли бы подумать, что причины того, что я от этого
воздерживаюсь, наносят мне больший ущерб, чем это есть на самом деле.
Хотя я не чрезмерный любитель славы и даже, смею сказать, ненавижу ее,
поскольку считаю, что она нарушает покой, который я ценю выше всего,
однако я никогда не прибегал к особым предосторожностям, чтобы
оставаться неизвестным, как потому, что счел бы это несправедливым по
отношению к самому себе, так и потому, что это также наложило бы на меня
те или иные заботы, нарушающие полное спокойствие ума, к которому я
стремлюсь. Таким образом, всегда оставаясь равнодушным и к славе, и к
неизвестности, я не мог воспрепятствовать приобретению некоторого рода
репутации и считал необходимым делать все возможное, чтобы она не была
дурной. Второе соображение, заставляющее меня написать это сочинение,
следующее: с каждым днем все более и более откладывается исполнение
моего намерения приобрести знания; это происходит от необходимости
проводить большое число опытов, которые нельзя выполнить без
посторонней помощи; я не надеюсь на большое участие общества в моей
работе, однако я не хочу погрешить перед самим собою и дать тем, кто
191
переживет меня, повод упрекнуть меня когда-нибудь в том, что, не объяснив
им, в чем они могли содействовать моим намерениям, я лишил себя
возможности передать им ряд сведений в гораздо лучшем виде.
Тогда я решил, что мне легко выбрать несколько вопросов, которые, не
давая повода к большим спорам и не обязывая меня разъяснять мои
принципы больше, чем я сам того желаю, могут, однако, с достаточной
ясностью показать, что я могу и чего не могу достигнуть в науках. Не знаю,
удалось ли это мне, и не хочу предварять суждения других, говоря сам о
своих сочинениях; но я буду очень рад, если их станут проверять, а для того,
чтобы дать к этому больше поводов, я покорнейше прошу всех, у кого есть
какие-либо возражения, потрудиться прислать их моему издателю;
уведомленный им, я постараюсь дать немедленно ответ. Таким образом,
читателям, если они будут иметь одновременно возражение и ответ на него,
легче будет судить, кто прав. При этом обещаю никогда не давать длинных
ответов, но только либо откровенно признаваться в своих ошибках, если
замечу их, либо, если не смогу их заметить, высказывать просто то, что
считаю необходимым высказать в защиту написанного мною, не пускаясь в
изъяснение каких-либо новых вопросов, чтобы не продолжать спора без
конца.
Если же некоторые из положений, излагаемых мною в начале
"Диоптрики" и "Метеоров", вызвали сначала некоторое недоумение по той
причине, что я называю их предположениями и как будто не собираюсь их
обосновывать, то прошу иметь терпение внимательно все прочесть; я
надеюсь, что всех удовлетворю, поскольку доводы, как мне кажется, даны в
такой очередности, что последние доказываются первыми, являющимися их
причинами, а эти в свою очередь доказываются последними,
представляющими собой их следствия. И не следует думать, что я совершаю
ошибку, называемую логиками порочным кругом, так как опыт с полной
достоверностью подтверждает большинство указываемых следствий;
причины, из коих они выводятся, служат не столько для их доказательства,
сколько для объяснения и, наоборот, сами доказываются следствиями. Я
назвал их предположениями лишь потому, что считаю возможным вывести
их из первых истин, объясненных мною выше; но не хочу этого делать
нарочно. Умам, воображающим, что они в один день с двух-трех слов могут
узнать все то, что другой обдумывал двадцать лет, и тем более способным
впадать в заблуждение и отдаляться от истины, чем они проницательнее и
живее, мне хотелось помешать воспользоваться случаем для возведения на
том, что они примут за мои начала, какой-нибудь сумасбродной философии,
ошибочность которой будет приписана мне. Что же касается воззрений,
полностью принадлежащих мне, я не считаю, что новизна является для них
извинением, тем более что при тщательном рассмотрении их оснований они
окажутся, по моему убеждению, настолько простыми и согласными со
192
здравым смыслом, что покажутся менее необычными и странными, чем
всякие другие, какие можно иметь о тех же предметах. Я не хвастаюсь тем,
что я их первый открыл, но ставлю себе в заслугу, что принял их не потому,
что они были прежде высказаны другими, и не потому, что они никем
никогда не были высказаны, но единственно потому, что меня убедил разум.
Даже если бы мастера и не умели сразу применить изобретение,
изложенное мною в "Диоптрике", я не думаю, чтобы из этого следовало, что
оно плохое; требуется много искусства и опыта, чтобы построить и наладить
описываемые мной машины так, чтобы не опустить ничего существенного; я
был бы не менее удивлен, если бы это удалось им сразу, как если бы удалось
кому-нибудь в один день выучиться отлично играть на лютне только потому,
что у него была хорошая партитура.
Если я пишу по-французски, на языке моей страны, а не по-латыни, на
языке моих наставников, то это объясняется надеждой, что те, кто пользуется
только своим естественным разумом в его полной чистоте, будут судить о
моих соображениях лучше, чем те, кто верит только древним книгам; что
касается людей, соединяющих здравый смысл с ученостью, каковых я
единственно и желаю иметь своими судьями, то, я уверен, они не будут столь
пристрастны к латыни, чтобы отказаться прочесть мои доводы только по той
причине, что я изложил их на общенародном языке.
Впрочем, я не хочу здесь говорить более подробно об успехах, какие
надеюсь сделать в будущем в науках; не желаю связывать себя перед
обществом никакими обещаниями, в исполнимости которых я не уверен;
скажу только, что я решился употребить время, какое мне остается жить,
только на то, чтобы постараться приобрести некоторое познание природы,
такое, чтобы из него можно было вывести более надежные правила для
медицины, чем те, которые мы имеем до сих пор. Мои наклонности
отвращают меня от других намерений, особенно от того, в чем польза для
одного непременно сочетается с вредом для другого; поэтому если бы
обстоятельства принудили меня заниматься этим, то я едва ли мог бы
ожидать успеха. Заявляю здесь об этом, хотя знаю, что такое заявление не
придаст мне значительности, но я вовсе этого и не добиваюсь. Я всегда буду
считать себя облагодетельствованным более теми, по чьей милости я
беспрепятственно смогу пользоваться своим досугом, нежели теми, кто
предложил бы мне самые почетные должности на свете.
РАЗДЕЛ 5 Философия 19-21 веков
Жан Поль Сартр
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ - ЭТО ГУМАНИЗМ
193
Я хотел бы выступить здесь в защиту экзистенциализма от ряда
упреков, высказанных в адрес этого учения. Прежде всего,
экзистенциализм обвиняют в том, будто он призывает погрузиться в
квиетизм отчаяния: раз никакая проблема вообще не разрешима, то не может
быть и никакой возможности действия в мире; в конечном итоге это
созерцательная философия, а поскольку созерцание — роскошь, то мы вновь
приходим к буржуазной философии. Таковы главным образом обвинения со
стороны коммунистов.
С другой стороны, нас обвиняют в том, что мы подчеркиваем
человеческую низость, показываем всюду гнусное, темное, липкое и
пренебрегаем многим приятным и красивым, отворачиваемся от светлой
стороны человеческой натуры. Так, например, критик, стоящий на позициях
католицизма,— г-жа Мерсье обвиняла нас в том, что мы забыли об улыбке
ребенка. Те и другие упрекают нас в том, что мы забыли о солидарности
людей, смотрим на человека как на изолированное существо; и это следствие
того, что мы исходим, как заявляют коммунисты, из чистой субъективности,
из картезианского «я мыслю», то есть опять-таки из такого момента, когда
человек постигает себя в одиночестве, и это будто бы отрезает нам путь к
солидарности с людьми, которые находятся вовне и которых нельзя
постичь посредством cogito.
Со своей стороны христиане упрекают нас еще и в том, что мы
отрицаем реальность и значение человеческих поступков, так как,
уничтожая божественные заповеди и вечные ценности, не оставляем
ничего, кроме произвола: всякому позволено поступать, как ему
вздумается, и никто не может судить о взглядах и поступках других
людей.
На все эти обвинения я постараюсь здесь ответить; именно поэтому я
и озаглавил эту небольшую работу «Экзистенциализм — это гуманизм».
Многих, вероятно, удивит, что здесь говорится о гуманизме. Разберем,
какой смысл мы в него вкладываем. В любом случае мы можем сказать с
самого начала, что под экзистенциализмом мы понимаем такое учение,
которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того,
утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают
некоторую среду и человеческую субъективность.
Основное обвинение, нам предъявляемое, состоит, как известно, в
том, что мы обращаем особое внимание на дурную сторону
человеческой жизни. Мне рассказывали недавно об одной даме, которая,
обмолвившись грубым выражением, заявила в виде извинения: «Кажется,
я становлюсь экзистенциалисткой». Следовательно, экзистенциализм
уподобляют
непристойности,
а
экзистенциалистов
объявляют
«натуралистами». Но, если мы действительно натуралисты, вызывает
крайнее удивление, что мы можем пугать и шокировать в гораздо
194
большей степени, чем натурализм в собственном смысле. Человек,
относящийся терпимо к такому роману Золя, как «Земля», испытывает
отвращение, читая экзистенциалистский роман; человек, ссылающийся
на народную мудрость,— которая весьма пессимистична,— находит нас
законченными пессимистами. И в то же время трезво рассуждают по
поводу того, что «своя рубашка ближе к телу» или что «собака любит
палку». Есть множество других общих мест, говорящих о том же самом:
не следует бороться с установленной властью; против силы не пойдешь;
выше головы не прыгнешь; любое не подкрепленное традицией действие
— романтика; всякая попытка, не опирающаяся на опыт, обречена на
неудачу, а опыт показывает, что люди всегда скатываются вниз, что
для того, чтобы их удержать, нужно нечто твердое, иначе воцарится
анархия. И, однако, те самые люди, которые пережевывают эти
пессимистические поговорки, которые заявляют всякий раз, когда они
видят какой-нибудь более или менее отвратительный поступок: «Да,
таков человек!», и которые кормятся этими «реалистическими напевами»,— эти же люди упрекают экзистенциализм в излишней мрачности, и
притом так упрекают, что иногда спрашиваешь себя: не за то ли они им
недовольны, что он, наоборот, слишком оптимистичен? Что, в сущности,
пугает в этом учении? Не тот ли факт, что оно дает человеку возможность
выбора? Чтобы это выяснить, надо рассмотреть вопрос в строго
философском плане. Итак, что такое экзистенциализм?
Большинству людей, употребляющих это слово, было бы очень
трудно его разъяснить, ибо ныне, когда оно стало модным,
экзистенциалистами стали объявлять и музыкантов, и художников. Один
хроникер в «Кларте» тоже подписывается «Экзистенциалист». Слово
приобрело такой широкий и пространный смысл, что, в сущности, уже ничего ровным счетом не означает. Похоже на то, что в отсутствие
авангардного учения, вроде сюрреализма, люди, падкие на сенсации и
жаждущие скандала, обращаются к философии экзистенциализма,
которая, между тем, в этом отношении ничем не может им помочь. Ведь
это исключительно строгое учение, меньше всего претендующее на
скандальную известность и предназначенное прежде всего для
специалистов и философов. Тем не менее можно легко дать ему
определение.
Дело, впрочем, несколько осложняется тем, что существуют две
разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христианские
экзистенциалисты, к которым я отношу Ясперса и исповедующего
католицизм Габриэля Марселя; и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты,
к которым относятся Хайдеггер и французские экзистенциалисты, в том
числе я сам. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что
195
существование предшествует сущности, или, если хотите, что нужно
исходить из субъекта. Как это, собственно, следует понимать?
Возьмем изготовленный человеческими руками предмет, например
книгу или нож для разрезания бумаги. Он был сделан ремесленником,
который руководствовался при его изготовлении определенным,
понятием, а именно понятием ножа, а также заранее известной техникой,
которая предполагается этим понятием и есть, в сущности, рецепт
изготовления. Таким образом, нож является предметом, который, с одной
стороны, производится определенным способом, а с другой — приносит
определенную пользу. Невозможно представить себе человека, который бы
изготовлял этот нож, не зная, зачем он нужен. Следовательно, мы можем
сказать, что у ножа его сущность, то есть сумма приемов и качеств, которые
позволяют его изготовить и определить, предшествует его существованию.
И это обусловливает наличие здесь, передо мной, данного ножа или
данной книги. В этом случае мы имеем дело с техническим взглядом на мир,
согласно которому изготовление предшествует существованию.
Когда мы представляем себе бога-творца, то этот бог по большей части
уподобляется своего рода ремесленнику высшего порядка. Какое бы учение
мы ни взяли — будь то учение Декарта или Лейбница,— везде
предполагается, что воля в большей или меньшей степени следует за разумом
или, по крайней мере, ему сопутствует и что бог, когда творит, отлично себе
представляет, что именно он творит. Таким образом, понятие «человек» в
божественном разуме аналогично понятию «нож» в разуме ремесленника. И
бог творит человека, сообразуясь с техникой и замыслом, точно так же, как
ремесленник изготовляет нож в соответствии с его определением и
техникой производства. Так же и индивид реализует какое-то понятие, содержащееся в божественном разуме.
В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие бога, но не идею о
том, что сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем
повсюду: у Дидро, Вольтера и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой
природой.
Эта
человеческая
природа,
являющаяся
«человеческим» понятием, имеется у всех людей. А это означает, что
каждый отдельный человек — лишь частный случай общего понятия
«человек». У Канта из этой всеобщности вытекает, что и житель лесов —
естественный человек, и буржуа подводятся под одно определение, обладают
одними и теми же основными качествами. Следовательно, и здесь сущность
человека предшествует его историческому существованию, которое мы находим в природе.
Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь
я, более последователен. Он учит, что если даже бога нет, то есть по
крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует
сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить
196
каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек, или, по
Хайдеггеру, человеческая реальность. Что это означает: «существование
предшествует сущности»? Это означает, что человек сначала существует,
встречается, появляется в мире, и только потом он определяется.
Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что
первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится
лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя
сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога,
который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой,
каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он
представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и после этого
порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает.
Таков первый принцип экзистенциализма. Это и называется
субъективностью, за которую нас упрекают. Но что мы хотим этим
сказать, кроме того, что у человека достоинства больше, нежели у камня
или стола? Ибо мы хотим сказать, что человек прежде всего существует,
что человек — существо, которое устремлено к будущему и сознает, что
оно проецирует себя в будущее. Человек — это прежде всего проект,
который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на
умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект бытия.
Не таким, каким он пожелает. Под желанием мы обычно понимаем
сознательное решение, которое у большинства людей появляется уже
после того, как они из себя что-то сделали. Я могу иметь желание
вступить в партию, написать книгу, жениться, однако все это лишь
проявление более первоначального, более спонтанного выбора, чем тот,
который обычно называют волей. Но если существование действительно
предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он есть. Таким
образом, первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку во
владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за
существование.
Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает,
что он ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех
людей. Слово «субъективизм» имеет два смысла, и наши оппоненты
пользуются этой двусмысленностью. Субъективизм означает, с одной
стороны, что индивидуальный субъект сам себя выбирает, а с другой
стороны — что человек не может выйти за пределы человеческой
субъективности. Именно второй смысл и есть глубокий смысл
экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы
имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы также
хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей.
197
Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас
человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ
человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть. Выбрать
себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что
мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То,
что мы выбираем,— всегда благо. Но ничто не может быть благом для
нас, не являясь благом для всех. Если, с другой стороны, существование
предшествует сущности и если мы хотим существовать, творя
одновременно наш образ, то этот образ значим для всей нашей эпохи в
целом. Таким образом, наша ответственность гораздо больше, чем мы
могли бы предполагать, так как распространяется на все человечество.
Если я, например, рабочий и решаю вступить в христианский
профсоюз, а не в коммунистическую партию, если я этим вступлением
хочу показать, что покорность судьбе — наиболее подходящее для
человека решение, что царство человека не на земле, — то это не
только мое личное дело: я хочу быть покорным ради всех, и,
следовательно, мой поступок затрагивает все человечество. Возьмем
более индивидуальный случай. Я хочу, например, жениться и иметь детей.
Даже если эта женитьба зависит единственно от моего положения, или
моей страсти, или моего желания, то тем самым я вовлекаю на путь
моногамии не только себя самого, но и все человечество. Я ответствен,
таким образом, за себя самого и за всех и создаю определенный образ
человека, который выбираю; выбирая себя, я выбираю человека вообще.
Это позволяет нам понять, что скрывается за столь громкими
словами, как «тревога», «заброшенность», «отчаяние». Как вы увидите, в
них заложен чрезвычайно простой смысл. Во-первых, что понимается под
тревогой? Экзистенциалист охотно заявит, что человек — это тревога. А это
означает, что человек, который на что-то решается и сознает, что выбирает
не только свое собственное бытие, но что он еще и законодатель,
выбирающий одновременно с собой и все человечество, не может избежать
чувства полной и глубокой ответственности. Правда, многие не ведают
никакой тревоги, но мы считаем, что эти люди прячут это чувство, бегут от
него. Несомненно, многие люди полагают, что их действия касаются лишь их
самих, а когда им говоришь: а что, если бы все так поступали? — они
пожимают плечами и отвечают: но ведь все так не поступают. Однако на
самом деле всегда следует спрашивать: а что бы произошло, если бы все так
поступали? От этой беспокоящей мысли можно уйти, лишь проявив
некоторую нечестность. Тот, кто лжет, оправдываясь тем, что все так
поступают,— не в ладах с совестью, так как факт лжи означает, что лжи придается значение универсальной ценности. Тревога есть, даже если ее
скрывают. Это та тревога, которую Кьеркегор называл тревогой Авраама.
Вы знаете эту историю. Ангел приказал Аврааму принести в жертву сына.
198
Хорошо, если это на самом деле был ангел, который пришел и сказал: ты —
Авраам и ты пожертвуешь своим сыном. Но каждый вправе спросить:
действительно ли это ангел и действительно ли я Авраам? Где
доказательства? У одной сумасшедшей были галлюцинации: с ней говорили
по телефону и отдавали приказания. На вопрос врача: «Кто же с вами
разговаривает?» — она ответила: «Он говорит, что он бог». Но что же
служило ей доказательством, что это был бог? Если мне явится ангел, то
откуда я узнаю, что это и на самом деле ангел? И если я услышу голоса,
то что докажет, что они доносятся с небес, а не из ада или подсознания, что
это не следствие патологического состояния? Что докажет, что они
обращены именно ко мне? Действительно ли я предназначен для того,
чтобы навязать человечеству мою концепцию человека и мой выбор? У
меня никогда не будет никакого доказательства, мне не будет дано никакого
знамения, чтобы в этом убедиться. Если я услышу голос, то только мне
решать, является ли он гласом ангела. Если я сочту данный поступок
благим, то именно я, а не кто-то другой, решаю, что этот поступок благой, а
не злой. Мне вовсе не обязательно быть Авраамом, и тем не менее на
каждом шагу я вынужден совершать поступки, служащие примером для
других. Для каждого человека все происходит так, как будто взоры всего
человечества обращены к нему и будто все сообразуют свои действия с его
поступками. И каждый человек должен себе сказать: действительно ли я
имею право действовать так, чтобы человечество брало пример с моих
поступков? Если же он не говорит себе этого, значит, скрывает от себя
свою тревогу. Речь идет здесь не о том чувстве, которое ведет к квиетизму,
к бездействию. Это — тревога, известная всем, кто брал на себя какуюлибо ответственность. Когда, например, военачальник берет на себя
ответственность, отдавая приказ об атаке и посылая людей на смерть, то,
значит, он решается это сделать и, в сущности, принимает решение один.
Конечно, имеются приказы свыше, но они слишком общи и требуют
конкретного истолкования. Это истолкование исходит от него, и от этого
истолкования зависит жизнь десяти, четырнадцати или двадцати человек.
Принимая решение, он не может не испытывать какого-то чувства тревоги.
Такая тревога знакома всем руководителям. Однако она не мешает им
действовать, наоборот, составляет условие действия, так как
предполагает,
что
рассматривается
множество
различных
возможностей. И когда они выбирают одну, то понимают, что она имеет
ценность именно потому, что она выбрана. Эта тревога, о которой
толкует
экзистенциализм,
объясняется,
кроме
того,
прямой
ответственностью за других людей. Это не барьер, отделяющий нас от
действия, но часть самого действия.
Говоря о «заброшенности» (излюбленное выражение Хайдеггера),
мы хотим сказать только то, что бога нет и что отсюда необходимо
199
сделать
все
выводы.
Экзистенциализм
противостоит
той
распространенной светской морали, которая желает избавиться от бога с
минимальными издержками. Когда около 1880 года некоторые
французские профессора пытались выработать светскую мораль, они
заявляли примерно следующее: «Бог — бесполезная и дорогостоящая
гипотеза, и мы ее отбрасываем. Однако для того, чтобы существовала
мораль, общество, мир культуры, необходимо, чтобы некоторые ценности
принимались
всерьез
и
считались
существующими
a
priori.
Необходимость быть честным, не лгать, не бить жену, иметь детей и т.
д. и т. п. должна признаваться априорно. Следовательно, нужно еще немного
поработать, чтобы показать, что ценности все же существуют как
скрижали в умопостигаемом мире, даже если бога нет. Иначе говоря, ничто
не меняется, если бога нет; и это — умонастроение всего того, что во
Франции называют радикализмом. Мы сохраним те же нормы честности,
прогресса, гуманности; только бог превратится в устаревшую гипотезу,
которая спокойно, сама собой отомрет. Экзистенциалисты, напротив,
обеспокоены отсутствием бога, так как вместе с богом исчезает всякая
возможность найти какие-либо ценности в умопостигаемом мире. Не может
быть больше блага a priori, так как нет бесконечного и совершенного разума,
который бы его мыслил. И нигде не записано, что благо существует, что
нужно быть честным, что нельзя лгать; и это именно потому, что мы
находимся на равнине, и на этой равнине живут одни только люди.
Достоевский как-то писал, что «если бога нет, то все дозволено». Это
— исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если
бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что
опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего у него нет оправданий.
Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой
на раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить.
Иначе говоря, нет детерминизма", человек свободен, человек — это
свобода.
С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких
моральных ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши
поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой — в светлом царстве
ценностей — у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки,
и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден
быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал; и все-таки
свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что
делает. Экзистенциалист не верит во всесилие страсти. Он никогда не станет
утверждать, что благородная страсть — это всесокрушающий поток, который
неумолимо толкает человека на совершение определенных поступков и
поэтому может служить извинением. Он полагает, что человек ответствен за
200
свои страсти. Экзистенциалист не считает также, что человек может
получить
на Земле помощь в виде какого-то знака, данного ему как ориентир. По его
мнению, человек сам расшифровывает знамения, причем так, как ему
вздумается. Он считает, следовательно, что человек, не имея никакой
поддержки и помощи, осужден всякий раз изобретать человека. В
одной своей замечательной статье Понж писал: «Человек — это будущее
человека». И это совершенно правильно. Но совершенно неправильно
понимать это таким образом, что будущее предначертано свыше и известно
богу, так как в подобном случае это уже не будущее. Понимать это выражение
следует в том смысле, что, каким бы ни был человек, впереди его всегда
ожидает неизведанное будущее.
Но это означает, что человек заброшен. Чтобы пояснить на примере,
что такое заброшенность, я сошлюсь на историю с одним из моих учеников,
который пришел ко мне при следующих обстоятельствах. Его отец
поссорился с его матерью; кроме того, отец склонялся к сотрудничеству с
оккупантами. Старший брат был убит во время наступления немцев в 1940
году. И этот юноша с несколько примитивными, но благородными
чувствами хотел за него отомстить. Мать, очень опечаленная полуизменой
мужа и смертью старшего сына, видела в нем единственное утешение. Перед
этим юношей стоял выбор: или уехать в Англию и поступить в вооруженные
силы «Сражающейся Франции», что значило покинуть мать, или же остаться
и помогать ей. Он хорошо понимал, что мать живет им одним и что его уход,
а возможно и смерть, ввергнет ее в полное отчаяние. Вместе с тем он
сознавал, что в отношении матери каждое его действие имеет положительный, конкретный результат в том смысле, что помогает ей жить, тогда
как каждое его действие, предпринятое для того, чтобы отправиться
сражаться, неопределенно, двусмысленно, может не оставить никакого следа
и не принести ни малейшей пользы: например, по пути в Англию, проезжая
через Испанию, он может на бесконечно долгое время застрять в какомнибудь испанском лагере; может, приехав в Англию или в Алжир, попасть в
штаб писарем. Следовательно, перед ним были два совершенно различных
типа действия: либо конкретные и немедленные действия, но обращенные
только к одному человеку, либо действия, направленные на несравненно
более широкое общественное целое, на всю нацию, но именно по этой
причине имеющие неопределенный, двусмысленный характер и, возможно,
безрезультатные.
Одновременно он колебался между двумя типами морали. С одной
стороны, мораль симпатии, личной преданности; с другой стороны, мораль
более широкая, но, может быть, менее действенная. Нужно было выбрать
одну из двух. Кто мог помочь ему сделать этот выбор? Христианское учение?
Нет. Христианское учение говорит: будьте милосердны, любите ближнего,
201
жертвуйте собою ради других, выбирайте самый трудный путь и т. д. и т.
п. Но какой из этих путей самый трудный? Кого нужно возлюбить, как
ближнего своего: воина или мать? Как принести больше пользы: сражаясь
вместе с другими — польза не вполне определенная, или же — вполне
определенная польза — помогая жить конкретному существу? Кто может
решать здесь a priori? Никто. Никакая писаная мораль не может дать ответ.
Кантианская мораль гласит: никогда не рассматривайте других людей как
средство, но лишь как цель. Прекрасно. Если я останусь с матерью, я буду
видеть в ней цель, а не средство. Но тем самым я рискую видеть средство
в тех людях, которые сражаются. И наоборот, если я присоединюсь к
сражающимся, то буду рассматривать их как цель, но тем самым рискую
видеть средство в собственной матери.
Если ценности неопределенны и если все они слишком широки для того
конкретного случая, который мы рассматриваем, нам остается довериться
инстинктам. Это и попытался сделать молодой человек. Когда я встретился
с ним, он сказал: «В сущности, главное — чувство. Мне следует выбрать то,
что меня действительно толкает в определенном направлении. Если я
почувствую, что достаточно люблю свою мать, чтобы пожертвовать ради нее
всем остальным — жаждой мести, жаждой действия, приключений, то я
останусь с ней. Если же, наоборот, я почувствую, что моя любовь к матери
недостаточна, тогда мне надо будет уехать». Но как определить значимость
чувства? В чем значимость его чувства к матери? Именно в том, что он
остается ради нее. Я могу сказать: «Я люблю своего приятеля достаточно
сильно, чтобы пожертвовать ради него некоторой суммой денег». Но я могу
сказать это лишь в том случае, если это уже сделано мною. Я могу сказать:
«Я достаточно люблю свою мать, чтобы остаться с ней», в том случае, если
я с ней остался. Я могу установить значимость данного чувства лишь тогда,
когда уже совершил поступок, который утверждает и определяет значимость
чувства. Если же мне хочется, чтобы чувство оправдало мой поступок, я
попадаю в порочный круг.
С другой стороны, как хорошо сказал Андре Жид, чувство, которое
изображают, и чувство, которое испытывают, почти неразличимы. Решить,
что я люблю свою мать, и остаться с ней или же разыграть комедию, будто
я остаюсь ради матери,— почти одно и то же. Иначе говоря, чувство
создается поступками, которые мы совершаем. Я не могу, следовательно,
обратиться к чувству, чтобы им руководствоваться. А это значит, что я не
могу ни искать в самом себе такое истинное состояние, которое побудило бы
меня к действию, ни требовать от какой-либо морали, чтобы она
предписала, как мне действовать. Однако, возразите вы, ведь он же
обратился за советом к преподавателю. Дело в том, что, когда вы идете за
советом, например, к священнику, значит, вы выбрали этого священника и,
в сущности, вы уже более или менее представляли себе, что он вам
202
посоветует. Иными словами, выбрать советчика — это опять-таки
решиться на что-то самому. Вот вам доказательство: если вы христианин,
вы скажете: «Посоветуйтесь со священником». Но есть священникиколлаборационисты, священники-выжидатели, священники — участники
движения Сопротивления. Так кого же выбрать? И если юноша останавливает свой выбор на священнике — участнике Сопротивления или
священнике-коллаборационисте, то он уже решил, каким будет совет.
Обращаясь ко мне, он знал мой ответ, а я могу сказать только одно: вы
свободны, выбирайте, то есть изобретайте.
Никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать; в мире нет
знамений. Католики возразят, что знамения есть. Допустим, что так, но и в
этом случае я сам решаю, каков их смысл. В плену я познакомился с одним
примечательным человеком, иезуитом, вступившим в орден следующим
образом. Он немало натерпелся в жизни: его отец умер, оставив семью в
бедности; он жил на стипендию, получаемую в церковном учебном
заведении, и ему постоянно давали понять, что он принят туда из милости; он
не получал многих почетных наград, которые так любят дети. Позже,
примерно в 18 лет, он потерпел неудачу в любви и, наконец, в 22 года
провалился с военной подготовкой — факт сам по себе пустяковый, но явившийся именно той каплей, которая переполнила чашу. Этот юноша мог,
следовательно, считать себя полным неудачником. Это было знамение, но в
чем заключался его смысл? Мой знакомый мог погрузиться в скорбь или
отчаяние, но достаточно здраво рассудил, что это — знак, указывающий на
то, что он не создан для успехов на мирском поприще, что ему назначены
успехи в делах религии, святости, веры. Он увидел, следовательно, в этом
перст божий и вступил в орден. Разве решение относительно смысла
знамения не было принято им самим, совершенно самостоятельно? Из
этого ряда неудач можно было сделать совсем другой вывод: например,
что лучше стать плотником или революционером. Следовательно, он несет
полную ответственность за истолкование знамения. Заброшенность
предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Заброшенность
приходит вместе с тревогой.
Что касается отчаяния, то этот термин имеет чрезвычайно простой
смысл. Он означает, что мы будем принимать во внимание лишь то, что
зависит от нашей воли, или ту сумму вероятностей, которые делают
возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, всегда присутствует
элемент вероятности. Я могу рассчитывать на то, что ко мне приедет
друг. Этот друг приедет на поезде или на трамвае. И это предполагает, что
поезд прибудет в назначенное время, а трамвай не сойдет с рельсов. Я
остаюсь в области возможного; но полагаться на возможность следует
лишь настолько, насколько наше действие допускает всю совокупность
возможностей. Как только рассматриваемые мною возможности перестают
203
строго соответствовать моим действиям, я должен перестать ими
интересоваться, потому что никакой бог и никакое провидение не могут
приспособить мир и его возможности к моей воле. В сущности, когда
Декарт писал: «Побеждать скорее самого себя, чем мир», то этим он хотел
сказать то же самое: действовать без надежды. Марксисты, с которыми я
разговаривал, возражали: «В ваших действиях, которые, очевидно, будут
ограничены вашей смертью, вы можете рассчитывать на поддержку со
стороны других людей. Это значит рассчитывать, во-первых, на то, что
другие люди сделают для помощи вам в другом месте - в Китае, в
России, и в то же время на то, что они сделают позже, после вашей
смерти, для того чтобы продолжить ваши действия и довести их до
завершения, то есть до революции. Вы даже должны на это рассчитывать,
иначе вам нет морального оправдания». Я же на это отвечаю, что я всегда
буду рассчитывать на товарищей по борьбе в той мере, в какой они
участвуют вместе со мной в общей конкретной борьбе, связаны единством
партии или группировки, действие которой я более или менее могу контролировать,— я состою в ней, и мне известно все, что в ней делается. И вот при
таких условиях рассчитывать на единство и на волю этой партии — это все
равно что рассчитывать на то, что трамвай придет вовремя или что поезд не
сойдет с рельсов. Но я не могу рассчитывать на людей, которых не знаю,
основываясь на вере в человеческую доброту или заинтересованность
человека в общественном благе. Ведь человек свободен, и нет никакой
человеческой природы, на которой я мог бы основывать свои расчеты. Я не
знаю, какая судьба ожидает русскую революцию. Я могу лишь восхищаться
ею и взять ее за образец в той мере, в какой я сегодня вижу, что
пролетариат играет в России роль, какой он не играет ни в какой другой
стране. Но я не могу утверждать, что революция обязательно приведет к
победе пролетариата. Я должен ограничиваться тем, что вижу. Я не могу
быть уверен, что товарищи по борьбе продолжат мою работу после моей
смерти, чтобы довести ее до максимального совершенства, поскольку эти
люди свободны и завтра будут сами решать, чем должен быть человек.
Завтра, после моей смерти, одни, может быть, решат установить фашизм, а
другие окажутся такими трусами, что позволят им это сделать. Тогда
фашизм станет человеческой истиной; и тем хуже для нас.
Действительность будет такой, какой ее определит сам человек.
Значит ли это, что я должен предаться бездействию? Нет. Сначала я
должен решить, а затем действовать, руководствуясь старой формулой:
«Нет нужды надеяться, чтобы что-то предпринимать». Это не означает,
что мне не следует вступать в ту или иную партию. Просто я, не питая
иллюзий, буду делать то, что смогу. Например, я задаюсь вопросом:
осуществится ли обобществление как таковое? Я об этом ничего не знаю,
204
знаю только, что сделаю все, что будет в моих силах, для того, чтобы оно
осуществилось. Сверх этого я не могу ни на что рассчитывать.
Квиетизм — позиция людей, которые говорят: другие могут сделать
то, чего не могу сделать я. Учение, которое я излагаю, прямо
противоположно квиетизму, ибо оно утверждает, что реальность — в
действии. Оно даже идет дальше и заявляет, что человек есть не что иное,
как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько,
насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не
что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как
собственную жизнь. Отсюда понятно, почему наше учение внушает ужас
некоторым людям. Ведь у них зачастую нет иного способа переносить
собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения:
«Обстоятельства были против меня, я стою гораздо большего. Правда, у
меня не было большой любви или большой дружбы, но это только
потому, что я не встретил мужчину или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, что у меня не было
досуга. У меня не было детей, которым я мог бы себя посвятить, но это
потому, что я не нашел человека, с которым мог бы пройти по жизни. Во
мне, стало быть, остаются в целости и сохранности множество
неиспользованных способностей, склонностей и возможностей, которые
придают мне значительно большую значимость, чем можно было бы
судить только по моим поступкам». Однако в действительности, как
считают экзистенциалисты, нет никакой любви, кроме той, что создает
саму себя; нет никакой «возможной» любви, кроме той, которая в любви
проявляется. Нет никакого гения, кроме того, который выражает себя в
произведениях искусства. Гений Пруста — это произведения Пруста.
Гений Расина - это ряд его трагедий, и кроме них ничего нет. Зачем
говорить, что Расин мог бы написать еще одну трагедию, если он ее не
написал? Человек живет своей жизнью, он создает свой облик, а вне этого
облика ничего нет. Конечно, это может показаться жестоким для тех, кто
не преуспел в жизни. Но, с другой стороны, надо, чтобы люди поняли, что в
счет идет только реальность, что мечты, ожидания и надежды позволяют
определить человека лишь как обманчивый сон, как рухнувшие надежды,
как напрасные ожидания, то есть определить его отрицательно, а не
положительно. Тем не менее, когда говорят: «Ты есть не что иное, как
твоя жизнь», это не значит, что, например, о художнике будут судить
исключительно по его произведениям; есть тысячи других вещей, которые
его определяют. Мы хотим лишь сказать, что человек есть не что иное, как
ряд его поступков, что он есть сумма, организация, совокупность
отношений, из которых составляются эти поступки.
И в таком случае нас упрекают, по существу, не за пессимизм, а за
упрямый оптимизм. Если нам ставят в упрек наши литературные
205
произведения, в которых мы описываем вялых, слабых, трусливых, а
иногда даже явно дурных людей, так это не только потому, что эти
существа вялые, слабые, трусливые или дурные. Если бы мы заявили, как
Золя, что они таковы по причине своей наследственности, в результате
воздействия среды, общества, в силу определенной органической или
психической обусловленности, люди бы успокоились и сказали: «Да, мы
таковы, и с этим ничего не поделаешь». Но экзистенциалист, описывая
труса, полагает, что этот трус ответствен за собственную трусость. Он
таков не потому, что у него трусливое сердце, легкие или мозг. Он таков не
вследствие своей физиологической организации, но потому, что сам сделал
себя трусом своими поступками. Не бывает трусливого темперамента.
Темпераменты бывают нервическими, слабыми, как говорится,
худосочными или полнокровными. Но слабый человек вовсе не
обязательно трус, так как трусость возникает вследствие отречения или
уступки. Темперамент — еще не действие. Трус определяется по
совершенному поступку. То, что люди смутно чувствуют и что вызывает
у них ужас,— это виновность самого труса в том, что он трус. Люди
хотели бы, чтобы трусами или героями рождались.
Один из главных упреков в адрес моей книги «Дороги свободы»
формулируется следующим образом: как можно делать героями столь
дряблых людей? Это возражение несерьезно, оно предполагает, что люди
рождаются героями. Собственно говоря, люди именно так и хотели бы
думать: если вы родились трусом, то можете быть совершенно спокойны
— вы не в силах ничего изменить и останетесь трусом на всю жизнь, что
бы вы ни делали. Если вы родились героем, то также можете быть
совершенно спокойны — вы останетесь героем всю жизнь, будете пить
как герой, есть как герой. Экзистенциалист же говорит: трус делает себя
трусом и герой делает себя героем. Для труса всегда есть возможность
больше не быть
трусом, а для героя — перестать быть героем. Но в счет идет лишь полная
решимость, а не частные случаи или отдельные действия — они не
захватывают нас полностью.
Итак, мы, кажется, ответили на ряд обвинений. Как видите,
экзистенциализм нельзя рассматривать ни как философию квиетизма, ибо
экзистенциализм определяет человека по его делам, ни как
пессимистическое описание человека: на деле нет более оптимистического
учения, поскольку судьба человека полагается в нем самом. Экзистенциализм — это не попытка отбить у человека охоту к действиям, ибо
он говорит человеку, что надежда лишь в его действиях, и единственное,
что позволяет человеку жить,— это действие. Следовательно, в этом плане
мы имеем дело с моралью действия и решимости. Однако на этом основании
206
нас упрекают также и в том, что мы замуровываем человека в
индивидуальной субъективности. Но и здесь нас понимают превратно.
Действительно, наш исходный пункт — это субъективность индивида, он
обусловлен и причинами чисто философского порядка. Не потому, что мы
буржуа, а потому, что мы хотим иметь учение, основывающееся на истине,
а не на ряде прекрасных теорий, которые обнадеживают, не имея под собой
реального основания. В исходной точке не может быть никакой другой
истины, кроме: «Я мыслю, следовательно, существую». Это абсолютная
истина сознания, постигающего самое себя. Любая теория, берущая человека
вне этого момента, в котором он постигает себя, есть теория, упраздняющая
истину, поскольку вне картезианского cogito все предметы лишь
вероятны, а учение о вероятностях, не опирающееся на истину,
низвергается в пропасть небытия. Чтобы определять вероятное, нужно
обладать истинным. Следовательно, для того чтобы существовала хоть
какая-нибудь истина, нужна истина абсолютная. Абсолютная истина
проста, легко достижима и доступна всем, она схватывается
непосредственно.
Далее, наша теория — единственная теория, придающая человеку
достоинство, единственная теория, которая не делает из него объект. Всякий
материализм ведет к рассмотрению людей, в том числе и себя самого, как
предметов, то есть как совокупности определенных реакций, ничем не
отличающейся от совокупности тех качеств и явлений, которые образуют
стол, стул или камень. Что же касается нас, то мы именно и хотим создать
царство человека как совокупность ценностей, отличную от материального
царства. Но субъективность, постигаемая как истина, не является строго
индивидуальной субъективностью, поскольку, как мы показали, в cogito
человек открывает не только самого себя, но и других людей. В
противоположность философии Декарта, в противоположность философии Канта, через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом другого, и
другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек,
постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает вместе с
тем и всех других, и притом — как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том, что не может быть какимнибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен,
зол или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы
получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого.
Другой необходим для моего существования, так же, впрочем, как и для
моего самопознания. При этих условиях обнаружение моего внутреннего
мира открывает мне в то же время и другого, как стоящую передо мной
свободу, которая мыслит и желает «за» или «против» меня. Таким
образом,
открывается
целый
мир,
который
мы
называем
207
интерсубъективностью. В этом мире человек и решает, чем является он и
чем являются другие.
Кроме того, если невозможно найти универсальную сущность,
которая была бы человеческой природой, то все же существует некая
общность условий человеческого существования. Не случайно
современные мыслители чаще говорят об условиях человеческого
существования, чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с
большей или меньшей степенью ясности, совокупность априорных
пределов, которые очерчивают фундаментальную ситуацию человека в
универсуме. Исторические ситуации меняются: человек может родиться
рабом в языческом обществе, феодальным сеньором или пролетарием. Не
изменяется лишь необходимость для него быть в мире, быть в нем за
работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным. Пределы не
субъективны и не объективны, скорее, они имеют объективную и
субъективную стороны. Объективны они потому, что встречаются повсюду
и повсюду могут быть опознаны. Субъективны потому, что переживаемы;
они ничего не представляют собой, если не пережиты человеком,
который свободно определяет себя в своем существовании по отношению к
ним. И хотя проекты могут быть различными, ни один мне не чужд, потому
что все они представляют собой попытку преодолеть пределы, или
раздвинуть их, или не признать их, или приспособиться к ним.
Следовательно, всякий проект, каким бы индивидуальным он ни был,
обладает универсальной значимостью. Любой проект, будь то проект китайца,
индейца или негра, может быть понят европейцем. Может быть понят — это
значит, что европеец 1945 года может точно так же идти от постигнутой им
ситуации к ее пределам, что он может воссоздать в себе проект китайца,
индейца или африканца. Любой проект универсален в том смысле, что
понятен каждому. Это не означает, что данный проект определяет человека
раз навсегда, а только то, что он может быть воспроизведен. Всегда можно
понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь
необходимые сведения. В этом смысле мы можем говорить о всеобщности
человека, которая, однако, не дана заранее, но постоянно созидается.
Выбирая себя, я созидаю всеобщее. Я созидаю его, понимая проект любого
другого человека, к какой бы эпохе он ни принадлежал. Эта абсолютность
выбора не ликвидирует относительности каждой отдельной эпохи.
Экзистенциализм и хочет показать эту связь между абсолютным характером
свободного действия, посредством которого каждый человек реализует себя,
реализуя в то же время определенный тип человечества,— действия,
понятного любой эпохе и любому человеку, и относительностью культуры,
которая может явиться следствием такого выбора. Необходимо отметить
вместе с тем относительность картезианства и абсолютность
картезианской позиции. Если хотите, в этом смысле каждый из нас
208
существо абсолютное, когда он дышит, ест, спит или действует тем или
иным образом. Нет никакой разницы между свободным бытием, бытиемпроектом, существованием, выбирающим свою сущность, и абсолютным
бытием. И нет никакой разницы между локализованным во времени
абсолютным бытием, то есть расположенным в истории, и универсально
постижимым бытием.
Это, однако, не снимает полностью обвинения в субъективизме, которое
выступает еще в нескольких формах. Во-первых, нам говорят: «Значит, вы
можете делать что угодно». Это обвинение формулируют по-разному.
Сначала нас записывают в анархисты, а потом заявляют: «Вы не можете
судить других, так как не имеете оснований, чтобы предпочесть один проект
другому». И, наконец, нам могут сказать: «Все произвольно в вашем выборе,
вы отдаете одной рукой то, что вы якобы получили другой». Эти три
возражения не слишком серьезны. Прежде всего, первое возражение — «вы
можете выбирать что угодно» — неточно. Выбор возможен в одном
направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда могу выбрать, но я
должен знать, что даже в том случае, если ничего не выбираю, тем самым
я все-таки выбираю. Хотя это обстоятельство и кажется сугубо
формальным, однако оно чрезвычайно важно для ограничения фантазии и
каприза. Если верно, что, находясь в какой-то ситуации, например в ситуации, определяющей меня как существо, наделенное полом, способное
находиться в отношениях с существом другого пола и иметь детей, я
вынужден выбрать какую-то позицию, то, во всяком случае, я несу
ответственность за выбор, который, обязывая меня, обязывает в то же время
все человечество. Даже если никакая априорная ценность не определяет
моего выбора, он все же не имеет ничего общего с капризом. А если коекому кажется, что это -та же теория произвольного действия, что и у А.
Жида, значит, они не видят громадного различия между экзистенциализмом
и учением Жида. Жид не знает, что такое ситуация. Для него действия
обусловлены простым капризом. Для нас, напротив, человек находится в
организованной ситуации, которою живет, и своим выбором он заставляет
жить ею все человечество, и он не может не выбирать: он или останется
целомудренным, или женится, но не будет иметь детей, или женится и будет
иметь детей. В любом случае, что бы он ни делал, он несет полную ответственность за решение этой проблемы. Конечно, он не ссылается,
осуществляя выбор, на предустановленные ценности, но было бы
несправедливо обвинять его в капризе. Моральный выбор можно сравнить
скорее с созданием произведения искусства. Однако здесь надо сразу же
оговориться: речь идет отнюдь не об эстетской морали; наши противники
столь недобросовестны, что упрекают нас даже в этом. Пример взят мною
лишь для сравнения. Итак, разве когда-нибудь упрекали художника,
рисующего картину, за то, что он не руководствуется априорно
209
установленными правилами? Разве когда-нибудь говорили, какую он
должен нарисовать картину? Ясно, что нет картины, которая была бы
определена до ее написания, что художник живет созданием своего
произведения и что картина, которая должна быть нарисована,— это та картина, которую он нарисует. Ясно, что нет априорных эстетических ценностей,
но есть ценности, которые проявятся потом — в связи отдельных элементов
картины, в отношениях между волей к творчеству и результатом. Никто не
может сказать, какой будет живопись завтра. О картинах можно судить,
лишь когда они уже написаны. Какое отношение имеет это к морали? Здесь
мы тоже оказываемся в ситуации творчества. Мы никогда не говорим о
произвольности произведения искусства. Обсуждая полотно Пикассо, мы не
говорим, что оно произвольно. Мы хорошо понимаем, что, рисуя, он
созидает себя таким, каков он есть, что совокупность его произведений включается в его жизнь.
Так же обстоит дело и в морали. Общим между искусством и моралью
является то, что в обоих случаях мы имеем творчество и изобретение. Мы не
можем решить a priori, что надо делать. Мне кажется, я достаточно показал
это на примере того молодого человека, который приходил ко мне за
советом и который мог взывать к любой морали, кантианской или какой-либо
еще, не находя там для себя никаких указаний. Он был вынужден изобрести
для себя свой собственный закон. Мы никогда не скажем, что этот человек —
решит ли он остаться со своей матерью, беря за основу морали чувства,
индивидуальное действие и конкретное милосердие, или решит поехать в
Англию, предпочитая жертвенность,— сделал произвольный выбор. Человек
создает себя сам. Он не сотворен изначально, он творит себя, выбирая
мораль; а давление обстоятельств таково, что он не может не выбрать какойнибудь определенной морали. Мы определяем человека лишь в связи с его
решением занять позицию. Поэтому бессмысленно упрекать нас в
произвольности выбора.
Во-вторых, нам говорят, что мы не можем судить других. Это отчасти
верно, а отчасти нет. Это верно в том смысле, что всякий раз, когда человек
выбирает свою позицию и свой проект со всей искренностью и полной ясностью, каким бы ни был этот проект, ему невозможно предпочесть другой.
Это верно в том смысле, что мы не верим в прогресс. Прогресс — это
улучшение. Человек же всегда находится лицом к лицу с меняющейся
ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Моральная
проблема ничуть не изменилась с тех пор, когда надо было выбирать
между сторонниками и противниками рабовладения во время войны
между Севером и Югом, вплоть до сегодняшнего дня, когда нужно
голосовать за МРП или за коммунистов.
Но тем не менее судить можно, поскольку, как я уже говорил, человек
выбирает, в том числе выбирает и самого себя, перед лицом других людей.
210
Прежде всего можно судить, какой выбор основан на заблуждении, а
какой на истине (это может быть не оценочное, а логическое суждение).
Можно судить о человеке, если он нечестен. Если мы определили
ситуацию человека как свободный выбор, без оправданий и без опоры, то
всякий человек, пытающийся оправдаться своими страстями или
придумывающий детерминизм, нечестен. Могут возразить: «Но почему
бы ему не выбирать себя нечестно?» Я отвечу, что не собираюсь судить с
моральной точки зрения, а просто определяю нечестность как
заблуждение. Здесь нельзя избежать суждения об истине. Нечестность —
это, очевидно, ложь, ибо утаивает полную свободу действия. В том же
смысле можно сказать, что выбор нечестен, если заявляется, будто ему
предшествуют некие предсуществующие ценности. Я противоречу сам
себе, если одновременно хочу их установить и заявляю, что они меня
обязывают. Если мне скажут: «А если я хочу быть нечестным?»— я отвечу:
«Нет никаких оснований, чтобы вы им не были; но я заявляю, что вы
именно таковы, тогда как строгая последовательность характерна лишь
для честности». Кроме того, можно высказать моральное суждение. В
каждом конкретном случае свобода не может иметь другой цели, кроме
самой себя, и если человек однажды признал, что, пребывая в
заброшенности, сам устанавливает ценности, он может желать теперь
только одного — свободы как основания всех ценностей. Это не означает,
что он желает ее абстрактно. Это попросту означает, что действия
честных людей имеют своей конечной целью поиски свободы как таковой.
Человек, вступающий в коммунистический или революционный
профсоюз, преследует конкретные цели. Эти цели предполагают наличие
абстрактной воли к свободе. Но этой свободы желают в конкретном. Мы
желаем свободы ради свободы в каждом отдельном случае.
Но, стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от
свободы других людей и что свобода других зависит от нашей свободы.
Конечно, свобода, как определение человека, не зависит от другого,
но, как только начинается действие, я обязан желать вместе с моей
свободой свободы других; я могу принимать в качестве цели мою свободу
лишь в том случае, если поставлю своей целью также и свободу других.
Следовательно, если с точки зрения полной аутентичности я признал, что
человек — это существо, у которого существование предшествует сущности,
что он есть существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать лишь своей свободы, я одновременно признал, что я
могу желать и другим только свободы. Таким образом, во имя этой воли к
свободе, предполагаемой самой свободой, я могу формулировать
суждение о тех, кто стремится скрыть от себя полную беспричинность
своего существования и свою полную свободу. Одних, скрывающих от себя
свою полную свободу с помощью духа серьезности или ссылок на
211
детерминизм, я назову трусами. Других, пытающихся доказать, что их
существование необходимо, хотя даже появление человека на Земле
является случайностью, я назову сволочью. Но трусов или сволочь можно
судить лишь с точки зрения строгой аутентичности. Поэтому, хотя
содержание морали и меняется, определенная форма этой морали
универсальна. Кант заявляет, что свобода желает самой себя и свободы
других. Согласен. Но он полагает, чго формальное и всеобщее достаточны
для конституирования морали. Мы же, напротив, думаем, что слишком
отвлеченные принципы терпят крах при определении действия. Рассмотрим
еще раз пример с этим учеником. Во имя чего, во имя какой великой
максимы морали мог бы он, по-вашему, с полным спокойствием духа
решиться покинуть мать или же остаться с ней? Об этом никак нельзя судить.
Содержание всегда конкретно и, следовательно, непредсказуемо. Всегда
имеет место изобретение. Важно только знать, делается ли данное
изобретение во имя свободы.
Рассмотрим два конкретных примера. Вы увидите, в какой степени
они согласуются друг с другом и в то же время различны. Возьмем
«Мельницу на Флоссе». В этом произведении мы встречаем некую девушку
по имени Мэгги Тулливер, которая является воплощением страсти и сознает
это. Она влюблена в молодого человека - Стефана, который обручен с
другой, ничем не примечательной девушкой. Эта Мэгги Тулливер, вместо
того чтобы легкомысленно предпочесть свое собственное счастье, решает
во имя человеческой солидарности пожертвовать собой и отказаться от
любимого человека. Наоборот, Сан-северина в «Пармской обители»,
считая, что страсть составляет истинную ценность человека, заявила бы,
что большая любовь стоит всех жертв, что ее нужно предпочесть
банальной супружеской любви, которая соединила бы Стефана и ту
дурочку, на которой он собрался жениться. Она решила бы пожертвовать
последней и добиться своего счастья. И, как показывает Стендаль, ради
страсти она пожертвовала бы и собой, если того требует жизнь. Здесь
перед нами две прямо противоположные морали. Но я полагаю, что они
равноценны, ибо в обоих случаях целью является именно свобода. Вы
можете представить себе две совершенно аналогичные по своим
следствиям картины. Одна девушка предпочитает покорно отказаться от
любви, другая — под влиянием полового влечения — предпочитает
игнорировать прежние связи мужчины, которого любит. Внешне эти два
случая напоминают только что описанные. И тем не менее они весьма от
них отличаются. Сансеверина по своему отношению к жизни гораздо
ближе к Мэгги Тулливер, чем к такой беззаботной алчности.
Таким образом, вы видите, что второе обвинение одновременно и
истинно, и ложно. Выбирать можно все, что угодно, если речь идет о
свободе решать.
212
Третье возражение сводится к следующему: «Вы получаете одной
рукой то, что даете другой», то есть ваши ценности, в сущности,
несерьезны, поскольку вы их сами выбираете. На это я с глубоким
прискорбием отвечу, что так оно и есть; но уж если я ликвидировал богаотца, то должен же кто-нибудь изобретать ценности. Нужно принимать
вещи такими, как они есть. И, кроме того, сказать, что мы изобретаем
ценности,— значит утверждать лишь то, что жизнь не имеет априорного
смысла. Пока вы не живете своей жизнью, она ничего собой не
представляет, вы сами должны придать ей смысл, а ценность есть не что
иное, как этот выбираемый вами смысл. Тем самым вы обнаруживаете,
что есть возможность создать человеческое сообщество в себе, а всегда
присутствует в человеческом мире,— и есть то, что мы называем
экзистенциалистским гуманизмом. Это гуманизм, поскольку мы
напоминаем человеку, что нет другого законодателя, кроме него самого,
в заброшенности он будет решать свою судьбу; поскольку мы показываем,
что реализовать себя по-человечески человек может не путем погружения
в самого себя, но в поиске цели вовне, которой может быть освобождение
или еще какое-нибудь конкретное самоосуществление.
Из этих рассуждений видно, что нет ничего несправедливее
выдвинутых против нас возражений. Экзистенциализм — это не что
иное, как попытка сделать все выводы из последовательного атеизма. Он
вовсе не пытается ввергнуть человека в отчаяние. Но если отчаянием
называть, как это делают христиане, всякое неверие, тогда именно
первородное отчаяние — его исходный пункт. Экзистенциализм — не
такой атеизм, который растрачивает себя на доказательства того, что бог
не существует. Скорее он заявляет следующее: даже если бы бог существовал, это ничего бы не изменило. Такова наша точка зрения. Это не
значит, что мы верим в существование бога,— просто суть дела не в том,
существует ли бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не
может его спасти от себя самого, даже достоверное доказательство
существования бога. В этом смысле экзистенциализм — это оптимизм,
учение о действии. И только вследствие нечестности, путая свое
собственное отчаяние с нашим, христиане могут называть нас
отчаявшимися.
Сартр Ж.-П. ПЕРВАЯ УСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОМУ:
любовь, язык, мазохизм
Все то, что нужно для меня, нужно и для другого. В то время как я
пытаюсь освободиться от захвата со стороны другого, другой пытается
освободиться от моего; в то время как я стремлюсь поработить другого,
213
другой стремится поработить меня. Здесь речь не идет об односторонних
отношениях с объектом-в-себе, но об отношениях взаимных и подвижных.
Отсюда описания, которые последуют, должны рассматриваться под углом
зрения конфликта. Конфликт есть первоначальный смысл бытия-длядругого.
Если мы исходим из первичного открытия другого как взгляда, то
должны признать, что испытываем наше непостижимое бытие-для-другого в
форме обладания. Мною владеет другой; взгляд другого формирует мое тело
в его наготе, порождает его, ваяет его, производит таким, каково оно есть,
видит его таким, каким я никогда не увижу. Другой хранит секрет — секрет
того, чем я являюсь. Он производит мое бытие и посредством этого владеет
мной, и это владение есть не что иное, как сознание обладания мной. И я,
признавая свою объективность, испытываю то, что он имеет это сознание.
Через сознание другой есть для меня одновременно тот, кто украл мое бытие,
и тот, кто делает то, "что существует" бытие, которое есть мое бытие. Так я
понимаю эту онтологическую структуру; я ответствен за мое бытие-длядругого, но я не есть его основание; оно появляется для меня, следовательно,
в форме случайного данного, за которое я, однако, отвечаю, и другой
основывает мое бытие, поскольку это бытие является в форме "есть"; но он за
него не отвечает, хотя он его основал в полной свободе, в своей свободной
трансцендентности и посредством нее. Таким образом, в той степени, в какой
я открываюсь себе как ответственный за свое бытие, я беру на себя это
бытие, каково я есть, иначе говоря, я хочу его возобновить или, в более
точных понятиях, я есть проект возобновления своего бытия. Это бытие,
которое мне аппрезентируется как мое бытие, но на расстоянии, подобно
пище Тантала, я хочу схватить его рукой, чтобы овладеть им и основать его
своей свободой. Если в одном смысле мое бытие-объекта является
неподдерживаемой случайностью и чистым "обладанием" меня посредством
другого, то в другом смысле это бытие выступает в качестве указания на то,
что было бы нужно, чтобы я возобновил его и основал, с тем чтобы быть
своим основанием. Но это мыслимо только в том случае, если я
ассимилировал бы свободу другого. Таким образом, мой проект
возобновления себя является существенно проектом поглощения другого. Во
всяком случае, этот проект должен оставить неприкосновенной природу
другого. Это значит следующее:
1. Я не прекращаю для этого утверждать другого, то есть отрицать
собой, что я являюсь другим; другой, будучи основанием моего бытия, не
может раствориться во мне без того, чтобы не исчезло мое бытие-длядругого. Если, таким образом, я проектирую реализовать единство с другим,
это значит, что я проектирую ассимилировать инаковость (alterite) другого,
как таковую, как мою собственную возможность. В самом деле, речь для
меня идет о том, чтобы сделаться бытием, приобретая возможность стать в
214
отношении себя на точку зрения другого. Но речь не идет, однако, о том,
чтобы приобрести чистую абстрактную возможность познания. Это не чистая
категория другого, которую я проектирую себе усвоить; такая категория
непонятна и немыслима. Но дело касается конкретного испытания другого,
переживающего и чувствующего; именно этого конкретного другого как
абсолютной реальности, с которой я хочу объединиться в его инаковости.
2. Другой, которого я хочу ассимилировать, вовсе не является объектомдругим. Или, если хотите, мой проект соединения с другим совсем не
соответствует овладению заново моим для-себя как себя и переводу
трансцендентности другого к моим возможностям. Речь для меня не идет о
том, чтобы устранить мою объективность, объективируя другого, что
соответствовало бы моему освобождению от своего бытия-для-другого, но,
напротив, я хочу ассимилировать его именно как рассматривающего-другого,
и этот проект ассимиляции предполагает растущее признание моего
рассматриваемого-бытия. Одним словом, я отождествляюсь полностью с
моим рассматриваемым-бытием, чтобы поддержать напротив себя свободу
рассматривающего-другого, и так как мое бытие-объекта является
единственным возможным отношением меня к другому, то именно это —
единственное бытие-объекта, которое может служить мне инструментом,
чтобы произвести ассимиляцию свободы другого. Таким образом, как
реакция на поражение третьего экстаза, для-себя хочет отождествиться со
свободой другого как основывающей его бытие-в-себе. Быть в себе самом
другим — идеал, который всегда конкретно имеется в виду в форме бытия в
себе самом этим другим, — и является первым значением отношений с
другим; это свидетельствует о том, что мое бытие-для-другого преследуемо
указанием на абсолютное-бытие, которое было бы собой в качестве другого и
другим в качестве себя и которое, полагая свободно в качестве другого свое
бытие-себя и в качестве себя бытие-другого, было бы бытием из онтологического доказательства, то есть Богом. Этот идеал мог бы
реализоваться, если бы я преодолел первоначальную случайность моих
отношений с другим, то есть если бы не было никакого внутреннего
отрицательного отношения между отрицанием, которым другой делается
другим, чем я, и отрицанием, которым я делаю себя другим, чем он. Мы
видели, что эта случайность непреодолима: она является фактом моих
отношений с другим, как мое тело является фактом моего бытия-в-мире.
Следовательно, единство с другим не реализуемо. Но оно есть по праву, так
как ассимиляция для-себя и другого в той же самой трансцендентности
необходимо повлекла бы исчезновение свойства инаковости другого. Таким
образом, условием того, чтобы я проектировал тождество со мной другого,
как раз и является упорное отрицание мной, что я есть другой. Наконец, этот
проект объединения является источником конфликта, потому что в то время
как я испытываю себя как объект для другого и проектирую ассимилировать
215
его в этом испытании и через него, другой постигает меня в качестве объекта
в середине мира и вовсе не проектирует меня ассимилировать. Было бы,
следовательно, необходимым, поскольку бытие-для-другого предполагает
двойное внутреннее отрицание, воздействовать на внутреннее отрицание,
которым другой трансцендирует мою трансцендентность и делает меня
существующим для другого, то есть воздействовать на свободу другого.
Этот нереализуемый идеал, раз он преследует мой проект в присутствии
другого, нельзя уподоблять любви, так как любовь есть действие, то есть
органическая совокупность проектов к моим собственным возможностям. Но
он является идеалом любви, ее мотивом и ее целью, ее собственной
ценностью. Любовь как первичное отношение к другому, является
совокупностью проектов, которыми я намерен реализовать эту ценность.
Эти проекты ставят меня в непосредственную связь со свободой другого.
Именно в этом смысле любовь является конфликтом. В самом деле, мы
отмечали, что свобода другого есть основание моего бытия. Но как раз
потому, что я существую через свободу другого, у меня нет никакой защиты,
я нахожусь в опасности в этой свободе; она оформляет мое бытие и делает
меня бытием, она дает и забирает у меня ценности и является причиной
постоянного пассивного ухода моего бытия в себя. Безответственная,
находящаяся вне досягаемости эта изменчивая свобода, в которую я
включаюсь, может приобщить меня в свою очередь ко множеству способов
различного бытия. Мой проект возобновить свое бытие может реализоваться,
только если я захвачу эту свободу и редуцирую ее к свободному бытию,
подчиненному моей свободе. В то же время это оказывается единственным
способом, которым я могу действовать на внутренне свободное отрицание,
которым Другой конституирует меня в Другого, то есть которым я могу
подготовить пути будущего отождествления Другого со мной. Возможно, это
станет более ясным, если подойти к проблеме с чисто психологической
стороны. Почему любящий хочет быть любимым? Если бы Любовь была
чистым желанием физического обладания, она в большинстве случаев легко
могла бы быть удовлетворена. Герой Пруста, например, который поселил у
себя свою любовницу и сумел поставить ее в полную материальную
зависимость от себя, мог ее видеть и обладать ею в любое время дня, должен
был бы чувствовать себя спокойным. Известно, однако, что он терзается
тревогой. Именно через сознание Альбертина ускользает от Марселя, даже
если он рядом с ней, и поэтому он не знает передышки, как если бы он ее
созерцал и во сне. Однако он уверен, что любовь хочет взять в плен
"сознание". Но почему она этого хочет? И как?
Понятие "собственности", которым так часто объясняют любовь,
действительно не может быть первичным. Почему я хотел бы присвоить себе
другого, если бы это не был именно Другой, дающий мне бытие? Но это
предполагает как раз определенный способ присвоения: именно свободу
216
другого как таковую мы хотим захватить. И не по желанию власти: тиран
насмехается над любовью; он удовлетворяется страхом. Если он ищет любви
у подданных, то это из-за политики, и если он находит более экономное
средство их покорить, он его тут же применяет. Напротив, тот, кто хочет
быть любимым, не желает порабощения любимого существа. Он не
довольствуется несдерживаемой и механической страстью. Он не хочет
обладать автоматом, и, если его желают оскорбить, достаточно представить
ему страсть любимого как результат психологического детерминизма;
любящий почувствует себя обесцененным в своей любви и своем бытии.
Если бы Тристан и Изольда сошли с ума от любовного напитка, они
вызывали бы меньший интерес. Случается, что полное порабощение
любимого существа убивают любовь любящего. Цель пройдена, любящий
вновь остается один, если любимый превращается в автомат. Следовательно,
любящий не желает владеть любимым, как владеют вещью; он требует
особого типа владения. Он хочет владеть свободой как свободой.
Но, с другой стороны, любящий не может удовлетвориться этой
возвышенной формой свободы, которой является свободная и добровольная
отдача. Кто удовлетворился бы любовью, которая дарилась бы как чистая
преданность данному слову? Кто согласился бы слышать, как говорят: "Я вас
люблю, потому что по своей воле соглашаюсь вас любить и не хочу
отрекаться от этого; я вас люблю из-за верности самому себе"? Таким
образом, любящий требует клятвы и раздражается от нее. Он хочет быть
любимым свободой и требует, чтобы эта свобода как свобода не была бы
больше свободной. Он хочет одновременно, чтобы свобода Другого
определялась собой, чтобы стать любовью, и это не только в начале
приключения, но в каждое мгновение, и вместе с тем чтобы эта свобода была
пленена ею самой, чтобы она обратилась сама на себя, как в сумасшествии,
как во сне, чтобы желать своего пленения. И это пленение должно быть
отдачей одновременно свободой и скованной нашими руками. Не любовного
детерминизма мы будем желать у другого в любви, не недосягаемой
свободы, но свободы, которая играет в детерминизм и упорствует в своей
игре. И от себя любящий не требует быть причиной этого радикального
преобразования свободы, а хочет быть уникальным и привилегированным
поводом. В самом деле, он не может хотеть быть причиной, не погружая
тотчас любимого в середину мира как орудие, которое можно
трансцендировать. Не в этом сущность любви. В Любви, напротив, любящий
хочет быть "всем в мире" для любимого. Это значит, что он помещает себя на
сторону мира; он является тем, кто резюмирует и символизирует мир; он есть
это, которое включает все другие "эти", он соглашается быть объектом и
является им. Но, с другой стороны, он хочет быть объектом, в котором
свобода другого соглашалась бы теряться, а другой согласился бы найти
свою вторую фактичность, свое бытие и свое основание бытия — объектом,
217
ограниченным трансцендентностью, к которому трансцендентность Другого
трансцендирует все другие объекты, но который она вовсе не может
трансцендировать. Однако он желает установить круг свободы Другого, то
есть чтобы в каждый момент, когда свобода Другого соглашается с этой
границей в своей трансцендентности, указанное согласие уже
присутствовало бы как его движущая сила. Значит, посредством уже
выбранной цели он хочет быть выбираем как цель. Это позволяет нам понять
до конца то, что любящий требует от любимого: он хочет не воздействовать
на свободу Другого, но априори существовать как объективная граница этой
свободы, то есть быть данным сразу с ней и в ее самом появлении как
граница, которую она должна принять, чтобы быть свободной. Поэтому то,
что он требует, является склеиванием, связыванием свободы другого ею
самой; эта граница структуры является в действительности данной, и одно
появление данного как границы свободы означает, что свобода делает себя
существующей внутри данного, являясь своим собственным запретом ее
переходить. И этот запрет рассматривается любящим одновременно и как
переживаемый, то есть как испытываемый, одним словом, как фактичность, и
как добровольный. Он должен быть добровольным, поскольку должен
возникать только с появлением свободы, которая выбирает себя как свобода.
Но он должен быть только переживаемым, поскольку должен быть всегда
присутствующей невозможностью, фактичностью, которая течет обратно к
свободе Другого до ее сердцевины. И это выражается психологическим
требованием, чтобы свободное решение любить меня, которое ранее принял
любимый, проскальзывало как околдовывающая движущая сила внутрь его
настоящего свободного вовлечения.
Сейчас можно понять смысл такого требования: это фактичность,
которая должна быть действительной границей для Другого в моем
требовании быть любимым и которая должна завершиться тем, чтобы быть
его собственной фактичностью, то есть моей фактичностью. Поскольку я
есть объект, которого Другой приводит к бытию, я должен быть границей,
присущей самой его трансцендентности; так что Другой, появляясь в бытии,
делал бы из меня бытие в качестве абсолютного и непревышаемого, не как
ничтожащее Для-себя, но как бытие-для-другого-в-середине-мира. Таким
образом, хотеть быть любимым — значит заражать Другого его собственной
фактичностью, значит стремиться к тому, чтобы он был вынужден постоянно
воссоздавать вас как условие свободы, которая покоряется и берет на себя
обязательства, значит одновременно хотеть, чтобы свобода создавала факт и
чтобы факт имел бы преимущество над свободой. Если бы такой результат
мог быть достигнут, это закончилось бы в первую очередь тем, что я был бы
в безопасности в сознании Другого. Вначале потому, что мотив моего
беспокойства и стыда заключается в постижении и испытывании себя в моем
бытии-для-другого в качестве того, кто всегда может быть переведен в
218
другую вещь, что является чистым объектом ценностного суждения, простым
средством и орудием. Мое беспокойство проистекает из того, что я
необходимо и свободно беру на себя это бытие, которым Другой делает меня
в абсолютной свободе: "Бог знает, кто я есть для него! Бог знает, как он меня
мыслит". Это означает: "Бог знает, каким он сделал меня бытием", и я
преследуем этим бытием, которое я опасаюсь встретить однажды на
повороте дороги, которое мне так чуждо, но которое все же есть мое бытие и
которое, я знаю также, несмотря на мои усилия, я никогда не встречу. Но
если Другой меня любит, я становлюсь непревышаемым; это значит, что я
должен быть абсолютной целью; в этом смысле я спасен от орудийности;
мое существование в середине мира становится точным коррелятом моей
трансцендентности-для-меня, поскольку моя независимость абсолютно
защищена. Объект, которым Другой должен сделать меня в бытии, есть
объект-трансцендентность, центр абсолютного отношения, вокруг которого
упорядочиваются как чистые средства все вещи-орудия мира. В то же время
как абсолютная граница свободы, то есть абсолютный источник всех
ценностей, я защищен от всякого возможного обесценения; я оказываюсь
абсолютной ценностью. И в той степени, в какой я принимаю на себя свое
бытие-для-Другого, я принимаю себя как ценность. Следовательно, хотеть
быть любимым — значит хотеть поместиться по ту сторону всякой системы
ценностей, быть полагаемым другим как условие всякой оценки и как
объективное основание всех ценностей. Это требование составляет обычную
тему разговоров между любящими, будь то, как в "Тесных Воротах" ("La
Porte Etroite"), когда женщина, которая хотела быть любимой, отождествляла
себя с аскетической моралью самовозвышения, желая воплотить идеальный
предел этого самовозвышения, как обычно случается, когда любящий
требует, чтобы любимый своими действиями принес ему в жертву
традиционную мораль, беспокоясь в, том, чтобы знать, изменит ли любимый
своим друзьям ради него, украдет ли", "убьет ли ради него" и т. д. С этой
точки зрения мое бытие должно ускользать от взгляда любимого; или,
скорее, оно должно быть Объектом взгляда другой структуры. Я не должен
больше быть видимым на фоне мира как "это" среди других этих, но мир
должен открываться исходя из меня. В той степени, в какой появление
свободы сделает то, что мир существует, я должен быть в качестве условияграницы этого появления и даже условия появления мира. Я должен быть
тем, чья функция делает существующими деревья и воду, города и села,
других людей, чтобы затем дать их другому, который располагает их в мире,
так же как в матриархальных обществах мать получает титулы и имена не
для того, чтобы их хранить, но чтобы непосредственно передать своим детям.
В одном смысле, если я должен быть любимым, я есть объект, по
доверенности которого мир будет существовать для другого; в другом
смысле я есть мир. Вместо того чтобы быть этим, выделяясь на фоне мира, я
219
есть объект-фон, на котором выделяется мир. Таким образом, я успокоен,
взгляд другого не придает мне больше конечности: он больше не закрепляет
мое бытие в то, что я просто есть. Я не могу быть рассматриваем как
безобразный, как маленький, как трусливый, поскольку эти черты
необходимо представляют фактическую ограниченность моего бытия и
восприятие моей конечности как конечности. Разумеется, мои возможности
остаются трансцендированными возможностями, мертвыми-возможностями;
но я обладаю всеми возможностями; я есть все мертвые-возможности мира;
посредством этого «прекращаю быть бытием, которое понимается исходя из
других существующих или из их действий; но в любящей интуиции, которой
я требую, я должен быть дан как абсолютная целостность, исходя из которой
должны пониматься все существующие и все их собственные действия.
Можно бы сказать, искажая малоизвестную формулу стоиков, что "любимый
может трижды обанкротиться". Идеал мудреца и идеал того, кто хочет быть
любимым, в действительности совпадают в том, что тот и другой хотят быть
целостностью-объекта, доступной глобальной интуиции, которая будет
постигать действия в мире любимого и мудреца как частичные структуры,
которые интерпретируются исходя из целостности. И так же, как мудрость
выступает в виде состояния, достигаемого абсолютным преобразованием,
свобода другого должна абсолютно преобразоваться, чтобы мне стать
любимым.
Это описание до сих пор в достаточной мере совпадало с известным
гегелевским описанием отношений господина и раба. Тем, чем гегелевский
господин является для раба, любящий хочет быть для любимого. Но аналогия
на этом кончается, так как господин у Гегеля требует свободы раба только
лишь побочно, так сказать, неявно, в то время как любящий требует с самого
начала свободы любимого. В этом смысле, если я должен быть любимым
другим, я должен быть свободно выбираем как любимый. Известно, что в
обычной любовной терминологии любимый обозначается понятием
"избранник". Но этот выбор не должен быть относительным и случайным:
любящий раздражается и чувствует себя обесцененным, когда он думает, что
любимый выбрал его среди других. "Но вот, если бы я не приехал в этот
город, если бы я не посещал "такого-то", ты меня не знала бы, ты меня не
любила бы?" Эта мысль огорчает любящего: его любовь становится любовью
среди других, любовью, ограниченной фактичностью любимого и его
собственной фактичностью, а также случайностью встреч: она становится
любовью в мире, объектом, который предполагает мир и который может, в
свою очередь, существовать для других. То, что он требует, он выражает
неловкими словами, запятнанными "вещизмом"; он говорит: "Мы были
созданы друг для друга" или употребляет выражение "родственные души".
Но это нужно интерпретировать так: хорошо известно, что считать себя
"созданными друг для друга" — значит сослаться на первоначальный выбор.
220
Этот выбор может быть выбором Бога как бытия, которое является
абсолютным выбором; но Бог представляет здесь только переход к границе в
требовании абсолютного. В действительности любящий требует, чтобы
любимый сделал в отношении его абсолютный выбор. Это означает, что
бытие-в-мире любимого должно быть любящим-бытием. Это появление
любимого должно быть свободным выбором любящего. И так как другой
есть основание моего бытия-объекта, я требую от него, чтобы свободное
появление его бытия имело единственной и абсолютной целью — выбор
меня, то есть, чтобы он выбрал бытие для основания моей объективности и
фактичности. Таким образом, моя фактичность оказывается "спасенной". Она
не является больше тем непостижимым и непреодолимым данным, от
которого я бегу; она есть то, для чего другой свободно делает себя
существующим; она есть цель, которую он перед собой ставит. Я его заразил
своей фактичностью, но так как именно в качестве свободы он ею был
заражен, он ее посылает мне как возобновляемую и согласованную
фактичность; он есть ее основание, с тем чтобы она была его целью. Исходя
из этой любви я постигаю, стало быть, по-другому свое отчуждение и
собственную фактичность. Она есть, как для-другого, более не факт, а право.
Мое существование есть, поскольку оно требуется. Это существование,
поскольку я его беру на себя, становится чистой щедростью. Я есть,
поскольку я себя отдаю. Эти любимые вены на моих руках, они существуют
как раз через доброту. Какой я добрый, имея глаза, волосы, ресницы и
неустанно раздавая их в избытке щедрости, в этом непрестанном желании,
которым другой свободно делается бытием. Вместо того чтобы перед тем,
как быть любимыми, тревожиться этим неоправданным возвышением,
неоправдываемым нашим существованием, вместо того чтобы чувствовать
себя "лишними", мы чувствуем сейчас, что это существование
возобновляется и в малейших своих деталях становится желаемым
абсолютной свободой, которой оно в то же время обусловлено; и мы хотим
сами себя с нашей собственной свободой. Это и есть основа любовной игры;
когда она существует, мы чувствуем себя оправданными в существовании.
Вместе с тем, если любимый может нас любить, он всегда готов быть
ассимилированным нашей свободой, так как это любимое-бытие, которое мы
желаем, и есть уже онтологическое доказательство, примененное к нашему
бытию-для-другого.
Наша
объективная
сущность
предполагает
существование другого, и наоборот, именно свобода другого основывает
нашу сущность. Если бы мы смогли интериоризовать всю систему, мы были
бы своим собственным основанием.
Такова, следовательно, реальная цель любящего, поскольку его любовь
является действием, то есть проектом самого себя. Этот проект должен
вызвать конфликт. В самом деле, любимый постигает любящего как другогообъекта среди других, то есть он воспринимает его на фоне мира,
221
трансцендирует его и использует. Любимый является взглядом. Он,
следовательно, не должен использовать ни свою трансценденцию, чтобы
определить конечную границу своих возвышений, ни свою свободу, чтобы
взять ее в плен. Любимый не знает желания любить. Отсюда, любящий
должен соблазнить любимого; и его любовь не отличается от этого действия
соблазна. В соблазне я совсем не стремлюсь открыть в другом свою
субъективность; я мог бы это делать, впрочем, только рассматривая другого;
но этим взглядом я устранял бы субъективность другого, а именно ее я хочу
ассимилировать. Соблазнять — значит брать на себя полностью свою
объективность для другого и подвергать ее риску; значит ставить себя под
его взгляд, делать себя рассматриваемым им и подвергать опасности
рассматриваемое-бытие, чтобы осуществить новый уход и присвоить себе
другого в моей объектности и через нее. Я отказываюсь покидать почву, на
которой я испытываю свою объектность; именно на этой почве я хочу
вступить в борьбу, делая себя очаровывающим объектом.
…Соблазн имеет целью вызвать у другого сознание своей ничтожности
перед соблазняющим объектом. Посредством соблазна я намерен
конституироваться как полное бытие и заставить признать меня как
такового. Для этого я конституируюсь в значимый объект. Мои действия
должны указывать в двух направлениях. С одной стороны, на то, что
напрасно называют субъективностью и что скорее является объективной и
скрытой глубиной бытия; действие не производится только для него самого,
а указывает на бесконечный и недифференцированный ряд других реальных
и возможных действий, которые я предлагаю в качестве конституирующих
мое объективное и незамеченное бытие. Таким образом, я пытаюсь
руководить трансцендентностью, которая меня трансцендирует, и отослать ее
к бесконечности моих мертвых-возможностей как раз для того, чтобы быть
непревзойденным именно в той степени, в какой единственно
непревзойденной оказывается бесконечность. С другой стороны, каждое из
моих действий пытается указать на самую большую плотность возможногомира и должно представлять меня в качестве связанного с самыми
обширными областями мира; или я представляю мир любимому и пытаюсь
конституироваться как необходимый посредник между ним и миром, или я
просто обнаруживаю своими действиями бесконечно различные
возможности в мире (деньги, власть, связь и т. д.). В первом случае я
пытаюсь конституироваться как бесконечная глубина, во втором —
отождествляюсь с миром. Этими различными методами я предлагаю себя в
качестве непревышаемого. Это предложение не может быть достаточным
само по себе; оно есть только окружение другого, оно не может иметь
фактической ценности без согласия свободы другого, которая должна взять
себя в плен, признавая себя в качестве ничто перед моей полнотой абсолютного бытия.
222
Скажут, что эти различные попытки выражения предполагают язык. Мы
не будем этого отрицать, лучше скажем: они суть язык или, если хотите,
фундаментальный модус языка. Так как если и имеют место психологические
и исторические проблемы, касающиеся существования, усвоения и
использования такого-то отдельного языка, то нет никакой особой
проблемы, касающейся того, что называют изобретением языка. Язык не
является добавочным феноменом к бытию-для-другого; он первоначально
есть бытие-для-другого, то есть тот факт, что субъективность испытывается
как объект для другого. В универсуме чистых объектов язык ни в коем
случае не может быть "изобретен", поскольку он первоначально
предполагает отношение к другому субъекту; и в интерсубъективности длядругих его не нужно изобретать, так как он уже дан в признании другого.
Поскольку, что бы я ни делал, мои действия, свободно задуманные и
исполняемые, мои проекты к моим возможностям имеют внешний смысл,
который от меня ускользает и который я испытываю, я есть язык. В этом
смысле, и только в этом смысле, Хайдеггер имеет основание заявить, что я
являюсь тем, что я говорю.
В самом деле, этот язык не является инстинктом конституированного
человеческого существа; он не есть также изобретение нашей
субъективности; но нельзя также сводить его к чистому "бытию-запределами-себя"
"Dasein".
Он
составляет
часть
человеческого
существования; он первоначально является опытом, который для-себя может
производить из своего бытия-для-другого, а затем — использованием этого
опыта, его переводом к моим возможностям, то есть к возможностям быть
этим или тем для другого. Он не отличается, таким образом, от признания
существования другого. Появление другого передо мной в качестве взгляда
приводит к появлению языка как условия моего бытия. Этот первичный язык
не является обязательно соблазном; мы увидим здесь другие формы;
впрочем, мы отмечали, что нет никакой первоначальной установки перед
лицом другого и что они следуют одна за другой в круге, каждая,
предполагая другую. Но и наоборот, соблазн не предполагает никакой
формы, предшествующей языку; он полностью является реализацией языка;
это значит, что язык может полностью и сразу открываться посредством
соблазна как первичный способ бытия выражения. Само собой разумеется,
что под языком мы понимаем все феномены выражения, а не
членораздельную речь, которая является чем-то вторичным и производным,
чье появление может стать объектом исторического исследования. В
частности, в соблазне язык не стремится давать знание, а заставляет
пережить.
Но в этой первой попытке найти очаровывающий язык я иду на ощупь,
поскольку я веду себя только в соответствии с абстрактной и пустой формой
моей объективности для другого. Я не могу даже понять, какой эффект
223
произведут мои жесты и мои позиции, поскольку они всегда будут
основываться на свободе и поправлены свободой, которая их опережает, и
могут иметь значение, только если эта свобода им придаст его. Таким
образом, "смысл" моих выражений всегда ускользает от меня; я никогда не
знаю точно, означаю ли я то, что хочу означать, ни даже являюсь ли я
значащим; в этот самый момент нужно было бы, чтобы я читал в другом то,
что в принципе непостижимо. Из-за недостатка знания того, что я
фактически выражаю для другого, я конституирую свой язык как неполный
феномен бегства за свои пределы. В то время как я выражаю себя, я могу
только предполагать смысл того, что я выражаю, то есть, в сущности, смысл
того, что я есть, поскольку в этом плане выражать и быть есть одно и то же.
Другой находится всегда здесь, в настоящем, и переживается в качестве того,
что дает языку его смысл. Каждое выражение, каждый жест, каждое слово
является с моей стороны конкретным переживанием отчуждающейся
реальности другого. Не только психопат может сказать, как в случае,
например, психозов влияния*: "У меня украли мысль". Но сам факт
выражения есть воровство мысли, поскольку мысль имеет нужду в помощи
отчуждающей свободы, чтобы конституироваться как объект. Поэтому
первым аспектом языка, поскольку именно я использую его для другого,
является священное. В самом деле, священный объект является объектом
мира, который указывает на трансцендентность по другую сторону мира.
Язык мне открывает свободу того, кто слушает меня в молчании, то есть его
трансцендентность.
Но в тот же самый момент для другого я остаюсь значащим объектом —
тем, чем я всегда был. Нет никакого пути, который бы исходя из моей
объективности мог указать другому на мою трансцендентность. Установки,
выражения и слова могут всегда указывать только на другие установки,
другие выражения и другие слова. Таким образом, язык остается для другого
простым свойством магического объекта и самим магическим объектом; он
есть действие на расстоянии, последствия которого другой знает точно.
Таким образом, слово является священным, когда именно я его использую, и
магическим, когда Другой его слушает. Следовательно, я не знаю моего языка
больше, чем мое тело для другого. Я не могу ни слышать себя говорящим, ни
видеть свою улыбку. Проблема языка в точности сходна с проблемой тела, в
описания, пригодные в одном случае, имеют значение и для другого. Однако
очарование, даже если оно должно вызвать в другом очарованное бытие, не
достигает само по себе того, чтобы вызвать любовь. Можно поддаться
очарованию оратора, актера, эквилибриста, но это не значит, что кого-либо
Впрочем, психоз влияния, как большинство психозов, оказывается опытом исключительным и
выражается мифами, касающимися важного метафизического факта: здесь — факта отчуждения.
Сумасшедший всегда только реализует на свой лад человеческое существование.
*
224
из них любят. Конечно, нельзя оторвать от него глаз, но он выделяется еще
на фоне мира, и очарование не полагает очаровывающий объект как
окончательную границу трансцендентности; совсем напротив, оно есть
трансцендентность. Когда же, однако, любимый в свою очередь станет
любящим?
Ответ прост: когда он будет проектировать быть любимым. В себе
Другой-объект никогда не имеет достаточно силы, чтобы вызвать любовь.
Если любовь имеет своим идеалом присвоение другого как другого, то есть
как рассматривающую субъективность, этот идеал может быть проектирован
только исходя из моей встречи с другим-субъектом, но не с другимобъектом. Соблазн может приукрасить другого-объекта, который пытается
меня соблазнить, лишь обладая свойством дорогого объекта, которым "нужно
завладеть"; он подвигнет меня, может быть, на большой риск, чтобы
завоевать его; но это желание присвоения объекта в середине мира не должно
быть смешано с любовью. Любовь может родиться у любимого только из
опыта, который он получает от своего отчуждения и своего бегства к
другому. Но любимый, если он находится здесь, снова преобразуется в
любящего, только если он проектирует быть любимым, то есть если то, что
он хочет завоевать, является не телом, а субъективностью другого как
такового. Действительно, единственное средство, которое он смог бы
задумать, чтобы реализовать присвоение, — это заставить полюбить себя.
Таким образом, нам представляется, что любить — это в своей сущности
проект заставить полюбить себя. Отсюда и новое противоречие, и новый
конфликт; каждый из любящих полностью пленен другим, поскольку он
хочет заставить любить себя за исключением всех остальных; но в то же
время каждый требует от другого любви, которая вовсе не сводится к
"проекту быть любимым". Он требует, чтобы другой, не стремясь
первоначально заставить любить себя, имел бы интуицию одновременно
созерцательную и аффективную своего любимого как объективную границу
его свободы, как неизбежное и избранное основание его трансцендентности,
как целостность бытия и высшую ценность. Требуемая таким образом от
другого любовь не может ничего требовать; она является чистой
вовлеченностью без взаимности. Но как раз эта любовь не могла бы
существовать иначе как в качестве требования любящего; совсем другое
дело, когда любящий пленен; он пленен самим своим требованием в той
степени, в какой любовь является требованием быть любимым; она есть
свобода, которая хочет себе тела и требует внешности; иначе говоря,
свобода, которая изображает бегство к другому, которая в качестве свободы
требует своего отчуждения. Свобода любящего в самом его усилии заставить
другого любить себя в качестве объекта отчуждается, уходя в тело-длядругого, то есть создает себя как существующую измерением бегства к
другому; она оказывается постоянным отрицанием полагания себя в качестве
225
чистой самости, так как это полагание себя как самого себя повлекло бы
исчезновение другого в качестве взгляда и появление другого-объекта,
следовательно, состояния вещей, где сама возможность быть любимым
устранилась бы, поскольку другой редуцировался бы к измерению
объективности. Это отрицание, стало быть, конституирует свободу как
зависящую от другого, и другой как субъективность становится
непревзойденной границей свободы для-себя, высшей целью, поскольку он
хранит ключ от его бытия. Мы снова находим здесь, конечно, идеал
любовного предприятия: отчужденную свободу. Но именно тот, кто хочет
быть любимым, и поскольку он хочет, чтобы его любили, отчуждает свою
свободу. Моя свобода отчуждается в присутствии чистой субъективности
другого, который основывает мою объективность; она отнюдь не должна
отчуждаться перед лицом другого-объекта. В этой форме отчуждение
любимого, о котором мечтает любящий, было бы противоречивым,
поскольку любимый может основать бытие любящего, только трансцендируя
его, в сущности, к другим объектам мира; стало быть, эта трансцендентность
не может конституировать одновременно объект, который она превосходит
как трансцендированный объект и предельный объект всякой
трансцендентности. Таким образом, в любовной паре каждый хочет быть
объектом, для которого свобода другого отчуждается в первоначальной
интуиции; но эта интуиция, которая была бы, собственно говоря, любовью,
есть лишь противоречивый идеал для-себя; следовательно, каждый
отчуждается лишь в той степени, в какой он требует отчуждения другого.
Каждый хочет, чтобы другой его любил, не отдавая себе отчета, что любить
— значит хотеть быть любимым и что, следовательно, желая, чтобы другой
его любил, он хочет только, чтобы другой хотел, чтобы он его любил. Таким
образом, любовные отношения оказываются системой неопределенных
отсылок, аналогичных чистому "отражению-отражаемому" сознания под
идеальным знаком ценности "любовь", то есть соединения сознаний, где
каждое сохраняло бы свою "инаковость", чтобы основать другое. В
действительности как раз сознания отделены непреодолимым ничто,
поскольку оно является одновременно внутренним отрицанием одного
другим и фактическим отрицанием, находящимся между двумя внутренними
отрицаниями. Любовь является противоречивым усилием преодолеть
фактическое отрицание, сохраняя полностью внутреннее отрицание. Я
требую, чтобы другой любил меня, делаю все возможное для реализации
своего проекта; но если другой меня любит, он в принципе обманывает меня
своей любовью; я требовал от него, чтобы он основал мое бытие в качестве
привилегированного Объекта, утверждаясь как чистая субъективность
передо мной; и в то время как он меня любит, он испытывает меня в качестве
субъекта н погружается в свою объективность перед моей субъективностью.
Проблема моего бытия-для-другого остается, следовательно, без решения,
226
любящие остаются каждый для себя в полной субъективности; ничто не
освобождает их от обязанности существовать каждый для себя; ничто не
приходит, чтобы устранить их случайность и спасти их от фактичности. По
крайней мере, каждый выиграл от того, что не находится больше в опасности
от свободы другого, но совсем по-другому, о чем он и не думал; в
действительности совсем не от того, что другой делает.
…Выигрышем еще является постоянный компромисс; с самого начала в
каждый момент каждое из сознаний может освободиться от его оков и
созерцать сразу другого в качестве объекта. Когда чары прекращаются,
другой становится средством среди средств; он является, конечно, тогда
объектом для другого, как он и желал этого, но объектом-орудием, объектом,
постоянно трансцендируемым; иллюзия зеркальных игр, которая составляет
конкретную реальность любви, тут же прекращается. Наконец, в любви
каждое сознание пытается тут же поставить под защиту свое бытие-длядругого в свободе другого. Это предполагает, что другой находится по ту
сторону мира как чистая субъективность, как абсолют, посредством которого
мир приходит в бытие. Но достаточно того, чтобы любящие вместе были бы
рассматриваемыми третьим, чтобы каждый испытал объективацию не
только самого себя, но и другого. Другой сразу же перестает для меня быть
абсолютной трансцендентностью, которая основывает меня в моем бытии, но
он оказывается трансцендентностью-трансцендируемой, посредством не
меня, но другого, и мое первоначальное отношение к нему, то есть мое
отношение любимого бытия к любящему, застывает в мертвую-возможность.
Это уже не переживаемое отношение объекта как границы всякой
трансцендентности в свободе, которая его основывает, но это любовь-объект,
который отчуждается целиком к третьему. Такова истинная причина того,
почему любящие ищут уединения. Как раз появление третьего, каким бы он
ни был, является разрушением их любви. Но фактическое уединение (мы
одни в моей комнате) совсем не является уединением по праву. В самом деле,
даже если никто не видит нас, мы существуем для всех сознаний, и у нас есть
сознание существования для всех; отсюда вытекает, что любовь как основной
модус бытия-для-другого имеет в своем бытии-для-другого источник своего
краха. Мы определим сейчас тройную разрушаемость любви. Во-первых, она
является, в сущности, обманом и отсылкой в бесконечность, потому что
любить — это значит хотеть, чтобы меня любили, следовательно, хотеть,
чтобы другой желал, чтобы я его любил. И доонтологическое понимание
этого обмана дается в самом любовном порыве; отсюда — постоянная
неудовлетворенность любящего. Она проистекает, как это часто говорят, не
из недостойности любимого бытия, но из скрытого понимания того, что
любовная интуиция, как интуиция-основание, оказывается недостижимым
идеалом. Чем больше меня любят, тем больше я теряю свое бытие, тем
больше я отказываюсь от своей собственной ответственности, от своей
227
собственной возможности бытия. Во-вторых, пробуждение другого всегда
возможно, он может в любой момент представить меня как объект; отсюда —
постоянная неуверенность любящего. В-третьих, любовь является
абсолютом, постоянно релятивизируемым другими. Нужно было бы быть в
мире единственным с любимым, чтобы любовь сохраняла свой характер
абсолютной оси отношения. Отсюда — постоянный стыд (или гордость, что
то же самое здесь) любящего.
Таким образом, напрасно я пытался бы потеряться в объективном; моя
страсть не приведет ни к чему; другой меня отсылает сам или через других к
моей неоправдываемой субъективности. Это утверждение может вызвать
полное отчаяние и новую попытку осуществить ассимиляцию другого и меня
самого. Ее идеалом будет обратное тому, что мы только что описали; вместо
того чтобы проектировать овладение другим, сохраняя в нем его
"инаковость", я буду проектировать овладение меня другим и потерю себя в
его субъективности, чтобы освободиться от своей. Это предприятие находит
свое выражение в конкретной мазохистской установке; поскольку другой
есть основание моего бытия-для-другого, то, если бы я поручил другому
сделать меня существующим, я не был бы больше только бытием-в-себе,
основанным в его бытии свободой. Здесь именно моя собственная
субъективность рассматривается как препятствие первоначальному акту,
посредством которого другой основывал бы меня в моем бытии; речь идет
здесь прежде всего о ней, чтобы отрицать ее с моей собственной свободой. Я
пытаюсь, следовательно, включиться полностью в свое бытие-объекта; я
отказываюсь быть чем-либо, кроме объекта; я нахожусь в другом; и так как
«испытываю это бытие-объекта в стыде, я хочу и люблю свой стыд как
глубокий знак моей объективности; а так как другой постигает меня как
объект посредством настоящего желании, я хочу быть желаемым, я делаю
себя объектом желания в стыде. Эта установка была бы в достаточной
степени похожей на установку любви, если, вместо того чтобы стремиться
существовать для другого как объект-граница его трансцендентности, я,
напротив, не возражал бы, чтобы со мной обходились как с объектом среди
других, как с инструментом, который можно использовать; значит, в
действительности речь идет о том, чтобы отрицать мою трансцендентность, а
не его. Я не могу на этот раз проектировать пленение его свободы, но,
наоборот, желаю, чтобы эта свобода была бы и хотела быть радикально
свободной. Таким образом, чем больше я буду ощущать себя переведенным
к другим целям, тем больше я буду наслаждаться отказом от своей
трансцендентности. В пределе я проектирую не быть больше ничем, кроме
объекта, то есть принципиально в-себе. Но поскольку свобода, которая
поглотила бы мою свободу, будет основанием этого в-себе, мое бытие снова
стало бы своим основанием. Мазохизм, как и садизм, является принятием на
228
себя I (assomption)* виновности. Я виновен, потому что я являюсь объектом.
Виновен по отношению к самому себе, поскольку я соглашаюсь на свое
абсолютное отчуждение, виновен по отношению к другому, так как я ему
предоставил случай быть виновным через радикальное отсутствие моей
свободы как таковой. Мазохизм является попыткой не очаровывать другого
своей объективностью, но очаровывать самого себя своей объективностьюдля-другого, то есть заставить другого конституировать меня в объект таким
способом, чтобы я нететически постигал свою субъективность в качестве
ничто в присутствии в-себе, которое я представляю в глазах другого. Он
характеризуется как некоторого рода головокружение — головокружение не
перед земной пропастью, но перед бездной субъективности другого.
Но мазохизм является и должен быть в самом себе поражением; для того
чтобы очароваться своим я-объектом, необходимо, чтобы я мог бы
реализовать интуитивное восприятие этого объекта, каким он является для
другого, что в принципе невозможно. Таким образом, отчужденное я, далекое
от того, чтобы я мог даже начать очаровываться им, остается в принципе
непостижимым. Мазохист прекрасно может ползать на коленях, показывать
себя в смешных, нелепых позах, позволять использовать себя как простое
неодушевленное орудие; именно для другого он будет непристойным или
просто пассивным, для другого он будет принимать эти позы; для себя он
навсегда осужден отдаваться им. Как раз в трансцендентности и через нее
он располагается как бытие, которое нужно трансцендировать; и чем больше
он будет пытаться насладиться своей объективностью, тем больше он будет
переполняться сознанием своей субъективности, вплоть до тревоги. В
частности, мазохист, который платит женщине, чтобы она его стегала,
обращает ее в инструмент и поэтому располагается в трансцендентности по
отношению к ней.
…Таким образом, мазохист кончает тем, что превращает другого в
объект и трансцендирует его к его собственной объективности. Вспомните,
например, терзания Захер-Мазоха*, который, чтобы сделать себя
презираемым, оскорбляемым, доведенным до униженного положения,
вынужден был пользоваться большой любовью, которую предлагали ему
женщины, то есть действовать на них, воспринимая их как объект. Так
объективность, во всяком случае, ускользала от мазохиста, и могло даже
случиться и часто случалось, что, стремясь постигнуть свою объективность,
он находил объективность другого, которая, вопреки его воле, высвобождала
его субъективность. Мазохизм, следовательно, в принципе есть поражение.
Здесь нет ничего, что могло бы нас удивить, если мы поймем, что мазохизм
является "пороком" и что порок есть, в сущности, любовь к поражению. Но
От assumer — брать на себя, притязать (фр.); assomption можно перевести и как возвышение (ср. релит. —
успение, т. е. возведение, восшествие). — Ред.
*
229
мы не можем описывать здесь структуры порока как такового. Нам
достаточно отметить, что мазохизм есть постоянное усилие устранить
субъективность субъекта, делая ее заново ассимилированной другим, и что
это усилие сопровождается изнуряющим и восхитительным сознанием
поражения, причем таким, что само это поражение, которым кончает
субъект, рассматривается как его основная цель.
Мартин Хайдеггер. Отрешенность
Первое, что я могу сказать своему родному городу - это
слова признательности. Я благодарю мою родину за все, что она
дала мне в дальний путь. Что это за приданое, я пытался
объяснить на страницах статьи "Проселочная дорога" в юбилейном
сборнике, появившемся к столетию со дня смерти Конрадина
Крейцера(2). Я благодарю господина бургомистра Шюле за его
сердечное приветствие и за ту честь, которую мне оказали,
поручив выступить с памятной речью на сегодняшнем торжестве.
Уважаемое собрание!
Дорогие соотечественники!
Мы собрались здесь на торжестве, посвященном нашему
земляку, композитору Конрадину Крейцеру. Чтобы чествовать
такого человека - творческую личность, нужно прежде всего
оценить по достоинству его произведения. А значит, чтобы
чествовать музыканта, надо слушать его музыку.
Сегодня мы услышим произведения Конрадина Крейцера - его
песни и хоры, камерную и оперную музыку. В этих звуках
присутствует сам композитор, так как по-настоящему мастер
присутствует лишь в своей работе. И если это действительно
большой мастер, то его личность полностью исчезнет за его
работой.
Певцы и музыканты, участвующие в сегодняшнем празднестве,
будут гарантами того, что произведения Конрадина Крейцера
прозвучат сегодня для нас.
Но будет ли это торжество в то же время и памятным? Ведь
торжество в память кого-либо означает, что мы думаем(3). Так о
чем же мы должны думать и говорить на чествовании памяти
композитора? Разве музыка не отличается тем, что она может
"говорить" просто звучанием своих звуков, и разве ей нужен
обычный язык - язык слов? Ведь так обычно считают. И все же
230
остается вопрос: смогут ли музыка и пение превратить торжество
в памятное, в такое, на котором мы думаем? Вероятно, не смогут.
Поэтому памятная речь и была включена в программу праздника.
Она специально должна помочь нам думать о чествуемом человеке и
его произведениях. Такие воспоминания оживают, когда еще раз
пересказывают историю жизни Конрадина Крейцера, перечисляют и
описывают его произведения. Слушая такое повествование, мы
испытываем радость и печаль, узнаем много поучительного и
полезного. Но на самом деле мы лишь развлекаемся. Слушая такой
рассказ, вовсе и не обязательно думать, не требуется размышлять
о том, что относится к каждому из нас в отдельности
непосредственно и постоянно в его собственном бытии. Таким
образом, даже памятная речь не может быть залогом того, что мы
будем думать на памятном торжестве.
Не надо дурачить себя. Все мы, включая и тех, кто думает
по долгу службы, достаточно часто бедны мыслью, мы слишком
легко становимся бездумными. Бездумность - зловещий гость,
которого встретишь повсюду в сегодняшнем мире, поскольку
сегодня познание всего и вся доступно так быстро и дешево, что
в следующее мгновение полученное так же поспешно и забывается.
Таким образом одно собрание сменяется другим. Памятные
празднества становятся все беднее и беднее мыслью, так что
теперь памятные собрания и бездумность уже неразлучны.
Но даже когда мы бездумны, мы не теряем нашей способности
думать. Мы ее, безусловно используем, но, конечно, особым
образом: в бездумности мы оставляем способность мыслить
невозделанной, под паром. Но только то может лежать под паром,
что способно стать почвой для роста, например, пашня.
Автострада, на которой ничего не растет, никогда не может
лежать под паром. Как оглохнуть мы можем только потому, что
обладаем слухом, а состариться - только потому, что были
молоды, точно так же мы можем стать бедными мыслями и даже
бездумными лишь потому, что в самой основе своего бытия человек
обладает способностью к мышлению, "духу и разуму", и мышлению
предназначен и уготован. Мы можем лишиться или, как говорят,
отделаться только от того, чем мы обладаем, знаем ли мы об
обладаемом или нет.
Усиливающаяся бездумность проистекает из болезни,
подтачивающей самую сердцевину современного человека.
Сегодняшний человек спасается бегством от мышления. Это бегство
от мышления и есть основа для бездумности. Это такое бегство,
что человек его и видеть не хочет и не признается в нем себе
231
самому. Сегодняшний человек будет напрочь отрицать это бегство
от мышления. Он будет утверждать обратное. Он скажет - имея на
это полное право, что никогда еще не было таких далеко идущих
планов, такого количества исследований в самых разных областях,
проводимых так страстно, как сегодня. Несомненно, так тратиться
на хитроумие и придумывание по-своему очень полезно и выгодно.
Без такого мышления не обойтись. Но при этом остается так же
верно и то, что это лишь частный вид мышления.
Его специфичность состоит в том, что когда мы планируем,
исследуем, налаживаем производство, мы всегда считаемся с
данными условиями. Мы берем их в расчет, исходя из определенной
цели. Мы заранее рассчитываем на определенные результаты. Это
рассчитывание является отличительной чертой мышления, которое
планирует и исследует. Такое мышление будет калькуляцией даже
тогда, когда оно не оперирует цифрами и не пользуется
калькулятором или компьютером. Рассчитывающее мышление
калькулирует. Оно беспрерывно калькулирует новые, все более
многообещающие и выгодные возможности. Вычисляющее мышление
"загоняет" одну возможность за другой. Оно не может успокоиться
и одуматься, прийти в себя. Вычисляющее мышление - это не
осмысляющее мышление, оно не способно подумать о смысле,
царящем во всем, что есть.
Итак, есть два вида мышления, причем существование каждого
из них оправдано и необходимо для определенных целей:
вычисляющее мышление и осмысляющее раздумье(4).
Именно это осмысляющее раздумье мы и имеем в виду, когда
говорим, что сегодняшний человек спасается бегством от
мышления. Все же можно возразить: само по себе осмысляющее
размышление парит над действительностью, оно потеряло почву.
Оно не поможет нам справиться с повседневными делами. Оно
бесполезно в практической жизни.
И, наконец, говорят, что чистое размышление, стойкое
осмысление "выше" обычного рассудка. В последней отговорке
верно только то, что осмысляющее мышление само не получается,
впрочем как и вычисляющее. Для осмысляющего мышления подчас
необходимы высшие усилия. Оно требует более длительного
упражнения. Для него нужна еще более чуткая забота, чем для
любого другого настоящего ремесла. А еще оно должно уметь
ждать, как ждет крестьянин, взойдет ли семя, даст ли урожай.
И все же каждый может выйти в путь размышления по-своему и
в своих пределах. Почему? Потому что человек - это мыслящее,
т. е. осмысляющее существо(5). Чтобы размышлять, нам отнюдь не
232
требуется "перепрыгнуть через себя". Достаточно остановиться на
близлежащем и подумать о самом близком: о том, что касается
каждого из нас - здесь и сейчас, здесь, на этом клочке родной
земли, сейчас - в настоящий час мировой истории.
На какие мысли наведет нас этот праздник, конечно, в том
случае, если мы готовы одуматься? Мы увидим, что произведение
искусства созрело на почве своей родины. Если мы задумаемся над
этим простым фактом, то мы обязательно подумаем и о том, что за
последние два столетия Швабия породила великих поэтов и
мыслителей. Если мы будем размышлять далее, то окажется, что
Центральная Германия такая же земля, ровно как и Восточная
Пруссия, Силезия и Богемия.
Мы задумаемся и спросим: а может быть, любое настоящее
творение коренится в почве своей родной земли? Иоган Гебел
однажды написал: "Мы растения, которые - хотим ли мы осознать
это или нет - должны корениться в земле, чтобы, поднявшись,
цвести в эфире и приносить плоды" (Werke, ed. Altwegg, III,
314).
Поэт хочет сказать: чтобы труд человека принес
действительно радостные и целебные плоды, человек должен
подняться в эфир из глубины своей родной земли. Эфир здесь
означает свободный воздух небес, открытое царство духа.
Мы задумаемся еще сильнее и спросим: а как обстоит сегодня
дело с тем, о чем говорил Иоган Петер Гебел? По-прежнему ли
человек тихо обитает между небом и землей? По-прежнему ли царит
на земле осмысляющий дух? Есть ли еще родина, в почве которой
- корни человека, в которой он укоренен?(6)
Многие немцы лишились своей родины, им пришлось оставить
свои города и села, их изгнали с родной земли. Многие другие,
чья родина была спасена, все же оторвались от нее, попавши в
ловушку суеты больших городов, им пришлось поселиться в пустыне
индустриальных районов. И сейчас они чужие для своей бывшей
родины. А те, кто остался на родине? Часто они еще более
безродны, чем те, кто был изгнан. Час за часом, день за днем
они проводят у телевизора и радиоприемника, прикованные к ним.
Раз в неделю кино уводит их в непривычное, зачастую лишь своей
пошлостью воображаемое царство, пытающееся заменить мир, но
которое не есть мир. "Иллюстрированная газета" доступна всем.
Как и все, с помощью чего современные средства информации
ежечасно стимулируют человека, наступают на него и гонят его все, что уже сегодня ближе человеку, чем пашни вокруг его
двора, чем небо над землей, ближе, чем смена ночи днем, чем
233
обычаи и нравы его села, чем предания его родного мира.
Мы задумаемся еще и спросим: что происходит здесь - как с
людьми, оторванными от родины, так и с теми, кто остался на
родной земле? Ответ: сейчас под угрозой находится сама
укорененность(7) сегодняшнего человека. Более того: потеря корней
не вызвана лишь внешними обстоятельствами и судьбой, она не
происходит лишь от небрежности и поверхностности образа жизни
человека. Утрата укорененности исходит из самого духа века, в
котором мы рождены.
Мы задумаемся еще и спросим: если это так, смогут ли еще и
впредь человек и его творения корениться в плодородной почве
родины и тянуться к эфиру, на простор небес и духа? Или же все
попадает в тиски планирования и калькуляций, организации и
автоматизации?
Осмысляя то, что нам подсказывает это торжество, мы
увидим: нашему веку грозит утрата корней. И мы спросим: что же
на самом деле происходит в наше время? Чем оно отличается?
Век, который сейчас начинается, недавно был назван атомным
веком. Его самое неотступное знамение - атомная бомба, но это
- примета лишь очевидного, так как сразу же признали, что
атомная энергия может быть использована и в мирных целях. И
сегодня физики-ядерщики всего мира пытаются осуществить мирное
использование ее в широких масштабах. Крупные индустриальные
корпорации ведущих стран, Англии в первую очередь, уже
посчитали, что атомная энергия может стать гигантским бизнесом.
В атомной промышленности узрели новое счастье. Атомная физика
не останется в стороне. Она открыто обещает нам это. В июле
этого года на острове Майнау восемнадцать лауреатов Нобелевской
премии объявили в своем обращении дословно следующее: "Наука
(т. е. современное естествознание) - путь к счастью
человечества".
Как обстоит дело с этим утверждением? Возникло ли оно из
размышления? Задумалось ли оно над смыслом атомного века? Нет.
Если мы удовлетворяемся этим утверждением науки, мы остаемся
максимально далеко от осмысления нынешнего века. Почему? Потому
что подумать-то мы и забыли. Потому что мы забыли спросить:
благодаря чему современная техника, основанная на
естествознании, способна открывать в природе и освобождать
новые виды энергии?
Это стало возможно благодаря тому, что в течение последних
столетий идет переворот в основных представлениях; человек
оказался пересаженным в другую действительность. Эта
234
радикальная революция мировоззрения произошла в философии
Нового времени. Из этого проистекает и совершенно новое
положение человека в мире и по отношению к миру. Мир теперь
представляется объектом, открытым для атак вычисляющей мысли,
атак, перед которыми уже ничто не сможет устоять. Природа стала
лишь гигантской бензоколонкой, источником энергии для
современной техники и промышленности. Это, в принципе
техническое, отношение человека к мировому целому впервые
возникло в семнадцатом веке и притом только в Европе. Оно было
долго незнакомо другим континентам. Оно было совершенно чуждо
прошлым векам и судьбам народов.
Сила, скрытая в современной технике, определяет отношение
человека к тому, что есть. Ее господство простирается по всей
земле. Человек уже начинает свое продвижение с земли в мировое
пространство. Благодаря открытию атомной энергии, за
какие-нибудь двадцать лет стали известны такие колоссальные
источники энергии, что в обозримом будущем мировые потребности
в энергии любого рода будут удовлетворены навсегда. Скоро
производство энергии, в отличие от добычи угля, нефти,
древесины, более не будет привязано к какой-то определенной
стране или континенту. В обозримом будущем в любом месте
земного шара можно будет построить атомную электростанцию.
Таким образом, теперь основная проблема науки и техники
заключается уже не в том, где достать достаточное количество
топлива. Сейчас решающая проблема звучит так: каким образом мы
сможем обуздать и как мы научимся управлять этими невероятно
гигантскими атомными энергиями так, чтобы гарантировать
человечеству, что эти громадные энергии внезапно - даже в
случае отсутствия военных действий - в каком-нибудь месте не
вырвутся, "не удерут" и не уничтожат все?
Если обуздание атомной энергии будет успешным - а оно
будет успешным! - то в развитии технического мира начнется
совершенно новая эра. То, что нам сейчас известно как техника
фильмов и телевидения, транспорта, особенно воздушного, средств
информации, медицинская и пищевая промышленность, является,
вероятно, лишь жалким началом. Грядущие перевороты трудно
предвидеть. Между тем технический прогресс будет идти вперед
все быстрее и быстрее и его ничем нельзя остановить. Во всех
сферах своего бытия человек будет окружен все более плотно
силами техники. Эти силы, которые повсюду ежеминутно требуют к
себе человека, привязывают его к себе, тянут его за собой,
осаждают его и навязываются ему под видом тех или иных
235
технических приспособлений - эти силы давно уже переросли
нашу волю и способность принимать решения, ибо не человек
сотворил их.
Но к новому миру техники принадлежит также и то, что его
достижения самым быстрым образом становятся всем известны и
привлекают всеобщий интерес. Так сегодня все могут прочитать
то, что говорится в этой речи о технике в любом умело
издаваемом иллюстрированном журнале, или услышать эту речь по
радио. Но одно дело услышать или прочитать, т. е. просто узнать
что-то, другое дело - осознать, т. е. осмыслить то, что мы
услышали или прочитали.
Этим летом в очередной раз состоялась международная
встреча лауреатов Нобелевской премии 1955 года в Линдау.
Американский химик Стэнли сказал на ней следующее: "Близок час,
когда жизнь окажется в руках химика, который сможет
синтезировать, расщеплять и изменять по своему желанию
субстанции жизни". Мы приняли к сведению это утверждение, мы
даже восхищаемся дерзостью научного поиска, при этом не думая.
Мы не останавливаемся, чтобы подумать, что здесь с помощью
технических средств готовится наступление на жизнь и сущность
человека, с которым не сравнится даже взрыв водородной бомбы.
Так как даже если водородная бомба и не взорвется и жизнь людей
на земле сохранится, все равно зловещее изменение мира
неизбежно надвигается вместе с атомным веком.
Страшно на самом деле не то, что мир становится полностью
технизированным. Гораздо более жутким является то, что человек
не подготовлен к этому изменению мира, что мы еще не способны
встретить осмысляюще мысля то, что в сущности лишь начинается в
этом веке атома.
Затормозить исторический ход атомного века или же
направить его не может ни один человек, ни одна группа людей,
ни одна комиссия выдающихся государственных деятелей, ученых и
инженеров, ни одна конференция ведущих деятелей промышленности
и торговли. Ни одна человеческая организация не способна
подчинить себе этот процесс.
Так будет ли человек, отдан во власть неудержимых сил
техники, неизмеримо превосходящих его силы, растерянным и
беззащитным? Это и произойдет, если человек окончательно
откажется от того, чтобы решительно противопоставить
калькуляции осмысляющее мышление. Но лишь только осмысляющее
мышление пробуждается, оно должно работать непрерывно, по
любому, самому незначительному поводу - так же и здесь, и
236
сейчас, на этом памятном собрании, поскольку оно дает нам
возможность осмыслить то, что находится под особой угрозой в
атомный век, а именно: укорененность произведений человека.
Поэтому мы задаем такой вопрос: сможет ли человек с
утратой старой укорененности обрести новую почву для коренения
и стояния, такую почву и основу, на которой будут по-новому
процветать сущность человека и все его труды даже в атомный
век?
Что же станет основой и почвой для будущего коренения?
Возможно, то, что мы ищем, очень близко, так близко, что мы его
просто проглядели. Ведь путь к тому, что близко, для нас,
людей, всегда самый дальний и потому самый трудный. Это путь
размышления. Осмысляющее мышление требует от нас не цепляться
односторонне за какое-то одно представление, сойти с привычной
мысленной колеи, по которой мы мчимся все дальше и дальше.
Осмысляющее мышление требует от нас, чтобы мы занялись тем,
что, на первый взгляд, вовсе не имеет к нему отношения.
Давайте испытаем осмысляющее мышление. Приспособления,
аппараты и машины технического мира необходимы нам всем - для
одних в большей, для других - в меньшей мере. Было бы
безрассудно вслепую нападать на мир техники. Было бы близоруко
проклинать его как орудие дьявола. Мы зависим от технических
приспособлений, они даже подвигают нас на новые успехи. Но
внезапно, и не осознавая этого, мы оказываемся настолько крепко
связанными ими, что попадаем к ним в рабство.
Но мы можем и другое. Мы можем пользоваться техническими
средствами, оставаясь при этом свободными от них, так что мы
сможем отказаться от них в любой момент. Мы можем использовать
эти приспособления так, как их и нужно использовать, но при
этом оставить их в покое как то, что на самом деле не имеет
отношения к нашей сущности. Мы можем сказать "да" неизбежному
использованию технических средств и одновременно сказать "нет",
поскольку мы запретим им затребовать нас и таким образом
извращать, сбивать с толку и опустошать нашу сущность.
Но если мы скажем так одновременно "да" и "нет"
техническим приспособлениям, то разве не станет наше отношение
к миру техники двусмысленным и неопределенным? Напротив. Наше
отношение к миру техники будет чудесно простым и спокойным. Мы
впустим технические приспособления в нашу повседневную жизнь и
в то же время оставим их снаружи, т. е. оставим их как вещи,
которые не абсолютны, но зависят от чего-то высшего. Я бы
назвал это отношение одновременно "да" и "нет" миру техники
237
старым словом - "отрешенность от вещей"(8).
Это отношение позволяет увидеть вещи не только технически,
оно даст нам прозреть то, что производство и использование
машин требует от нас другого отношения к вещам, которое не
бес-смысленно.
Например, мы поймем, что земледелие
и
сельское хозяйство
превратились в механизированную пищевую промышленность, что и здесь,
как и в других областях происходит глубочайшее изменение в отношении
человека к природе и к миру перед ним. Но смысл того, что правит этим
изменением, по-прежнему темен.
Итак, во всех технических процессах господствует смысл,
который располагает всеми человеческими поступками и
поведением, и не человек выдумал или создал этот смысл. Мы не
понимаем значения зловещего усиления власти атомной техники.
Смысл мира техники скрыт от нас. Но давайте же специально
обратимся и будем обращены к тому, что этот сокрытый смысл
повсюду нас затрагивает в мире техники, тогда мы окажемся
внутри области, которая и прячется от нас, и, прячась, выходит
к нам. А то, что показывается и в то же время уклоняется разве не это мы называем тайной? Я называю поведение, благодаря
которому мы открываемся для смысла, потаенного в мире техники,
открытостью для тайны(9).
Отрешенность от вещей и открытость для тайны взаимно
принадлежны. Они предоставят нам возможность обитать в мире
совершенно иначе. Они обещают нам новую основу и почву для
коренения, на которой мы сможем стоять и выстоять в мире
техники, уже не опасаясь его.
Отрешенность от вещей и открытость тайне дадут нам увидеть
новую почву, которая однажды, быть может, даже возвернет в ином
обличье старую, сейчас так быстро исчезающую.
Правда, пока (и мы не знаем, как долго это будет
продолжаться) человек на этой земле находится в опасном
положении. Почему? Потому лишь, что внезапно разразится третья
мировая война, которая приведет к полному уничтожению
человечества и разрушению земли? Нет. Наступающий атомный век
грозит нам еще большей опасностью, как раз в том случае, если
опасность третьей мировой войны будет устранена. Странное
утверждение, не так ли? Разумеется, странное, но только до тех
пор, пока мы не мыслим.
В каком смысле верно это утверждение? А в том, что
подкатывающая техническая революция атомного века сможет
захватить, околдовать, ослепить и обмануть человека так, что
238
однажды вычисляющее мышление останется единственным
действительным и практикуемым способом мышления.
Тогда какая же великая опасность надвигается тогда на нас?
Равнодушие к размышлению и полная бездумность, полная
бездумность, которая может идти рука об руку с величайшим
хитроумием вычисляющего планирования и изобретательства. А что
же тогда? Тогда человек отречется и отбросит свою глубочайшую
сущность, именно то, что он есть размышляющее существо. Итак,
дело в том, чтобы спасти эту сущность человека. Итак, дело в
том, чтобы поддерживать размышление.
Однако отрешенность от вещей и открытость для тайны
никогда не придут к нам сами по себе. Они не выпадут на нашу
долю случайно. Они уродятся лишь из неустанного и решительного
мышления.
Возможно, сегодняшнее памятное собрание подвигнет нас на
это мышление. И если мы откликнемся на этот призыв, то мы будем
думать о Конрадине Крейцере, размышляя об истоках его
творчества, о его корнях, которые питала силами его родина. И
это именно мы мыслим, когда мы осознаем себя здесь и сейчас
людьми, призванными найти и подготовить путь в атомный век,
через него и из него.
Если отрешенность от вещей и открытость для тайны
пробудятся в нас, то мы выйдем в путь, который ведет нас к
новой почве для коренения и стояния. На этой почве творчество
может пустить новые корни и принести плоды на века.
Так в другой век и несколько по-другому сбываются вновь
слова Иогана Петера Гебела:
"Мы растения, которые - хотим ли мы осознать это или нет
- должны корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире
и приносить плоды".
Примечания
1 Эта речь была произнесена на праздновании 175-й
годовщины со дня рождения композитора Конрадина Крейцера 30
октября 1955 г. в Мескирхе, опубликована в 1959 году совместно
с диалогом между ученым, филологом и учителем "К вопросу об
отрешенности" (Из разговора на проселочной дороге) ("Zur
Erorterung der Gelassenheit" (Aus einern Feidgesprach uber das
Denken) указ. издание. S. 31-73). Подробная запись этого
разговора была сделана еще в 1944-1945 гг., потом он был
239
значительно сокращен. В разговоре проблематика, изложенная в
речи памяти К. Крейцера, доступно, но декларативно, без
уточнения свойств осмысляющего мышления, прорабатывается более
детально и глубоко.
2 Конрадин Крейцер (1780 - 1849) - плодовитый
композитор, родился в Мескирхе, родном городе М. Хайдеггера,
некоторые его хоры и оперы и сейчас хорошо известны в ФРГ.
3 Gedenkfeier - торжество в память кого-либо, образовано
от глагола gedenken - помнить, вспоминать кого-либо, который
также имеет значение - думать, отсюда - требование М.
Хайдеггера думать на торжестве в память К. Крейцера.
4 das besinniiche Nachdenken - "думание вслед за чем-то
(после чего-то)".
5 das denkende d. h. sinnende Wesen.
6 boden-standig - коренной, местный, оседлый (дословный
перевод - "стоящий на почве").
7 die Bodenstandigkeit - оседлость, существительное,
образованное от bodenstandig.
8 die Gelassenheit zu den Dingen - неологизм M.
Хайдеггера. Современное значение Gelassenheit - спокойствие,
хладнокровие, невозмутимость (образовано от глагола lassen
оставлять, давать возможность, позволять, разрешать кому-либо
делать что-то), в средневековой немецкой мистике оно
использовалось в смысле "оставить мир в покое, таким, какой он
есть, не мешать естественному течению вещей и предаться богу"
(так использовал это слово Мейстер Экхарт (1260 - 1228).
Другие варианты перевода: освобожденность, освобождение,
свобода от вещей (техники).
9 Die Offenheit fur das Geheimnis.
Камю А. Абсурдное рассуждение
Душа, не стремись к вечной жизни,
Но постарайся исчерпать то, что возможно.
240
Пиндар. Пифийские песни (III, 62-63)
На нижеследующих страницах речь пойдет о чувстве абсурда,
обнаруживаемом в наш век повсюду,- о чувстве, а не о философии абсурда,
собственно говоря, нашему времени неизвестной. Элементарная честность
требует с самого начала признать, чем эти страницы обязаны некоторым
современным мыслителям. Нет смысла скрывать, что я буду их цитировать и
обсуждать на протяжении всей этой работы.
Стоит в то же время отметить, что абсурд, который до сих пор принимали за
вывод, берется здесь в качестве исходного пункта. В этом смысле мои
размышления предварительны: нельзя сказать, к какой позиции они
приведут. Здесь вы найдете только чистое описание болезни духа, к которому
пока не примешаны ни метафизика, ни вера. Таковы пределы книги, такова
ее единственная предвзятость.
Абсурд и самоубийство
Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема - проблема
самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить,значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или
двенадцатью категориями второстепенно. Таковы условия игры: прежде
всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что
заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и
значимость ответа - за ним последуют определенные действия. Эту
очевидность чует сердце, но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать
ясной для ума.
Как определить большую неотложность одного вопроса в сравнении с
другим? Судить должно по действиям, которые следуют за решением. Я
никогда не видел, чтобы кто-нибудь умирал за онтологический аргумент.
Галилей отдавал должное научной истине, но с необычайной легкостью от
нее отрекся, как только она стала опасной для его жизни. В каком-то смысле
он был прав. Такая истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг
Солнца, Солнце ли вокруг Земли - не все ли равно? Словом, вопрос это
пустой. И в то же время я вижу, как умирает множество людей, ибо, по их
мнению, жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, как
ни странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий, служащих
основанием их жизни (то, что называется причиной жизни, оказывается
одновременно и превосходной причиной смерти). Поэтому вопрос о смысле
жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов. Как на него ответить?
По-видимому, имеются всего два метода осмысления всех существенных
проблем - а таковыми я считаю лишь те, которые грозят смертью или
удесятеряют страстное желание жить,- это методы Ла Палисса и Дон Кихота.
Только в том случае, когда очевидность и восторг уравновешивают друг
241
друга, мы получаем доступ и к эмоциям, и к ясности. При рассмотрении
столь скромного и в то же время столь заряженного патетикой предмета
классическая диалектическая ученость должна уступить место более
непритязательной установке ума, опирающейся как на здравый смысл, так и
на симпатию.
Самоубийство всегда рассматривалось исключительно в качестве
социального феномена. Мы же, напротив, с самого начала ставим вопрос о
связи самоубийства с мышлением индивида. Самоубийство подготавливается
в безмолвии сердца, подобно Великому Деянию алхимиков. Сам человек
ничего о нем не знает, но в один прекрасный день стреляется или топится. Об
одном самоубийце-домоправителе мне говорили, что он сильно изменился,
потеряв пять лет назад дочь, что эта история его " подточила" . Трудно найти
более точное слово. Стоит мышлению начаться, и оно уже подтачивает.
Поначалу роль общества здесь не велика. Червь сидит в сердце человека, там
его и нужно искать. Необходимо понять ту смертельную игру, которая ведет
от ясности в отношении собственного существования к бегству с этого света.
Причин для самоубийства много, и самые очевидные из них, как правило, не
самые действенные. Самоубийство редко бывает результатом рефлексии
(такая гипотеза, впрочем, не исключается). Развязка наступает почти всегда
безотчетно. Газеты сообщают об " интимных горестях" или о " неизлечимой
болезни" . Такие объяснения вполне приемлемы. Но стоило бы выяснить, не
был ли в тот день равнодушен друг отчаявшегося - тогда виновен именно он.
Ибо и этой малости могло быть достаточно, чтобы горечь и скука,
скопившиеся в сердце самоубийцы, вырвались наружу.
Воспользуемся случаем, чтобы отметить относительность рассуждений, про
водимых и этом эссе: самоубийство может быть связано с куда более
уважительными причинами. Примером могут служить политические
самоубийства, которые совершались " из протеста" во время китайской
революции.
Но если трудно с точностью зафиксировать мгновение, неуловимое
движение, при котором избирается смертный жребий, то намного легче
сделать выводы из самого деяния. В известном смысле, совсем как в
мелодраме, самоубийство равносильно признанию. Покончить с собой
значит признаться, что жизнь кончена, что она сделалась непонятной. Не
будем, однако, проводить далеких аналогии, вернемся к обыденному языку.
Признается попросту, что "жить не стоит". Естественно, жить всегда нелегко.
Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия но самым разным
причинам, прежде всего и силу привычки. Добровольная смерть
предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой привычки,
осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни,
понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания.
242
Каково же это смутное чувство, лишающее ум необходимых для жизни грез?
Мир, который поддается объяснению, пусть самому дурному, - этот мир нам
знаком. По если вселенная внезапно лишается как иллюзий, так и познаний,
человек становится в ней посторонним. Человек изгнан навек, ибо лишен и
памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную.
Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком
и его жизнью, актером и декорациями. Все когда-либо помышлявшие о
самоубийстве люди сразу признают наличие прямой связи между этим
чувством и тягой к небытию.
Предметом моего эссе является как раз эта связь между абсурдом и
самоубийством, выяснение того, в какой мере самоубийство есть исход
абсурда. В принципе для человека, который не жульничает с самим собой,
действия регулируются тем, что он считает истинным. В таком случае вера в
абсурдность существования должна быть руководством к действию.
Правомерен вопрос, поставленный ясно и без ложного пафоса: не следует ли
за подобным заключением быстрейший выход из этого смутного состояния?
Разумеется, речь идет о людях, способных жить в согласии с собой.
В такой ясной постановке проблема кажется простой и вместе с тем
неразрешимой. Ошибочно было бы полагать, будто простые вопросы
вызывают столь же простые ответы, а одна очевидность с легкостью влечет
за собой другую. Если подойти к проблеме с другой стороны, независимо от
того, совершают люди самоубийство или нет, кажется априорно ясным, что
может быть всего лишь два философских решения: "да" и "нет". Но это
слишком уж просто. Есть еще и те, кто непрестанно вопрошает, не приходя к
однозначному решению. Я далек от иронии: речь идет о большинстве.
Понятно также, что многие, отвечающие "нет", действуют так, словно
сказали "да". Если принять ницшеанский критерий, они так или иначе
говорят "да". И наоборот, самоубийцы часто уверены в том, что жизнь имеет
смысл. Мы постоянно сталкиваемся с подобными противоречиями. Можно
даже сказать, что противоречия особенно остры как раз в тот момент, когда
столь желанна логика. Часто сравнивают философские теории с поведением
тех, кто их исповедует. Посреди мыслителей, отказывавших жизни в смысле,
никто, кроме рожденного литературой Кириллова, возникшего из легенды
Перегрина (1) и проверявшего гипотезу Жюля Лекье, не находился в таком
согласии с собственной логикой, чтобы отказаться и от самой жизни. Шутя,
часто ссылаются на Шопенгауэра, прославлявшего самоубийство за пышной
трапезой. Но здесь не до шуток. Не так уж важно, что трагедия не
принимается всерьез; подобная несерьезность в конце концов выносит
приговор самому человеку.
Итак, стоит ли полагать, столкнувшись с этими противоречиями и этой
темнотой, будто нет никакой связи между возможным мнением о жизни и
деянием, совершаемым, чтобы ее покинуть? Не будем преувеличивать. В
243
привязанности человека к миру есть нечто более сильное, чем все беды мира.
Тело принимает участие в решении ничуть не меньше ума, и оно отступает
перед небытием. Мы привыкаем жить задолго до того, как привыкаем
мыслить. Тело сохраняет это опережение в беге дней, понемногу
приближающем наш смертный час. Наконец, суть противоречия заключается
в том, что я назвал бы "уклонением", которое одновременно и больше, и
меньше "развлечения" Паскаля . Уклонение от смерти - третья тема моего
эссе -- это надежда. Надежда на жизнь иную, которую требуется "заслужить",
либо уловки тех, кто живет не для самой жизни, а ради какой-нибудь великой
идеи, превосходящей и возвышающей жизнь, наделяющей ее смыслом и
предающей ее.
Все здесь путает нам карты. Исподволь утверждалось, будто взгляд на жизнь
как на бессмыслицу равен утверждению, что она не стоит того, чтобы ее
прожить. На деле между этими суждениями нет никакой необходимой связи.
Просто должно не поддаваться замешательству, разладу и
непоследовательности, а прямо идти к подлинным проблемам. Самоубийство
совершают потому, что жить не стоит,-- конечно, это истина, но истина
бесплодная, трюизм. Разве это проклятие существования, это изобличение
жизни во лжи суть следствия того, что у жизни нет смысла? Разве
абсурдность жизни требует того, чтобы от нее бежали - к надежде или к
самоубийству? Вот что нам необходимо выяснить, проследить, понять,
отбросив все остальное. Ведет ли абсурд к смерти? Эта проблема первая
среди всех других, будь то методы мышления или бесстрастные игрища духа.
Нюансы, противоречия, всеобъясняющая психология, умело привнесенная
"духом объективности",-все это не имеет ничего общего с этим страстным
исканием. Ему потребно неправильное, то есть логичное, мышление. Это
нелегко дается. Всегда просто быть логичным, но почти невозможно быть
логичным до самого конца. Столь же логичным, как самоубийцы, идущие до
конца по пути своего чувства. Размышление по поводу самоубийства
позволяет мне поставить единственную проблему, которая меня интересует:
существует ли логика, приемлемая вплоть до самой смерти? Узнать это я
смогу только с помощью рассуждения, свободного от хаоса страстен и
исполненного светом очевидности. Так намечается начало рассуждения,
которое я называю абсурдным. Многие начинали его, но я пока не знаю, шли
ли они до конца.
Когда Карл Ясперс , показав невозможность мысленно конституировать
единство мира, восклицает: "Этот предел ведет меня к самому себе, гуда. где
я уже не прячусь за объективной точкой зрения, сводящейся к совокупности
моих представлений; туда, где ни я сам, ни экзистенция другого не могут
стать для меня объектами", он вслед за многими другими напоминает о тех
безводных пустынях, где мышление приближается к своим границам.
Конечно, он говорит вслед за другими, но сколь поспешно стремится
244
покинуть эти пределы! К этому последнему повороту, колеблющему
основания мышления, приходят многие люди, в том числе и самые
незаметные. Они отрекаются от всего, что им дорого, что было их жизнью.
Другие, аристократы духа, тоже отрекаются, но идут к самоубийству
мышления, откровенно бунтуя против мысли. Усилий требует как раз
противоположное: сохранять, насколько возможно, ясность мысли, пытаться
рассмотреть вблизи образовавшиеся на окраинах мышления причудливые
формы. Упорство и проницательность -- таковы привилегированные зрители
этой абсурдной и бесчеловечной драмы, где репликами обмениваются
надежда и смерть. Ум может теперь приступить к анализу фигур этого
элементарного и вместе изощренного танца, прежде чем оживить их своей
собственной жизнью.
Абсурдные стены
Подобно великим произведениям искусства, глубокие чувства значат всегда
больше того, что вкладывает и них сознание. В привычных действиях и
мыслях обнаруживаются неизменные симпатии или антипатии души, они
прослеживаются в выводах, о которых сама душа ничего не знает. Большие
чувства таят в себе целую вселенную, которая может быть величественной
или жалкой; они высвечивают некий мир, наделенный своей собственной
аффективной атмосферой. Есть целые вселенные ревности, честолюбия,
эгоизма или щедрости. Вселенная предполагает наличие метафизической
системы или установки сознания. То, что верно в отношении отдельных
чувств, тем более верно для лежащих в их основании эмоций. Они
неопределенны и смутны, но в то же время "достоверны"; столь же
отдаленны, сколь и "наличии" - подобно эмоциям, дающим нам переживание
прекрасного или пробуждающим чувство абсурда.
Чувство абсурдности поджидает нас на каждом углу. Это чувство неуловимо
в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей атмосферы. Заслуживает
внимания сама эта неуловимость. Судя по всему, другой человек всегда
остается для пас непознанным, в нем всегда есть нечто не сводимое к нашему
познанию, ускользающее от него. Но практически я знаю людей и признаю
их таковыми по поведению, совокупности их действии, по тем следствиям,
которые порождаются в жизни их поступками. Все недоступные анализу
иррациональные чувства также могут практически определяться,
практически оцениваться, объединяться но своим последствиям в порядке
умопостижения. Я могу уловить и пометить вес их лики, дать очертания
вселенной каждою чувства Даже в сотый раз увидев одного актера, я не стану
утверждать, будто знаю его лично. И все же, когда я говорю, что знаю его
несколько лучше, увидев в сотый раз и попытавшись суммировать во им
сыгранное, в моих словах есть доля истины. Это парадокс, а вместе с тем и
притча. Мораль ее в том, что человек определяется разыгрываемыми им
комедиями ничуть не меньше, чем искренними порывами души. Речь идет о
245
чувствах, которые нам недоступны во всей своей глубине; но они частично
отражаются в поступках, в установках сознания, необходимых для того или
иного чувства. Попятно, что тем самым я задаю метод. Но это - метод
анализа, а не познания. Метод познания предполагает метафизическую
доктрину, которая заранее определяет выводы, вопреки всем заверениям в
беспредносылочности метода. С первых страниц книги нам известно
содержание последних, причем связь их является неизбежной. Определяемый
здесь метод передает чувство невозможности какого бы то ни было
истинного познания. Он дает возможность перечислить видимости,
прочувствовать душевный климат.
Быть может, нам удастся раскрыть неуловимое чувство абсурдности в
различных, но все же родственных мирах умопостижения, искусства жизни и
искусства как такового. Мы начинаем с атмосферы абсурда. Конечной же
целью является постижение вселенной абсурда и той установки сознания,
которая высвечивает в мире этот неумолимый лик.
Начало всех великих действий и мыслей ничтожно. Великие деяния часто
рождаются на уличном перекрестке или у входа в ресторан. Так и с абсурдом.
Родословная абсурдного мира восходит к нищенскому рождению. Ответ "ни
о чем" на вопрос, о чем мы думаем, в некоторых ситуациях есть притворство.
Это хорошо знакомо влюбленным. Но если ответ искренен, если он передает
то состояние души, когда пустота становится красноречивой, когда рвется
цепь каждодневных действий и сердце впустую ищет утерянное звено, то
здесь как будто проступает первый знак абсурдности.
Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамваи, четыре часа в
конторе или на заводе, обед. трамвай, четыре часа работы, ужин, сон;
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме -вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос
"зачем?". Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки.
"Начинается" вот что важно. Скука является результатом машинальной
жизни, но она же приводит в движение сознание. Скука пробуждает его и
провоцирует дальнейшее: либо бессознательное возвращение в привычную
колею, либо окончательное пробуждение. А за пробуждением рано или
поздно идут следствий: либо самоубийство, либо восстановление хода
жизни. Скука сама по себе омерзительна, но здесь я должен признать, что она
приносит благо. Ибо все начинается с сознания, и ничто помимо него не
имеет значения. Наблюдение не слишком оригинальное, но речь как раз и
идет о самоочевидном. Этого пока что достаточно для беглого обзора
истоков абсурда. В самом начале лежит просто "забота" .
Изо дня в день нас несет время безотрадной жизни, но наступает момент,
когда приходится взваливать ее груз на собственные плечи. Мы живем
будущим: "завтра", "позже", "когда у тебя будет положение", "с возрастом ты
поймешь". Восхитительна эта непоследовательность - ведь в конце концов
246
наступает смерть. Приходит день, и человек замечает, что ему тридцать лет.
Тем самым он заявляет о своей молодости. Но одновременно он соотносит
себя со временем, занимает в нем место, признает, что находится в
определенной точке графика. Он принадлежит времени и с ужасом осознает,
что время - его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает,
что от него следовало бы отречься. Этот бунт плоти и есть абсурд (2).
Стоит спуститься на одну ступень ниже - и мы попадаем в чуждый нам мир.
Мы замечаем его "плотность", видим, насколько чуждым в своей
независимости от нас является камень, с какой интенсивностью нас отрицает
природа, самый обыкновенный пейзаж. Основанием любой красоты является
нечто нечеловеческое. Стоит понять это, и окрестные холмы, мирное небо,
кроны деревьев тут же теряют иллюзорный смысл, который мы им
придавали. Отныне они будут удаляться, превращаясь в некое подобие
потерянного рая. Сквозь тысячелетия восходит к нам первобытная
враждебность мира. Он становится непостижимым, поскольку на
протяжении веков мы понимали в нем лишь те фигуры и образы. которые
сами же в него и вкладывали, а теперь у нас больше нет сил на эти
ухищрения. Становясь самим собой, мир ускользает от нас. Расцвеченные
привычкой, декорации становятся тем, чем они были всегда. Они удаляются
от нас. Подобно тому как за обычным женским лицом мы неожиданно
открываем незнакомку, которую любили месяцы и годы, возможно, настанет
пора, когда мы станем стремиться к тому, что неожиданно делает нас столь
одинокими. Но время еще не пришло, и пока что у нас есть только эта
плотность и эта чуждость мира - этот абсурд.
Люди также являются источником нечеловеческого. В немногие часы
ясности ума механические действия людей, их лишенная смысла пантомима
явственны во всей своей тупости. Человек говорит но телефону за
стеклянной перегородкой; его не слышно, но видна бессмысленная мимика.
Возникает вопрос: зачем же он живет? Отвращение, вызванное
бесчеловечностью самого человека, пропасть, в которую мы низвергаемся,
взглянув на самих себя, эта "тошнота", как говорит один современный автор ,
- это тоже абсурд. Точно так же нас тревожит знакомый незнакомец,
отразившийся на мгновение в зеркале или обнаруженный на нашей
собственной фотографии,- это тоже абсурд...
Наконец, я подхожу к смерти и тем чувствам, которые возникают у нас по ее
поводу. О смерти все уже сказано, и приличия требуют сохранять здесь
патетический тон. Но что удивительно: все живут так, словно "ничего не
знают". Дело в том, что у нас нет опыта смерти. Испытанным, в полном
смысле слова, является лишь то, что пережито, осознано. У нас есть опыт
смерти других, но это всего лишь суррогат, он поверхностен и не слишком
нас убеждает. Меланхолические условности неубедительны. Ужасает
математика происходящего. Время страшит нас своей доказательностью,
247
неумолимостью своих расчетов. На все прекрасные рассуждения о душе мы
получали от него убедительные доказательства противоположного. В
неподвижном теле, которое не отзывается даже на пощечину, души нет.
Элементарность и определенность происходящего составляют содержание
абсурдного чувства. В мертвенном свете рока становится очевидной
бесполезность любых усилий. Перед лицом кровавой математики, задающей
условия нашего существования, никакая мораль, никакие старания не
оправданы a priori.
Обо всем этом уже не раз говорилось. Я ограничусь самой простой
классификацией и укажу лишь на темы, которые само собой разумеются.
Они проходят сквозь всю литературу и философию, наполняют
повседневные разговоры. Нет нужды изобретать что-либо заново. Но
необходимо удостовериться в их очевидности, чтобы суметь поставить
основополагающий вопрос. Повторю еще раз, меня интересуют не столько
проявления абсурда, сколько следствия. Если мы удостоверились в фактах,
то какими должны быть следствия, куда нам идти? Добровольно умереть пли
же, несмотря ни на что, надеяться? Но прежде всего необходимо хотя бы
вкратце рассмотреть, как осмыслялась эта ситуация в прошлом.
Первое дело разума - отличать истинное от ложного. Однако стоит
мышлению заняться рефлексией, как сразу же обнаруживается противоречие.
Здесь не помогут никакие убеждения. В ясности и элегантности
доказательств никто на протяжении стольких веков не превзошел
Аристотеля: "В итоге со всеми подобными взглядами необходимо
происходит то, что всем известно, - они сами себя опровергают.
Действительно, тот, кто утверждает, что все истинно, делает истинным и
утверждение, противоположное его собственному, и тем самым делает свое
утверждение неистинным (ибо противоположное утверждение отрицает его
истинность); а тот, кто утверждает, что все ложно, делает и это свое
утверждение ложным. Если же они будут делать исключение - в первом
случае для противоположного утверждения, заявляя, что только оно одно не
истинно, а во втором - для собственного утверждения, заявляя, что только
оно одно не ложно,- то приходится предполагать бесчисленное множество
истинных и ложных утверждений, ибо утверждение о том, что истинное
утверждение истинно, само истинно, и это может быть продолжено до
бесконечности" .
Этот порочный круг является лишь первым в том ряду, который приводит
погрузившийся в самого себя разум к головокружительному водовороту.
Сама простота этих парадоксов делает их неизбежными. Каким бы
словесным играм и логической акробатике мы ни предавались, понять значит прежде всего унифицировать. Даже в своих наиболее развитых
формах разум соединяется с бессознательным чувством, желанием ясности.
Чтобы понять мир, человек должен свести его к человеческому, наложить на
248
него свою печать. Вселенная кошки отличается от вселенной муравья.
Трюизм "всякая мысль антропоморфна" не имеет иного смысла. В
стремлении понять реальность разум удовлетворен лишь в том случае, когда
ему удается свести ее к мышлению. Если бы человек мог признать, что и
вселенная способна любить его и страдать, он бы смирился. Если бы
мышление открыло в изменчивых контурах феноменов вечные отношения, к
которым сводились бы сами феномены, а сами отношения резюмировались
каким-то единственным принципом, то разум был бы счастлив. В сравнении
с таким счастьем миф о блаженстве показался бы жалкой подделкой.
Ностальгия по Единому, стремление к Абсолюту выражают сущность
человеческой драмы. Но из фактического присутствия этой ностальгии еще
не следует, что жажда будет утолена. Стоит нам перебраться через пропасть,
отделяющую желание от цели и утверждать вместе с Парменидом реальность
Единого (каким бы оно ни было), как мы впадаем в нелепые противоречия.
Разум утверждает всеединство, но этим утверждением доказывает
существование различия и многообразия, которые пытался преодолеть. Так
возникает второй порочный круг. Его вполне достаточно для того, чтобы
погасить наши надежды.
Речь снова идет об очевидных вещах. Повторю еще раз, что они интересуют
меня не сами по себе, а с точки зрения тех последствий, которые из них
выводятся. Мне известна и другая очевидность: человек смертей. Но можно
пересчитать по пальцам тех мыслителей, которые сделали из этого все
выводы. Точкой отсчета данного эссе можно считать этот разрыв между
нашим воображаемым знанием и знанием реальным, между практическим
согласием и стимулируемым незнанием, из-за которого мы спокойно
уживаемся с идеями, которые перевернули бы всю нашу жизнь, если бы мы
их пережили во всей их истинности. В безысходной противоречивости
разума мы улавливаем раскол, отделяющий нас от собственных наших
творении. Пока разум молчит, погрузившие, в недвижный мир надежд, вес
отражается и упорядочивается в единстве его ностальгии. Но при первом же
движении этот мир лает трещину и распадается: познание остается перед
бесконечным множеством блестящих осколков. Можно прийти в отчаяние,
пытаясь собрать их заново, восстанавливая первоначальное единство,
приносившее покои нашим сердцам. Столько веков исследований, столько
самоотречения мыслителей, а в итоге все наше познание оказывается
тщетным. Кроме профессиональных рационалистов, все знают сегодня о том,
что истинное познание безнадежно утрачено. Единственной осмысленной
историей человеческого мышления является история следовавших друг за
другом покаяний и признаний в собственном бессилии.
Действительно, о чем, по какому поводу я мог бы сказать: "Я это знаю!" О
моем сердце - ведь я ощущаю его биение и утверждаю, что оно существует.
Об этом мире - ведь я могу к нему прикоснуться и опять-таки полагать его
249
существующим. На этом заканчивается вся моя наука, все остальное мыслительные конструкции. Стоит мне попытаться уловить это "Я",
существование которого для меня несомненно, определить его и
резюмировать, как оно ускользает, подобно воде между пальцами. Я могу
обрисовать один за другим образы, в которых оно выступает, прибавить те,
что даны извне: образование, происхождение, пылкость или молчаливость,
величие или низость и т. д. Но образы эти не складываются в единое целое.
Вне всех определении всегда остается само сердце. Ничем не заполнить рва
между достоверностью моего существования и содержанием, которое я
пытаюсь ей придать. Я навсегда отчужден от самого себя. В психологии, как
и в логике, имеются многочисленные истины, но нет Истины. "Познай
самого себя" Сократа ничем не лучше "будь добродетелен" наших
проповедников: в обоих случаях обнаруживаются лишь наши тоска и
неведение. Это - - бесплодные игры с великими предметами, оправданные
ровно настолько, насколько приблизительны наши о них представления.
Шероховатость деревьев, вкус воды - все это тоже мне знакомо. Запах травы
и звезды, иные ночи и вечера, от которых замирает сердце,- могу ли я
отрицать этот мир, всемогущество коего я постоянно ощущаю? Но всем
земным наукам не убедить меня в том, что это - мой мир. Вы можете дать его
детальное описание, можете научить меня его классифицировать. Вы
перечисляете его законы, и в жажде знания я соглашаюсь, что все они
истинны. Вы разбираете механизм мира - и мои надежды крепнут. Наконец,
вы учите меня, как свести всю эту чудесную и многокрасочную вселенную к
атому, а затем и к электрону. Все это прекрасно, я весь в ожидании. Но вы
толкуете о невидимой планетной системе, где электроны вращаются вокруг
ядра, вы хотите объяснить мир с помощью одного-единственного образа. Я
готов признать, что это - недоступная для моего ума поэзия. Но стоит ли
негодовать по поводу собственной глупости? Ведь вы уже успели заменить
одну теорию на другую. Так наука, которая должна была наделить меня
всезнанием, оборачивается гипотезой, ясность затемняется метафорами,
недостоверность разрешается произведением искусства. К чему тогда мои
старания? Мягкие линии холмов, вечерний покой научат меня куда
большему. Итак я возвращаюсь к самому началу, понимая, что с помощью
науки можно улавливать и перечислять феномены, нисколько не
приближаясь тем самым к пониманию мира. Мое знание мира не умножится,
даже если мне удастся прощупать все его потаенные извилины. А вы
предлагаете выбор между описанием, которое достоверно, но ничему не
учит, и гипотезой, которая претендует на всезнание, однако недостоверна.
Отчужденный от самого себя и от мира, вооруженный на любой случай
мышлением, которое отрицает себя в самый миг собственного утверждения,что же это за удел, если я могу примириться с ним, лишь отказавшись от
знания и жизни, если мое желание всегда наталкивается на непреодолимую
250
стену? Желать - значит вызывать к жизни парадоксы. Все устроено так,
чтобы рождалось это отравленное умиротворение, дающее нам беспечность,
сон сердца или отречение смерти.
По-своему интеллект также говорит мне об абсурдности мира. Его оппонент,
каковым является слепой разум, может сколько угодно претендовать на
полную ясность - я жду доказательств и был бы рад получить их. Но,
несмотря на вековечные претензии, несмотря на такое множество людей,
красноречивых и готовых убедить меня в чем угодно, я знаю, что все
доказательства ложны. Для меня нет счастья, если я о нем не знаю. Этот
универсальный разум, практический или моральный, этот детерминизм, эти
всеобъясняющие категории - тут есть над чем посмеяться честному человеку.
Все это не имеет ничего общего с умом, отрицает его глубочайшую суть,
состоящую в том, что он порабощен миром. Судьба человека отныне
обретает смысл в этой непостижимой и ограниченной вселенной. Над ним
возвышается, его окружает иррациональное - и так до конца его дней. Но
когда к нему возвращается ясность видения, чувство абсурда высвечивается
и уточняется.
Я говорил, что мир абсурден, но это сказано чересчур поспешно. Сам по себе
мир просто неразумен, и это все, что о нем можно сказать. Абсурдно
столкновение между иррациональностью и исступленным желанием ясности,
зов которого отдается в самых глубинах человеческой души. Абсурд равно
зависит и от человека, и от мира. Пока он - единственная связь между ними.
Абсурд скрепляет их так прочно, как умеет приковывать одно живое
существо к другому только ненависть. Это все, что я могу различить в той
безмерной вселенной, где мне выпал жребий жить. Остановимся на этом
подробнее. Если верно, что мои отношения с жизнью регулируются
абсурдом, если я проникаюсь этим чувством, когда взираю на мировой
спектакль, если я утверждаюсь в мысли, возлагающей на меня обязанность
искать знание, то я должен пожертвовать всем, кроме достоверности. И
чтобы удержать ее, я должен все время иметь ее перед глазами. Прежде всего
я должен подчинить достоверности свое поведение и следовать ей во всем. Я
говорю здесь о честности. Но прежде я хотел бы знать: может ли мысль жить
в этой пустыне?
Мне уже известно, что мысль иногда навещала эту пустыню. Там она нашла
хлеб свой, признав, что ранее питалась призраками. Так возник повод для
нескольких насущных тем человеческой рефлексии.
Абсурдность становится болезненной страстью с того момента, как
осознается. Но можно ли жить такими страстями, можно ли принять
основополагающий закон, гласящий, что сердце сгорает в тот самый миг, как
эти страсти пробуждаются в нем? Мы не ставим пока этого вопроса, хотя он
занимает в нашем эссе центральное место. Мы еще вернемся к нему.
251
Познакомимся сначала с темами и порывами, родившимися в пустыне.
Достаточно их перечислить, сегодня они хорошо известны. Всегда имелись
защитники прав иррационального. Традиция так называемого "униженного
мышления" никогда не прерывалась. Критика рационализма проводилась
столько раз, что к ней, кажется, уже нечего добавить. Однако наша эпоха
свидетельствует о возрождении парадоксальных систем, вся
изобретательность которых направлена на то, чтобы расставить разуму
ловушки. Тем самым как бы признается первенство разума. Но это не
столько доказательство эффективности разума, сколько свидетельство
жизненности его надежд. В историческом плане постоянство этих двух
установок показывает, что человек разрывается двумя стремлениями: с одной
стороны, он стремится к единству, а с другой - ясно видит те стены, за
которые не способен выйти.
Атаки на разум, пожалуй, никогда не были столь яростными, как в настоящее
время. После великого крика Заратустры: "Случай это старейшая знать мира,
которую возвратил я всем вещам... когда учил, что ни над ними, ни через них
никакая вечная воля - не хочет" , после болезни и смерти Кьеркегора, "той
болезни, у которой последнее есть смерть и смерть в которой есть последнее"
, последовали другие, знаменательные и мучительные, темы абсурдной
мысли. Или, по крайней мере,- этот нюанс немаловажен - темы
иррациональной и религиозной мысли. От Ясперса к Хайдеггеру, от
Кьеркегора к Шестову , от феноменологов к Шелеру , в логическом и в
моральном плане целое семейство родственных в своей ностальгии умов,
противостоящих друг другу по целям и методам, яростно преграждает
царственный путь разума и пытается отыскать некий подлинный путь
истины. Я исхожу здесь из того, что основные мысли этого круга известны и
пережиты. Какими бы ни были (или не могли бы быть) их притязания, все
они отталкивались от неизреченной вселенной, где царствуют противоречие,
антиномия, тревога или бессилие. Общими для них являются и
вышеперечисленные темы. Стоит отметить, что и для них важны прежде
всего следствия из открытых ими истин. Это настолько важно, что
заслуживает особого внимания.
Но пока что речь пойдет только об их открытиях и первоначальном опыте.
Мы рассмотрим только те положения, по которым они полностью друг с
другом согласны. Было бы самонадеянно разбирать их философские учения,
но вполне возможно, да и достаточно, дать почувствовать общую для них
атмосферу.
Хайдеггер хладнокровно рассматривает удел человеческий и объявляет, что
существование ничтожно. Единственной реальностью на всех ступенях
сущего становится "забота". Для потерявшегося в мире и его развлечениях
человека забота выступает как краткий миг страха. Но стоит этому страху
дойти до самосознания, как он становится тревогой, той постоянной
252
атмосферой ясно мыслящего человека, "в которой обнаруживает себя
экзистенция". Этот профессор философии пишет без всяких колебаний и
наиабстрактнейшим в мире языком: "Конечный и ограниченный характер
человеческой экзистенции первичнее самого человека". Он проявляет
интерес к Канту, но лишь с тем, чтобы показать ограниченность "чистого
разума". Вывод в терминах хайдеггеровского анализа: "миру больше нечего
предложить пребывающему в тревоге человеку" . Как ему кажется, забота
настолько превосходит в отношении истинности все категории рассудка, что
только о ней он и помышляет, только о ней ведет речь. Он перечисляет все ее
обличья: скука, когда банальный человек ищет, как бы ему обезличиться и
забыться; ужас, когда ум предается созерцанию смерти. Хайдеггер не
отделяет сознания от абсурда. Сознание смерти является зовом заботы, и
"экзистенция обращена тогда к самой себе в своем собственном зове
посредством сознания". Это голос самой тревоги, заклинающий экзистенцию
"вернуться к самой себе из потерянности в анонимном существовании".
Хайдеггер полагает также, что нужно не спать, а бодрствовать до самого
конца. Он держится этого абсурдного мира, клянет его за бренность и ищет
путь среди развалин.
Ясперс отрекается от любой онтологии: ему хочется, чтобы мы перестали
быть "наивными". Он знает, что выход за пределы смертной игры явлений
нам недоступен. Ему известно, что в конце концов разум терпит поражение,
и он подолгу останавливается на перипетиях истории духа, чтобы
безжалостно разоблачить банкротство любой системы, любой
всеспасительной иллюзии, любой проповеди. В этом опустошенном мире,
где доказана невозможность познания, где единственной реальностью
кажется ничто, а единственно возможной установкой - безысходное
отчаяние. Ясперс занят поисками нити Ариадны, ведущей к божественным
тайнам.
В свою очередь Шестов на всем протяжении своего изумительно
монотонного труда, неотрывно обращенного к одним и тем же истинам, без
конца доказывает, что даже самая замкнутая система, самый универсальный
рационализм всегда спотыкаются об иррациональность человеческого
мышления. От него не ускользают все те иронические очевидности и
ничтожнейшие противоречия, которые обесценивают разум. И в истории
человеческого сердца, и в истории духа его интересует один-единственный,
исключительный предмет. В опыте приговоренного к смерти Достоевского, в
ожесточенных авантюрах ницшеанства, проклятиях Гамлета или горьком
аристократизме Ибсена он выслеживает, высвечивает и возвеличивает бунт
человека против неизбежности. Он отказывает разуму в основаниях, он не
сдвинется с места, пока не окажется посреди блеклой пустыни с
окаменевшими достоверностями.
253
Самый, быть может, привлекательный из всех этих мыслителей Кьеркегор па
протяжении по крайней мере части своего существования не только искал
абсурд, по и жил им. Человек, который восклицает: "Подлинная немота не в
молчании, а в разговоре",- с самого начала утверждается в том, что ни одна
истина не абсолютна и не может сделать существование
удовлетворительным. Дон Жуан от познания, он умножал псевдонимы и
противоречия, писал одновременно "Назидательные речи" и "Дневник
соблазнителя", учебник циничного спиритуализма. Он отвергает утешения,
мораль, любые принципы успокоения. Он выставляет на всеобщее обозрение
терзания и неусыпную боль своего сердца в безнадежной радости распятого,
довольного своим крестом, созидающего себя в ясности ума, отрицании,
комедианстве, своего рода демонизме. Этот лик, нежный и насмешливый
одновременно, эти пируэты, за которыми следует крик из глубины души,таков сам дух абсурда в борьбе с превозмогающей его реальностью.
Авантюра духа, ведущая Кьеркегора к милым его сердцу скандалам, также
начинается в хаосе лишенного декораций опыта, передаваемого им во всей
его первозданной бессвязности.
В совершенно ином плане, а именно с точки зрения метода, со всеми
крайностями такой позиции, Гуссерль и феноменологи восстановили мир в
его многообразии и отвергли трансцендентное могущество разума.
Вселенная духа тем самым неслыханно обогатилась. Лепесток розы, межевой
столб или человеческая рука приобрели такую же значимость, как любовь,
желание или законы тяготения. Теперь мыслить не значит унифицировать,
сводить явления к какому-то великому принципу. Мыслить - значит
научиться заново видеть, стать внимательным; это значит управлять
собственным сознанием, придавать, на манер Пруста , привилегированное
положение каждой идее и каждому образу. Парадоксальным образом все
привилегированно. Любая мысль оправдана предельной осознанностью.
Будучи более позитивным, чем у Кьеркегора и Шестова, гуссерлевский
подход тем не менее с самого начала отрицает классический метод
рационализма, кладет конец несбыточным надеждам, открывает интуиции и
сердцу все поле феноменов, в богатстве которых есть что-то нечеловеческое.
Этот путь, ведущий ко всем наукам и в то же время ни к одной. Иначе
говоря, средство здесь оказывается важнее цели. Речь идет просто о
"познавательной установке", а не об утешении. По крайней мере поначалу.
Как не почувствовать глубокое родство всех этих умов? Как не увидеть, что
их притягивает одно и то же не всем доступное и горькое место, где больше
пет надежды? Я хочу, чтобы мне либо объяснили все, либо ничего не
объясняли. Разум бессилен перед криком сердца. Поиски пробужденного
этим требованием ума ни к чему, кроме противоречий и неразумия, не
приводят. То, что я не в силах понять, неразумно. Мир населен такими
иррациональностями. Я не понимаю уникального смысла мира, а потому он
254
для меня безмерно иррационален. Если бы можно было хоть единожды
сказать: "это ясно", то все было бы спасено. Но эти мыслители с завидным
упорством провозглашают, что нет ничего ясного, повсюду хаос, что человек
способен видеть и познавать лишь окружающие его стены.
Здесь все эти точки зрения сходятся и пересекаются. Дойдя до своих
пределов, ум должен вынести приговор и выбрать последствия. Таковыми
могут быть самоубийство и возражение. Но я предлагаю перевернуть
порядок исследования и начать со злоключений интеллекта, чтобы затем
вернуться к повседневным действиям. Для этого нам нет нужды покидать
пустыню, в которой рождается данный опыт. Мы должны знать, к чему он
ведет. Человек сталкивается с иррациональностью мира. Он чувствует, что
желает счастья и разумности. Абсурд рождается в этом столкновении между
призванием человека и неразумным молчанием мира. Это мы должны все
время удерживать в памяти, не упускать из виду, поскольку с этим связаны
важные для жизни выводы. Иррациональность, человеческая ностальгия и
порожденный их встречей абсурд - вот три персонажа драмы, которую
необходимо проследить от начала до конца со всей логикой, на какую
способна экзистенция.
Философское самоубийство
Чувство абсурда не равнозначно понятию абсурда. Чувство лежит в
основании, это точка опоры. Оно не сводится к понятию, исключая то
краткое мгновение, когда чувство выносит приговор вселенной. Затем
чувство либо умирает, либо сохраняется. Мы объединили все эти темы. Но и
здесь мне интересны не труды, не создавшие их мыслители - критика
потребовала бы другой формы и другого места,- по то общее, что содержится
в их выводах. Возможно, между ними существует бездна различий, но у нас
есть все основания считать, что созданный ими духовный пейзаж одинаков.
Одинаково звучит и тот крик, которым завершаются все эти столь непохожие
друг на друга научные изыскания. У вышеупомянутых мыслителей ощутим
общий духовный климат. Вряд ли будет преувеличением сказать, что это убийственная атмосфера. Жить под этим удушающим небом - значит либо
уйти, либо остаться. Необходимо знать, как уходят и почему остаются. Так
определяется мною проблема самоубийства, и с этим связан мой интерес к
выводам экзистенциальной философии.
Но я хотел бы ненадолго свернуть с прямого пути. До сих пор абсурд
описывался нами извне. Однако мы можем задать вопрос о том, насколько
ясно это понятие, провести анализ его значения, с одной стороны, и его
следствий - с другой.
Если я обвиню невиновного в кошмарном преступлении, если заявлю
добропорядочному человеку, что он вожделеет к собственной сестре, то мне
ответят, что это абсурд. В этом возмущении есть что-то комическое, но для
него имеется и глубокое основание. Добропорядочный человек указывает на
255
антиномию между тем актом, который я ему приписываю, и принципами
всей его жизни. "Это абсурд" означает "это невозможно", а кроме того, "это
противоречиво". Если вооруженный ножом человек атакует группу
автоматчиков, я считаю его действие абсурдным. Но оно является таковым
только из-за диспропорции между намерением и реальностью, из-за
противоречия между реальными силами и поставленной целью. Равным
образом мы расценим как абсурдный приговор, противопоставив ему другой,
хотя бы внешне соответствующий фактам. Доказательство от абсурда также
осуществляется путем сравнения следствий данного рассуждения с
логической реальностью, которую стремятся установить. Во всех случаях, от
самых простых до самых сложных, абсурдность тем больше, чем сильнее
разрыв между терминами сравнения. Есть абсурдные браки, вызовы судьбе,
злопамятства, молчания, абсурдные войны и абсурдные перемирия. В
каждом случае абсурдность порождается сравнением. Поэтому у меня есть
все основания сказать, что чувство абсурдности рождается не из простого
исследования факта или впечатления, но врывается вместе со сравнением
фактического положения дел с какой-то реальностью, сравнением действия с
лежащим за пределами этого действия миром. По существу, абсурд есть
раскол. Его нет ни в одном из сравниваемых элементов. Он рождается в их
столкновении.
Следовательно, с точки зрения интеллекта я могу сказать, что абсурд не в
человеке (если подобная метафора вообще имеет смысл) и не в мире, но в их
совместном присутствии. Пока это единственная связь между ними. Если
держаться очевидного, то я знаю, чего хочет человек, знаю, что ему
предлагает мир, а теперь еще могу сказать, что их объединяет. Нет нужды
вести дальнейшие раскопки. Тому, кто ищет, достаточно однойединственной достоверности. Дело за тем, чтобы вывести из нее все
следствия.
Непосредственное следствие есть одновременно и правило метода.
Появление этой своеобразной триады не представляет собой неожиданного
открытия Америки. Но у нее то общее с данными опыта, что она
одновременно бесконечно проста и бесконечно сложна. Первой в этом
отношении характеристикой является неделимость: уничтожить один из
терминов триады - значит уничтожить всю ее целиком. Помимо
человеческого ума нет абсурда. Следовательно, вместе со смертью исчезает и
абсурд, как и все остальное. Но абсурда нет и вне мира. На основании
данного элементарного критерия я могу считать понятие абсурда
существенно
важным и полагать его в качестве первой истины. Так возникает первое
правило вышеупомянутого метода: если я считаю нечто истинным, я должен
его сохранить. Если я намерен решить какую-то проблему, то мое решение не
256
должно уничтожать одну из ее сторон. Абсурд для меня единственна"
данность. Проблема в том, как выйти из него, а также в том, выводится ли с
необходимостью из абсурда самоубийство. Первым и, по сути дела,
единственным условием моего исследования является сохранение того, что
меня уничтожает, последовательное соблюдение всего того, что я считаю
сущностью абсурда. Я определил бы ее как противостояние и непрерывную
борьбу.
Проводя до конца абсурдную логику, я должен признать, что эта борьба
предполагает полное отсутствие надежды (что не имеет ничего общего с
отчаянием), неизменный отказ (его не нужно путать с отречением) и
осознанную неудовлетворенность (которую не стоит уподоблять
юношескому беспокойству). Все, что уничтожает, скрывает эти требования
или идет вразрез с ними (прежде всего это уничтожающее раскол согласие),
разрушает абсурд и обесценивает предлагаемую установку сознания. Абсурд
имеет смысл, когда с ним не соглашаются.
Очевидным фактом морального порядка является то, что человек - извечная
жертва своих же истин. Раз признав их, он уже не в состоянии от них
отделаться. За все нужно как-то платить. Осознавший абсурд человек отныне
привязан к нему навсегда. Человек без надежды, осознав себя таковым, более
не принадлежит будущему. Это в порядке вещей. Но в равной мере ему
принадлежат и попытки вырваться из той вселенной, творцом которой он
является. Все предшествующее обретает смысл только в свете данного
парадокса. Поучительно посмотреть и на тот способ выведения следствий, к
которому, исходя из критики рационализма, прибегали мыслители,
признавшие атмосферу абсурда.
Если взять философов-экзистенциалистов, то я вижу, что все они предлагают
бегство. Их аргументы довольно своеобразны; обнаружив абсурд среди руин
разума, находясь в замкнутой, ограниченной вселенной человека, они
обожествляют то, что их сокрушает, находя основание для надежд в том, что
лишает всякой надежды. Эта принудительная надежда имеет для них
религиозный смысл. На этом необходимо остановиться.
В качестве примера я проанализирую здесь несколько тем, характерных для
Шестова и Кьеркегора. Ясперс дает нам типичный пример той же установки,
но превращенной в карикатуру. В дальнейшем я это поясню. Мы видели, что
Ясперс бессилен осуществить трансценденцию, не способен прозондировать
глубины опыта,- он осознал, что вселенная потрясена до самых оснований.
Идет ли он дальше, выводит ли по крайней мере все следствия из этого
потрясения основ? Он не говорит ничего нового. В опыте он не нашел
ничего, кроме признания собственного бессилия. В нем отсутствует
малейший предлог для привнесения какого-либо приемлемого первоначала.
И все же, не приводя никаких доводов (о чем он сам говорит), Ясперс разом
утверждает трансцендентное бытие опыта и сверхчеловеческий смысл
257
жизни, когда пишет: "Не показывает ли нам это крушение, что по ту сторону
всякого объяснения и любого возможного истолкования стоит не ничто, но
бытие трансценденции" . Неожиданно, одним слепым актом человеческой
веры, все находит свое объяснение в этом бытии. Оно определяется
Ясперсом как "непостижимое единство общего и частного". Так абсурд
становится богом (в самом широком смысле слова), а неспособность понять
превращается во всеосвещающее бытие. Это рассуждение совершенно
нелогично. Его можно назвать скачком. Как все это ни парадоксально,
вполне можно понять, почему столь настойчиво, с таким беспредельным
терпением Ясперс делает опыт трансцендентного неосуществимым. Ибо чем
дальше он от этого опыта, чем более опустошен, тем реальнее
трансцендетное, поскольку та страстность, с какой оно утверждается, прямо
пропорциональна пропасти, которая разверзается между его способностью
объяснять и иррациональностью мира. Кажется даже, что Ясперс тем
яростнее обрушивается на предрассудки разума, чем радикальнее разум
объясняет мир. Этот апостол униженной мысли ищет средства возрождения
всей полноты бытия в самом крайнем самоуничижении.
Такого рода приемы знакомы нам из мистики. Они не менее законны, чем
любые другие установки сознания. Но сейчас я поступаю так, словно принял
некую проблему всерьез. У меня нет предрассудков по поводу значимости
данной установки или ее поучительности. Мне хотелось бы только
проверить, насколько она отвечает поставленным мною условиям, достойна
ли она интересующего меня конфликта. Поэтому я возвращаюсь к Шестову.
Один комментатор передает заслуживающее внимания высказывание этого
мыслителя: "Единственный выход там, где для человеческого ума нет
выхода. Иначе к чему нам Бог? К Богу обращаются за невозможным. Для
возможного и людей достаточно". Если у Шестова есть философия, то она
резюмируется этими словами. Потому что, обнаружив под конец своих
страстных исканий фундаментальную абсурдность всякого существования,
он не говорит:
"Вот абсурд", но заявляет: "Вот Бог, к нему следует обратиться, даже если он
не соответствует ни одной из наших категорий". Во избежание недомолвок
русский философ даже добавляет, что этот Бог может быть злобным и
ненавистным, непостижимым и противоречивым. Но чем безобразнее его
лик, тем сильнее его всемогущество. Величие Бога в его
непоследовательности. Его бесчеловечность оказывается доказательством
его существования. Необходимо броситься в Бога, и этим скачком избавиться
от рациональных иллюзий. Поэтому для Шестова принятие абсурда и сам
абсурд единовременны. Констатировать абсурд - значит принять его, и вся
логика Шестова направлена на то, чтобы выявить абсурд, освободить дорогу
безмерной надежде, которая из него следует. Еще раз отмечу, что такой
подход правомерен. Но я упрямо обращаюсь здесь лишь к одной проблеме со
258
всеми ее последствиями. В мои задачи не входит исследование патетического
мышления или акта веры. Этому я могу посвятить всю оставшуюся жизнь. Я
знаю, что рационалиста будет раздражать подход Шестова, чувствую также,
что у Шестова свои основания восставать против рационализма. Но я хочу
знать лишь одно: верен ли Шестов заповедям абсурда.
Итак, если признать, что абсурд противоположен надежде, то мы видим, что
для Шестова экзистенциальное мышление хотя и предполагает абсурд, но
демонстрирует его лишь с тем, чтобы тут же его развеять. Вся утонченность
мысли оказывается здесь патетическим фокусничеством. С другой стороны,
когда Шестов противопоставляет абсурд обыденной морали и разуму, он
называет его истиной и искуплением. Фундаментом такого определения
абсурда является, таким образом, выраженное Шестовым одобрение. Если
признать, что все могущество понятия абсурда коренится в его способности
разбивать наши изначальные надежды, если мы чувствуем, что для своего
сохранения абсурд требует несогласия, то ясно, что в данном случае абсурд
потерял свое настоящее лицо, свой по-человечески относительный характер,
чтобы слиться с непостижимой, но в то же время приносящей покой
вечностью. Если абсурд и существует, то лишь во вселенной человека. В тот
миг, когда понятие абсурда становится трамплином в вечность, оно теряет
связь с ясностью человеческого ума. Абсурд перестает быть той
очевидностью, которую человек констатирует, не соглашаясь с нею. Борьба
прекращается. Абсурд интегрирован человеком, и в этом единении утеряна
его сущность: противостояние, разрыв, раскол. Этот скачок является
уверткой. Шестов цитирует Гамлета: The time is out of joint , страстно
надеясь, что слова эти были произнесены специально для него. Но Гамлет
говорил их, а Шекспир писал совсем по другому поводу. Иррациональное
опьянение и экстатическое призвание лишают абсурд ясности видения. Для
Шестова разум - тщета, но есть и нечто сверх разума. Для абсурдного ума
разум тоже тщетен, но нет ничего сверх разума.
Этот скачок, впрочем, позволяет нам лучше понять подлинную природу
абсурда. Нам известно, что абсурд предполагает равновесие, что он в самом
сравнении, а не в одном из терминов сравнения. Перенося всю тяжесть на
один из терминов. Шестов нарушает равновесие. Наше желание понять, наша
ностальгия по абсолюту объяснимы ровно настолько, насколько мы
способны понимать и объяснять все многообразие вещей. Тщетны
абсолютные отрицания разума. У разума свой порядок, в нем он вполне
эффективен. Это порядок человеческого опыта. Вот почему мы хотим полной
ясности. Если мы не в состоянии сделать все ясным, если отсюда рождается
абсурд, то это происходит как раз при встрече эффективного, но
ограниченного разума с постоянно возрождающимся иррациональным.
Негодуя по поводу гегелевских утверждений типа "движение Солнечной
системы совершается согласно неизменным законам, законам разума",
259
яростно ополчаясь на спинозовский рационализм, Шестов делает
правомерный вывод о тщете разума. Отсюда следует естественный, хотя и
неоправданный поворот к утверждению превосходства иррационального (3).
Но переход не очевиден, поскольку к данному случаю применимы понятия
предела и плана. Законы природы значимы в известных пределах, за
которыми они оборачиваются против самих себя и порождают абсурд. В
дескриптивном плане, независимо от оценки их истинности в качестве
объяснений, они также вполне законны. Шестов приносит все это в жертву
иррациональному. Исключение требования ясности ведет к исчезновению
абсурда - вместе с одним из терминов сравнения. Абсурдный человек,
напротив, не прибегает к такого рода уравнениям. Он признает борьбу, не
испытывает ни малейшего презрения к разуму и допускает иррациональное.
Его взгляд охватывает все данные опыта, и он не предрасположен совершать
скачок, не зная заранее его направления. Он знает одно: в его сознании нет
более места надежде.
То, что ощутимо у Льва Шестова, еще в большей мере характерно для
Кьеркегора. Конечно, у такого писателя нелегко найти ясные определения.
Но, несмотря на внешнюю противоречивость его писаний, за псевдонимами,
игрой, насмешкой сквозь все его труды проходит некое предчувствие (а
одновременно и боязнь) той истины, что заканчивается взрывом в последних
его произведениях: Кьеркегор тоже совершает скачок. Христианство,
которым он был так запуган в детстве, возвращается под конец в самом
суровом виде. И для Кьеркегора антиномия и парадокс оказываются
критериями религии. То, что когда-то приводило в отчаяние, придает теперь
жизни истинность и ясность. Христианство - это скандал; Кьеркегор
попросту требует третьей жертвы Игнация Лойолы , той, что наиболее
любезна Богу: "жертвоприношение интеллекта" (4). Результаты скачка
своеобразны, но это не должно нас удивлять. Кьеркегор делает из абсурда
критерий мира иного, тогда как он-- просто остаток опыта этого мира. "В
своем падении, говорит Кьеркегор,-- верующий обрящет триумф".
Я не задаюсь вопросом о волнительных проповедях, связанных с данной
установкой. Мне достаточно спросить: дают ли зрелище абсурда и присущий
ему характер основания для подобной установки? Я знаю, что не дают. Если
вновь обратиться к абсурду, становится более понятным вдохновляющий
Кьеркегора метод. Он не сохраняет равновесия между иррациональностью
мира и бунтующей ностальгией абсурда. Не соблюдается то соотношение,
без которого, собственно говоря, нет смысла говорить о чувстве абсурдности.
Уверившись в неизбежности иррационального, Кьеркегор пытается, таким
образом, спастись хотя бы от отчаянной ностальгии, кажущейся ему
бесплодной и недоступной пониманию. Возможно, его рассуждения по этому
поводу не лишены оснований. Но нет никаких оснований для отрицания
абсурда. Заменив крик бунта неистовством согласия, он приходит к забвению
260
абсурда, который ранее освещал его путь к обожествлению отныне
единственной достоверности - иррационального. Важно, как говорил аббат
Галиани госпоже д'Эпине , не исцелиться, но научиться жить со своими
болезнями. Кьеркегор хочет исцелиться - это неистовое желание
пронизывает весь его дневник. Все усилия ума направлены на то, чтобы
избежать антиномии человеческого удела. Усилие тем более отчаянное, что
временами он понимает всю его суетность: например, когда говорит о себе
так, словно ни страх господень, ни набожность не могут дать покоя его душе.
Вот почему потребовались мучительные уловки, чтобы придать
иррациональному обличье, а Богу - атрибуты абсурда. Бог несправедлив,
непоследователен, непостижим. Интеллекту не погасить пламенных
притязаний человеческого сердца. Поскольку ничто не доказано, можно
доказать все что угодно.
Кьеркегор сам указывает путь, по которому шел. Я не хочу здесь пускаться в
догадки, но как удержаться от того, чтобы не усмотреть в его произведениях
знаки почти добровольного калечения души, наряду с согласием на абсурд?
Таков лейтмотив "Дневника". "Мне недостает животного, также
составляющего часть предопределенного человеку... Но дайте мне тогда
тело". И далее: "Чего бы я только не отдал, особенно в юности, чтобы быть
настоящим мужчиной, хотя бы на полгода... мне так не хватает тела и
физических условий существования". И тот же человек подхватывает
великий крик надежды, идущий сквозь века и воодушевлявший столько
сердец - кроме сердца абсурдного человека. "Но для христианина смерть
ничуть не есть конец всего, в ней бесконечно больше надежды, чем в какой
бы то ни было жизни, даже исполненной здоровья и силы". Примирение
путем скандала все же остается примирением.
Возможно, примирение это позволяет вывести надежду из ее
противоположности, из смерти. Но даже если подобная установка может
вызвать симпатию, ее чрезмерность ничего не подтверждает. Скажут, что она
несоизмерима с человеком и, следовательно, должна быть
сверхчеловеческой. Но о каком "следовательно" может идти речь, если здесь
нет никакой логической достоверности. Невероятным является и опытное
подтверждение. Все, что я могу сказать, сводится к несоизмеримости со
мною. Даже если я не могу вывести отсюда отрицания, нет никакой
возможности брать непостижимое в качестве основания. Я хочу знать, могу
ли я жить с постижимым, и только с ним. Мне могут еще сказать, что
интеллект должен принести в жертву свою гордыню, разум должен
преклониться. Но из моего признания пределов разума не следует его
отрицание. Его относительное могущество я признаю. Я хочу держаться того
срединного пути, на котором сохраняется ясность интеллекта. Если в этом
его гордыня, то я не вижу достаточных оснований, чтобы от нее отрекаться.
Как глубокомысленно замечание Кьеркегора, что отчаяние не факт, а
261
состояние: пусть даже состояние греха, ибо грех есть то, что удаляет от Бога.
Абсурд, будучи метафизическим состоянием сознательного человека, не
ведет к Богу '. Быть может, понятие абсурда станет яснее, если я решусь на
такую чрезмерность: абсурд - это грех без Бога.
В этом состоянии абсурда нужно жить. Я знаю, каково его основание: ум и
мир, подпирающие друг друга, но неспособные соединиться. Я вопрошаю о
правилах жизни в таком состоянии, а то, что мне предлагается в ответ,
оставляет без внимания его фундамент, является отрицанием одного из
терминов болезненного противостояния, требует от меня отставки. Я
спрашиваю, каковы следствия состояния, которое признаю своим
собственным; я знаю, что оно предполагает темноту и неведение, а меня
уверяют, что этим неведением все объясняется, что эта ночь и есть свет. Но
это не ответ, и экзальтированная лирика не может скрыть от меня парадокса.
Следовательно, необходим иной путь.
Кьеркегор может восклицать и предупреждать: "Если бы у человека не было
вечного сознания, если бы в основании всех вещей не было ничего, кроме
кипения диких сил, производящих в круговороте темных страстей все вещи,
будь они великими или малыми; если бы за всем скрывалась только
бездонная, незаполнимая пустота, то чем бы тогда была жизнь, как не
отчаянием?" Этот вопль не оставит абсурдного человека. Поиск истины не
есть поиск желательного. Если для того, чтобы избежать вызывающего
тревогу вопроса: "Чем тогда будет жизнь?" - следует не только смириться с
обманом, но и уподобиться ослу, жующему розы иллюзий, то абсурдный ум
бестрепетно принимает ответ Кьеркегора: "отчаяние". Смелому духом
довольно и этого.
Я решусь назвать экзистенциальный подход философским самоубийством.
Это не окончательный приговор, а просто удобный способ для обозначения
того движения мысли, которым она отрицает самое себя и стремится
преодолеть себя с помощью того, что ее отрицает. Отрицание и есть Бог
экзистенциалиста. Точнее, единственной опорой этого Бога является
отрицание человеческого разума (5). Но, как и виды самоубийства, боги
меняются вместе с людьми. Имеется немало разновидностей скачка главное, что он совершается. Искупительные отрицания, финальные
противоречия, снимающие все препятствия (хотя они еще не преодолены),все это может быть результатом как религиозного вдохновения, так и - как ни
парадоксально - рациональности. Все дело в притязаниях на вечность,
отсюда и скачок.
Еще раз заметим, что предпринятое в данном эссе рассуждение совершенно
чуждо наиболее распространенной в наш просвещенный век установке духа:
той, что опирается на принцип всеобщей разумности и нацелена на
объяснение мира. Нетрудно объяснять мир, если заранее известно, что он
объясним. Эта установка сама по себе законна, но не представляет интереса
262
для нашего рассуждения. Мы рассматриваем логику сознания, исходящего из
философии, полагающей мир бессмысленным, но в конце концов
обнаруживающего в мире и смысл, и основание. Пафоса больше в том
случае, когда мы имеем дело с религиозным подходом:
это видно хотя бы по значимости для последнего темы иррационального. Но
самым парадоксальным и знаменательным является подход, который придает
разумные основания миру, вначале считавшемуся лишенным руководящего
принципа. Прежде чем обратиться к интересующим нас следствиям, нельзя
не упомянуть об этом новейшем приобретении духа ностальгии.
Я задержу внимание только на пущенной в оборот Гуссерлем и
феноменологами теме "интенциональности", о которой уже упоминал.
Первоначально гуссерлевский метод отвергает классический рационализм.
Повторим: мыслить - не значит унифицировать, не значит объяснять явление,
сводя его к высшему принципу. Мыслить - значит научиться заново
смотреть, направлять свое сознание, не упуская из виду самоценности
каждого образа. Другими словами, феноменология отказывается объяснять
мир, она желает быть только описанием переживаний. Феноменология
примыкает к абсурдному мышлению в своем изначальном утверждении: нет
Истины, есть только истины. Вечерний ветерок, эта рука на моем плече - у
каждой вещи своя истина. Она освещена направленным на нее вниманием
сознания. Сознание не формирует познаваемый объект, оно лишь фиксирует
его, будучи актом внимания. Если воспользоваться бергсоновским образом,
то сознание подобно проекционному аппарату, который неожиданно
фиксирует образ. Отличие от Бергсона в том, что на самом деле нет никакого
сценария, сознание последовательно высвечивает то, что лишено внутренней
последовательности. В этом волшебном фонаре все образы самоценны.
Сознание заключает в скобки объекты, на которые оно направлено, и они
чудесным образом обособляются, оказываясь за пределами всех суждений.
Именно эта "интенциональность" характеризует сознание. Но данное слово
не содержит в себе какой-либо идеи о конечной цели. Оно понимается в
смысле "направленности", у него лишь топографическое значение.
На первый взгляд здесь ничто не противоречит абсурдному уму. Кажущаяся
скромность мысли, ограничивающейся описанием, отказ от объяснения,
добровольно принятая дисциплина, парадоксальным образом ведущая к
обогащению опыта и возрождению всей многоцветности мира,- в этом
сущность и абсурдного подхода. По крайней мере на первый взгляд,
поскольку метод мышления, как в данном случае, так и во всех других,
всегда имеет два аспекта: один психологический, другой метафизический '.
Тем самым метод содержит в себе две истины. Если тема интенциональности
нужна только для пояснения психологической установки, исчерпывающей
реальное вместо того, чтобы его объяснять, тогда тема эта действительно
совпадает с абсурдным умом. Он нацелен на перечисление того, что не в
263
состоянии трансцендировать, и единственное его утверждение сводится к
тому, что за отсутствием какого-либо объяснительного принципа мышление
находит радость в описании и понимании каждого данного в опыте образа. В
таком случае истина любого из этих образов имеет психологический
характер, она свидетельствует лишь о том "интересе", который может
представлять для нас реальность. Истина оказывается способом пробуждения
дремлющего мира, он оживает для ума. Но если данное понятие истины
распространяется за свои пределы, если для него изыскивается рациональное
основание, если таким образом желают найти "сущность" каждого
познаваемого объекта, то за опытом вновь обнаруживается некая
"глубинность". Для абсурдного ума это нечто непостижимое. В
феноменологической установке ощутимы колебания между скромностью и
самоуверенностью, и эти взаимоотражения феноменологического мышления
- лучшие иллюстрации абсурдного рассуждения.
Так как Гуссерль говорит об интенционально выявляемых "вневременных
сущностях", нам начинает казаться, что мы слушаем Платона. Все
объясняется не чем-то одним, но все объясняется всем. Я не вижу разницы.
Конечно, идеи или сущности, которые "осуществляются" сознанием после
каждой дескрипции, не объявляются совершенными моделями. Но ведь
утверждается, будто они даны непосредственно в восприятии. Нет
единственной идеи, которая объясняла бы все, есть бесконечное число
сущностей, придающих смысл бесконечности объектов. Мир становится
неподвижным, но зато он высвечивается. Платоновский реализм становится
интуитивистским, но это по-прежнему реализм. Кьеркегор погружается в
своего Бога, Парменид низвергает мысль и Единое. Феноменологическое
мышление впадает в абстрактный политеизм. Более того, даже галлюцинации
и фикции делаются "вневременными сущностями". В новом мире идей
категория "кентавр" соседствует с более скромной категорией
"метрополитен".
Для абсурдного человека в чисто психологическом подходе, при котором все
образы самоценны, есть и истина, и горечь. Если все самоценно, то все
равнозначно. Однако метафизический аспект этой истины заводит так
далеко, что абсурдный человек сразу чувствует, что его тянут к Платону.
Действительно, ему говорят, что у каждого образа предполагается
самоценная сущность. В этом идеальном мире, лишенном иерархии, в этой
армии форм служат одни генералы. Да, трансценденция была ликвидирована.
Но неожиданным поворотом мышления привносится некая фрагментарная
имманентность, восстанавливающая глубинное измерение вселенной.
Не зашел ли я слишком далеко в истолковании феноменологии - ведь
создатели ее куда более осторожны? Приведу в ответ только одно
утверждение Гуссерля, внешне парадоксальное, но строго логичное, если
учесть все предпосылки: "Что истинно, то абсолютно истинно само по себе;
264
истина тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или
чудовища, ангелы или боги" . Тут неоспоримо провозглашается торжество
Разума. Но что может означать подобное утверждение в мире абсурда?
Восприятия ангела или бога лишены для меня всякого смысла. Для меня
навсегда останется непостижимым то геометрическое пространство, в
котором божественный разум устанавливает законы моего разума. Здесь я
обнаруживаю все тот же скачок. Пусть он совершается при помощи
абстракций, все равно он означает для меня забвение именно того, что я не
хочу предавать забвению. Далее Гуссерль восклицает: "Даже если бы все
подвластные притяжению массы исчезли, закон притяжения тем самым не
уничтожился бы, но просто остался за пределами возможного применения".
И мне становится ясно, что я имею дело с метафизикой утешения. Если же
мне вздумается найти тот поворотный пункт, где мышление покидает путь
очевидности, то достаточно перечитать параллельное рассуждение,
приводимое Гуссерлем относительно сознания: "Если бы мы могли ясно
созерцать точные законы психических явлений, они показались бы нам столь
же вечными и неизменными, как и фундаментальные законы теоретического
естествознания. Следовательно, они были бы значимы, даже если бы не
существовало никаких психических явлений". Даже если сознания нет, его
законы существуют! Теперь я понимаю, что Гуссерль хочет превратить
психологическую истину в рациональное правило: отвергнув
интегрирующую силу человеческого разума, он окольным путем совершает
скачок в область вечного Разума.
Поэтому меня нисколько не удивляет появление у Гуссерля темы
"конкретного универсума". Разговоры о том, что не все сущности
формальны, что среди них есть и материальные, что первые являются
объектом логики, а вторые - объектом конкретных наук, для меня все это не
более чем дефиниции. Меня уверяют, что сами абстракции являются лишь
субстанцинальной частью конкретного универсума. Но уже по этим
колебаниям видно, что произошла подмена терминов. С одной стороны, это
может быть утверждением того, что мое внимание направлено па
конкретный объект, на небо или па каплю дождя, упавшею на мой плащ. За
ними сохраняется реальность, различимая в акте моего внимания. Это
неоспоримо. Но то же самое утверждение может означать, что сам плащ есть
некая универсалия, принадлежащая вместе со своей неповторимой и
самодостаточной сущностью миру форм. Тут я начинаю понимать, что
изменился не только порядок следования. Мир перестал быть отражением
высшего универсума, но в населяющих эту землю образах все же
отображается исполненное форм небо. Тогда мне все равно, и это не имеет
ни малейшего отношения к поискам смысла человеческого удела, ибо здесь
отсутствует интерес к конкретному. Это интеллектуализм, причем вполне
откровенно стремящийся превратить конкретное в абстракции.
265
В этом явном парадоксе, оказывается, нет ничего удивительного: мышление
может идти к самоотрицанию разными путями -путем как униженного, так и
торжествующего разума. Дистанция между абстрактным богом Гуссерля и
богом-громовержцем Кьеркегора не столь уж велика. И разум, и
иррациональное ведут к той же проповеди. Не так уж важно, какой путь
избран: было бы желание дойти до цели, это главное. Абстрактная
философия и религиозная философия равным образом исходят из состояния
смятения и живут одной и той же тревогой. Но суть дела в объяснении:
ностальгия здесь сильнее науки. Знаменательно, что мышление современной
эпохи пронизано одновременно и философией, отказывающей миру в
значимости, и философией, исполненной самых душераздирающих выводов.
Мышление непрестанно колеблется между предельной рационализацией
реального, которая разбивает реальность на рационализированные
фрагменты, и предельной иррационализацией, которая ведет к ее
обожествлению. Но это лишь видимость раскола. Для примирения
достаточно скачка. Понятие "разум" ошибочно наделяли единственным
смыслом. В действительности, несмотря на все притязания на строгость. оно
не менее изменчиво, чем все остальные понятия. Разум то предстает во
вполне человеческом облике, то умело оборачивается божественным ликом.
Со времен Плотина , приучившего разум к духу вечности, разум научился
отворачиваться даже от самого дорогого из своих принципов непротиворечия, чтобы включить в себя самый чуждый ему, совершенно
магический принцип партиципации (6). Разум является инструментом
мышления, а не самим мышлением. Мышление человека - это прежде всего
его ностальгия.
Разум сумел утолить меланхолию Плотина; он служит успокоительным
средством и для современной тревоги, воздвигая все те же декорации
вечности''. Абсурдный ум не требует столь многого. Для него мир и не
слишком рационален, и не так уж иррационален. Он просто неразумен. У
Гуссерля разум в конце концов становится безграничным. Абсурд, напротив,
четко устанавливает свои пределы, поскольку разум бессилен унять его
тревогу. Кьеркегор со своей стороны утверждает, что достаточно одногоединственного предела, чтоб отринуть разум. Абсурд не заходит так далеко:
для него пределы умеряют только незаконные притязания разума.
Иррациональное, в представлении экзистенциалистов, есть разум в раздоре с
самим собой. Он освобождается от раздора, сам себя отрицая. Абсурд - это
ясный разум, осознающий свои пределы.
Под конец этого нелегкого пути абсурдный человек находит свои подлинные
основания. Сравнивая свои глубинные требования с тем, что ему до сих пор
предлагалось, он неожиданно ощущает, что смысл его требований был
искажен. Во вселенной Гуссерля мир прояснился настолько, что сделалось
бесполезным присущее человеку стремление понять его. В апокалипсисе
266
Кьеркегора удовлетворение этого стремления требует самоотречения. Грех
не столько в знании (по этому счету весь мир невинен), сколько в желании
знать. Таков единственный грех, относительно которого абсурдный человек
чувствует себя виновным и невинным в одно и то же время. Ему
предлагается разрешение всех былых противоречий, которые объявляются
просто полемическими играми. Но абсурдный человек чувстует нечто совсем
иное, ему необходимо сохранить истину этих противоречий. А она такова,
что сохраняются и противоречия. Абсурдному человеку не нужны
проповеди.
Предпринятое мною рассуждение хранит верность той очевидности, которая
пробудила его к жизни. Этой очевидностью является абсурд, раскол между
полным желания умом и обманчивым миром, между моей ностальгией по
единству и рассыпавшимся на бесчисленные осколки универсумом противоречие, которое их объединяет. Кьеркегор упраздняет мою
ностальгию, Гуссерль заново созидает универсум. Я ожидал вовсе не этого.
Речь шла о том, чтобы жить и мыслить, несмотря на все терзания, чтобы
решить вопрос: принять их или отказаться. Тут не замаскируешь
очевидность, не упразднишь абсурд, отрицая один из составляющих его
терминов. Необходимо знать, можно ли жить абсурдом, или эта логика
требует смерти. Меня интересует не философское самоубийство, а
самоубийство как таковое. Я намерен очистить этот акт от его
эмоционального содержания, оценить его искренность и логику. Любая
другая позиция предстает для абсурдного ума как фокусничество,
отступление ума перед тем, что он сам выявил. Гуссерль намеревался
избежать "закоренелой привычки жить и мыслить в соответствии с
условиями существования, которые нам хорошо известны и для нас удобны".
Но заключительный скачок вернул нас вечности - со всеми ее удобствами. В
скачке нет никакой крайней опасности, как казалось Къеркегору. Напротив,
опасность таится в том неуловимом мгновении, которое предшествует
скачку. Суметь удержаться на этом головокружительном гребне волны - вот
в чем состоит честность, а все остальное - лишь уловки. Я знаю и то, что
бессилие ни у кого не исторгало столь пронзительных аккордов, какие
встречаются у Кьеркегора. В равнодушных исторических описаниях
найдется место и бессилию, но оно неуместно в рассуждении, настоятельная
необходимость которого чувствуется сегодня.
Абсурдная свобода
Главное сделано. Налицо несколько очевидных истин, от которых я не могу
отрешиться. В расчет принимается то, что я знаю, в чем уверен, чего не могу
отрицать, не могу отбросить. Я могу отторгнуть от живущей неопределенной
тоской части моего "Я" все, кроме желания единства, влечения к решимости,
требования ясности и связности. В мире, который окружает, задевает,
подталкивает меня, я могу отрицать все, кроме этого хаоса, этого
267
царственного случая, этого божественного равновесия, рождающегося из
анархии. Не знаю, есть ли у этого мира превосходящий его смысл. Знаю
только, что он мне неизвестен, что в данный момент он для меня
непостижим. Что может значить для меня значение, лежащее за пределами
моего удела? Я способен к пониманию только в человеческих терминах. Мне
понятно то, к чему я притрагиваюсь, что оказывает мне сопротивление.
Понимаю я также две достоверности - мое желание абсолюта и единства, с
одной стороны, и несводимость этого мира к рациональному и разумному
принципу - с другой. И я знаю, что не могу примирить эти две
противоположные достоверности. Какую еще истину я мог бы признать, не
впадая в обман, не примешивая надежду, каковой у меня нет и которая
бессмысленна в границах моего удела?
Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее,
проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделался бы частью этого мира.
Я был бы этим миром, которому ныне противостою всем моим сознанием,
моим требованием вольности. Ничтожный разум противопоставил меня
всему сотворенному, и я не могу отвергнуть его росчерком пера. Я должен
удержать то, что считаю истинным, что кажется мне очевидным, даже
вопреки собственному желанию. Что иное лежит в основе этого конфликта,
этого разлада между миром и сознанием, как не само сознание конфликта?
Следовательно, чтобы сохранить конфликт, мне необходимо непрестанное,
вечно обновляющееся и всегда напряженное сознание. В нем мне
необходимо удерживать себя. Вместе с ним в человеческую жизнь вторгается
абсурд - столь очевидный и в то же время столь труднодостижимый - и
находит в ней отечество. Но в тот же миг ум может сбиться с этого
иссушающего и бесплодного пути ясности, чтобы вернуться в повседневную
жизнь, в мир анонимной безличности. Но отныне человек вступает в этот
мир вместе со своим бунтом, своей ясностью видения. Он разучился
надеяться. Ад настоящего сделался наконец его царством. Все проблемы
вновь предстают перед ним во всей остроте. На смену абстрактной
очевидности приходит поэзия форм и красок. Духовные конфликты
воплощаются и находят свое прибежище-величественное или жалкое-в
сердце человека. Ни один из них не разрешен, но все они преобразились.
Умереть ли, ускользнуть ли от конфликта с помощью скачка, либо
перестроить на свой лад здание идей и форм? Или же, напротив, держать
мучительное и чудесное пари абсурда? Еще одно усилие в этом направлении
- и мы сможем вывести все следствия. Голос плоти, нежность, творчество,
деятельность, человеческое благородство вновь займут свои места в этом
безумном мире. Человек отыщет в нем вино абсурда и хлеб безразличия,
которые питают его величие.
Я настаиваю на том, что это метод упорства. На каком-то этапе своего пути
абсурдный человек должен проявить настойчивость. В истории
268
предостаточно религий и пророчеств, даже безбожных. А от абсурдного
человека требуют совершить нечто совсем иное -скачок. В ответ он может
только сказать, что не слишком хорошо понимает требование, что оно
неочевидно. Он желает делать лишь то, что хорошо понимает. Его уверяют,
что это грех гордыни, а ему неясно само понятие "грех"; быть может, в конце
концов его ждет ад, но ему недостанет воображения, чтобы представить себе
столь странное будущее. Пусть он потеряет бессмертную жизнь, невелика
потеря. Его заставляют признать свою виновность, но он чувствует себя
невиновным. По правде говоря, он чувствует себя неисправимо невинным.
Именно в силу невинности ему все позволено. От самого же себя он требует
лишь одного: жить исключительно тем, что он знает, обходиться тем, что
есть, и не допускать ничего недостоверного. Ему отвечают, что ничего
достоверного не существует. Но это уже достоверность. С нею он и имеет
дело: он хочет знать, можно ли жить не подлежащей обжалованию жизнью.
Теперь снова пришла пора обратиться к понятию самоубийства,
рассматривая его с другой стороны. Ранее речь шла о знании; должна ли
жизнь иметь смысл, чтобы ее стоило прожить. Сейчас же, напротив, кажется,
что, чем меньше в ней смысла, тем больше оснований, чтобы ее прожить.
Пережить испытание судьбой значит полностью принять жизнь.
Следовательно, зная об абсурдности судьбы, можно жить ею только в том
случае, если абсурд все время перед глазами, очевиден для сознания.
Отвергнуть один из терминов противоречия, которым живет абсурд, значит
избавиться от него. Упразднить сознательный бунт значит обойти проблему.
Тема перманентной революции переносится, таким образом, в
индивидуальный опыт. Жить - значит пробуждать к жизни абсурд.
Пробуждать его к жизни - значит не отрывать от него взора. В отличие от
Эвридики , абсурд умирает, когда от него отворачиваются. Одной из
немногих последовательных философских позиций является бунт,
непрерывная конфронтация человека с таящимся в нем мраком. Бунт есть
требование прозрачности, в одно мгновение он ставит весь мир под вопрос.
Подобно тому как опасность дает человеку незаменимый случай постичь
самого себя, метафизический бут предоставляет сознанию все поле опыта.
Бунт есть постоянная данность человека самому себе. Это не устремление,
ведь бунт лишен надежды. Бунт есть уверенность в подавляющей силе
судьбы, но без смирения, обычно ее сопровождающего.
Мы видим теперь, насколько опыт абсурда далек от самоубийства.
Ошибочно мнение, будто самоубийство следует за бунтом, является его
логическим завершением. Самоубийство есть полная противоположность
бунта, так как предполагает согласие. Подобно скачку, самоубийство - это
согласие с собственными пределами. Все закончено, человек отдается
предписанной ему истории; видя впереди ужасное будущее, он низвергается
в него. На свой лад самоубийство тоже разрешение абсурда, оно делает
269
абсурдной даже саму смерть. Но я знаю, что условием существования
абсурда является его неразрешимость. Будучи одновременно сознанием
смерти и отказом от нее, абсурд ускользает от самоубийства. Абсурдна та
веревка, которую воспринимает приговоренный к смерти перед своим
головокружительным падением. Несмотря ни на что, она здесь, в двух шагах
от него. Приговоренный к смертной казни - прямая противоположность
самоубийцы.
Этот бунт придает жизни цену. Становясь равным по длительности всему
существованию, бунт восстанавливает его величие. Для человека без шор нет
зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с превосходящей его
реальностью. Ни с чем не сравнимо зрелище человеческой гордыни, тут
ничего не могут поделать все самоуничижения. Есть нечто неповторимо
могущественное в дисциплине, которую продиктовал себе ум, в крепко
выкованной воле, в этом противостоянии. Обеднить реальность, которая
своей бесчеловечностью подчеркивает величие человека, - -- значит обеднить
самого человека. Понятно, почему всеобъясняющие доктрины ослабляют
меня. Они снимают с меня груз моей собственной жизни; но я должен нести
его в полном одиночестве. И я уже не могу представить, как может
скептическая метафизика вступить в союз с моралью отречения.
Сознание и бунт - обе эти формы отказа - противоположны отречению.
Напротив, их переполняют все страсти человеческого сердца. Речь идет о
смерти без отречения, а не о добровольном уходе из жизни. Самоубийство ошибка. Абсурдный человек исчерпывает все и исчерпывается сам; абсурд
есть предельное напряжение, поддерживаемое всеми его силами в полном
одиночестве. Абсурдный человек знает, что сознание и каждодневный бунт свидетельства той единственной истины, которой является брошенный им
вызов. Таково первое следствие.
Придерживаясь занятой ранее позиции, а именно выводить все следствия (и
ничего, кроме них) из установленного понятия, я сталкиваюсь со вторым
парадоксом. Чтобы хранить верность методу, мне нет нужды обращаться к
метафизической проблеме свободы. Меня не интересует, свободен ли
человек вообще, я могу ощутить лишь свою собственную свободу. У меня
нет общих представлений о свободе, но есть лишь несколько отчетливых
идей. Проблема "свободы вообще" не имеет смысла, ибо так или иначе
связана с проблемой бога. Чтобы знать, свободен ли человек, достаточно
знать, есть ли у него господин. Эту проблему делает особенно абсурдной то,
что одно и то же понятие и ставит проблему свободы, и одновременно
лишает ее всякого смысла, так как в присутствии бога это уже не столько
проблема свободы, сколько проблема зла. Альтернатива известна: либо мы
не свободны и ответ за зло лежит на всемогущем боге, либо мы свободны и
ответственны, а бог не всемогущ. Все тонкости различных школ ничего не
прибавили к остроте этого парадокса.
270
Вот почему мне чужда экзальтация, и я не теряю времени на определение
понятия, которое ускользает от меня и теряет смысл, выходя за рамки
индивидуального опыта. Я не в состоянии понять, чем могла бы быть
свобода, данная мне свыше. Я утратил чувство иерархии. По поводу свободы
у меня нет иных понятий, кроме тех, которыми располагает узник или
современный индивид в лоне государства. Единственно доступная моему
познанию свобода есть свобода ума и действия. Так что если абсурд и
уничтожает шансы на вечную свободу, то он предоставляет мне свободу
действия и даже увеличивает ее. Отсутствие свободы и будущего
равнозначно росту наличных сил человека.
До встречи с абсурдом обычный человек живет своими целями, заботой о
будущем или об оправдании (все равно, перед кем или перед чем). Он
оценивает шансы, рассчитывает на дальнейшее, на пенсию или на своих
сыновей, верит, что в его жизни многое еще наладится. Он действует, по
сути, так, словно свободен, даже если фактические обстоятельства
опровергают эту свободу. Все это поколеблено абсурдом. Идея "Я есмь", мой
способ действовать так, словно все исполнено смысла (даже если иногда я
говорю, что смысла нет),-все это самым головокружительным образом
опровергается абсурдностью смерти. Думать о завтрашнем дне, ставить
перед собой цель, иметь предпочтения -- все это предполагает веру в
свободу, даже если зачастую слышатся уверения, будто ее не ощущают. Но
отныне я знаю, что нет высшей свободы, свободы быть, которая только и
могла бы служить основанием истины. Смерть становится единственной
реальностью, это конец всем играм. У меня нет свободы продлить бытие, я
раб, причем рабство мое не скрашивается ни надеждой на грядущую где-то в
вечности революцию, ни даже презрением. Но кто может оставаться рабом,
если нет ни революции, ни презрения? Какая свобода в полном смысле слова
может быть без вечности?
Но абсурдный человек понимает, что к этому постулату о свободе его
привязывали иллюзии, которыми он жил. В известном смысле это ему
мешало. Пока он грезил о цели жизни, он сообразовывался с требованиями,
предполагаемыми поставленной целью, и был рабом собственной свободы.
По сути дела, я не могу действовать иначе, как в роли отца семейства (или
инженера, вождя народов, внештатного сотрудника железной дороги),
каковым я намерен стать. Я полагаю, что могу выбрать скорее одно, чем
другое. Правда, моя вера в это бессознательна. Но этот постулат
подкрепляется и верованиями моего окружения, и предрассудками среды
(ведь другие так уверены в своей свободе, их оптимизм так заразителен!).
Как бы мы ни отгораживались от всех моральных и социальных
предрассудков, частично мы все же находимся под их влиянием и даже
сообразуем свою жизнь с лучшими из них (есть хорошие и дурные
предрассудки). Таким образом, абсурдный человек приходит к пониманию,
271
что реально он не свободен. Пока я надеюсь, пока я проявляю беспокойство о
принадлежащих мне истинах или о том, как мне жить и творить, пока,
наконец, я упорядочиваю жизнь и признаю тем самым, что у нее есть смысл,
я создаю препятствующие моей жизни барьеры, уподобляясь всем тем
функционерам ума и сердца, которые внушают мне только отвращение, ибо
они, как я теперь хорошо понимаю, всю жизнь принимают всерьез
пресловутую человеческую свободу.
Абсурд развеял мои иллюзии: завтрашнего дня нет. И отныне это стало
основанием моей свободы. Я приведу здесь два сравнения. Мистики
начинают с того, что обнаруживают свободу в самоотвержении.
Погрузившись в своего бога, подчинившись его правилам, они получают в
обмен некую таинственную свободу. Глубокая независимость
обнаруживается в этом добровольном согласии на рабство. Но что означает
подобная свобода? Можно сказать, что мистики чувствуют себя свободными,
и даже не столько свободными, сколько освобожденными. Но ведь человек
абсурда " лицом к лицу со смертью (взятой как наиболее очевидная
абсурдность) тоже чувствует себя освобожденным от всего, кроме того
страстного внимания, которое кристаллизуется в нем. По отношению ко всем
общим правилам он совершенно свободен. Так .•что исходная тема
экзистенциальной философии сохраняет всю свою значимость. Пробуждение
сознания, бегство от сновидений
повседневности - таковы первые ступени абсурдной свободы. Но там целью
является экзистенциальная проповедь, а за нею и тот духовный скачок,
который по самой сути своей непостижим для сознания. Точно так же (это
мое второе сравнение) античные рабы не принадлежали себе. Им была
знакома свобода, заключающаяся в отсутствии чувства ответственности (7).
Рука смерти подобна руке патриция, разящей, но и дарующей освобождение.
Погрузиться в эту бездонную достоверность, почувствовать себя достаточно
чуждым собственной жизни - чтобы возвеличить ее и идти по ней,
избавившись от близорукости влюбленного,- таков принцип освобождения.
Как и любая свобода действия, эта новая независимость конечна, у нее нет
гарантии вечности. Но тогда свобода действия приходит на смену
иллюзорной свободе, а иллюзии исчезают перед лицом смерти. Принципами
единственно разумной свободы становятся здесь божественная отрешенность
приговоренного к смерти, перед которым в одно прекрасное утро откроются
двери тюрьмы, невероятное равнодушие ко всему, кроме чистого пламени
жизни, смерть и абсурд. Это принципы, которые доступны человеческому
сердцу. Таково второе следствие. Вселенная абсурдного человека - это
вселенная льда и пламени, столь же прозрачная, сколь и ограниченная, где
нет ничего возможного, но все дано. В конце его ждет крушение и небытие.
Он может решиться жить в такой вселенной. Из этой решимости он черпает
силы, отсюда его отказ от надежды и упорство в жизни без утешения.
272
Но что значит жить в такой вселенной? Ничего, кроме безразличия к
будущему и желания исчерпать все, что дано. Вера в смысл жизни всегда
предполагает шкалу ценностей, выбор, предпочтение. Вера в абсурд, по
определению, учит нас прямо противоположному. Но это заслуживает
специального рассмотрения.
Все, что меня интересует, сводится к вопросу: возможна ли не подлежащая
обжалованию жизнь? Я не хочу покидать эту почву. Мне дан такой образ
жизни - могу ли я к нему приспособиться? Вера в абсурд отвечает на эту
заботу, заменяя качество переживаний их количеством. Если я убежден, что
жизнь абсурдна, что жизненное равновесие есть результат непрерывного
бунта моего сознания против окружающей его тьмы; если я принимаю, что
моя свобода имеет смысл только в положенных судьбой границах, то
вынужден сказать: в счет идет не лучшая, а долгая жизнь. И мне безразлично,
вульгарна эта жизнь или отвратительна, изящна или достойна сожаления.
Такого рода ценностные суждения раз и навсегда устраняются, уступая место
суждениям фактическим. Я должен выводить следствия из того, что вижу, и
не рискую выдвигать какие бы то ни было гипотезы. Такую жизнь считают
несовместимой с правилами чести, но подлинная честность требует от меня
бесчестия.
Жить как можно дольше - в широком смысле это правило совершенно
незначимо. Оно нуждается в уточнении. Поначалу кажется, что понятие
количества в нем недостаточно раскрыто. Ведь с его помощью можно
выразить значительную часть человеческого опыта. Мораль и шкала
ценностей имеют смысл только в, связи с количеством и разнообразием
накопленного опыта. Современная жизнь навязывает большинству людей
одно и то же количество опыта, являющегося к тому же, по существу, одним
и тем же. Разумеется, необходимо принимать во внимание и спонтанный
вклад индивида, все то, что он сам "свершил". Но об этом не мне судить, да и
правило моего метода гласит: сообразовываться с непосредственно данной
очевидностью. Поэтому я полагаю, что общественная мораль связана не
столько с идеальной значимостью вдохновляющих ее принципов, сколько с
доступной измерению нормой опыта. С небольшой натяжкой можно сказать,
что у греков была мораль досуга, точно так же, как у нас имеется мораль
восьмичасового рабочего дня. Но многие личности, в том числе наиболее
трагические, уже вызывают у нас предчувствие близящейся смены иерархии
ценностей вместе с изменением опыта. Они становятся чем-то вроде
конкистадоров повседневности, которые уже количеством опыта побивают
все рекорды (я умышленно употребляю спортивную терминологию) и
выигрывают свою собственную мораль (8). Спросим себя без всякой
романтики: что может означать эта установка для человека, решившего
держать пари, строго соблюдая установленные им самим правила игры?
273
Побивать все рекорды - значит как можно чаще сталкиваться лицом к лицу с
миром. Возможно ли это без противоречий и оговорок? С одной стороны,
абсурд учит, что совершенно неважно, каков этот опыт, а с другой стороны,
он побуждает к максимальному количеству опыта. Разве я не уподобляюсь
здесь всем тем, кого подвергал критике, коль скоро речь заходит о выборе
формы жизни, которая принесет возможно больше этого человеческого
материала, а он снова приведет к той самой шкале ценностей, которую мы
хотели отвергнуть?
Абсурд и его полное противоречий существование вновь дают нам урок. Ибо
ошибочно думать, будто количество опыта зависит от обстоятельств жизни.
Оно зависит только от нас самих. Здесь необходимо рассуждать попросту.
Двум людям, прожившим •равное число лет, мир предоставляет всегда одну
и ту же сумму опыта. Необходимо просто осознать его. Переживать свою
жизнь. свой бунт, свою свободу как можно полнее - значит жить, и в полную
меру. Там, где царствует ясность, шкала ценностей бесполезна. Будем опятьтаки простецами. Скажем, что единственное "непобедимое" препятствие
состоит в преждевременной смерти. Вселенная абсурда существует только
благодаря своей противопоставленности такому постоянному исключению,
каким является смерть. Поэтому никакое глубокомыслие, никакие эмоции,
страсти и жертвы не могут уравнять в глазах абсурдного человека (даже если
бы ему того захотелось) сорокалетнюю сознательную жизнь и ясность,
растянувшуюся на шестьдесят лет (9). Безумие и смерть непоправимы. У
человека нет выбора. Абсурд и приносимое им приращение жизни зависят,
таким образом, не от воли человека, а от ее противоположности, от смерти
(10). Хорошенько взвесив слова, мы можем сказать, что это дело случая.
Следует понять это и согласиться. Двадцать лет жизни и опыта не заменишь
ничем.
По странной для столь искушенного народа непоследовательности греки
полагали, что умершие молодыми становятся любимцами богов. Это верно в
том случае, если признать, что вступление в обманчивый мир богов означает
лишение радости в наиболее чистой форме наших чувств, наших земных
чувств. Настоящее - таков идеал абсурдного человека: последовательное
прохождение моментов настоящего перед взором неустанно сознательной
души. Слово "идеал", однако, звучит фальшиво. Ведь это даже не
человеческое призвание, а просто третье следствие рассуждений абсурдного
человека. Размышления об абсурде начинаются с тревожного осознания
бесчеловечности и возвращаются под конец к страстному пламени
человеческого бунта (11).
Итак, я вывожу из абсурда три следствия, каковыми являются мой бунт, моя
свобода и моя страсть. Одной лишь игрой сознания я превращаю в правило
жизни то, что было приглашением к смерти, и отвергаю самоубийство.
Конечно, я понимаю, каким будет глухой отзвук этого решения на
274
протяжении всех последующих дней моей жизни. Но мне остается сказать
лишь одно: это неизбежно. Когда Ницше пишет: "Становится ясно, что самое
важное на земле и на небесах - это долгое и однонаправленное подчинение,
его результатом является нечто, ради чего стоит жить на этой земле, а
именно мужество, искусство, музыка, танец, разум, дух --нечто
преобразующее, нечто утонченное, безумное или божественное", то он
иллюстрирует правило великой морали. Но он указывает тем самым и на
путь абсурдного человека. Подчиниться пламени - и всего проще, и всего
труднее. И все же хороню, что человек, соизмеряя свои силы с трудностями,
иногда выносит приговор самому себе. Он один вправе это сделать.
"Мольба,- говорит Алэн , подобна ночи, нисходящей на мысль". "Но уму
должно встретиться с ночью",-- отвечают мистики и экзистенциалисты.
Конечно. Но не с той ночью, что порождена смеженными по собственной
воле веками, не с мрачной и глубокой ночью, которую ум создает лишь для
того, чтобы в ней потеряться. Если уму суждено встретить ночь, она будет
скорее ночью отчаяния, но ясной, полярной ночью. Это ночь бодрствующего
ума, она порождает то безупречно белое сияние, в котором каждый объект
предстает в свете сознания. Безразличие сопрягается здесь со страстным
постижением, и тогда отпадают все вопросы об экзистенциальном скачке. Он
занимает свое место среди других установок на вековой фреске
человеческого сознания. Для наделенного разумом наблюдателя этот скачок
также является родом абсурда. Насколько совершающий скачок верит в
разрешение этого парадокса, настолько он восстанавливает этот парадокс во
всей его полноте. Оттого-то скачок этот такой волнующий. Оттого-то все
становится на свои места и абсурдный мир возрождается во всем блеске и
многообразии.
Но нельзя останавливаться только на этом, ибо трудно удовлетвориться
одним способом видения, лишив себя противоречия, - вероятно, тончайшей
формы духа. Пока что нами определен только способ мышления. Теперь речь
пойдет о жизни.
(1) Мне доводилось слышать об одном сопернике Перегрина, послевоенном
писателе, который, завершив свою первую книгу, покончил с собой, желая
привлечь внимание. Внимание он привлек, но книга оказалась слабой.
(2) Но не в собственном смысле слова. Речь идет не об определении, а о
перечислении тех чувств, что приводят к абсурду. Завершив перечисление.
мы тем самым еще не исчерпали абсурда.
(3) А именно и связи с законом исключенного третьего, и в частности против
Аристотеля.
(4) Можно подумать, что я пренебрегаю здесь самой существенной
проблемой. то есть проблемой веры. Но в мои цели не входи] исследование
философии Кьеркегора, Шестова или Гуссерля (это потребовало бы другой
275
работы и другого подхода). Я беру лини, одну тему. чтобы исследовать
вопрос о выводимых из нее следствиях, соответствующих ранее
установленным правилам. Все дело в упорстве.
(5) Уточним еще раз: под вопросом здесь не утверждение о существовании
Бога, а логика, которая к нему ведет.
(6) А. В ту пору разуму нужно было либо приспособиться, либо погибнуть.
Он приспособился. Начиная с Плотина, разум из логики превращается в
эстетику. Метафора заменяет силлогизм.
Впрочем, это не единственный вклад Плотина в феноменологию.
Феноменологическая установка целиком содержится уже в столь дорогой
александрийскому мыслителю идее: у него есть не только идея человека, но и
идея Сократа.
(7) Это простое сравнение, а не апология самоуничижения. Абсурдный
человек является противоположностью человека смиренного.
(8) Количество иногда создает качество. Если принять на веру последние
открытия науки, вся материя слагается из центров энергии. Большее или
меньшее их количество приводит к специфическим отличиям. Миллиард
ионов и один ион различны не только количественно, но и качественно.
Отсюда легко провести ; аналогию с человеческим опытом.
(9) Сходным образом разворачивается рассуждение по поводу совсем иного
понятия - идеи Ничто. Оно ничего не прибавляет к реальному и ничего от
него не убавляет. В психологическом опыте небытия приобретает смысл
наше собственное ничто, когда мы начинаем рассуждать о том, что будет
через две тысячи лет.
(10) Воля здесь - только двигатель: она направлена на поддержание сознания.
Она дисциплинирует жизнь, это немаловажно.
(11) Важно быть последовательным. Исходным пунктом у нас является
согласие с миром. Но восточная мысль учит, что та же логика может быть
обращена против мира. Это вполне оправданное положение придает нашему
эссе его широту и в тоже время очерчивает его пределы. Когда отрицание
мира осуществляется с той же строгостью, часто приходят (как в некоторых
школах Веданты) к сходным результатам. Например, в том, что относится к
вопросу о безразличности деяний. В весьма содержательной книге Жана
Гренье "Выбор" таким образом обосновывается подлинная "философия
безразличия".
Ж. Бодрийяр Символический обмен и смерть
Жан Бодрийяр: время симулякров
276
Как у своих поклонников, так и у своих критиков Жан Бодрийяр пользуется
репутацией уклончивого и двусмысленного мыслителя. Сторонники
(особенно американские) «постмодернизма» сопровождают его имя
религиозными эпитетами1, странно контрастирующими с его атеистическими
убеждениями и фактически подразумевающими не столько веру, сколько
право пророчески противоречить себе, высказываться неопределенно и
безответственно. Поборники (особенно европейские) строгой научности
ставят те же самые «вольности» в упрек Бодрийяру, объявляя его врагом
здравого рационального мышления.
Даже если французский ученый и мыслитель действительно дает повод к
подобной сакрализации (либо положительной, либо отрицательной —
сакральное вообще характеризуется амбивалентностью), в его творчестве
можно выделить текст, отличающийся вполне однозначной тенденцией; в
нем автор ясно занимает позицию, формулирует то, против чего и за что он
выступает в современной культуре. Это «Символический обмен и смерть»,
пятая книга Жана Бодрийяра (он родился в 1929 г.), вышедшая в 1976 году и
занимающая пограничное положение в его творчестве: ею ознаменованы
окончание
1
«Жан Бодрийяр выдвинулся как один из самых непримиримых теоретиков
постмодерна. Он пользуется положением настоящего гуру во всем англоязычном мире [...]. Адепты Бодрийяра восхваляют его как истинный
талисман нового постмодернистского мира, как импульс, питающий
энергией всю сцену постмодернистской теории, как супертеоретика
новейшей пост-современности». — Процитированные слова, в которых сами
за себя говорят и термины «гуру», «адепты», «талисман», и молитвенное
повторение на все лады волшебного слова «постмодерн», и магический образ
«импульса, питающего энергией...», взяты практически наугад из Интернета
(http://ccwf.cc.utcxas.cdu/~kellner/pm/ ch4.html), из рекламной аннотации к
одной из современных американских работ о Бодрийяре. Реклама просто
доводит до предельной концентрации атмосферу, реально окружающую
французского мыслителя в мировых масс-медиа.
стеме вещей», но лишь в книге «Символический обмен и смерть» он получил
если не строгую дефиницию, то во всяком случае внутреннюю структуру и
систематическое место в ряду других понятий.
Понятие симулякра («видимости», «подобия») — древнее, в европейской
философии оно существовало начиная с античности3, причем обыкновенно
включалось в теологическую схему репрезентации, сформулированную
Платоном: имеется идеальная модель-оригинал (эйдос), по отношению к
которой возможны верные или неверные подражания. Верные подражаниякопии характеризуются своим сходством (с моделью), а неверные
подражания-симулякры — своим отличием (от модели и друг от друга), но
общим для тех и других является соотнесенность, позитивная или
277
негативная, с трансцендентальным образцом. Эта платоновская теория
симулякра была воссоздана Жилем Делёзом в статье «Ниспровергнуть
платонизм», опубликованной в журнале «Ревю де метафизик э де мораль» в
1967 году, как раз за год до выхода первой книги Бодрийяра (а в 1969 году
включенной под названием «Платон и симулякр» в книгу Делёза «Логика
смысла»), причем воссоздана критически — Делёз выдвинул задачу
«ниспровержения платонизма», то есть освобождения симулякров от
привязанности к модели и их включения в чисто дифференциальную игру:
Проблема касается теперь уже не разграничения Сущности-Видимости
или же Модели-копии [...]. Симулякр не просто вырожденная копия, в
нем кроется позитивная сила, которая отрицает и оригинал и копию, и
модель и репродукцию4.
Эта антиплатоновская программа у Делёза применялась к эстетике,
художественному творчеству. Бодрийяр — в этом была новизна его подхода
— спустил ее с небес на землю, перенес из сферы чистой онтологии и
эстетики в описание современной социальной реальности: то, чего не мог
помыслить Платон и к чему еще только стремятся современные художники в
попытках подорвать платоновскую схему репрезентации, — это,
оказывается, уже реализовано в действительности, которая в массовом
количестве вырабатывает самодостаточные,
3
В нескольких книгах Бодрийяра приводится фраза о симулякре, приписанная Екклезиасту: «Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина» (см.,
например: Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Galilée, 1981, p. 9);
нетрудно убедиться, что у Экклезиаста ничего похожего не сказано, гак что
эта фраза, равно как и слова «из книги пророка Даниила» в «Символическом
обмене...» (наст. изд., с. 235), сама является своего рода симулякром
библейской цитаты.
4
Gilles Deleuze, Logique du sens. Minuit, 1969, p. 302.
9
независимые от трансцендентных образцов симулякры и все больше
формирует из них жизненную среду современного человека.
В «Символическом обмене...» Бодрийяр предлагает историческую схему
«трех порядков» симулякров, сменяющих друг друга в новоевропейской
цивилизации от Возрождения до наших дней: «подделка — производство —
симуляция».
Симулякр первого порядка действует на основе естественного закона
ценности, симулякр второго порядка — на основе рыночного закона
стоимости, симулякр третьего порядка — на основе структурного закона
ценности (нyаст. изд., с. 111).
В этой трехчленной схеме можно заметить асимметрию, связанную с
неоднородностью объектов, которые становятся «моделями» для
278
симулякров: если подделка (например, имитация дорогих материалов в
платье или архитектурном убранстве) и производство (изготовление
серийных, идентичных друг другу промышленных изделий) касаются
материальных вещей, то симуляция, как о том говорит языковое
употребление данного слова, применяется скорее к процессам (симуляция
поступков, деятельности) или символическим сущностям (симуляция
болезни и т.п.). Такая историческая эволюция симулякров любопытно
напоминает личную эволюцию Жана Бодрийяра, который от
социологической критики вещей постепенно перешел к критике абстрактных
сущностей, циркулирующих в обществе. В его «Системе вещей» уже
упоминался «симулякр природы», обозначающий Идею Природы и
искусственно создаваемый в своем быту отпускником; или «фантазм
сублимированной подлинности», симулякр Истории, столь же искусственно
поддерживаемый в современном доме благодаря вкраплению в него коекаких фрагментов старинного здания, разрушенного при его постройке5 ; в
обоих случаях предметом симуляции являются абстрактные ценности
(Природа, История), но опирается она все-таки на конкретно-вещественные,
«поддельные» (то есть стадиально более ранние) элементы — яркую окраску
предметов отпускного быта, старинные камни, сохраненные в стене
новостройки. В «Символическом обмене...» акцент делается уже на чисто
действенных аспектах симуляции, где нет ни вещи как таковой, ни даже
вещества. Таков, например, симулятивный ответ при социологическом
опросе:
[...] тест и референдум представляют собой идеальные формы симуляции:
ответ подсказывается вопросом, заранее моделируется/обозначается им
(наст. изд., с. 132).
См.: Жан Бодрийяр, Система вещей, М., Рудомино, 1995, с. 28, 66.
12
Чистое, неограниченное становление представляет собой материал для
симулякров, поскольку оно уклоняется от действия Идеи, оспаривает
одновременно и модель, и копию7.
В более близкую нам эпоху попытку преодолеть время как фактор
становления, нарушающий устойчивость качеств и атрибутов, предпринял
структурализм: его лозунгом была спациальность, перевод временных
категорий в пространственные — будь то пространственность
исследовательских конструктов (структур, таблиц и т.д.) или же лишенное
временной необратимости, фактически пространственное толкование
процессов повествования, понимания, литературной эволюции8. Именно к
структурализму отсылает понятие «кода», которым регулируется, по
Бодрийяру, новейшая форма симуляции (предыдущие фазы развития
симулякров не имели такого обобщающего и вместе с тем специфического
для них закона: в самом деле, «природный» и «рыночный» законы ценности,
5
279
которыми они управлялись, вообще говоря, равно касались и симулякров, и
реальных объектов). Код — главная категория структурной лингвистики и
семиотики, позволяющая упорядочить и редуцировать, свести к
квазипространственным формам «безумное становление». Первые работы
Бодрийяра, особенно «Система вещей», создавались в момент высшего
подъема французского структурализма и своим системным подходом отчасти
вписывались в его методологию; выше уже сказано о перекличке «Системы
вещей» с вышедшей годом раньше образцово-методологической
монографией Барта о моде. Однако уже в той ранней книге Бодрийяра
содержался любопытный эпизод, который можно рассматривать как
имплицитную полемику со структуральным методом.
Как известно, в качестве одной из важнейших потребительских стратегий по
отношению к вещам Бодрийяр рассматривает коллекционирование.
Деятельность коллекционера — это не просто собирательство, но
систематическая манипуляция вещами, их подчинение определенному
комбинаторному коду; и вот в подобном психическом проекте автор книги
раскрывает бессознательную попытку упразднить время:
Действительно, глубинная сила предметов коллекции возникает не от
историчности каждого из них по отдельности, и время
7
Gilles Deleuze, op. cit.. p. 10.
8
См.: С.Зенкин, «Преодоленное головокружение: Жерар Женетт и судьба
структурализма», в кн.: Жерар Женетт, Фигуры: Работы по поэтике, т. 1, М.,
изд-во имени Сабашниковых, 1998, с. 22-41.
13
коллекции не этим отличается от реального времени, но тем, что сама
организация коллекции подменяет собой время. Вероятно, в этом и
заключается главная функция коллекции — переключить реальное
время в план некоей систематики [...]. Она попросту отменяет время.
Или, вернее, систематизируя время в форме фиксированных,
допускающих возвратное движение элементов, коллекция являет собой
вечное возобновление одного и того же управляемого цикла, где
человеку гарантируется возможность в любой момент, начиная с
любого элемента и в точной уверенности, что к нему можно будет
вернуться назад, поиграть в свое рождение и смерть9.
Ни здесь, ни вообще в тексте «Системы вещей» Бодрийяр ни словом не
упоминает о структуралистской методологии; скорее всего, он и не думал о
пей, когда анализировал психологию коллекционера. Однако ныне,
ретроспективно рассматривая этот фрагмент в контексте методологических
дискуссий 60-70-х годов, в нем можно увидеть своеобразную «пародию» на
структурализм — на его попытку отменить, «заклясть» время, подменить его
чисто пространственной (обратимой, «допускающей возвратное движение»)
комбинаторикой, которая лишь опосредованно обозначает опасно280
необратимое биографическое время человека, подобно тому как «старинные»
предметы в коллекции, будучи взяты сами по себе, обозначают или
симулируют время историческое. В научном предприятии структурализма
вскрывается регрессивное стремление человека современной цивилизации
забыть о собственной смертности — как бы приручить, нейтрализовать ее,
«поиграть в свое рождение и смерть». Эта методология оказывается сама
вписана в порядок современного общества, из абстрактно-аналитического
метаязыка превращается в прямое порождение объекта, который она сама же
пытается описывать. Принимая сторону «кода», структурализм невольно
вступает в сообщничество с симулякрами, создаваемыми этим кодом.
Но, расходясь со структуралистской методологией, Бодрийяр продолжает
опираться на фундаментальные интуиции, из которых исходил
структурализм. Его идея «послежития», призрачного существования как
основы симуляции, по-видимому, восходит к «Мифологиям» Ролана Барта, к
последней главе этой книги, где теоретически характеризуется феномен
коннотации как производства «мифических» значений10. В каждом знаке
имеется две инстанции — означаю9
Жан Бодрийяр, Система вещей, с. 81.
10
Сюда же относятся и мысли Бодрийяра о семиотизации человеческого тела
— от погребальных церемоний, помещающих тело умершего в плотную
оболочку знаков, до семиотики стриптиза, прямо перекликающейся с
соответствующей главой бартовских «Мифологий». Впрочем, и здесь
Бодрийяр идет по пути «радикализации гипотез»: если Барт анализировал
стриптиз как знаковое «заговаривание», социальную интеграцию опасной
стихии либидо, то, по Бодрийяру, сама эротическая привлекательность тела
возникает именно как результат его социализации и семиотизации, нанесения
на тело некоторой «метки».
14
щее и означаемое, но означаемое первичного, денотативного знака находится
в двойственном положении: с одной стороны, оно представляет собой
«смысл» этого первичного знака, а с другой стороны, образует «форму»,
означающее вторично-коннотативного знака («мифа»). И вот как Барт
анализирует эту двойственность:
[...] форма не уничтожает смысл, а лишь обедняет, дистанцирует, держит в
своей власти. Смысл вот-вот умрет, но его смерть отсрочена: обесцениваясь,
смысл сохраняет жизнь, которой отныне и будет питаться форма мифа. Для
формы смысл — это как бы подручный запас истории, он богат и покорен,
его можно то приближать, то удалять, стремительно чередуя одно и другое;
форма постоянно нуждается в том, чтобы вновь пустить корни в смысл и
напитаться его природностью; а главное, она нуждается в нем как в укрытии"
.
«Отсроченная смерть» первичного смысла уподобляется вампирическому
281
паразитированию «мифа» на теле первичного языка:
[...] миф — язык, не желающий умирать; питаясь чужими смыслами, он
благодаря им незаметно продлевает свою ущербную жизнь, искусственно
отсрочивает их смерть и сам удобно вселяется в эту отсрочку; он превращает
их в говорящие трупы12.
Эта отсроченность позволяет вторичному знаку — и господствующему
классу, который такие знаки производит, — порабощать первичный знак, а
вместе с ним и общество, наивно пользующееся его «прямым» значением:
словно в гегелевской диалектике Господина и Раба, первичный знак
сохраняет продленную жизнь, но зато утрачивает собственную сущность,
начинает значить не то, что является его собственным смыслом, а то, чего
требует от него Господин. И Бодрийяр, прямо упоминающий этот
знаменитый фрагмент из «Феноменологии духа» в своем «Символическом
обмене...» (см. наст. изд., с. 102), в другом месте отчетливо связывает
темпоральность «отсрочки» с возникновением и существованием любой
власти — духовной и светской, господствующей и «оппозиционной»:
11
Ролан Барт, Мифологии, М., изд-во имени Сабашниковых, 1996, с. 243.
12
Там же, с. 259. Комментарий к этим формулировкам см. в нашей вступительной статье к указанному изданию «Мифологий» Барта, с. 11-12, 27.
15
Все инстанции подавления и контроля утверждаются в пространстве разрыва,
в момент зависания между жизнью и ее концом, то есть в момент выработки
совершенно фантастической, искусственной темпоральности [...] (наст. изд.,
с. 273).
Церковь живет отсроченной вечностью (так же как государство —
отсроченным общественным состоянием, а революционные партии —
отсроченной революцией: все они живут смертью) [...] (наст. изд., с. 259).
Все эти абстрактно-онтологические суждения подкрепляются конкретным
анализом общественного быта. Так, «отсроченность» как темпоральность
симуляции13 уже являлась предметом анализа в «Системе вещей» в
нескольких своих непосредственно социальных проявлениях. Во-первых, это
уже упомянутое выше коллекционирование: коллекция всегда должна
оставаться незавершенной, в ней обязательно должно недоставать какого-то
предмета, и этот завершающий предмет (знаменующий собой смерть
коллекции и, в некотором смысле, самого коллекционера), все время
является отсроченным14. Во-вторых, это известный феномен запаздывания
серийных вещей по сравнению с модным образцом:
[...] чистая серия [...] располагается совсем не в актуальной
современности (которая, наряду с будущим, составляет достояние
авангарда и моделей), но и не в давнем прошлом, составляющем
исключительную принадлежность богатства и образованности, — , ее
временем является «ближайшее» прошлое, то неопределенное
282
прошлое, которое, по сути, определяется лишь своим временным отставанием от настоящего; это та межеумочная темпоральность, куда
попадают модели вчерашнего дня [...] таким образом, большинство
людей [...] живут не в своем времени, но во времени обобщенно-незначимом; это время еще не современности и уже не старины, и ему,
вероятно, никогда и не стать стариной [...] серия по отношению к
модели [...] представляет собой утрату времени в его реальном
измерении; она принадлежит некоему пустому сектору повседневно13
Понятие «отсрочки» разрабатывалось и у других послевоенных французских мыслителей: в художественной форме — у Жан-Поля Сартра («Отсрочка», 1945) и Мориса Бланшо («При смерти», 1948), в спекулятивной форме — у Жака Деррида, чей термин différence, то есть «отсрочка-отличие»,
прямо упомянут в «Символическом обмене...» Бодрийяра. Представляется,
однако, что именно интуиция, выраженная в «Мифологиях» Барта, имела
определяющее значение для бодрийяровского понятия симуляции.
14
«[...] появление конечного члена серии означало бы, по сути, смерть
субъекта, отсутствие же его позволяет субъекту лишь играть в свою смерть,
изображая ее как вещь, а тем самым заклиная». — Жан Бодрийяр, Система
вещей, с. 78.
16
сти, к негативной темпоральности, которая механически питается отбросами моделей15.
Двусмысленное «послежитие» серийных вещей, уже оторвавшихся от
«подлинности», сущностной полноты старинных вещей и лишь безнадежно
догоняющих остроактуальное существование модных образцов, сопоставимо
с тем отсроченно-посмертным псевдобытием, которым в «Символическом
обмене...» характеризуются симулякры производства, общественного
мнения, Революции, человеческой жизни и смерти как таковой или, скажем
(в сфере художественного творчества), автоматического письма
сюрреалистов, которое внешне решительно отменяет смысл, а на самом деле
«только и живет ностальгией по означаемому» (наст. изд., с. 343). Серийная
вещь застряла на полпути между реальностью и идеалом: реальность в ней
уже отчуждена от себя самой, уже захвачена чуждым ей смыслом (ориентацией на опережающую ее модель), но никогда не сможет достичь
идеальности самой этой модели. У «невещественного» же симулякра по
определению нет материального тела, и для него позади остается уже его
идеальная сущность, от которой он оторвался и которую он безнадежно
стремится догнать. Линейная темпоральность материальных симулякров
свертывается в петлю на уровне этих бестелесных подобий, захваченных
бесплодным «коловращением репрезентации» (наст. изд., с. 149),
головокружительной
сменой
сущности/видимости16,
сравнимой
с
навязчивым повторением при неврозе. Ситуация безнадежной погони здесь
283
усугубляется, так как это погоня за собой, за собственной тенью-моделью,
фактически же — за «настоящей», символической смертью, которой
«доживающего» лишает паразитирующая на нем социальная инстанция. В
результате получается парадоксальная ситуация, которую Бодрийяр в одной
из следующих работ обозначил как «прецессию симулякров» —
предшествование подобий собственным образцам:
Территория больше не предшествует карте и не переживает се. Отныне
сама карта предшествует территории — прецессия симулякров, —
именно она порождает территорию [...]17.
15
Жан Бодрийяр, Система вещей, с. 126-127.
16
Ср. бартовскую «вертушку» коннотативного знака, где «означающее
постоянно оборачивается то смыслом, то формой, то языком-объектом, то
метаязыком, то чисто знаковым, то образным сознанием» (Ролан Барт,
Мифологии, с. 248).
17
Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, p. 10. В этой формуле существенно употребление столь важного для бодрийяровской темпоральности
глагола survivre: «Территория [...] не переживает [...]». При «нормальной»
(платоновской) репрезентации модель «переживает» свое подобие, она в
принципе долговечнее его; при тотальной симуляции реальность
«переживает» лишь сама себя, переходит в состояние «послежития»,
которым и питается подобие.
17
В самом деле, если на «подделочной» и «производственной» стадии
вещественные симулякры получались путем копирования некоторых реально
существующих образцов, то на стадии «симуляции» образцов фактически нет
— они отброшены в абсолютное прошлое «утерянных и никогда не бывших
объектов», как характеризуется «реальное» в топике бессознательного у
Лакана, или, что то же самое, маячат где-то в недосягаемом будущем
«воображаемого»18. Прецессия симулякров равнозначна прецессии
следствий, когда следствия возникают прежде причин; в современной
экономике примером тому является коммерческий кредит, позволяющий
приобретать и потреблять вещи, еще не заработав их, так что «их
потребление как бы опережает их производство»19. И такое опережающее
потребление, разрушающее причинность, связано, разумеется, со
специфическим искривлением времени, как и в логике «послежития»:
Невыкупленная вещь убегает от вас во времени, она никогда и не была
вашей. И такое убегание вещи соответствует, на другом уровне,
вечному убеганию серийной вещи, стремящейся настичь модель [...]
Мы вечно отстаем от своих вещей20.
Во французском языке есть специальное выражение для головокружительнобезответственного
наступления,
безоглядного
повышения
ставок,
симулирующего прогресс, — la fuite en avant, «убегание вперед». Наиболее
284
очевидная в поведении азартных игроков, политиков, предпринимателей («не
сумел построить трансформаторную будку — начинай строить вокруг нее
завод-гигант»), подобная «фатальная стратегия», как назвал это Бодрийяр в
одноименной книге 1983 года, фактически работает и в масштабе всего
современного общества, от материально-вещественных до абстрактноинституциональных его аспектов.
Однако «убегание вперед» может мыслиться не только в своей «слабой»,
асимптотической форме — в образе Ахиллеса, пытающегося нагнать
черепаху; наряду с этим бесконечно медленным у него есть и бесконечно
быстрый, «сильный» вариант — катастрофичес18
«Политическая экономия для нас — это теперь реальное, то же самое, что
референт для знака: горизонт уже мертвого порядка явлений, симуляция
которого позволяет, однако, поддержать «диалектическое» равновесие
системы. Реальное — следовательно, воображаемое» (наст. изд., с. 86).
19
Жан Бодрийяр, Система вещей, с. 132.
20
Там же, с. 131.
18
кое время экспоненциального роста или ступенчатой потенциализации.
Бодрийяр еще в книге «Общество потребления» (1970) подверг критике
оптимистическую идеологию «валового экономического роста»; а в
«Символическом обмене...» он отмечает, что неконтролируемый и
иррациональный рост происходит не только в собственно хозяйственной
области:
Такую модель продуктивности — быстрый и неуклонный рост
экономики, галопирующая демография, ничем не ограниченная
дискурсивность — следует анализировать одновременно во всех ее
планах (наст. изд., с. 334).
Параллелизмы в описании экономических, социальных и культурных
процессов — вообще типичный исследовательский прием Бодрийяра,
который еще начиная с книги «К критике политической экономии знака»
(1972) стремился свести структуру и эволюцию современного общества к
единой порождающей схеме. Например, безреференциальным знакам
кибернетических систем соответствуют не обеспеченные устойчивым
золотым стандартом, «плавающие» денежные знаки современных валют;
лингвистический субъект — такая же небескорыстная историческая фикция,
как и субъект экономический; лозунги освобождения производства от
капитала и «раскрепощения» бессознательного — также однородные
симулякры «революции». Нередко подобные аналогии подкрепляются
лексической структурой французского языка: так, во французской традиции
психоанализа отмечавшееся еще Фрейдом сходство материальной и
«либидинальной экономики» (механизмов бессознательного) давно уже
зафиксировано в полисемии слова investissement, обозначающего «вложение»
285
как денег в предприятие, так и психической энергии в некоторый реальный
или воображаемый объект21.
Поскольку разнородные по «материалу» симулякры обнаруживают глубокие
структурно-стадиальные сходства, их развитие происходит не как
постепенный и неравномерный взаимопереход, а как общая структурная
революция — разные сферы общества меняются все вдруг, используя
прежнюю форму как материал для симуляции:
21
По-русски второе значение термина еще с 20-х годов принято передавать
словом «нагрузка», или «загрузка». В данной книге для сохранения семантической структуры понятия мы рискнули воспользоваться и в этом значении
словом «инвестиция», тем более что Бодрийяр еще и обыгрывает
этимологическую внутреннюю форму французского глагола: «[...] капитал
облекает [investit] трудящегося зарплатой как некоторой должностью или
ответственностью. Или же он действует как захватчик, который осаждает
[investit] город; — глубоко охватывает его и контролирует все входы и
выходы» (наст. изд., с. 70).
19
Каждая конфигурация ценности переосмысливается следующей за ней
и попадает в более высокий разряд симулякров. В строй каждой такой
новой стадии ценности оказывается интегрирован строй предыдущей
фазы — как призрачная, марионеточная, симулятивная референция
(наст. изд., с. 43).
Каждый новый порядок симулякров подчиняет себе предыдущий (наст.
изд., с. 122).
Это и есть феномен, лишь бегло намеченный в «Символическом обмене...» и
несколько глубже объясненный в книге «Фатальные стратегии»:
Единственное возможное сегодня революционное изменение вещей —
это не диалектическое снятие (Aufhebung), a их потенциализация,
возведение во вторую, в энную степень [...]. В ходу сегодня уже не
диалектика, а экстаз22.
Это очень важное разграничение, позволяющее понять не только логику
симулятивной системы, но и двойственную позицию самого Бодрийяра по
отношению к ней. Потенциализация принципиально отличается от
диалектики: процесс развития современного общества при всей его
конфликтности идет «уже не диалектически, а катастрофически» (наст. изд.,
с. 71), и «в итоге этого процесса не приходится ждать никакой
диалектической революции, это просто разгонка по спирали» (наст. изд., с.
262). «Катастрофический» ход событий — чисто временное, а не логическое
их развитие: в нем пет логической непрерывности, не происходит
диалектического «снятия», так как отсутствует идентичность того, что
развивается. Симулякр именно в силу своего нереального, «ненастоящего»
статуса не обладает собственным содержательным ядром, которое могло бы
286
конфликтно превозмогать само себя в ходе диалектических революций, — он
представляет собой пустую форму, которая безразлично «натягивается» на
любые новые конфигурации, так что «интеграция» предыдущей фазы
симулякров, о которой упоминает Бодрийяр, ни в коем случае не должна
пониматься по аналогии с гегелевским Aufhebung. «Снятие» возможно при
развитии и взаимодействии самостоятельных сущностей — но какая же
может быть диалектика в отношениях между цифрами или знаками
дорожного движения, то есть между объектами сугубо условными,
обретающими свое бытие только в соотнесении с кодом?
В этом смысле и следует понимать постоянные у Бодрийяра нападки на
диалектику. В своей ранней «Системе вещей» он (как и
22
Jean Baudrillard, Les stratégies fatales, Grasset, 1986 [1983], p. 46.
20
ранний Ролан Барт) еще допускал существование некоего «пулевого» уровня
вещей — уровня технологической функциональности, не зараженной
вторичными, социально-психологическими факторами и функциями; в этой
книге темпоральность убегающей модели еще характеризовалась как
«формальная идеализация процесса превосхождения»23, то есть некоторое
искажение «правильного» диалектического процесса. Напротив, в
позднейших книгах он не устает повторять, что диалектика — вредная
иллюзия наподобие марксистской потребительной стоимости вещей, которая
на самом деле есть лишь «вырожденная форма меновой стоимости»24 ; это
миф «золотого века» политической экономии и орудие властного господства:
«в истории мы наблюдаем торжество церкви и диалектики (включая
диалектику «материалистическую»)» (наст. изд., с. 267), радикальные же
идеи типа фрейдовского «влечения к смерти» существуют только вне всякой
диалектики:
Каждая наука, каждая рациональность живет столько, сколько длится этот
раздел [между теорией и практикой. — С.З.]. Диалектика лишь формально
упорядочивает его, но никогда не может разрешить. Диалектизировать
инфра- и суперструктуру, теорию и практику, или же означающее и
означаемое, язык и речь — все это тщетные попытки тотализации (наст. изд.,
с. 360).
Влечение к смерти необходимо защищать от любых попыток
редиалектизировать его в рамках каких-либо новых конструктивных
построений (наст. изд., с. 268).
Диалектика была способом мышления — и способом бытия и становления
вещей — на стадии симулякров первого и второго порядка, еще сохранявших
связь с вещами и их идентичностью. На нынешней, третьей стадии эта логика
идентичности и подобия (репрезентации) сменяется логикой отличия и
означивания (коннотации). В самом деле, коннотация, как ее описал вслед за
лингвистами Копенгагенской школы Ролан Барт, являет собой
287
квазидиалектическую процедуру, в ходе которой первичный знак
интегрируется вторичным, как бы «снимается» им. Но — именно «как бы».
Между первичным, «естественным», и вторичным, «мифическим» значением
пет
23
Жан Бодрийяр, Система вещей, с. 119-120.
24
См.: Jean Baudrillard, La gauche divine, Grasset, 1985, p. 21. Тем более
ошибочно, утверждает Бодрийяр, ретроспективно проецировать эту
современную иллюзию на первобытное мышление: «В первобытных
обществах нет способа производства и вообще производства. » первобытных
обществах
нет
диалектики,
в
первобытных
обществах
нет
бессознательного» (Jean Baudrillard, Le miroir de la production, Folio Essais,
1994 (Galilée, 1973], p. 31).
21
никакого родства, второе не вырастает сколь угодно конфликтным образом
из первого, а лишь механически присоединяется к нему извне; если уж
искать виталистские параллели, то отношение двух знаков скорее походит,
как уже сказано, на паразитизм или вампиризм. Таковы две принципиально
отличных модели знако- и вообще формообразования, смена которых
ознаменовала собой границу XIX и XX столетий в европейской культуре.
Последние два столетия диалектику обычно рассматривают как средство
социальной критики. Так и бартовская модель коннотации, при всей
ограниченности своей диалектики, открывает, казалось бы, перспективу
преодоления знака-мифа — как в направлении его логической критики, с
помощью метаязыка, так и в направлении его творческого «переигрывания»,
ремифологизации, включения в новую коннотативную схему. О таком
полугипотетическом решении писал сам Барт, усматривая тому некоторые
примеры в современной литературе (у Флобера в «Буваре и Пекюше», у
Сартра в «Некрасове»):
[...] возможно, лучшее оружие против мифа — в свою очередь
мифологизировать его, создавать искусственный миф; такой
реконструированный миф как раз и оказался бы истинной мифологией.
Если миф — похититель языка, то почему бы не похитить сам миф?
Для этого лишь нужно сделать его исходным пунктом третичной
семиологической цепи, превратить его значение в первый элемент
вторичного мифа25.
Учитывая важность бартовских «Мифологий» в идейной структуре
бодрийяровского «Символического обмена...», есть основание видеть в
предисловии к этой последней книге прямую полемику с Бартом, хотя имя
его здесь и не названо. Бодрийяр оценивает идею «превзойти систему в
симуляции» (наст. изд., с. 45), то есть построить из социально наличных
симулякров свои собственные, творческие и субверсивные:
Симулякрам третьего порядка следует [...] противопоставлять как
288
минимум столь же сложную игру — а возможно ли это? [...] Может
быть, изобретать симулякры логически (или алогически) высшего
порядка, более высокого, чем нынешний третий, выше всякой
детерминированности и недетерминированности — но будут ли это
еще симулякры? На более высоком уровне, чем код, пожалуй,
оказывается одна лишь смерть [...] (наст. изд., с. 44-45).
25
Ролан Барт, Мифологии, с. 262.
22
В игре надстраивающихся друг над другом подобий («гиперреальности»,
«трансполитики» и проч.) господствующий строй симулякров в конечном
счете всегда опережает своих критиков, и сколько они ни пытаются
переиграть и низвергнуть его, их «революция «отстает на одну войну» от
способа репрессии» (наст. изд., с. 211)26, — то есть при подобных попытках
борьбы с симулякрами третьего порядка фактически воспроизводится, с
запозданием на одну фазу, типичная темпоральность симулякров второго
порядка, время вечного запаздывания! Бодрийяр и здесь «радикализирует»
Барта, в отличие от него он лучше видит способность ложных подобий, вопервых, образовывать единую связную систему, а во-вторых, стремительно
развиваться в режиме потенциализации, недиалектического самопреодоления, позволяющего им интегрировать, «перехватывать» любые оппозиционные — в том числе и симуляционные — проекты и семиотические
коды. Впрочем, следует признать, что «сильный» режим симулятивной
темпоральности сформулирован у Бодрийяра гораздо менее четко, чем
«слабый» (соответственно нам здесь пришлось сделать значительно большие
усилия для его реконструкции), и мы еще увидим, что в конечном счете это
отразилось на идейной стройности всей его концепции и на ее статусе в
культуре.
Логика симуляции делает неприменимой еще одну темпоральную схему,
связанную с диалектической логикой, — эсхатологию. Бодрийяр понимает
сущностную необходимость апокалиптических мечтаний для человеческого
сознания: в то время как официальная церковь «живет отложенной
вечностью», в народных верованиях всегда присутствует противоположное
устремление: «Первоначально толпы христиан не верили в посмертный рай
или ад; по их воззрениям предполагалось разрешить смерть коллективной
волей к немедленной вечности» (наст. изд., с. 259). Но преодоление времени
и истории, зафиксированное в эсхатологических мифах и ожиданиях,
совершается системой симулякров на их собственный лад: «симулякры берут
верх над историей», «ликвидируют пас вместе с историей» (наст. изд., с. 122,
94), подменяют настоящее историческое развитие «иллюзией конца». Это
последнее выражение стало названием книги Бодрийяра
26
Ср. в позднейшей книге Бодрийяра: «Капитал — большой плут, он не
играет в игру критики, то есть фактически — истории, он обыгрывает
289
диалектику, которой удастся воссоздать его лишь задним числом, с
опозданием на одну революцию». - Jean Baudrillard, Amérique, Grasset, 1986,
p. 158-159. По словам Бодрийяра, именно США, с их исторической
«беспочвенностью», являют собой особо впечатляющую картину
экспоненциального развития всевозможных форм неподлинности: «Здесь вы
без всяких усилий ощущаете это восхождение симулякра во все более
высокую степень» (ibidem, p. 208).
23
(1992), в которой, как и в ряде других текстов тех же лет, обосновывается
тезис, впервые прозвучавший еще в «Символическом обмене...»:
[...] Страшный Суд уже происходит, уже окончательно свершился у нас
на глазах — это зрелище пашей собственной кристаллизованной
смерти (наст. изд., с. 321).
Нашим апокалипсисом является само наступление виртуальности,
которое и лишает нас реального события апокалипсиса27.
Вместо «подлинной» трансисторической катастрофы — конца света —
западная цивилизация последних десятилетий XX века живет ее ослабленносимулятивными формами. Здесь и «возвратный ход» истории,
реутилизирующей (наподобие моды, но уже в «серьезном» государственноидеологическом регистре) собственное прошлое — от помпезного 200летнего юбилея Французской революции до ретроспективных, запоздавших
«на одну войну» попыток расчета с прошлым вроде судов над
коллаборационистами и военными преступниками. Здесь и полная отмена
реального развития и реальных событий в «реальном времени» современных
систем информации — феномен, который позволил Бодрийяру в 1991 году
объявить «несостоявшейся» войну в Персидском заливе, от начала до конца
демонстрировавшуюся в режиме виртуальной реальности телекамерами СиЭн-Эн28. Можно критически относиться к подобным суждениям — слишком
частным, слишком поспешным, слишком связанным с политической злобой
дня и, разумеется, труднодоказуемым; как бы то ни было, в них с
провокативностью
газетной
эссеистики
выражена
парадоксальная
темпоральность, в которой асимптотический вариант времени симулякров
(современная жизнь как «послежитие») подчиняет себе даже такое
катастрофическое событие par excellence, как Апокалипсис, — это
Апокалипсис «уже состоявшийся». Бодрийяр даже предлагает...
наслаждаться подобным оборотом вещей:
Наш Апокалипсис не реальный, а виртуальный. И он не в будущем, а
имеет место здесь и теперь [...]. Такое обращение знака катастрофы
является исключительной привилегией пашей эпохи. Это избавляет пас
от всякой будущей катастрофы и от всякой ответ27
Jean Baudrillard, Le paroxyste indifférent, Grasset, 1997, p. 47.
28
См.: Jean Baudrillard, La guerre du Golf n'a pas eu lieu, Galiliie, 1991. К числу
290
подобных симулякров современной истории относится и «разморозка
Востока» в 90-е годы, по мысли Бодрийяра - псевдоисторическое
псевдособытие, лишь имитирующее восстановление демократического строя
с многолетним запозданием. См.: Jean Baudrillard, L'illusion de la fin, Galilée,
1992, p. 49-55.
24
ственности на сей счет. Конец всякому превентивному психозу, довольно паники, довольно мучений совести! Утраченный объект остался
позади. Мы свободны от Страшного Суда29.
Итак, «состояние постмодерна» по Бодрийяру — это постапокалиптическое
состояние, когда «приходит конец» историческим институтам, привычным
человечеству по стадии «политической экономии», — производству,
политическому
представительству,
революционному
движению,
30
диалектике... ; они не разрушаются насильственно, но незаметно заменяются
подобиями, обозначающими их «в натуральную величину» и «в реальном
времени». Порядок си-мулякров одерживает полную победу над реальным
миром, поскольку он сумел навязать этому миру свое время симулякров, свои
модели темпоральности.
Символическая альтернатива
«В «Символическом обмене и смерти» вы, если можно сказать, еще были
социологом», — заметил журналист Филипп Пети в беседе с Бодрийяром.
Тот живо возразил:
Нет, я никогда не был социологом в таком смысле. Я очень быстро
отошел от социологии институтов, права, общественных структур, от
всех тех подходов, которые зиждутся на понятии какой-то
воображаемой социальности, трансцендентной настоящей социальности. Моим предметом является скорее общество, теряющее
трансцендентность, где исчезает социальность и само понятие социальности...31
В этом диалоге хорошо схвачен проблематичный дисциплинарный статус
Бодрийяра-ученого. Социолог по образованию, он сделал себе имя научным
анализом потребления — объекта, который зачастую оставлялся в стороне
серьезной, академической социологией и отдавался на откуп «прикладным»,
коммерческим, маркетинговым исследованиям. Но так было только у раннего
Бодрийяра; его позднейшие занятия гораздо труднее охарактеризовать в
рамках традиционной классификации наук, и за осторожно-извиняющейся
оговор29
Jean Baudrillard, L'illusion de la fin. Galilee, 1992, p. 166, 169.
30
«Конец линейному характеру времени, речи, экономических обменов и
накопления, власти»; «Конец труда. Конец производства. Конец
291
политической экономии»; «Конец линейного измерения дискурса. Конец
линейного измерения товара. Конец классической эры знака. Конец эры
производства» (наст. изд., с. 42, 52, 000), и т.д. и т.п.
31
Jean Baudrillard, Le paroxyste indifférent, p. 76-77.
25
кой интервьюера («вы, если можно сказать, еще были...»), за отмежеванием
самого Бодрийяра от «социальности» как чего-то «трансцендентного»
обществу скрывается, с одной стороны, изначальная двойственность
социологического подхода к пониманию общества, а с другой стороны —
конкретная политико-идеологическая ситуация 60-70-х годов, в которой
работал автор «Символического обмена и смерти».
В социологии еще с конца XIX века, с зарождения этой науки, сосуществуют
две тенденции, сравнимые с реализмом и номинализмом в средневековой
философии. Согласно одной из них, представленной теориями Эмиля
Дюркгейма, «индивид возникает из общества, а не общество из индивидов»32,
то есть общество существует как первичная инстанция целого, через которую
осуществляются, которой санкционируются любые индивидуальные
представления и поступки его членов. Согласно второй тенденции,
основоположником которой может считаться Макс Вебер, «ни общество в
целом, ни те или иные формы коллективности не должны рассматриваться в
качестве субъектов действия; таковыми могут быть только отдельные
индивиды»33 . Средневековый вопрос о бытии общих понятий (универсалий)
конкретизируется здесь в форме вопроса о бытии социума: является ли
общество реальным субъектом исторического действия или же только
условным исследовательским конструктом?
В 60-е годы эта абстрактно-научная проблема получила новое звучание в
идеологии «новых левых». В «Символическом обмене...» Бодрийяр цитирует
один из главных текстов этого идейного течения — «Одномерный человек»
Герберта Маркузе, — где обрисован новый модус существования социальной
инстанции, ее полное господство над сознанием современного человека, не
допускающее никакого критического, диалектического преодоления:
[...] возникает модель одномерного мышления и поведения, в которой
идеи, побуждения и цели, трансцендирующие по своему содержанию
утвердившийся универсум дискурса и поступка, либо отторгаются,
либо приводятся в соответствие с терминами этого универсума [... ]34.
Не пользуясь этим словом, Маркузе фактически описал здесь реальность
симулякра — абстрактной модели, подчиняющей своему гос32
Раймон Арон, Этапы развития социологический мысли, М., ПрогрессУннвсрс, 1993, с. 320.
33
П.П.Гайденко, «Социология Макса Вебера», в кн.: Макс Вебер, Избранные
произведения. М., Прогресс, 1990, с. 13.
34
Герберт Маркузе. Одномерный человек, М., REFL-book, 1994, с. 16.
292
26
подству вполне реальные силы протеста и отрицания35. Это всеобъемлющая
реально-фиктивная власть, которую англоязычные теоретики «новых левых»,
включая Маркузе, обозначили словом «Истеблишмент», а Жан Бодрийяр,
ближе связанный с традицией структурализма, — термином «код». Код,
истеблишмент, система симулякров — это и есть «трансцендентная»
социальная инстанция нашего времени.
В условиях, когда «реализм», вернее псевдореализм социальных симулякров
становится фактором тоталитарного господства, для критического,
ангажированного социолога, каким был Бодрийяр, неизбежным оказывается
воинствующий «номинализм»: он должен не просто отстаивать, а
вырабатывать, проектировать такие формы социального действия, которые
бы не проходили через инстанцию «социального». У этого действия имеется
и своя темпоральность — темпоральность обмена.
Обмен между социальными агентами всегда, еще со времен Макса Вебера,
выдвигался как альтернатива привязанности индивида к системе, как
возможность прямых, немистифицированных общественных отношений. В
современной социологии радикализм понимания обмена прямо зависит от
того, насколько учитывается в нем временное измерение. Так, Клод ЛевиСтросе в своей структурной антропологии, генетически связанной с идеями
обмена у племянника и ближайшего последователя Э.Дюркгейма Марселя
Мосса, развертывает систему обменов (словами, дарами, женщинами),
образующих первобытное общество и происходящих в структурнологической сфере, вне непосредственно переживаемого времени; с этим
связана резкая критика, которой подвергает его Бодрийяр в своем
«Символическом обмене...», чувствуя, что за интеллектуалистскими и
гуманистическими установками лидера французского структурализма может
скрываться подчинение индивида социальной инстанции и редукция, упрощение и обуздание обменных процессов. Напротив, Пьер Бурдье в книге
«Практический смысл» (она вышла несколькими годами позже
бодрийяровской) оспаривает «объективистскую модель» Леви-Стросса и
подчеркивает темпоральный аспект обмена даже в традиционных обществах,
где никакие его институциональные схемы не действуют автоматически:
35
Новая императивная сила «магически-ритуального языка» этой системы,
заключающаяся в том, «что люди не верят ему или даже не придают этому
значения, но при этом поступают в соответствии с ним» (Герберт Маркузе,
цит. соч., с. 135), в точности соответствует феномену «логики Деда Мороза»,
описанному у Бодрийяра в «Системе вещей» как механизм действенности
рекламы -важнейшего социального института современной системы (см.:
Жан Бодрийяр, Система вещей, с. 137-138).
27
Ввести фактор неопределенности — значит ввести фактор времени с
293
его ритмом, с его необратимостью, заменяя механику моделей
диалектикой стратегий [...]36.
При «объективистском» подходе непреложными считаются, например, три
обязанности, связанные с обменом дарами, — «давать, получать,
возмещать»37, на самом же деле индивид может и уклониться от принятия
дара (если считает его недостойным себя), и промедлить с его возвратом
(«чтобы не стать оскорбительным, [дар] должен быть отсроченным и иным,
— ведь немедленно отдариться в точности такой же вещью будет с
очевидностью равнозначно отказу от дара»)38, то есть в реальном обществе,
пронизанном отношениями власти и чести, обмен представляет собой
сложно ритмизованный процесс, и от чуткости человека к этому ритму
зависит устойчивость его социального положения.
Именно такие субъективно переживаемые обмены, чреватые вызовом и
риском для участников, ставящие их в конфликтно-силовые отношения
между собой, и обозначаются у Бодрийяра термином «символический
обмен». «Радикализируя» антропологию Марселя Мосса («побивать Мосса
самим же Моссом» — наст. изд., с. 42)39, осуществляя по отношению к ней
свое «теоретическое насилие» (наст. изд., с. 42), он связывает символический
обмен с процессами противоборства, ставкой в котором и возможным
результатом которого является власть:
[...] символическое насилие выводится из особой логики
символического [...] — из таких явлений, как обращение, непрес36
Pierre Bourdieu,Le sens pratique, Minuit, 1980, p. 170. В отличие от
Бодрийяра Бурдье, как видим, не считает необходимым отказ от диалектики.
37
Марсель Мосс, Общества. Обмен. Личность. М., Издательская фирма
«Восточная литература» РАН, 1996, с. 146 след.
38
Pierre Bourdieu,op. cit., p. 179. Ср. сходное рассуждение в поздней книге
Бодрийяра, где ритуальное время обмена противопоставляется «реальному
времени» современных средств коммуникации, с их установкой на
мгновенную реакцию: «Правила коммуникационной сферы (интерфейс,
незамедлительность, упразднение времени и дистанции) не имеют никакого
смысла при обмене, где правилом является никогда не возвращать
немедленно то, что подарено. Дар нужно возместить, но ни в коем случае не
сразу. Это серьезное, смертельное оскорбление. Взаимодействие ни в косм
случае не является мгновенным. Время — это как раз то, что разделяет два
символических момента и задерживает их разрешение» (Jean Baudrillard, Le
crime parfait, Galilee, 1995, p. 55).
39
И чуть ниже: «Принцип обращения (отдаривания) следует обращать
против любых экономических, психологических или структуралистских
толкований, которым открывает дорогу Мосс» (наст. изд., (. 42), —
подразумеваются, конечно, концепции Леви-Стросса и вообще тенденция
объективистской, атемпо-ральной трактовки обмена.
294
28
танная обратимость отдаривания и, наоборот, захват власти путем
одностороннего одаривания [...]. Первобытный символический процесс
не знает бескорыстного дара, ему известны лишь дар-вызов и
обращение обменов. Когда эта обратимость нарушается (именно в силу
возможности одностороннего одаривания, каковая предполагает
возможность накопления и одностороннего перемещения ценностей),
то собственно символическое отношение гибнет и возникает власть; в
дальнейшем она лишь развертывается в экономическом механизме
договора (наст. изд., с. 96).
Здесь видна вся сложность бодрийяровского понятия «символическое». Оно
является социальной характеристикой, особым типом социального действия
— и этим сразу отличается от лакановского термина «символическое»,
обозначающего определенный регистр психической деятельности (при том
что два других, коррелятивных термина — «реальное» и «воображаемое» —
употребляются у Бодрийяра в достаточно точном лакановском смысле). С
другой стороны, оно отличается и от того смысла, в котором Леви-Стросе
пишет об «эффективности символов», имея в виду символы,
санкционированные социальной инстанцией, структурами коллективного
сознания
(«Фактически
символическое
просто
принижается
до
воображаемого», — негодует по его адресу Бодрийяр. — наст. изд., с. 244).
Символическое — это особая неустойчивая, конфликтная, еще-не-обретшая
формы стадия знаковой деятельности, где обращению (в обоих смыслах
этого русского слова, соответствующих французским circulation и réversion,
то есть «непрерывное движение» и «обратный, возвратный ход») еще не
поставлены препоны типа власти, цензуры, принципа реальности:
В первобытных культурах знаки открыто циркулируют по всей
протяженности «вещей», в них еще не «выпало в осадок» означаемое, а
потому у них и нет никакого основания или истинного смысла (наст.
изд., с. 180).
Когда свободная «циркуляция» знаков закупоривается, то образуются
«тромбы», сгустки власти, возникают феномены накопления и ценности40. В
этот момент «символическое отношение гибнет»; его механизмы корыстноодносторонне используются властью,
40
Valeur — один из универсальных терминов, который у Бодрийяра (как,
впрочем, уже и у Соссюра) работает в разных семантических полях: это и
«стоимость» в Экономикс, и «ценность» в философии, и «значимость» или
«смысл» в применении к языку, и даже «эффект» в эстетических
конструкциях, таких как живопись... По-русски нет термина,-который был бы
«общим эквивалентом» всех этих значений; в переводе данной книги, чтобы
хоть как-то отметить их непрерывный взаимопереход, иногда приходилось
использовать искусственные гибридные образования — например,
295
«смысловая ценность».
29
социальной инстанцией, своими дарами она блокирует возможность
ответного дара, включая высший дар, дарование жизни: «[...] власть, вопреки
бытующим представлениям, — это вовсе не власть предавать смерти, а как
раз наоборот — власть оставлять жизнь рабу, который не имеет права ее
отдать» (наст. изд., с. 101-102). Сталкиваются два темпоральных механизма
обмена: время свободного, неограниченного, хотя и ритмизированного
«обращения» слов, поступков, даров и т.д., и отрицательная темпоральность
остановленного времени, закупоренного обмена. А при современном,
третьем порядке симулякров образуется еще и третья темпоральность,
связанная с новейшим вариантом инстанции власти, — безразличная
циркуляция
симулятивных
знаков,
очищенных
не
только
от
референциальной привязки, но и от личностной «инвестиции». Это
«прохладная»
(Бодрийяр
пользуется
английским
словом
cool)
манипуляционная деятельность, не чреватая более страстями, вызовом и
риском; примером ее может служить манипулирование потребительскими
вещами или же механизм современной моды:
[...] мода являет собой то уже достигнутое состояние ускореннобезграничной циркуляции, поточно-повторяющейся комбинаторики
знаков, которое соответствует сиюминутно-подвижному равновесию
плавающих валют. В ней все культуры, все знаковые системы
обмениваются,
комбинируются,
контаминируются,
образуют
недолговечные равновесия, чья форма быстро распадается, а смысл их
не заключается ни в чем. Мода — это стадия чистой спекуляции в
области знаков, где нет никакого императива когерентности или
референтности, так же как у плавающих валют нет никакого
устойчивого паритета или конвертируемости в золото; для моды (а в
скором будущем, вероятно, и для экономики) из такой
недетерминированности вытекает характерная цикличность и
повторяемость, в то время как из детерминированности (знаков или же
производства) следует непрерывный линейный порядок (наст. изд., с.
176).
Следует подчеркнуть: «ускоренно-безграничная циркуляция» представляет
собой не символическое состояние, не возврат к безвластной, до-властной
исходной стадии, по противоположное ей состояние симуляции: здесь власть
кроется уже не в отдельных сверхценных, сакральных знаках, изъятых из
свободного символического обращения, а в самом процессе «безумного
становления» симулякров, подчиненных, однако же, формальному коду.
Символический обмен, противоположный как властным запретам,
сдерживающим обращение знаков, так и пустой, безответственной
комбинаторной свободе, образует промежуточное, неустойчивое состояние
296
социальности,
30
вновь и вновь возникающее в конкретных процессах взаимодействия людей
и вновь и вновь разрушаемое, поглощаемое системой.
В своей следующей книге «О соблазне» Бодрийяр прямо обозначил это
неуловимо-конкретное отношение как игру:
Создаваемая сю обязанность — того же рода, что при вызове. Выход из игры
уже не является игрой, и эта невозможность отрицать игру изнутри,
составляющая все ее очарование и отличие от порядка реальности, вместе с
тем и образует символический пакт, правило, которое следует непреложно
соблюдать, и обязанность в игре, как и при вызове, идти до конца41.
Роже Кайуа предложил классифицировать все многообразие человеческих
игр на четыре разряда: Agôn (состязательные игры), Aléa (случайностные,
«азартные»), Mimicry (подражательные) и Ilinx (экстатические)42. Ясно, что
символический обмен представляет собой, по Бодрийяру, «агонистическую»
игру, состязание, чреватое нешуточным противоборством, сравнимое с
дуэлью. В то же время эта игра способна доходить до крайних пределов, до
экстаза, оборачиваясь катастрофическим «истреблением» законов и
установок социальной инстанции, самозабвенным головокружением от
неостановимого и разрушительного обмена, подобного исследованному
Моссом потлачу (жертвенному обмену у североамериканских индейцев). С
другой стороны, порядок симулякров ведет против человека другую игру —
«мимикрическую», подменяя реальности условными подобиями (даже
капитализм, по мысли Бодрийяра, «всегда лишь играл в производство» —
наст. изд., с. 95), а в современной цивилизации — также и «алеаторную», по
только из нее все более улетучивается азартность межсубъектного
отношения, как в электронных cool-играх с безличным компьютером43.
Таким образом, исключительно частые в тексте «Символического обмена...»
и несравненно более ред41
Jean Baudrillard, De la séduction, Galilée, 1979, p. 181.
42
См.: Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Gallimard, 1967. Книга Кайуа, повидимому, является важным источником бодрийяровской концепции
символического обмена; к ней, помимо прочего, отсылают два важнейших
понятия, которыми пользуется Бодрийяр, — «симулякр» (подражательные
игры) и «головокружение» (экстатические игры); одна из глав этой книги так
и озаглавлена: «Simulacre et vertige».
43
«Coolness — это чистая игра дискурсивных смыслов, подстановок на
письме, это непринужденная дистантность игры, которая по сути ведется с
одними лишь цифрами, знаками и словами (...]. Достигнув определенной
фазы отрыва, они перестают быть средством коммуникации, товарооборота,
они и есть сам оборот, то есть форма, которую принимает сама система в
своем абстрактном коловращении» (наст. изд., с. 74).
297
31
кие в других книгах Бодрийяра слова и выражения с «игровой» семантикой
(«разыгрывать», «отыгрывать», «играть роль», «правила игры», «ставить на
карту», порой даже «функционировать» — по-французски jouer, «играть») —
это не просто навязчивый «языковой тик», а выражение одной из глубинных
интуиции, которой следует автор в своих идейных построениях. В высшей
своей форме игра воплощает в себе всю конфликтность отношений между
человеком и властью: Истеблишмент навязывает индивиду симулятивнобезответственную игру в Деда Мороза, в которого можно верить «понарошку» , а индивид пытается навязать своим богам агрессивно-разрушительную игру, принуждающую их к жертвенной гибели:
[...] наслаждение всякий раз возникает от гибели бога и его имени и
вообще от того, что там, где было нечто — имя, означающее,
инстанция, божество, — не остается ничего [...]. Нужна наивность
человека западной цивилизации, чтобы думать, будто «дикари» униженно поклоняются своим богам, как мы своему. Напротив, они всегда
умели актуализировать в своих обрядах амбивалентное отношение к
богам, возможно даже, что они молились им только с целью предать
их смерти (наст. изд., с. 344-345)44.
Еще в начале 70-х годов Бодрийяр проанализировал как образец
агонистического обмена художественный аукцион — состязательную
азартную игру, в которой катастрофически отменяются обычные категории
«потребительной стоимости» (игрокам безразлично собственно эстетическое
достоинство продаваемого произведения искусства) и «меновой стоимости»
(аукционная цена взвинчивается вне всякого отношения к «нормальному»
рыночному обмену художественных ценностей), зато имеет место своего
рода аристократическая забава наших дней — соревнование в разрушительно-щедрых «тратах», аналог первобытного потлача. Существенно, что
важнейшим атрибутом этого ритуального действа Бодрийяр называет словно
восходящее к правилам классической трагедии единство места и времени:
Личностный характер обмена предполагает единственность его места
— в торгах нельзя участвовать по переписке — а главное, конкретную
уникальность процесса: важнейшим составным элементом аукциона
является время, порядок следования, ритм, темп. В
41
Ср.: «Мы не верим в Бога, не «верим» в случай — разве что в
банализированном дискурсе религии или психологии. Мы бросаем им вызов,
а они — нам, мы играем с ними, а потому и не нужно, не следует в них
«верить»». — Jean Baudrillard, De la séduction, p. 181.
32
смене повышающихся ставок каждый момент зависит от предыдущего
и от взаимоотношения партнеров. Отсюда специфическое развертывание процесса, отличное от абстрактного времени экономи298
ческого обмена45.
А в другом месте он высказывается еще радикальнее, говоря, что
удовольствие от игры связано с «отменой времени и пространства»46 .
Действительно,
катастрофическая
трата,
заложенная
в
основе
символического обмена, изымает его из длящегося профанного времени и
помещает в мгновенно-взрывное, катастрофическое время жертвенной
смерти, роль которой в жизни человека и общества Бодрийяр трактует вслед
за Жоржем Батаем (критикуя и «радикализи-руя» также и его концепцию)47.
В этом смысле он и противопоставляет два вида смерти — «быструю» и
«медленную» (то есть «отсроченную», когда живой человек при жизни
превращается в симулякр-«пережиток»). Скорая, насильственная смерть,
смерть «не по правилам», установленным социальной системой, заменяется
смертью жертвенной, разрушающей темпоральность системы и всю эту систему заодно:
Перед лицом простого символического «шантажа» (баррикады 1968
года, захват заложников) власть распадается: раз она живет моей
медленной смертью, то я ей отвечу моей насильственной смертью.
Потому-то мы и мечтаем о насильственной смерти, что живем смертью
медленной. И даже одна эта мечта невыносима для власти (наст. изд., с.
106-107).
Смертельно-катастрофическую атемпоральность Бодрийяр обнаруживает не
только в экстремальных явлениях вроде революции или террора, но и в
поэзии. «Радикализируя» на сей раз анаграмматическую гипотезу
Фердинанда де Соссюра, он утверждает: суть анаграмматического письма не
в том, чтобы (как, возможно, полагал сам Соссюр) под прикрытием видимого
текста стихов тайно выразить дополнительное сакральное означаемое, имя
божества, а в том, чтобы, напротив, без остатка разрушить это имя по
строгим правилам поэтической игры звуковых соответствий и перестановок:
45
Jean Baudrillard, Pour une critique de l'économie politique du signe, Gallimard,
1979 [1972], p. 133-134.
46
Jean Baudrillard, De la séduction, p. 204.
47
Батай, помимо прочего, рассматривал жертвенный «внутренний опыт» как
противоядие от времени: «[...] весь ужас времени, который давит, рвет в
клочья, изводит, в том, что оно воплощает собою саму непостижимость,
которая и проглядывает во всякой веренице мгновении, как проглядывает и в
нашем существовании, если мы не бежим от нес, паря в мнимостях знания»
(Жорж Батай, Внутренний опыт, СПб., Аксиома, Мифрил, 1997, с. 25.5-256).
33
Символический акт состоит вовсе не в восстановлении имени бога,
прихотливо проведенного сквозь текст поэмы [...]. Символический акт
заключается вовсе не в этом «возвращении», ретотализации после
отчуждения, воскресении идентичности [то есть не в диалектическом
299
цикле отрицания отрицания. — С.З.]; напротив, он всегда заключается
в исчезновении имени, означающего, в экстерминации термина, в его
безвозвратном рассеивании — оно-то и делает возможной
интенсивную циркуляцию внутри стихотворения (как и внутри
первобытной группы по случаю празднества и жертвоприношения),
оно-то и возвращает язык в состояние наслаждения [...] (наст. изд., с.
331).
Поэтический акт, понятый таким образом, противоположен «прохладным»
играм современной кибернетизированной культуры; вместе с именем бога в
нем рассеивается и сам код, так что «восстановленным» оказывается не имя,
а та свобода символической циркуляции, которой оно некогда
воспрепятствовало. В «Символическом обмене...» Бодрийяр в первый и
последний
раз
столь
отчетливо
сформулировал
программу
систематического (а отнюдь не хаотического) «истребления имени Бога», то
есть подрыва властной инстанции на уровне не повседневного быта, а
поэтического творчества, «восстановления символического обмена в самом
сердце слов» (наст. изд., с. 338). Программа эта была созвучна радикальным
устремлениям группы «Тель кель», искавшей поэтический эквивалент революционного действия. Однако и здесь Бодрийяр, в целом сочувственно
оценивая работы одного из ведущих теоретиков «Тель кель» Юлии
Кристевой, осторожно отмечает в них опасность принять поэтическую
негативность «за еще одну диалектику» (наст. изд., с. 358). Сам он
интерпретирует «сжигание» языка в поэзии или в острословии иначе, в
соответствии с недиалектическим характером современной социальной
инстанции. Власть на уровне дискурса живет тавтологией («императив
тавтологии, это фундаментальное правило господства» — наст. изд., с. 88)48,
и он противопоставляет ей неустранимую амбивалентность, «обратимость»
смыслов, а также еще одно особенное понятие, выражаемое
трудпопереводимым словом «разрешение» (résolution). Два его смысла,
буквальный и абстрактный, тесно связаны, так что «разрешение» кризиса или
проблемы стоит в одном ряду с «растворением» какой-либо субстанции. Еще
инте48
Еще одна идея, восходящая к «Мифологиям» Барта, где тавтология названа
в числе фундаментальных фигур «мифологической» риторики власти. У
Бодрийяра гигантской тавтологией предстают симулятивные институты
современного общества — производство ради производства, труд ради труда,
человек — биологический человек, и т.д.
34
реснее, что двойственна и его оценочная окраска: с одной стороны,
бесследное исчезновение, «разрешение» реальности происходит под
действием современного порядка симулякров («вместе с детерминированностью знака исчезает и вся его аура, даже самое его значение; при
300
кодовой записи и считывании все это как бы разрешается» — наст. изд., с.
125; в моде «полностью разрешается» имитируемый ею мир исторических
форм культуры — наст. изд., с. 167), а с другой стороны, то же явление
служит эффективным оружием в борьбе с системой, в стратегии
символического обмена и жертвенного разрушения:
Символическое — это не понятие, не инстанция, не категория и не
«структура», но акт обмена и социальное отношение, кладущее конец
реальному, разрешающее в себе реальное, а заодно и оппозицию
реального и воображаемого (наст. изд., с. 241).
Поэтический текст — это образец наконец-то реализованного
бесследного, безостаточного растворения частицы означающего
(имени бога), а через нее и самой инстанции языка и, в конечном счете,
разрешения Закона (наст. изд., с. 345).
[...]поэзия (или первобытный языковой ритуал) стремится не к
производству означаемых, а к исчерпывающему истреблению,
циклическому разрешению знакового материала [...] (наст. изд., с. 337).
Эффект «разрешения» — не в диалектической трансформации, а в легком,
как бы волшебном исчезновении: «там, где было нечто [...] не остается
ничего». Такая поэтическая аннигиляция вызывает ликующее чувство
легкости и свободы: «Конец разделенности, конец кастрации, конец
вытеснения, конец бессознательного. Полное разрешение, полное
наслаждение» (наст. изд., с. 372); это даже не экстатическое, а эйфорическое
переживание смерти, которое расходится с батаевским пониманием жертвы.
Символический обмен, как и потлач, неотделим от изничтожения предметов
обмена; при этом они теряют свою ценностную весомость (неважно,
«потребительную» или «меновую») и улетучиваются в виде легких,
бестелесных негативностей, призраков, «пережитков», которые, собственно,
и обмениваются в радостном и вольном процессе циркуляции49. Это тоже
симулякры — только симулякры как бы «прирученные»; подобными
мнимостями можно перебрасываться, незаметно «разрешая» их тщательной
поэтической манипуляцией.
49
Ср.: «Ничто не обменивается в терминах позитивной эквивалентности —
по-настоящему обмениваются только отсутствие и негативность» — Jean
Baudrillard, Le crime parfait, p. 103.
35
Все это выглядит довольно шатко и противоречиво, несмотря на
несомненный радикализм и глубину бодрийяровской эстетики уничтожения,
продолжающей традицию негативной эстетики Батая и Бланшо.
«Разрешение» двусмысленно является фактором как господствующей
системы, так и ее субверсии; символический обмен, с сетований на нехватку
которого в современном обществе начинается книга Бодрийяра, присутствует
в нем в рамках такого властно-престижного института, как рынок
301
произведений искусства; то есть власть может опираться не только на
остановку и отсрочивание смысла, но и на его «безумную»,
экспоненциальную циркуляцию. Задаваемая при этом темпоральность —
циклическое время — тоже оказывается двойственной. С одной стороны,
символический обмен разрушает «цикл ценности» (наст. изд., с. 339); с
другой стороны, благодаря ему реализуется «обратимость времени — в
цикле» (наст. изд., с. 42), и сам он представляет собой не что иное, как «цикл
обменов, дарения и отдаривания» (наст. изд., с. 247); или, в другой
формулировке, «это праздник — праздник восстановления цикла, в то время
как дефицит порождает линейную экономику длительности; праздник
восстановления циклической революции жизни и смерти» (наст. изд., с. 276).
Известно, что циклическое время может иметь различный смысл. В
мифологическом «вечном возвращении» (и в знаменитой ницшевской
интерпретации этого концепта) оно выражает собой закономерность хода
вещей, соединяющей цикличность природы, выражаемую в календарных
праздниках, с циклической завершенностью человеческой жизни. В
позитивистском толковании оно обусловлено слепой статистической
вероятностью: вещи повторяются наподобие комбинаций игральных костей,
просто в силу того, что их число ограничено. Наконец, в современной
цивилизации оно запрограммировано в структуре информационных систем,
работающих по схеме «вопрос — ответ». Праздничная цикличность,
опровергающая линейность буржуазного накопительства и взыскуемая
Бодрийяром, относится к первому из этих типов; однако в современном
обществе ведущей моделью цикличности является цикл моды: «В
современную эпоху, по-видимому, одновременно утверждается и линейное
время технического прогресса, производства и истории, и циклическое время
моды» (наст. изд., с. 171). Предельной формой такой цикличности является
бред навязчивых идей, который, по мысли Фрейда, выражает циклическое
время влечения к смерти... Противопоставление этих разных видов
циклической
темпоральности
так
и
осталось
непроясненным,
неразработанным в «Символическом обмене...».
Темпоральный характер имеет и еще одна бросающаяся в глаза слабость
конструируемой Бодрийяром «символической альтерната36
вы» — настойчивая и, в общем, наивная апелляция к «первобытным
обществам». Автор книги постоянно подчеркивает вредную исключительность западной цивилизации — причудливой аномалии, где «все не
как у людей»: «Ни одна другая культура не знает подобной различительной
оппозиции жизни и смерти [...]» (наст. изд., с. 262); «необратимость
биологической смерти [...] специфична для нашей культуры. Все другие
культуры утверждают [...]» (наст. изд., с. 282); «в любом другом обществе это
нечто немыслимое» (наст. изд., с. 316); «это ничем не умеренное применение
302
языка для нас настолько «естественно», что мы его больше и не сознаем, а
между тем оно отличает нас от всех других культур» (наст. изд., с. 333), и т.д.
Но, противопоставляя этой выморочной цивилизации «первобытные
общества» (да еще и делая это в жесткой полемике с антропологом ЛевиСтроссом, который, в отличие от него, годами изучал реальные первобытные
общества «на месте»), он словно не замечает очевидной связи своих построений с традиционной для западной же цивилизации утопией «доброго
дикаря», с мифом об идеальном, изначальном, доисторическом, довременном
состоянии. А между тем еще до выхода «Символического обмена...» ему на
это жестко указал, опираясь на предыдущую его книжку «Зеркало
производства», Жан-Франсуа Лиотар в своей «Либидинальной экономике»
(1974):
Бодрийяр слышать не желает о природе и природности [...]. Но как же
он не видит, что вся проблематика дара и символического обмена [...]
всецело принадлежит западному империализму и расизму, что вместе с
этим понятием он унаследовал у этнологов и идею доброго дикаря,
только чуть-чуть либидинализированного?50
И, напомнив процитированные выше слова Бодрийяра о том, что в
первобытных обществах «нет производства, нет диалектики, нет
бессознательного», Лиотар саркастически добавлял: «[...] тогда мы скажем,
что нет и первобытных обществ»51.
В дальнейшем это вынужден был молчаливо признать и сам Бодрийяр. В его
книгах 80-90-х годов ссылки на «первобытные общества» постепенно
исчезают, да и вообще надежды на не-диалектическое преодоление
современной цивилизации явно развеиваются. В «Символическом обмене...»
прообразы такой альтернативы еще чудились ему то в прямом
революционном действии («обмен между тысячами людей, говорящих друг с
другом в мятежном городе» [паст.
50
Jean-François Lyotard, Economie libidinale, Minuit, 1974, p. 130. 51 Ibidem.
37
изд., с. 339], — это, разумеется, ностальгический намек на Париж 1968 года),
то в политическом терроризме, то в авангардной поэзии, то даже в
бесхитростном самоутверждении чернокожих подростков, пишущих свои
граффити на улицах Нью-Йорка, — полтора десятилетия спустя он вынужден
обескураженно признать, что «в сущности, революция действительно
произошла во всем, но совсем не так, как ожидали»52. Система симулякров
сумела перемолоть, переработать попытки своей субверсии, сумела включить
их в свой цикл потенциализации, и именно это «сильное» время симулякров,
недостаточно продуманное в «Символическом обмене...», оказалось роковым
для символической альтернативы.
303
***
Выше уже отмечалось, что в «Фатальных стратегиях» (1983) понятию
диалектического становления Бодрийяр противопоставил понятие «экстаза»
в том же смысле, хотя и в менее терминологически ответственном контексте,
оно появляется уже и в «Символическом обмене...», в связи с
гиперреалистическим искусством: «вместо объекта репрезентации — экстаз
его отрицания и ритуального уничтожения: гиперреальность» (наст. изд., с.
147). Очевидна двусмысленность данного понятия, соответствующая
двусмысленности «разрешения»: «экстаз» выглядит как бы успешной
симуляцией символического акта, «ритуального уничтожения» объекта53.
Здесь уместно вспомнить еще один его смысловой аспект. Как известно, в
философии Мартина Хайдеггера «экстазами» называются формы темпоральности54 , и Бодрийяр, конечно, знал и учитывал данное значение термина, так
как в «Символическом обмене...» он сам (наст. изд., с. 266) цитирует ту же
работу Хайдеггера и именно в связи с формами темпоральности
(историчностью). Однако в его понимании «экстаза» именно что нет
никакого временного смысла — речь идет о расползании, самовыпячивании
объекта («выступании сущего из себя», пользуясь словами Хайдеггера),
который переходит всякие границы,
52
Jean Baudrillard, La transparence du Mal, Galilée, 1990, p. 12.
53
Ср. еще одну формулировку: «Экстаз характеризует переход бессодержательной и бесстрастной формы в чистое состояние, в чистую свою
форму». — Jean Baudrillard, Amérique, p. 70.
54
«Мы именуем [...] феномены настающего, бывшести, актуальности экстазами временности. Она не есть сперва некое сущее, только выступающее
из себя, но ее существо есть временение в единстве экстазов». — Мартин
Хайдеггер, Бытие и время, М., Ad marginem, 1997, с. 329.
38
не претерпевая принципиального сущностного превращения; это «переход от
роста к разрастанию, от целеустремленности к гипертелии, от органического
равновесия к раковым метастазам»53.
Бодрийяр еще в «Системе вещей» отмечал сходный эффект на уровне
обиходных предметов:
Вещи как бы болеют раком: безудержное размножение в них
внеструктурных элементов, сообщающее вещи ее самоуверенность, —
это ведь своего рода опухоль56.
Метафора раковой опухоли, слепо и бессмысленно разрастающейся
субстанции настойчиво повторяется в работах Бодрийяра 80-90-х годов,
характеризуя все новейшее состояние западной цивилизации, которая от
реализации некоторого общего проекта (то есть от временной
устремленности в будущее) перешла к бесконечному и атемпоралъному,
отвлеченному от времени человеческого опыта дублированию своих
304
«клеток». Такова «фрактальная стадия ценности»57 , которую Бодрийяр в
1990 году был вынужден добавить к трем первым стадиям, намеченным в
«Символическом обмене...»:
После природной стадии, рыночной стадии и структурной стадии
наступила фрактальная стадия ценности [...]. На этой фрактальной
стадии больше нет эквивалентности, ни природной, ни вообще
никакой, есть только своего рода эпидемия ценности, повсеместные
метастазы ценности, ее алеаторное распространение и рассеяние58.
На прежних стадиях развития западного общества имелись некоторые
специфические субстанции, служившие всеообщим эквивалентом остальных;
такой субстанцией были, разумеется, деньги — по также и лепнина в
эстетике барокко, этот универсальный материал для имитации всех прочих,
или же пластмасса в культуре современных вещей:
Лепнина позволяет свести невероятное смешение материалов к однойединственной повой субстанции, своего рода всеобщему эквиваленту
всех остальных [...]. Таким же чудесным человеческим изобретением
стала и пластмасса — вещество, не знающее износу, прерывающее
цикл взаимоперехода мировых субстанций через процессы гниения и
смерти. Это внециклическое вещество, даже в
55
Jean Baudrillard, Les strategies fatales, p. 29.
56
Жан Бодрийяр, Система вещей, с. 104.
57
Фрактальность — термин, введенным математиком Бенуа Манделъбротом
для характеристики алеаторных процессов и дробных объектов, состоящих
из хаотически сцепленных мелких частиц.
58
Jean Baudrillard, La transparence du Mal, p. 13.
39
огне оставляющее неразрушимый остаток, — нечто небывалое, этот
симулякр воплощает в себе в концентрированном виде всю семиотику
мироздания (наст. изд., с. 114-115).
Тема пластмассы у Бодрийяра отсылает к соответствующей главе бартовских
«Мифологий»,
и
известно
двойственное
переживание
этого
«универсального» материала у Барта, уловившего в возможности столь
легких универсальных подмен глубокий подрыв диалектики, блокировку
процесса сущностного самопреодоления вещи59. У позднего Бодрийяра
подобное ощущение еще более обострилось: теперь уже каждая субстанция,
как материальная, так и символическая, «замещает» сама себя, становится
«пластмассой», подозрительным симулякром себя самой. При таком
фрактально-раковом развитии не остается никакого субъекта, который мог
бы его помыслить и принять под свою ответственность, — все разрастается
само собой, но как бы вне времени (или, что то же самое, в бесформенном
«реальном времени») — ведь только субъект находится во времени, объект
же как таковой, без субъекта, всегда пребывает лишь в пространстве. Си305
мулирующему себя объекту можно поставить в соответствие лишь
аморфного, тоже фрактального «коллективного субъекта»; но в философии
не бывает коллективного субъекта — это понятие столь же противоречивое,
как и коллективное Dasein.
Здесь коренится глубинный изъян бодрийяровского теоретического проекта
— неопределенность его дисциплинарного, дискурсивного статуса. Во всех
книгах Бодрийяра (неустойчивое исключение составляют разве что очерковофрагментарные книги 80-х годов — «Америка» и «Cool memories»)
постоянно воссоздается точка зрения некоего коллективного «мы» — нигде
не появляется взгляд единичного, экзистенциально ответственного «я»; если
и упоминается «я», то обычно это типовое, категориальное «Я»
психоанализа. Такой подход естествен для социологии и вообще для науки,
работающей
с
объективированно-типическими
представителями
человечества и конституирующей сама себя как коллективный субъект
познания. Но дело все в том, что Бодрийяр — это с особенной силой
выражено на последних страницах «Символического обмена...» — резко
чувствует неудовлетворительность научного познания, чьи предпосылки —
произвольное препарирование действительности, разъятие теории и
практики, формирование фиктивных субъектов экономики, лингвистики,
психоанализа... Казалось бы, от этой критической констатации открывался
путь к иному, философскому письму — но пет, поздние
59
См. об этом в нашем предисловии к «Мифологиям», с. 24.
40
книги Бодрийяра, с их расплывчато эссеистическим дискурсом, философичны лишь в смысле обобщенности рассматриваемых проблем. В них так
и не сформировалась инстанция единичного мыслящего «я», сопоставимого с
субъектом картезианского cogito, хайдеггеровским Dasein или с каким-либо
другим «концептуальным персонажем», как определяют его Жиль Делёз и
Феликс Гваттари60. Попытка Бодрийяра в 70-х годах сконструировать и
утвердить схему «символического обмена» может рассматриваться как
предприятие не только (разумеется) научное и не только социальнокритическое, но и философское - как попытка стать философом, перейти от
социологии на уровень философской рефлексии, «концептуальным
персонажем» которой был бы субъект символического обмена, Игрок61,
разыгрывающий свою жизнь и мысль в безжалостном потлаче, сжигающий и
приносящий в жертву любые ценности, включая интеллектуальные ценности
протеста.
С другой стороны, не является ли сам факт постановки в 90-е годы (у Делёза
- Гваттари) вопроса о «концептуальных персонажах» философии симптомом
того, что создание новых таких персонажей сделалось проблематичным, а то
и вовсе невозможным? Недаром Жан Бодрийяр любит говорить, что «в тот
самый момент, когда мы начинаем интеллектуализировать некий феномен,
306
он как раз и исчезает фактически...»62. Философия веками размышляла о
бытии, а в последние два столетия — также (и все больше) о небытии, но
сегодня ей пришлось столкнуться с новым предметом, симулятивным
псевдобытием. Каким может стать познающий субъект этой новой проблемы,
способный осуществить себя во времени симулякров, -пока не совсем ясно.
***
Переводчик и автор вступительной статьи приносит благодарность
Министерству иностранных дел Франции за помощь в библиографическом
оснащении данной работы.
С. Зенкин
60
См.: Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Что такое философия?, М.- СПб.,
Институт экспериментальной психологии - «Алетейя», 1998, с. 80-109.
61
В следующей книге Бодрийяра, "О соблазне" (1979), на роль
концептуального персонажа пробовался также Соблазнитель - фигура скорее
заемная, отсылающая к "Дневнику соблазнителя" Киркегора.
62
Jean Baudrillard, Le paroxyste indifférent, p. 42.
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБМЕН И СМЕРТЬ
43
В современных общественных формациях нет больше символического
обмена как организующей формы. Они, конечно, одержимы символическим
— как своей смертью. Именно потому, что оно больше не задает форму
общества, оно и знакомо им лишь как наваждение, требование, постоянно
блокируемое законом ценности. После Маркса сквозь этот закон еще
пыталась пробиться идея Революции, по и та уже давно сделалась
Революцией по Закону. Вокруг того же наваждения кружится и психоанализ
— и одновременно отклоняет его в сторону, вводя его в рамки
индивидуального бессознательного, подчиняя власти Отеческого закона и
сводя к страху кастрации, к навязчивой идее Означающего. Закон, везде
Закон. А между тем по ту сторону всевозможных топик и экономик
(либидинальных и политических), центром притяжения которых всегда
служит производство (материальное или эротическое) в контексте ценности,
существует и схема такого социального отношения, которое строится на
истреблении ценности; для нас его образец лежит в первобытных формациях,
а в своей радикально-утопической форме оно сегодня все более
взрывообразно развивается на всех уровнях нашего общества, в
головокружении бунта, не имеющего более ничего общего ни с революцией,
ни с историческим законом, ни даже — это, правда, станет ясно еще не так
скоро, так как данный фантазм возник недавно, — с «освобождением»
какого-либо «желания».
307
В подобной перспективе обретают первостепенное значение и некоторые
другие теоретические достижения: анаграммы Соссюра или обмен/дар по
Моссу — в конечном итоге эти гипотезы оказались радикальнее фрейдовских
и марксовских, и до сих пор их перспективы цензурировались именно
империалистической властью фрейдистских и марксистских интерпретаций.
Анаграмма или же обмен/ дар — не просто любопытные эпизоды на обочине
лингвистических и антропологических знаний, не просто второстепенные
варианты господствующих механизмов бессознательного и революции. В
них проступает одна общая форма, по отношению к которой марксизм и психоанализ, пожалуй, являются лишь производными, сами того не ведая, —
форма, которая не отдает приемущества ни политической экономии, ни
либидинальной экономике и которая уже здесь и теперь очерчивает контуры
чего-то запредельного ценности, закону, вытеснению, бессознательному. Это
контуры грядущего.
44
С нашей точки зрения, есть лишь одно сравнимое по важности теоретическое
достижение — это идея влечения к смерти у Фрейда. При условии, что ей
будет придан радикальный смысл, вопреки самому Фрейду. Вообще, во всех
трех случаях приходится идти наперекор тому, на кого ссылаешься: побивать
Мосса самим же Моссом, Соссюра самим Соссюром, Фрейда самим
Фрейдом. Принцип обращения (отдаривания) следует обращать против
любых экономических, психологических или структуралистских толкований,
которым открывает дорогу Мосс. Соссюра «Анаграмм» следует
противопоставлять Соссюру — теоретику лингвистики и даже собственно
соссюровской ограниченной гипотезе относительно анаграмм. Фрейда —
теоретика влечения к смерти — следует противопоставлять всем прежним
построениям психоанализа и даже собственно фрейдовскому пониманию
влечения к смерти.
Такой парадоксальной ценой — ценой теоретического насилия —
выясняется, что все три гипотезы обрисовывают, каждая в своей области (но
эта раздельность областей как раз и отменяется в общей форме
символического), особый принцип действия, абсолютно внеположный и
враждебный нашему экономическому «принципу реальности».
Обратимость дара проявляется в отдариваиии, обратимость обмена — в
жертвоприношении, обратимость времени — в цикле, обратимость
производства — в разрушении, обратимость жизни — в смерти, обратимость
каждого языкового элемента и смысла — в анаграмме; всюду, во всех
областях — одна и та же общая форма, форма обратимости, циклического
обращения, отмены; всюду она кладет конец линейному характеру времени,
речи, экономических обменов и накопления, власти. Всюду она принимает
для нас форму истребления и смерти. Это и есть форма символического. Она
не мистична и не структурна — она просто неизбежна.
308
Принцип реальности исторически совпал со стадией, детерминированной
законом
ценности.
Сегодня
вся
система
склоняется
к
недетерминированности, любая реальность поглощается гиперреальностью
кода и симуляции. Именно принцип симуляции правит нами сегодня вместо
прежнего принципа реальности. Целевые установки исчезли, теперь нас
порождают модели. Больше нет идеологии, остались одни симулякры.
Поэтому, чтобы понять гегемонию и феерию нынешней системы — эту
структурную революцию ценности, — необходимо воссоздать целую
генеалогию закона ценности и симулякров. В этой генеалогии и должна
найти себе место политическая экономия: она предстанет как симулякр
второго порядка, в ряду тех, что имеют дело только с реальностью —
реальностью производства или же значения, в сознании или же в
бессознательном.
45
Капитал больше не принадлежит к порядку политической экономии — он
играет политической экономией как симулятивной моделью. Весь строй
закона рыночной стоимости поглощен и реутилизирован охватывающим его
строем структурного закона ценности, а тем самым попадает в разряд
симулякров третьей степени (см. ниже). Тем самым политическая экономия
обретает вторичную вечность в рамках строя, где она сама уже ничего не
детерминирует, но сохраняет действенность в качестве симулятивной
референции. Точно так же произошло раньше с предшествующим ей строем
природного закона стоимости, который в системе политической экономии и
закона рыночной стоимости был переосмыслен как воображаемая
референция («Природа»): это и есть потребительная стоимость, сохраняющая
призрачное существование внутри стоимости меновой. А на следующем
витке спирали и эта последняя в свою очередь оказывается переосмыслена
как алиби в господствующем порядке кода. Каждая конфигурация ценности
переосмысливается следующей за ней и попадает в более высокий разряд
симулякров. В строй каждой такой новой стадии ценности оказывается
интегрирован строй предыдущей фазы — как призрачная, марионеточная,
симулятивная референция.
Каждый новый порядок отделяется от предыдущего революцией —
собственно, это и есть единственно подлинные революции. У нас сейчас
порядок третьего уровня, порядок уже не реальности, а гиперреальности, и
только на этом уровне способны его настигать и поражать сегодняшние
теории и практики, сами по себе тоже зыбкие и недетерминированные.
Все революции наших дней привязаны к предыдущей фазе системы. Оружие
каждой из них — ностальгически воскрешаемая реальность во всех ее
формах, то есть симулякры второго порядка: диалектика, потребительная
стоимость,
прозрачность
и
целенаправленность
производства,
«освобождение» бессознательного, вытесненного смысла (то есть
309
означающего и означаемого по имени «желание») и т.д. Идеальным
содержанием всяких таких освобождений оказываются призраки,
поглощенные системой в ходе ее прежних революций и искусно
воскрешаемые ею в виде революционных фантазмов. Подобные
освобождения служат лишь переходным этапом к состоянию всеобщей
манипулируемости. Да и сама революция ничего больше не значит на стадии
алеаторных процессов контроля.
Промышленным машинам соответствовали механизмы сознания —
рациональные,
референциальные,
функциональные,
исторические.
Алеаторным машинам кода соответствуют алеаторные машины бессознательного — ирреференциальные, трансреференциальные, недетерминированно-зыбкие. Да и само бессознательное вступило в ту же
46
игру: оно уже давно утратило свой собственный принцип реальности и
сделалось операциональным симулякром. Как только психический принцип
реальности бессознательного совпадает с его психоаналитическим
принципом реальности, оно, как и политическая экономия, тоже становится
симулятивной моделью.
Вся стратегия системы заключается в этой гиперреальности зыбких,
«плавающих» ценностей. С бессознательным происходит то же, что с
валютами и теориями. Ценность осуществляет свое господство через
неуловимо тонкий порядок порождающих моделей, через бесконечный ряд
симуляций.
Бинарная операциональность, генетический код, алеаторность мутаций,
принцип неопределенности и т.д. — все это приходит на смену
детерминистской, объективистской науке, диалектическим взглядам на
историю и процесс познания. Даже и сама теоретическая критика, а равно и
революция, образуют часть симулякров второго порядка, как и все
детерминированные процессы. С появлением симулякров третьего порядка
все это ликвидируется, и в борьбе с ними бесполезно пытаться воскрешать
диалектику, «объективные» противоречия и т.п. — это безнадежная
политическая регрессия. Против алеаторности бессильны целевые установки,
против программированного и молекулярного рассеяния бессильны акты
осознания и диалектического снятия, против кода бессильны политическая
экономия и «революция». Все это ветхое оружие (а тем более то, что берется
из разряда симулякров первого порядка, из этики и метафизики человека и
природы, — скажем, потребительная стоимость и прочие референции
освобождения) неукоснительно нейтрализуется общей системой, которая
превосходит его по порядку. Все то, что внедряется в лишенное
целенаправленности пространство-время кода или пытается в нем
действовать, оказывается отъединено от собственных целевых установок,
дезинтегрировано и поглощено; таков хорошо известный эффект
310
рекуперации, манипуляции и реутилизации, происходящий на всех уровнях.
«Каждый элемент, оспаривающий или подрывающий систему, должен
принадлежать к более высокому логическому типу» (Энтони Уилден,
«Система и структура»). Симулякрам третьего порядка следует, стало быть,
противопоставлять как минимум столь же сложную игру — а возможно ли
это? Существует ли теория или практика, которая была бы субверсивной в
силу большей алеаторности, чем сама система? То есть такая
недетерминированная субверсия, которая относилась бы к порядку кода так
же, как революция относилась к порядку политической экономии? Как
бороться против ДНК? Уж конечно же, не путем классовой борьбы. Может
быть, изобретать симулякры логически (или алогически) высшего порядка,
более высокого, чем нынешний третий, выше всякой детерминированности и
неде47
терминированности, — но будут ли это еще симулякры? На более высоком
уровне, чем код, пожалуй, оказывается одна лишь смерть, обратимость
смерти. Один лишь бес-порядок символического способен прорваться в код.
Всякая система, которая приближается к операциональному совершенству,
близка и к своей гибели. Когда система изрекает «А равно А» или «дважды
два — четыре», она оказывается на грани абсолютного господства, но и
полного посмешища, то есть немедленной и вероятной субверсии, — ткнешь
пальцем, и все рухнет. Известно, какой силой обладает тавтология, когда ею
дублируется эта претензия системы на безупречную округлость («брюхо»
Убу).
Идентичность себе нежизнеспособна: поскольку в нее не удается вписать ее
собственную смерть, то это и есть сама смерть. Так и получается с
метастабилизированными
системами
(функциональными
или
кибернетическими): их все время подстерегает угроза насмешки, мгновенной (а
не в итоге длительной диалектической работы) субверсии, поскольку вся
инерция системы обращается против нее самой. Амбивалентность — вот что
грозит наиболее завершенным системам, сумевшим обожествить свой
принцип функционирования, подобно бинарному Богу у Лейбница.
Производимый ими завораживающий эффект обусловлен, как и в
фетишизме, глубинным нежеланием их признавать и потому может
мгновенно обратиться в свою противоположность. Отсюда их
неустойчивость, которая нарастает по мере роста их идеальной внутренней
связности. Подобные системы, даже будучи основаны на радикальной
недетерминированности (утрате смысла), оказываются легкой добычей
смысла. Словно чудовища каменноугольного периода, они рушатся под
своей чудовищной тяжестью и немедленно распадаются. Такова роковая
судьба любой системы, которая собственной своей логикой обречена на
полное совершенство, а значит и на полный распад, на абсолютную
311
безотказность, а значит и на бесповоротный крах: связанные энергии всегда
устремлены к своей гибели. Поэтому здесь возможна лишь
катастрофическая, а вовсе не диалектическая стратегия. Приходится
доводить все до предела, и тогда-то оно само собой обращается в свою
противоположность и рушится. Поскольку именно в высшей точке ценности
мы ближе всего к амбивалентности, поскольку именно в высшей точке
связности мы ближе всего к глубочайшему срыву, вечно грозящему
дублируемым знакам кода, — именно поэтому необходимо превзойти
систему в симуляции. Следует обратить смерть против смерти — этакая
радикальная тавтология. Сделать из собственной логики системы
неотразимое оружие против нее. Против тавтологической системы
единственно действенной будет стратегия своего рода патафизики, «науки о
воображаемых решениях», то есть науч48
ной фантастики на тему обращения системы против нее самой в высшей
точке симуляции, стратегия обратимой симуляции в рамках гиперлогики
разрушения и смерти1.
Неукоснительная обратимость отношений — такова суть символической
обязанности. Да будет каждый элемент [terme] истреблен [ex-terminé], да
упразднится ценность в этом самоперевороте элемента — таково
единственно возможное символическое насилие, способное сравниться и
совладать со структурным насилием кода.
Рыночному закону стоимости и эквивалентностей соответствовала
диалектика революции. Недетерминированности кода и структурному закону
ценности соответствует одна лишь неукоснительная обратимость смерти2.
Собственно, больше опереться и не на что. Нам остается одно лишь
теоретическое насилие. Смертельная спекуляция, единственным методом
которой является радикализация всех гипотез. Даже «код» и
«символическое» — все еще термины-симуляторы; хорошо бы суметь
постепенно вывести их за пределы речи.
1
Смерть всегда есть одновременно и то, что ждет нас в конце [au terme]
системы, и символический конец [extermination], подстерегающий самое
систему. Чтобы обозначить финальность смерти, внутренне принадлежащую
системе, повсюду вписанную в ее операциональную логику, и радикальную
контр-финальность, вписанную вне системы как таковой, но всюду
преследующую се, у нас нет двух разных терминов — в обоих случаях с
необходимостью выступает одно и то же слово «смерть». Подобную
амбивалентность можно различить уже во фрейдовской идее влечения к
смерти. Это не какая-то неоднозначность. Этим просто выражается то, как
близки друг к другу осуществленное совершенство системы и ее мгновенный
распад.
2
Смерть ни в косм случае не должна пониматься как реальное событие,
312
происходящее с некоторым субъектом и телом, но как некоторая форма — в
известных случаях форма социальных отношений, — в которой утрачивается
детерминированность субъекта и ценности. Как раз требование обратимости
и кладет конец различению детерминированности и недетерминированности.
Оно кладет конец связыванию энергий в регулярных опозициях и в этом
отношении смыкается с теориями потоков и интенсивностей —
либидинальных или шизофренических. Но сегодня система сама
оформляется как развязывание энергий, как стратегия ценностного дрейфа.
Система может подключаться или отключаться, рано или поздно все энергии
вливаются в нее — ведь это она и выработала сами понятия энергии и
интенсивности. Капитал — это энергетическая и интенсивная система.
Отсюда невозможность (Лиотар) отличить либидинальную экономику от
экономики самой системы (экономики ценности); отсюда невозможность
(Делёз) отличить капиталистическую расщепленность от революционной.
Ведь система — всему хозяйка: подобно Господу Богу, она вольна связывать
и развязывать энергии; невозможным, а вместе с тем и неизбежным для нее
является лишь одно — обратимость. Процесс становления ценности
необратим. Оттого для системы смертельна одна лишь обратимость, а не
развязывание или дрейф. Это и есть смысл символического «обмена».
I. КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА
СТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТИ
Соссюр выделял два аспекта в обмене языковыми элементами, уподобляя их
деньгам: с одной стороны, денежная единица должна обмениваться на какието реальные, обладающие известной ценностью материальные блага, с
другой стороны, она должна соотноситься со всеми другими единицами
данной денежной системы. Именно с этим вторым аспектом он чем дальше,
тем больше связывал понятие значимости: это внутрисистемная и
образуемая различительными оппозициями соотнесенность всех элементов
между собой, в отличие от другого возможного определения значимости как
отношения между каждым элементом и тем, что он обозначает, между
каждым означающим и его означаемым, как между каждой денежной
единицей и тем, что можно получить в обмен на нее. Первый аспект
соответствует структурному измерению языка, второй — его
функциональному определению. Эти два измерения различны, по
соотнесены; можно сказать, что они работают вместе и обладают взаимной
связностью, которая характерна для «классической» конфигурации
лингвистического знака, подчиненной рыночному закону стоимости, когда
целевой установкой структурных операций языка непременно является
313
десигнация. На этой «классической» стадии сигнификации все происходит
совершенно аналогично тому, как действует проанализированный Марксом
механизм стоимости в материальном производстве: потребительная
стоимость играет роль горизонта и целевой установки в системе меновой
стоимости — первая характеризует конкретную операцию, осуществляемую
с товаром в ходе потребления (момент, аналогичный десигнации для знака),
вторая же отсылает к способности всех товаров обмениваться друг на друга
по закону эквивалентности (момент, аналогичный структурной организации
знака), и обе они диалектически соотносятся на протяжении всего Марксова
анализа, оп52
ределяя рациональное устройство производства, регулируемого политической экономией.
Но вот произошла революция, положившая конец этой «классической»
экономике стоимости, революция самой стоимости как таковой, заменяющая
ее старую рыночную форму повой, более радикальной.
Эта революция состоит в том, что два аспекта стоимости, казавшиеся навек
связанными между собой естественным законом, оказываются разобщены,
референциальная стоимость уничтожается, уступая место чисто
структурной игре ценности. Структурное измерение обретает автономию с
исключением референциального измерения, строится на его смерти. Нет
больше никаких референций производства, значения, аффекта, субстанции,
истории, нет больше никакой эквивалентности «реальным» содержаниям,
еще отягощавшим знак каким-то полезным грузом, какой-то серьезностью,
— то есть нет больше его формы как представительного эквивалента.
Победила другая стадия ценности, стадия полной относительности, всеобщей
подстановки, комбинаторики и симуляции. Симуляции в том смысле, что
теперь все знаки обмениваются друг на друга, но не обмениваются больше
ни на что реальное (причем друг на друга они так хорошо, так безупречно
обмениваются именно постольку, поскольку не обмениваются больше ни на
что реальное). Эмансипация знака: избавившись от «архаической»
обязанности нечто обозначать, он наконец освобождается для структурной,
то есть комбинаторной игры по правилу полной неразличимости и
недетерминированности,
сменяющему
собой
прежнее
правило
детерминированной эквивалентности. То же происходит и на уровне
производительной силы и процесса производства: уничтожение всякой
целевой установки производства позволяет ему функционировать как код, а
денежному знаку — пуститься, например, в ничем не ограниченные
спекуляции, без всякой привязки к производственным реальностям и даже к
золотому эталону. Плавающий курс валют и знаков, зыбкость
«потребностей» и целевых установок производства, зыбкость самого труда
— подстановочный характер всех этих элементов, сопровождающийся
314
безудержной спекуляцией и инфляцией (у нас теперь поистине царство
полной свободы — всеобщей ни-к-чему-не-привязанности, никому-необязанности, ни-во-что-не-верия; раньше еще была какая-то магия, какая-то
магическая обязанность, приковывавшая знак к реальности, капитал же
освободил знаки от этой «наивной веры», бросив их в чистый оборот), —
ничего подобного Соссюр или Маркс даже не предчувствовали; они еще
жили в золотом веке диалектики знака и реальности, который одновременно
был «классическим» периодом капитала и стоимости. Ныне их диалектика
распалась, а реальность погибла под действием фантастической
автономизации ценности. Детерминированность умерла — теперь наша
53
царица недетерминированность. Произошла экс-терминация (в буквальном
смысле слова) производственной и знаковой реальности1.
Такая структурная революция закона ценности была уже указана в термине
«политическая экономия знака», и все же этот термин остается
компромиссным, так как
I. Идет ли здесь еще речь о политической экономии? Да, в том смысле что
перед нами по-прежнему ценность и закон ценности, но с ней произошла
столь глубокая, столь решительная перемена, все ее содержательные
элементы стали настолько другими, если не просто уничтожились, что
данный термин теперь лишь намекает на суть дела; тем более это касается
слова «политическая», учитывая, что суть дела в постоянном разрушении
общественных отношений, регулируемых ценностью. Нет, речь идет уже
давно о чем-то совсем другом, чем экономика.
П. Понятие знака тоже сохраняет значение лишь как намек. Ведь
структурный закон ценности захватывает сигнификацию в той же мере, как и
все остальное, его формой является не знак вообще, но особая организация,
именуемая кодом, — а код регулирует не любые знаки. Ни рыночный закон
стоимости не означает какой-либо детерминирующей роли материального
производства в какой-либо момент, ни, обратно, структурный закон ценности
не означает какого-либо преобладания знака. Подобная иллюзия возникает
оттого, что первый из этих законов разработан Марксом на материале товара,
а второй — Соссюром на материале лингвистического знака; так вот, ее
следует разрушить. Рыночный закон стоимости — это закон
эквивалентностей, и закон этот действует во всех сферах: он в равной мере
относится и к такой конфигурации знака, где эквивалентность означающего и
означаемого делает возможным регулярный обмен референциальными
содержаниями (еще одна аналогичная черта — линейный харак1
Если бы речь шла только лишь о преобладании меновой стоимости над
потребительной (или же о преобладании структурного аспекта языка над
функциональным), то это отмечали уже и Маркс и Соссюр. Маркс близко
подходит к тому, чтобы рассматривать потребительную стоимость просто
315
как средство осуществления или же алиби меновой стоимости. И весь его
анализ основан на принципе эквивалентности, составляющем сердцевину
системы меновой стоимости. Но хотя в сердце системы и есть
эквивалентность, здесь нет еще недетерминированности всей системы в
целом
(сохраняется
детерминированность
и
диалектическая
целенаправленность способа производства). Сегодняшняя же система
основана на недетерминированности, движима сю. И обратно, ее навязчиво
преследует мысль о смерти всякой детерминированности.
54
тер означающего, исторически соответствующий линейно-кумулятивному
времени производства).
Таким образом, этот классический закон стоимости действует одновременно
во всех инстанциях (языке, производстве и т.д.), хотя они по-прежнему
различаются по своим референциальным сферам.
И обратно, структурный закон ценности означает недетерминированность
всех этих сфер как по отношению друг к другу, так и по отношению к
свойственному каждой из них содержанию (а следовательно, и переход от
детерминированной сферы знаков к недетерминированности кода). Сказать,
что сфера материального производства и сфера знаков взаимно
обмениваются содержаниями, — это еще слишком мало: они в буквальном
смысле исчезают как таковые и утрачивают свою соотнесенность, а равно и
свою детерминированность, уступая место гораздо более обобщенной по
своему устройству форме ценности, где и обозначение и производство
уничтожаются.
«Политическая экономия знака» еще была результатом распространения и
проверки рыночного закона стоимости на материале знаков. Напротив того,
структурным устройством ценности вообще отменяется как режим
производства и политической экономии, так и режим репрезентации и
знаков. С воцарением кода все это переключается в режим симуляции.
Собственно говоря, ни «классическая» экономика знака, ни политическая
экономия не исчезают вовсе: они продолжают как бы загробное
существование, став призрачным принципом убеждения.
Конец труда. Конец производства. Конец политической экономии.
Конец диалектики означающего/означаемого, делавшей возможным
накопление знания и смысла, линейную синтагму кумулятивного дискурса.
Но одновременно конец и диалектики меновой/потребительной стоимости,
которая единственно делала возможным общественное производство и
накопление. Конец линейного измерения дискурса. Конец линейного
измерения товара. Конец классической эры знака. Конец эры производства.
Всему этому кладет конец не Революция. Это делает сам капитал. Именно он
отменяет детерминированность общества способом производства. Именно он
замещает рыночную форму структурной формой ценности. А уже ею
316
регулируется вся нынешняя стратегия системы.
*
Эта социально-историческая мутация прослеживается во всем. Так, эра
симуляции повсюду открывается возможностью взаимной
55
подстановки элементов, которые раньше были противоречивыми или
диалектически противоположными. Всюду идет одно и то же «порождение
симулякров»: взаимные подстановки красивого и безобразного в моде, левых
и правых в политике, правды и лжи во всех сообщениях масс-медиа,
полезного и бесполезного в бытовых вещах, природы и культуры на всех
уровнях значения. В пашей системе образов и знаков исчезают все основные
гуманистические критерии ценности, определявшие собой вековую культуру
моральных, эстетических, практических суждений. Все становится
неразрешимым — характерный эффект господства кода, всецело
основанного на принципе нейтрализации и неотличимости 1. Это, так сказать,
мировой бардак капитала — не для проституции, а для субституции и
коммутации, для подмены и подстановки.
Сегодня этот процесс, давно уже действующий в культуре, искусстве,
политике, даже в сексуальности (то есть в так называемых «надстроечных»
областях), затронул и самое экономику, все поле так называемого «базиса». В
ней воцарилась та же самая недетерминированность. А вместе с
детерминированностью самой экономики, разумеется, исчезает и всякая
возможность мыслить ее как детерминирующую инстанцию.
Поскольку именно вокруг экономики уже два столетия (во всяком случае,
начиная с Маркса) завязывался узел исторического детерминизма, то именно
здесь особенно важно прежде всего выяснить результаты вторжения кода.
1
Теоретическое производство, как и материальное, тоже теряет свои детерминации и начинает крутиться вхолостую, срываясь в штопор
бесконечных самоотражений в стремлении к недостижимой реальности. Так
мы и живем сегодня: всеобщая неразрешимость, эра плавающих теорий,
вроде плавающих валют. Все нынешние теории, откуда бы они ни исходили
(включая психоаналитические) и сколь бы яростно ни пытались добраться до
некоей имманентности или же внереферентной подвижности (Делез, Лиотар
и т.д.), — все они страдают зыбкостью и осмыслены лишь постольку,
поскольку перекликаются одна с другой. Напрасно требовать от них
соотнесения с какой бы то ни было «реальностью». Система отняла у
теоретической работы, как и у любой другой, всякую референциальную
опору. Потребительной стоимости более не существует также и в теории,
зеркало теоретического производства тоже треснуло. И это в порядке вещей.
Я хочу сказать, что сама эта неразрешимость теории является эффектом кода.
В самом деле, больше не остается иллюзий: такая зыбкость теорий не имеет
317
ничего общего с шизофреническим «дрейфом», когда течения свободно проходят по телу без органов (чьему же телу? капитала?). Она просто означает,
что отныне все теории могут обмениваться одна на другую по переменному
курсу, не инвестируясь более никуда, кроме зеркала их собственного письма.
КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА
Перед нами — конец производства. На Западе эта форма исторически
совпала с формулировкой рыночного закона стоимости, то есть с царством
политической экономии. До тех пор ничто, собственно говоря, не
производилось — все выводилось по божественной благодати или по
природной щедрости из некоторой инстанции, которая выдает или же
отказывается выдавать свои богатства. Ценность исходит из царства
божественных или природных качеств (при ретроспективном взгляде они
сливаются для нас воедино). Еще физиократы именно так рассматривали
цикл, включающий в себя землю и труд, — сам по себе труд не обладает
собственной ценностью. Возникает вопрос: а есть ли при этом настоящий
закон ценности — ведь ценностью здесь наделяют, а значит ее выражение и
не может получить рационального вида? Если тут и есть закон, то это, в
отличие от рыночного, природный закон ценности.
Вся эта конструкция распределения богатств или же природного наделения
ими испытывает резкую перемену, когда ценность становится производимой,
когда ее опорой оказывается труд, а ее законом — всеобщая эквивалентность
любых видов труда. С этого момента ценность (стоимость) приписывается
определенным рациональным операциям человеческого (общественного)
труда. Она оказывается измеримой, а вместе с нею — и прибавочная
стоимость.
Начинается критика политической экономии, опирающаяся на критику
общественного производства и режима производства. Одно лишь понятие
производства позволяет выделить — путем анализа такого «своеобразного
товара, как рабочая сила, — некоторую прибавку (прибавочную стоимость),
от которой и зависит вся рациональная динамика капитала, а за ней и столь
же рациональная динамика революции.
57
Сегодня для нас все опять переменилось. Понятиями производства,
рыночной формы, рабочей силы, эквивалентности и прибавочной стоимости
описывалась количественная, материальная и поддающаяся измерению
конфигурация, которая для нас отошла в прошлое. Понятием
производительных сил еще описывалась некоторая референция —
противоречащая производственным отношениям, но все-таки референция —
общественного богатства. Общественная форма под названием «капитал» и
ее внутренняя критика под названием «марксизм» еще поддерживались
318
некоторым производственным содержанием. А необходимость революции
зиждилась на отмене рыночного закона стоимости.
Но вот мы перешли от рыночного к структурному закону ценности, и это
совпало с исчезновением той общественной формы, что называлась
производством. Если так, то живем ли мы еще при строе капитализма?
Возможно, мы живем уже при гиперкапиталистическом строе или каком-то
еще, совсем ином. Связана ли форма капитала как таковая с законом
ценности вообще или же с некоторой определенной формой ценности? (А
вдруг мы уже живем при социализме? Вдруг эта метаморфоза капитала под
знаком структурного закона ценности и есть то, к чему он должен прийти
при социализме? Ай!) Раз жизнь и смерть капитала разыгрываются в рамках
рыночного закона стоимости, раз революция разыгрывается в рамках режима
производства, то в таком случае мы живем уже и не при капитале и не при
революции. Если революция состоит в освобождении общественного
производства человеческого рода, то никакая революция нам уже не светит
— ведь производства-то больше нет. Зато если капитал — это режим
господства, то мы по-прежнему живем при капитале, так как наш
структурный закон ценности представляет собой чистейшую форму
социального господства, неуловимую, как прибавочная стоимость, без опоры
на какой-либо господствующий класс или силовое отношение, без насилия,
растворенную всецело и бескровно в окружающих нас знаках, всюду
обретающую свою операциональность через код, которым и выговаривается
наконец чистейший дискурс капитала, избавившийся от всяких
промышленных, торговых или финансовых диалектов, от любых классовых
диалектов, на которых он говорил в своей «производственной» фазе. Это
символическое насилие, всюду вписанное в знаки, даже и в знаки революции.
Структурной революцией ценности уничтожаются самые основы
«Революции». Общая утрата референций прежде всего наносит смертельный
удар референциям революционным, которым никакая социальнопроизводственная субстанция, никакая истина рабочей силы больше не дает
уверенности в грядущем перевороте. Ибо
58
труд — больше уже не сила, он стал знаком среди знаков. Он производится и
потребляется, как и все остальное. По общему закону эквивалентности он
обменивается на не-труд, на досуг, он допускает взаимоподстановку со всеми
остальными секторами повседневной жизни. Не став ни более, ни менее
«отчужденным», он не является больше специфическим местом
исторического «праксиса», порождающего специфические общественные
отношения. Как и большинство других практик, он является теперь просто
набором сигналетических операций. Он включается в общее оформление,
знаковое обрамление жизни. Он даже перестал быть историческим
страданием и позором, своей оборотной стороной сулившими конечное
319
освобождение (или же, по Лиотару, пространством наслаждения рабочего
класса, местом исполнения его отчаянных желаний в условиях ценностного
унижения под властью капитала). Все это больше не правда. Трудом
завладела знаковая форма, изгнав из него всякое историческое или
либидинальное значение и поглотив его процессом его собственного
воспроизводства: характерной операцией знака является самодублирование,
скрываемое пустой отсылкой к тому, что он обозначает. Когда-то труд мог
обозначать собой реальность некоторого общественного производства,
накопления богатств как общественной цели. Даже и подвергаясь
эксплуатации капиталом и прибавочной стоимостью — ведь при этом он
сохранял
свою
потребительную
стоимость
для
расширенного
воспроизводства капитала и для его конечного уничтожения. Так или иначе,
он был пронизан целенаправленностью: пусть труженик и поглощен
процессом простого воспроизводства своей рабочей силы, однако сам
процесс производства не переживается как безумное повторение. Труд
революционизирует общество в самой своей униженности, как товар, чей
потенциал всегда выше простого воспроизводства ценности.
Теперь это не так: труд больше не является производительным, он стал
воспроизводительным, воспроизводящим предназначенность к труду как
установку целого общества, которое уже и само не знает, хочется ли ему чтото производить. Нет больше производственных мифов, производственных
содержаний: годовые сводки указывают только зашифрованностатистический, лишенный смысла общеэкономический рост — инфляция
бухгалтерских знаков, которыми уже невозможно даже вызывать фантазмы
коллективной воли. Сам пафос экономического роста умер, как и пафос
производства, последним безумно-параноическим подъемом которого он
был; ныне он съеживается в цифрах, и в пего больше никто не верит. Зато
тем больше необходимость воспроизводить труд как службу на благо
общества, как рефлекс, мораль, консенсус, регуляцию, принцип реальности.
Только это принцип реальности кода: грандиозный ритуал знаков труда,
59
распространяющийся на все общество, — неважно, производит ли он еще
что-нибудь, главное, что он воспроизводит сам себя. Социализация через
ритуал, через знаки, гораздо более эффективная, чем через связанные
энергии производства. От вас требуют не производить, не преодолевать себя
в трудовом усилии (такая классическая этика теперь скорее подозрительна), а
социализироваться. Согласно структурному определению, получающему
здесь вполне социальный масштаб, — быть значимыми только как взаимно
соотнесенные элементы. Функционировать как знак в рамках общего
производственного сценария, подобно тому как труд и производство
функционируют теперь лишь как знаки, как элементы, допускающие
подстановку с ие-трудом, с потреблением, общением и т.д. Множественная,
320
непрестанная, вращателыю-круговая соотнесенность со всей сетью прочих
знаков. В результате труд, лишенный своей энергии и субстанции (и вообще
какой-либо инвестиции), воскресает как социальная симулятивная модель,
увлекая вслед за собой в алеаторную сферу кода и все остальные категории
политической экономии.
Беспокояще-странен этот прыжок в своего рода посмертное существование,
отделенное от вас всей протяженностью предшествующей жизни. Ведь в
традиционном процессе труда было нечто привычное, интимное. Какой-то
близкий смысл имела даже конкретность эксплуатации, насильственная
социальность труда. Сегодня этого нет и в помине — что связано не столько
с операторной абстрактностью трудового процесса, о которой много
написано, сколько с перемещением всего значения труда в поле
операционалъности, где оно превращается в «плавающую» переменную,
увлекая вместе с собой и все воображаемое прежней жизни.
*
За автономизацией производства как режима [mode], за внутренне
присущими ему судорогами, противоречиями и революциями необходимо
разглядеть код [code] производства. Такова его размерность сегодня — в
итоге «материалистической» истории, сумевшей узаконить его как движущее
начало реального развития общества (по Марксу, искусство, религия, право и
т.д. не имеют собственной истории — одно лишь производство обладает
историей, вернее оно и есть история, составляет ее основу. Невероятная
выдумка о труде и производстве — как модель истории и общечеловеческая
модель исполнения желаний).
С концом такой религиозной автономизации производства становится
заметно, что ведь все это могло быть и само произведено (на
60
сей раз — в том смысле, в каком отдают в «производство» киносценарий) в
совсем недавние времена, причем с целями совершенно отличными от тех
внутренних целевых установок (включая революцию), которые
вырабатываются самим производством.
Анализ производства как кода — это прорыв сквозь материальную
очевидность машин, фабрик, рабочего времени, изделий, зарплаты, денег и
сквозь более формальную, но также «объективную» очевидность
прибавочной стоимости, рынка, капитала, — на уровень правил игры; это
разрушение логической цепи инстанций капитала и даже критической цепи
анализирующих его марксистских категорий, образующих всего лишь его
обличье второго порядка, его критическое обличье, — на уровень
элементарных единиц производства как означающего, на уровень
образуемых им социальных отношений, навеки погребенных под
историческими иллюзиями производителей (и теоретиков).
321
ТРУД
Рабочая сила — это не сила, а характеристика, аксиома, и ее «реальное»
оперирование в процессе труда, ее «потребительная стоимость» есть не что
иное, как дублирование этой характеристики в операциях кода. Именно на
уровне знака, а отнюдь не на уровне энергии осуществляется основное
насилие. Механизм (но не закон) капитала играет на прибавочной стоимости
— неравноценном обмене зарплаты на рабочую силу. Но даже если бы их
обмен был равноценным, если бы настал конец прибавочной стоимости, если
бы даже оказалась отменена заработная плата (то есть продажа рабочей
силы), все равно человек остался бы отмечен этой аксиомой, этой
обреченностью на производство, этим таинством труда, которым он
пронизан насквозь, как полом. Нет, труженик уже не человек, даже не
мужчина или женщина: у него свой, особенный пол — рабочая сила,
предназначающая его для определенной цели; он отмечен ею, как женщина
отмечена своим полом (своей половой характеристикой), как негр отмечен
цветом своей кожи: они тоже суть знаки, ничего кроме знаков.
Следует различать относящееся лишь к режиму производства и то, что
относится к его коду. Прежде чем стать частью рыночного закона стоимости,
рабочая сила уже представляет собой определенный статус, структуру
повиновения определенному коду. Прежде чем стать меновой или
потребительной стоимостью, она уже является, как и любой товар, знаком
операторного превращения природы в ценность, что служит определяющим
признаком производства и фундаментальной аксиомой нашей, и никакой
другой культуры. Под количественными эквива61
лентностями проходит более глубинное и изначальное сообщение товара:
отрыв природы (и человека) от недетерминированности, в результате чего
они становятся детерминированы ценностью. В созидательном неистовстве
бульдозеров, сооружающих автострады и «инфраструктуру» , в этом
цивилизующем неистовстве эры производства можно ощутить ярое
стремление не оставить на земле ничего не-произведенного, на всем
поставить печать производства, пусть даже это и не сулит никакого прироста
богатств: производство ради меток, для воспроизводства меченых людей. Что
такое нынешнее производство, как не этот террор кода? Это вновь
становится так же ясно, как для первых поколений промышленной эпохи,
столкнувшихся с машинами как с абсолютным врагом, носителем тотального
разрушения традиционных структур, — тогда еще не успела развиться
сладкая мечта об исторической диалектике производства. Проявляющиеся то
тут, то там луддитские выступления, стихийно направленные против орудий
производства (и прежде всего против самих себя как производительной
силы), массовый саботаж и прогулы красноречиво говорят о неустойчивости
производственного строя. Ломать машины — безумный поступок, поскольку
322
это средства производства, поскольку сохраняется неоднозначность относительно их будущей потребительной стоимости. Но если рушатся цели этого
производства, то рушится и почтение к средствам, и машины предстают в
своей истинной целенаправленности, как прямые, непосредственнооператорные знаки социального отношения к смерти, которой живет капитал.
И тогда ничто не мешает их немедленному разрушению. В этом смысле
луддиты яснее Маркса понимали, что несет с собой вторжение
промышленного строя, и сегодня они едва ли не берут реванш — на
катастрофическом финише того процесса, в который мы втянулись по
указке самого Маркса, в диалектической эйфории производительных сил.
*
Труд служит знаком не в смысле престижных коннотаций, которые могут
связываться с тем или иным его видом, и даже не в смысле того социального
успеха, каким является само трудоустройство для алжирского иммигранта по
сравнению с его родственниками, для марокканского паренька с Верхнего
Атласа, только и мечтающего о работе на заводах «Симка», да даже еще и
для женщин в нашей стране. В подобных случаях труд отсылает к некоторой
присущей ему ценности — статусному росту или отличию. В современном
же сценарии труд более не описывается таким референциальным определением знака. Теперь вместо собственных значений того или иного
62
вида труда или же труда вообще существует трудовая система, в которой
должности взаимообмениваются. Нет больше «right man in the right place»1 —
старой формулы научно-производственного идеализма. Но нет больше и
индивидов, взаимозаменимых, по все-таки необходимых в каждом
определенном трудовом процессе. Теперь взаимозаменимым сделался сам
трудовой процесс: это подвижная, поливалентная, прерывистая структура
интеграции, безразличная к какой бы то ни было цели, даже и к труду в его
классическом операторном понимании, занятая лишь тем, чтобы поместить
каждого в социальную сеть, где ничто не направлено ни к чему, кроме
имманентности самой этой операциональной разметки, которая безразлично
служит как парадигмой, склоняющей всех индивидов относительно одного
общего корня, так и синтагмой, соединяющей их посредством бесконечной
комбинаторики.
Такой труд — также и в форме досуга — заполоняет всю нашу жизнь как
фундаментальная репрессия и контроль, как необходимость постоянно чемто заниматься во время и в месте, предписанных вездесущим кодом. Люди
всюду должны быть приставлены к делу — в школе, на заводе, на пляже, у
телевизора или же при переобучении: режим постоянной всеобщей
мобилизации. Но подобный труд не является производительным в исходном
смысле слова: это не более чем зеркальное отражение общества, его
323
воображаемое, его фантастический принцип реальности. А может, и влечение
к смерти.
На это и направлена вся нынешняя стратегия по отношению к труду: job
enrichment2,
гибкое
рабочее
расписание,
подвижность
кадров,
переквалификация, постоянное профессиональное обучение, автономия и
самоуправление, децентрализация трудового процесса — вплоть до
калифорнийской утопии кибернетизированного труда, выполняемого на
дому. Вас больше не отрывают грубо от обычной жизни, чтобы бросить во
власть машины, — вас встраивают в эту машину вместе с вашим детством,
вашими привычками, знакомствами, бессознательными влечениями и даже
вместе с вашим нежеланием работать; при любых этих обстоятельствах вам
подыщут подходящее место, персонализированный job3 — a нет, так
назначат пособие по безработице, рассчитанное по вашим личным
параметрам; как бы то ни было, вас уже больше не оставят, главное, чтобы
каждый являлся окончанием [terminal] целой сети, окончанием ничтожно
малым, но все же включенным в сеть, — ни в коем случае не нечленораздельным криком, по языковым элементом [terme], появляющимся на вы1
Нужный человек на нужном месте (англ.). -- Прим. перев. 2 Сдельная оплата
(англ.). — Прим. перев. 3 Работа (англ.). — Прим. перев.
63
ходе [au terme] всей структурной сети языка. Сама возможность выбирать
работу, утопия соразмерного каждому труда означает, что игра окончена, что
структура интеграции приняла тотальный характер. Рабочая сила больше не
подвергается грубой купле-продаже, теперь она служит объектом дизайна,
маркетинга, мерчендайзинга; производство включается в знаковую систему
потребления.
На первой стадии анализа задачей было осмыслить сферу потребления как
распространение сферы производительных сил. Теперь следует осуществить
обратную операцию. Сферу производства, труда, производительных сил
нужно осмыслить как переключенную в сферу «потребления», то есть в
сферу
всеобщей
аксиоматики,
кодированного
обмена
знаками,
распространенного на всю жизнь дизайна. Это относится к общественному
знанию, конкретным познаниям и установкам (Даниель Верр: «Почему не
рассматривать психологические установки персонала как один из ресурсов,
управление которым входит в задачи руководителя?»), а равно и к
сексуальности, телу, воображению (Верр: «Воображение одно лишь еще
связано с принципом удовольствия, в то время как весь психический аппарат
подчиняется принципу реальности (Фрейд). Пора покончить с такой
растратой сил. Воображение должно быть актуализировано как
производительная сила, вложено в дело. Воображение у власти — таков
лозунг технократии»). Так же и с бессознательным, с Революцией и т.п. Да,
все это идет к тому, чтобы быть «вложено в дело», захвачено и поглощено
324
сферой ценности, причем понимаемой не как рыночная стоимость, а скорее
как математическая величина, — то есть оно должно быть не мобилизовано
ради производства, а зарегистрировано, приписано к некоторой рубрике,
вовлечено в игру операциональных переменных, должно стать не столько
производительной силой, сколько фигурой на шахматной доске кода,
подчиняясь общим для всех правилам игры. Аксиома производства еще
только стремится свести все к факторам, аксиома же кода сводит все к
переменным. В итоге первой получаются уравнения и расчеты сил, в итоге
второй — подвижно-алеаторные комплексы, которые нейтрализуют все
противящееся или неподвластное им посредством не аннексии, а коннексии.
*
Дело зашло еще дальше, чем в «НОТ» — «научной организации труда», хотя
само ее появление было важнейшей вехой экспансии кода. Здесь можно
различить две фазы:
На смену «донаучной» фазе развития промышленной системы, Для которой
характерна максимальная эксплуатация рабочей силы,
64
приходит фаза машинного производства, преобладания основного капитала,
где «овеществленный труд [...] выступает [...] не только в форме продукта
или продукта, применяемого как средство труда, но в форме самой
производительной силы» (Grundrisse, т. II, с. 213)1. В дальнейшем это
накопление овеществленного труда, заменяющего живой труд как
производительную силу, бесконечно умножается в ходе накопления знаний:
«Накопление знаний и навыков, накопление всеобщих производительных сил
общественного мозга поглощается капиталом в противовес труду и поэтому
выступает как свойство капитала, более определенно — как свойство
основного капитала» (Gr., II, 213).
На этой стадии машинного производства, научного аппарата, совокупного
рабочего и НОТа «процесс производства перестал быть процессом труда в
том смысле, что труд перестал охватывать процесс производства в качестве
господствующего над ним единого начала» (Gr., II, 212). Вместо
«своеобразной» производительной силы остается всеобщая машинерия,
преобразующая производительные силы в капитал, — вернее,
вырабатывающая производительную силу и труд. Этой операцией
нейтрализуется весь общественный аппарат труда: отныне сама коллективная
машинерия начинает непосредственно производить себе общественную цель,
она сама производит производство.
Это господство омертвленного труда над живым. Именно в этом и
заключалось первоначальное накопление — накопление омертвленного
труда, пока он не станет способен поглощать живой труд, вернее
производить его под контролем в своих собственных целях. Поэтому конец
325
первоначального накопления знаменует собой решительный поворот всей
политической экономии — переход к преобладанию омертвленного труда, к
социальным отношениям, кристаллизующимся и воплощающимся в
омертвленном труде, которые тяготеют над всем обществом и представляют
собой не что иное, как код господства. Маркс допустил фантастическую
ошибку, поверив, что машины, техника, наука все-таки сохраняют
невинность, что все это способно вновь сделаться общественным трудом, как
только будет ликвидирована система капитала. В действительности на этомто она и зиждется. Подобные благодушные упования происходят от недооценки смерти в омертвленном труде, от веры в то, что за некоторым
поворотным пунктом, посредством своего рода исторического скачка
производства, мертвое окажется преодолено живым.
1
Эта и следующие цитаты из «Экономических рукописей» Маркса приводятся по изданию: К.Маркс, Ф.Энгельс, Сочинения. 2-е изд., т. 46, М.,
Госполитиздат, 1968, ч. I, с. 258, ч. II, с. 204, 205, 213. - Прим. перев.
65
И однако же Маркс почуял это, отметив «способность овеществленного
труда превращаться в капитал, то есть превращать средства производства в
средства управления живым трудом». То же самое проступает и в другой его
формуле, согласно которой на известной стадии развития капитала «вместо
того чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий
становится рядом с ним» (Gr., II, 221/222). Формула, которая идет
значительно дальше политической экономии и ее критики, так как смысл ее
буквально в том, что перед нами уже не процесс производства, а процесс
исключения и выдворения.
Нужно, однако, сделать отсюда все выводы. Когда производство получает
такой круговой характер и инволюциоиирует само в себя, оно утрачивает
всякую объективную детерминированность. Подобно мифу, оно само себя
заклинает с помощью своих собственных элементов, ставших знаками. Когда
параллельно с этим сфера знаков (включая масс-медиа, информацию и т.д.)
из особенной сферы превращается в глобальный процесс движения капитала,
то приходится говорить не только, вслед за Марксом, что «процесс
производства перестал быть процессом труда», но что также и «процесс
движения капитала перестает быть производственным процессом».
Из-за господства омертвленного труда над живым рушится вся диалектика
производства. Потребительная/меновая стоимость, производительные
силы/производственные отношения — все эти оппозиции, на которых
строился марксизм (следуя, впрочем, по сути той же схеме, что и
рационалистическое мышление с его оппозициями истины и лжи, видимости
и реальности, природы и культуры), тоже оказываются нейтрализованы
одним и тем же способом. В производстве и экономике все начинает
поддаваться взаимной подстановке, обращению, обмену в ходе той же
326
бесконечной игры отражений, что и в политике, моде или средствах
массовой коммуникации. Бесконечно отражаются друг в друге
производительные силы и производственные отношения, капитал и труд,
потребительная и меновая стоимость: это и значит, что производство
растворяется в коде. А закон ценности состоит сегодня не столько в
возможности обменивать все товары согласно всеобщему эквиваленту,
сколько в гораздо более радикальной возможности обменивать все категории
политической экономии (и ее критики) согласно коду. Все детерминации
«буржуазного»
мышления
были
нейтрализованы
и
упразднены
материалистическим пониманием производства, которое свело их все к
одной общеисторической детерминации. Но и оно, в свою очередь,
нейтрализуется и поглощается переворотом элементов системы. И если
прежние поколения мечтали о докапиталистическом обществе, то мы
начинаем гре66
зить о политической экономии как об утраченном объекте, и ее дискурс
является сегодня столь сильной референцией именно потому, что она
утрачена.
*
Маркс: «Те виды труда, которые могут использоваться только как услуги,
поскольку их продукт неотделим от своего исполнителя, и которые тем
самым не могут стать автономным товаром, образуют ничтожно малую массу
в массе капиталистического производства. Поэтому здесь от них можно
отвлечься, отложив их рассмотрение до главы о наемном труде» («Капитал»,
гл. VI, с. 234). Названная глава «Капитала» так и не была написана:
проблема, задаваемая данным разграничением, отчасти совпадающим с
разграничением производительного и непроизводительного труда,
совершенно неразрешима. Марксистское определение труда с самого начала
трещит по швам. Например, в «Grundrisse» (I, 253) читаем: «Труд является
производительным, если он производит свою противоположность [капитал]».
Отсюда логически следует, что если труд начинает воспроизводить сам себя,
как это и происходит сегодня в масштабе всего «совокупного рабочего», то
он перестает быть производительным. Таков непредвиденный вывод из
определения, которое даже мысли не допускает, чтобы капитал мог
укорениться в чем-либо ином, кроме «производства», — например, в самом
же
труде,
очищенном
от
производительности,
в
труде
«непроизводительном», как бы нейтрализованном, где зато капиталу как раз
и удается перехитрить опасную детерминированность «производительного»
труда и приступить к установлению своего реального господства уже не
только над трудом, но и над всем обществом. Пренебрегши таким
«непроизводительным трудом», Маркс прошел мимо действительной
327
неопределенности труда, на которой и зиждется стратегия капитала.
«Труд является производительным лишь в том случае, когда он производит
свою собственную противоположность [капитал]» (Gr., I, 253). При этом
парадокс в том, что по собственному же определению Маркса все большая
часть человеческого труда становится непроизводительной, но это явно не
мешает капиталу упрочивать свое господство. Фактически труд не бывает
двух или трех видов1, все эти
1
Маркс с иезуитским лукавством сам почти признает это, вводя понятие
совокупного рабочего: «Продукт превращается вообще из непосредственного
продукта индивидуального поизводителя в общественный, в общин продукт
совокупного рабочего, т.е. комбинированного рабочего персонала, члены
которого ближе или дальше стоят от непосредственного воздействия на
предмет труда.
Поэтому уже самый кооперативный характер процесса труда неизбежно
расширяет понятие производительного труда и его носителя,
производительного рабочего. Теперь для того, чтобы трудиться
производительно, нет необходимости непосредственно прилагать свои руки;
достаточно быть органом совокупного рабочего, выполнять одну из его
подфункций. Данное выше первоначальное определение производительного
труда, выведенное из самой природы материального производства, сохраняет
свое значение в применении к совокупному рабочему, рассматриваемому как
одно целое. Но оно не подходит более к каждому из его членов, взятому в
отдельности» («Капитал», II, 183/184 [К.Маркс, Ф.Энгельс, Сочинения, т. 23,
М., Госполитиздат, 1960, с. 516-517. — Прим. перев.]).
67
хитроумные и надуманные разграничения были подсказаны Марксу именно
капиталом, который сам никогда не был так глуп, чтобы в них верить, и
всегда «наивно» преодолевал их. Существует только один вид труда, только
одно его действительно фундаментальное определение, и на беду именно оно
оказалось упущено Марксом. Ныне все разновидности труда подводятся под
одно-единственное определение — под нечистую, архаичную, оставленную
без анализа категорию труда/услуги, а вовсе не под классическую и якобы
универсальную категорию наемно-«пролетарского» труда.
Труд/услуга — не в значении феодальной службы, так как этот труд утратил
смысл обязанности и взаимности, которым он обладал в контексте
феодализма, а в том значении, которое и указано у Маркса: услуга
неотделима от того, кто ее предоставляет; этот аспект архаичен при
продуктивистском воззрении на капитал, по фундаментален, если понимать
капитал как систему господства, систему «закрепощения» человека
трудовым обществом, то есть таким типом политического общества, где она
образует правила игры. Именно в таком обществе мы сегодня и живем (если
только оно не было таким еще и во времена Маркса): всякий труд сливается с
328
обслуживанием — с трудом как чистым присутствием/занятостью, когда
человек расходует, предоставляет другому свое время. Он «обозначает»
свой труд, подобно тому как можно обозначить свое присутствие или преданность. В таком смысле предоставление услуги действительно неотделимо
от предоставляющего ее. Предоставление услуги — это отдача своего тела,
времени, пространства, серого вещества. Производится ли при этом чтонибудь или нет — не имеет значения по сравнению с этой личной
зависимостью. Прибавочная стоимость, разумеется, исчезает, а заработная
плата меняет свой смысл (мы к этому еще вернемся). Это не «регрессия»
капитала к феодальному состоянию, а переход к реальному господству, то
есть к тотальному закабалению и закрепощению человеческой личности. К
этому и направлены все попытки «ретотализировать» труд — они стремятся
сделать
68
его тотальным услужением, где личность услужающего будет все менее и
менее отсутствовать, все более и более включаться в процесс.
В этом смысле труд больше не отличается от других видов практики, в
частности от своей противоположности — свободного времени, которое,
предполагая такую же степень мобилизации и приставленности к делу (или
же отставлеиности от производственного дела), оказывается ныне точно
таким же оказыванием услуг1 — за каковое по всей справедливости
полагалась бы и оплата (что, впрочем, тоже не исключается)2. Короче говоря,
лопается не только надуман1
Свободное время — это, так сказать, форма «сложного труда», в том
смысле что сложный труд, в отличие от простого, по определению смыкается
с обслуживанием (солидарность услуги и услужающего, неэквивалентность
никакому времени абстрактного общественного труда, неэквивалентность
никакой зарплате, воспроизводящей рабочую силу). Маркс сам разглядел бы
все это, если бы глаза ему не застили производительный труд и
многочисленные разграничения, призванные спасти производительного
труженика как субъекта истории. Так же и Маркузе, вместо того чтобы
строить фантазматические картины свободного времени («Доведенное до
совершенства овеществление энергии человеческого труда могло бы разбить
овеществленные формы, обрубив цепи, связывающие индивида с машиной...
Полная автоматизация в царстве необходимости открыла бы новое измерение
— измерение свободного времени, в котором произошло бы самоопределение частного и общественного существования человека» -«Одномерный человек» [Герберт Маркузе, Одномерный человек, М., REFLbook, 1994, с. 48. — Прим. перев.]), мог бы понять, что система, с ее
техническим прогрессом и автоматизацией, сама производит свободное
время как радикальную форму овеществления рабочей силы, как
законченную форму времени абстрактного общественного труда, и делает
329
это как раз симулируя обратным образом не-труд.
Другой вид «сложного» труда — это учеба, переквалификация, школа и т.д.
Есть соблазн анализировать все это также в терминах прибавочной
стоимости, реинвестирования капитала в знание и учебу, постоянного
капитала, который дополнительно присоединяется к простому труженику.
Смит: «Человек, обученный ценой больших затрат труда и времени, может
быть уподоблен дорогостоящей машине...». Неверно. Образование, обучение,
школа — это не особые, косвенные формы капиталовложений. Они
непосредственно
представляют
собой
общественные
отношения
порабощения и контроля. Капитал в них не стремится к сложному труду, он
несет в них абсолютные убытки, жертвуя огромной частью своей «прибавочной стоимости» ради воспроизводства своей гегемонии.
2
Уже сейчас это реализовано в пособии по безработице (во Франции теперь
— в течение года после увольнения). Еще дальше идет проект уже практикуемого в некоторых странах «отрицательного налога», который
предусматривает минимальный базовый заработок для всех — домохозяек,
инвалидов, безработной молодежи, — исчисляемый исходя из
потенциального трудового вознаграждения. При этом безработица как
критическое положение (со всеми своими политическими последствиями)
просто-напросто исчезает. Труд становится результатом добровольного
выбора, я зарплата — визой на существование, автоматически вписывающей
человека в социальное устройство. Капитал по-прежнему предполагает
оплату по найму, но только на сей раз в ее чистой форме — очищенной от
труда, — как означающее, очищенное от означаемого (следуя соссюровской
аналогии), которое было лишь его эпизодическим историческим
содержанием.
69
ное разграничение производительного и непроизводительного труда, но даже
и разграничение труда и всего остального. Больше просто не остается труда в
специфическом смысле термина, и Маркс вообще-то правильно сделал, что
не стал писать посвященную ему главу «Капитала»: она была заранее
обречена на неудачу.
Как раз в этот момент трудящиеся начинают именоваться
«производственными агентами»; терминологические сдвиги по-своему
важны, так и этот новый термин антифрастически обозначает статус
человека, который уже ничего больше не производит. Уже и
«специализированный рабочий»3 был уже не трудящимся, а просто рабочим
по отношению к тотальной нерасчлененности труда. Он имел дело уже не с
определенным содержанием труда и не с некоторой специфической
зарплатой, но с обобщенной формой труда и с политической зарплатой. С
появлением же «производственного агента» возникает наиабстрактнейшая
форма, куда более абстрактная, чем старый, заэксплуатированный до смерти
330
«специализированный рабочий»: появляется трудовой манекен, мельчайший
сменный модуль, базовый прислужник принципа ирреальности труда.
Гениальный эвфемизм: человек больше не трудится, а «обозначает труд»;
наступает конец культуры производства и труда, откуда и берется a contrario
термин «производственный». Для такого «производственного агента» характерна уже не эксплуатация, делающая его сырьем в трудовом процессе, а
мобильность, взаимозаменимость, делающая его бесполезным придатком
основного капитала. Термин «производственный агент» знаменует собой
предельный вариант «рабочего, стоящего рядом с производством», о котором
писал Маркс.
*
Данная стадия, на которой «процесс движения капитала перестает быть
производственным процессом», является также и стадией исчезновения
фабрики: на фабрику становится похоже все общество в целом. Фабрика как
таковая должна исчезнуть, труд должен утратить свой специфический
характер, и тогда капитал сможет преобразиться, распространив свою форму
до масштабов всего общества. Поэтому для анализа того реального
господства, которое ныне осуществляет капитал, необходимо зафиксировать
исчезновение конкретных мест труда, конкретного субъекта труда,
конкретного времени общественного труда, необходимо зафиксировать
исчезновение фаб3
Этой категорией фактически обозначались неквалифицированные, подсобные рабочие. — Прим. перев.
70
рики, труда и пролетариата1. Отошла в прошлое стадия, когда общество было
филиалом, надстройкой фабрики, виртуальной резервной армией капитала.
Теперь принцип фабрики взрывается и размазывается по всей поверхности
общества, так что различие между ними становится «идеологическим»:
поддерживать в воображаемом революционеров существование фабрики как
чего-то специфического и привилегированного — это просто ловушка,
которую ставит им капитал. Труд — повсюду, потому что труда больше пет.
Тут-то он и достигает своей окончательной, завершенной формы, своего
принципа,
воссоединяясь
с
другими
принципами,
исторически
выработанными
в
других
социальных
пространствах,
которые
предшествовали мануфактуре и служили ей образцом, — таких как приют,
гетто, больница вообще, тюрьма, все места заточения и сосредоточения,
которые выработала наша культура на своем пути к цивилизованному
состоянию. Впрочем, сегодня все эти места тоже утрачивают свои
определенные границы, растворяясь в глобальном обществе, потому что
форма приюта или тюрьмы, предполагаемая ими дискриминация теперь
заложены во все социальное пространство, во все моменты реальной жизни 2.
331
Все это по-прежнему существует — фабрики, приюты, тюрьмы, школы — и,
вероятно, будет существовать всегда как знаки разубеждения, от1
Смещение стратегии капитала от экономического процесса к процессу
более широкому наглядно прослеживается в социальной эволюции жилища.
Первоначально жилище рабочего было всего лишь его звериным логовом,
филиалом фабрики, местом, функционально предназначенным для воспроизводства рабочей силы и стратегически сохраняющим свою принадлежность
фабрике и предприятию. Жилище само не инвестировано формой капитала.
Мало-помалу жилище инвестируется как отмеченное пространство-время в
рамках процесса прямого и всеобщего контроля социального пространства;
это место, где воспроизводится уже не труд, а сим жилой быт как особая
функция, как непосредственная форма общественного отношения;
воспроизводится уже не труженик, а жилец как таковой, пользователь. Ведь
именно «пользователь», вслед за пролетарием, сделался идеальным типом
промышленного раба. Он пользуется материальными благами, словами
языка, сексуальностью, даже и трудом (рабочий, «производственный агент»,
становится пользователем своей фабрики и своего труда как
индивидуального и коллективного оборудования, как общественной
службы), он пользуется транспортом, а равно и своей жизнью и смертью.
Пользование, то есть присвоение потребительной стоимости, — эта
децентрированная, экстенсивная стратегия, направленная по всем азимутам,
— такова высшая форма самоуправления социального контроля.
2
Такова и калифорнийская кибернетическая утопия, растворяющая в себе
мегаполис третичного сектора: работа доставляется на дом с помощью компьютера. Труд распыляется, проникая во все поры общества и повседневного
быта. Перестают существовать не только рабочая сила, но и пространствовремя труда; отныне все общество представляет собой один сплошной
континуум ценностного процесса. Труд сделался образом жизни. В борьбе
против такой вездесущности капитала, прибавочной стоимости и труда,
связанной с их исчезновением как таковых, бесполезно возрождать заводские
стены, золотой век фабричного производства и классовой борьбы. Отныне
рабочий лишь питает собой воображаемое борьбы, подобно тому как
полицейский — воображаемое подавления.
71
влекающие от реального господства капитала к чему-то воображаемо
материальному. Так церкви всегда существовали для того, чтобы скрыть
смерть Бога, или же тот факт, что Бог повсюду (что то же самое). Всегда
будут существовать природные заповедники и индейские резервации, чтобы
скрыть, что ни животных, ни индейцев больше нет, что мы сами все стали
индейцами. Всегда будут существовать заводы и фабрики, чтобы скрыть, что
труд умер, что производство умерло, или же что оно теперь всюду и нигде.
Ибо сегодня бесполезно бороться с капиталом в детерминированных формах.
332
Зато если окажется, что он теперь ничем не детерминирован, что его
абсолютным оружием стало воспроизводство труда как чего-то
воображаемого, тогда, значит, и сам капитал вот-вот испустит дух.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В своей законченной форме, не соотносясь более ни с каким определенным
производством, труд больше не находится и в отношении эквивалентности с
заработной платой. Зарплата представляет собой эквивалент рабочей силы
(нечестный, несправедливый эквивалент, но это неважно) только в
перспективе количественного воспроизводства рабочей силы. Она
совершенно лишается этого смысла, когда начинает санкционировать собой
сам статус рабочей силы, обозначая повиновение диктуемым капиталом
правилам игры. Она больше ничему не эквивалентна и не пропорциональна3,
она представляет собой таинство вроде крещения (или же соборования),
делающее вас полно3
Понятие прибавочной стоимости просто не имеет больше смысла в применении к такой системе, которая от воспроизводства рабочей силы,
порождающей прибыль и прибавочную стоимость, перешла к
воспроизводству всей жизни в целом, перераспределяя или даже заранее
впрыскивая в нее весь эквивалент общественного сверхтруда. С этого
момента прибавочная стоимость оказывается всюду и нигде. Нет больше ни
«непроизводительных издержек капитала», ни, обратно, «прибыли» в смысле
ее одностороннего присвоения. Законом системы становится отрекаться от
нее и перераспределять ее, лишь бы она обращалась в обществе и лишь бы
каждый человек, пойманный плотной сетью этого непрестанного
перераспределения, сделался держателем, а вся группа — самоуправляющимся держателем прибавочной стоимости, тем самым глубоко вовлекаясь в
политический и бытовой порядок капитала. И точно так же как прибавочная
стоимость не имеет больше смысла с точки зрения капитала, она не имеет его
и с точки зрения эксплуатируемого. Разграничение между долей труда,
возвращающейся к нему в форме зарплаты, и излишком труда по имени
«прибавочная стоимость» больше не имеет смысла применительно к
трудящемуся, который вместо воспроизводства своей рабочей силы с
помощью зарплаты занимается воспроизводством всей своей жизни в
процессе «труда» в расширенном смысле слова.
72
ценным гражданином политического социума капитала. Помимо того, что
зарплата и доходы трудящегося дают капиталу средства для экономического
капиталовложения (кончилась эпоха наемного труда как эксплуатации,
наступает эпоха наемного труда как акционерного участия в
капиталистическом обществе — то есть стратегическая функция трудящегося
смещается в сторону потребления как обязательной службы обществу), на
сегодняшней стадии зарплаты/статуса преобладающим оказывается другое
333
значение слова «вложение» [investissement]: капитал облекает [investit]
трудящегося зарплатой как некоторой должностью или ответственностью.
Или же он действует как захватчик, который осаждает [investit] город, —
глубоко охватывает его и контролирует все входы и выходы.
Мало того, что капитал посредством зарплаты/дохода заставляет
производителей пускать деньги в оборот и тем фактически превращает их в
воспроизводителей капитала, но он еще и более глубоким образом,
посредством зарплаты/статуса делает их получателями материальных благ, в
том же смысле в каком сам он, капитал, является получателем труда. Каждый
пользователь обращается с потребительскими вещами, сведенными к их
функциональному статусу производства услуг, подобно тому как и капитал
обращается с рабочей силой. Тем самым каждый оказывается инвестирован
мыслительным порядком капитала.
С другой стороны, как только заработная плата отделяется от рабочей силы,
ничто (кроме разве что профсоюзов) не мешает более выдвигать
максималистские, неограниченно высокие требования оплаты. Ведь если у
некоторого количества рабочей силы еще бывает «справедливая цена», то
консенсус и глобальная сопричастность цены уже не имеют. Традиционно
требование повысить зарплату было лишь формой переговоров об условиях
жизни производителя. Максималистскими же требованиями наемный
работник выворачивает наизнанку свой статус воспроизводителя, на
который его обрекает зарплата. Это как бы вызов. Работник хочет сразу
всего. Таким способом он не только углубляет экономический кризис всей
системы, но и оборачивает против нее сам утверждаемый ею принцип
тотальной политической требовательности.
Максимальная зарплата за минимальный труд — таков лозунг. Требования
идут по нарастающей, политическим результатом чего вполне мог бы стать
взрыв всей системы сверху, согласно ее же логи73
ке труда как обязательного присутствия. Ведь теперь уже наемные работники
выступают не как производители, а как не-производители, роль которых
назначена им капиталом, — и в общий процесс они вмешиваются уже не
диалектически, а катастрофически.
Чем меньше приходится работать, тем активнее нужно требовать повышения
зарплаты, поскольку эта меньшая занятость является знаком еще более
очевидной абсурдности обязательного присутствия на работе. Вот во что
превращается «класс», доведенный капиталом до своей собственной
сущности: лишенный даже эксплуатации, востребованности своей рабочей
силы, он закономерно требует от капитала самой высокой цепы за этот отказ
от производства, за утрату своей идентичности, за свое разложение. При
эксплуатации он мог требовать только минимума. Оказавшись
деклассированным, он волен требовать всего1. А главное, капитал на этой
334
почве в общем-то тянется за ним. Все профсоюзы только и пытаются вернуть
несознательным работникам сознание эквивалентности зарплаты/труда,
которую сам же капитал упразднил. Все профсоюзы только и пытаются
ввести бескрайний шантаж зарплатных требований в сообразное хоть с чемто переговорное русло. Не будь профсоюзов, рабочие стали бы требовать
сразу 50-, 100-, 150-процентной прибавки — и, возможно, добились бы ее!
Примеры такого рода имеются в Соединенных Штатах и в Японии2.
ДЕНЬГИ
Установленная Соссюром гомология между трудом и означаемым, с одной
стороны, и зарплатой и означающим, с другой, — это как
1
Среди других форм, параллельных максималистским требованиям зарплаты, — идея равной оплаты для всех, борьба против квалификации; во всем
этом сказывается конец разделения труда (труда как общественного
отношения) и конец основополагающего для системы закона
эквивалентности на рабочем месте, эквивалентности между зарплатой и
рабочей силой. Во всех этих случаях, таким образом, косвенной мишенью
является сама форма политической экономии.
2
То же самое происходит и со слаборазвитыми странами. Цены на сырье не
знают удержу, как только они выходят за рамки, экономики и становятся знаком, залогом согласия с мировым политическим порядком, с планетарным
обществом мирного сосуществования, где слаборазвитые страны
насильственно социализируются под властью великих держав. И тогда рост
цен оказывается вызовом — не только богатству западных стран, но и всей
политической системе мирного сосуществования, системе господства одного
мирового класса, неважно капиталистического или коммунистического.
До энергетической войны арабы еще выдвигали традиционные требования
рабочих — платить за нефть по справедливой цене. Теперь же их требования
становятся максимальными, неограниченными, и смысл их уже иной.
74
бы исходная матрица, от Которой можно двигаться в разные стороны по
всему пространству политической экономии. Сегодня она подтверждается в
обратной форме — отрывом означающих от означаемых, отрывом зарплаты
от труда. В игре означающих и зарплаты идет параллельное восходящее
движение. Соссюр был прав: политическая экономия — это особый язык, и
перемена, затрагивающая знаки языка, которые теряют свою
референциальность, затрагивает также и категории политической экономии.
Тот же самый процесс подтверждается и в двух других направлениях:
1. Отрыв производства от всякой общественной референции или
целенаправленности; при этом оно вступает в фазу экономического роста.
Именно в таком смысле следует понимать экономический рост — не как
ускорение, а как нечто иное, фактически знаменующее собой конец
производства. Производство может быть определено через значимый разрыв
335
между собственно производством и относительно случайным и автономным
потреблением. Но с тех пор как потребление (после кризиса 1929 года, и
особенно с конца Второй мировой войны) стало в буквальном смысле
управляемым, то есть начало играть роль одновременно мифа и
контролируемой переменной, мы вступили в новую фазу, где производство и
потребление больше ничем не детерминированы сами по себе и не стремятся
ни к каким отдельным целям; и то и другое включено в более крупный цикл,
спираль, переплетение под названием «экономический рост». Он оставляет
далеко позади традиционные социальные задачи производства и
потребления. Этот процесс — сам по себе и сам для себя. Он не
ориентируется больше ни на потребности, ни на прибыль. Он представляет
собой не ускорение производительности, а структурную инфляцию знаков
производства, взаимоподмену и убегание вперед любых знаков, включая,
разумеется, денежные знаки. Характерные явления этой стадии — ракетные
программы, «Конкорд», программы обороны по всем азимутам, раздувание
промышленного парка, оборудование общественных или же индивидуальных
инфраструктур, программы переобучения и вторичного использования
ресурсов и т.д. Задачей становится производить что угодно, по принципу
реинвестирования любой ценой (вне зависимости от нормы прибавочной стоимости). Вершиной этого планирования общественного воспроизводства
является, видимо, борьба с загрязнением среды, когда вся система
«производства» запускается в повторный оборот для устранения своих же
собственных отходов; грандиозная формула с нулевым итогом — впрочем,
не совсем нулевым, поскольку вместе с «диалектикой» загрязнения/борьбы с
загрязнением проступает и упование на бесконечный экономический рост.
75
II. Отрыв денежного знака от всякого общественного производства: деньги
вступают в процесс неограниченной спекуляции и инфляции. Для денег
инфляция — это то же самое, что повышение зарплат для продажи рабочей
силы (и экономический рост для производства). Во всех этих случаях
процесс одинаково уходит в отрыв, в разносный ход и одинаково грозит
кризисом. Отрыв зарплаты от «справедливой» стоимости рабочей силы и
отрыв денег от реального производства — и там и тут утрата
референциальности. Абстрактное общественно необходимое рабочее время
— в одном случае, золотой эталон — в другом теряют свою функцию
индексов и критериев эквивалентности. Инфляция зарплат и инфляция денег
(а равно и экономический рост) принадлежат, таким образом, к одному и
тому же типу и идут рука об руку1.
Очищенные от целевых установок и аффектов производства, деньги
становятся спекулятивными. С переходом от золотого эталона, который уже
не был больше репрезентативным эквивалентом реального производства, но
все же хранил на себе его след благодаря относительному равновесию
336
(низкая инфляция, конвертируемость валют в золото и т.д.), к «плавающим»
капиталам и всеобщей зыбкости они из референциального знака делаются
структурной формой. Такова характерная логика «плавающего»
означающего — не в смысле Леви-Стросса, где оно еще как бы не нашло себе
означаемого, а в смысле избавленности от всякого означаемого (от всякого
эквивалента в реальности), тормозившего процесс его умножения и ничем не
ограниченной игры. При этом деньги получают способность самовоспроизводиться просто через игру трансфертов и банковских проводок,
через непрестанное раздвоение и дублирование своей абстрактной
субстанции.
«Hot money»2 — так называют евродоллары, очевидно, как раз для того,
чтобы обозначить эту свистопляску денежных знаков. Но точнее было бы
сказать, что нынешние деньги стали «cool»3 — в том смысле, в каком этот
термин обозначает (у Маклюэна и Рисмена) интенсивную, но безаффектную
соотнесенность элементов, игру, пита1
А энергетический кризис предоставляет и той и другой сразу убедительные
алиби и отговорки. Отныне инфляцию, этот внутренний структурный кризис
системы, можно будет списывать на счет стран-производителей энергии и
сырья, которые «вздувают цены»; а отход от производительной системы,
выражающийся в числе прочего максимализмом требований оплаты труда,
можно будет уравновешивать утрозой дефицита, то есть шантажировать
потребительной стоимостью самой экономической системы как таковой.
2
Горячие деньги (англ.). — Прим. перев.
3
Прохладные (англ.). — Прим. перев.
76
ющуюся исключительно правилами игры, доходящей до конца взаимоподстановкой элементов. Напротив того, «hot» характеризует
референциальную стадию знака, с его единичностью и с глубиной его
реального означаемого, с его сильнейшим аффектом и слабой способностью
к подстановке. Сегодня нас всюду обступают cool-знаки. Нынешняя система
труда — это cool-система, деньги — cool-деньги, вообще все структурное
устройство ныне — cool; а «классические» производство и труд, процессы в
высшей степени hot, уступили место безграничному экономическому росту,
связанному с дезинвестицией всех содержаний труда и трудовой
деятельности как таковой, — то есть cool-процессам.
Coolness — это чистая игра дискурсивных смыслов, подстановок на письме,
это непринужденная дистантность игры, которая по сути ведется с одними
лишь цифрами, знаками и словами, это всемогущество операциональной
симуляции. Пока остается какая-то доля аффекта и референции, мы еще на
стадии hot. Пока остается какое-то «сообщение», мы еще на стадии hot. Когда
же сообщением становится само средство коммуникации, мы вступаем в эру
cool. Именно это и происходит с деньгами. Достигнув определенной фазы
337
отрыва, они перестают быть средством коммуникации, товарооборота, они и
есть сам оборот, то есть форма, которую принимает сама система в своем
абстрактном коловращении.
Деньги — это первый «товар», получающий статус знака и неподвластный
потребительной стоимости. В них система меновой стоимости оказывается
продублирована видимым знаком, и таким образом они делают видимым сам
рынок (а значит, и дефицит) в его прозрачности. Но сегодня деньги делают
новый шаг — становятся неподвластны даже и меновой стоимости.
Освободившись от самого рынка, они превращаются в автономный
симулякр, не отягощенный никакими сообщениями и никаким меновым
значением, ставший сам по себе сообщением и обменивающийся сам в себе.
При этом они больше не являются товаром, поскольку у них больше нет ни
потребительной, ни меновой стоимости. Они больше не являются всеобщим
эквивалентом, то есть все еще опосредующей абстракцией рынка. Они
просто обращаются быстрее всего остального и не соизмеримы с остальным.
Конечно, можно сказать, что таковы они были всегда, что с самого
зарождения рыночной экономики они обращаются быстрее и вовлекают все
другие сектора в это ускорение. И на протяжении всей истории капитала
между разными его уровнями (финансовым, промышленным, аграрным, а
также сферой потребления и т.д.) имеются несоответствия в скорости
оборота. Эти несоответствия сохраняются еще и сегодня: отсюда, например,
сопротивление национальных
77
валют (связанных с местным рынком, производством, экономическим
равновесием) международной спекулятивной валюте. Однако атакует именно
эта последняя, потому что именно она обращается быстрее всех, в свободном
дрейфе с плавающим курсом: достаточно простой игры этого плавающего
курса, чтобы обрушить любую национальную экономику. Итак, все секторы
в зависимости от различной скорости оборота зависят от этих колебаний
наверху, которые представляют собой отнюдь не внешний и причудливый
процесс («зачем нужна биржа?»), но чистейшее выражение системы, чей
сценарий
обнаруживается
всюду:
неконвертируемость
валют
в
золото/неконвертируемость знаков в их референты, всеобщая плавающая
конвертируемость
валют
между
собой/бесконечная
подвижность,
структурная игра знаков; сюда же относится и зыбкость всех категорий
политической экономии, как только они утрачивают свой золотой референт
— рабочую силу и общественное производство: труд и не-труд, труд и
капитал вопреки всякой логике становятся взаимно конвертируемыми; сюда
же относится и зыбкость всех категорий сознания, как только утрачивается
психический эквивалент золотого эталона — субъект. Не стало больше
референтной инстанции, под властью которой производители могли
обменивать свои ценности согласно контролируемым эквивалентностям; это
338
конец золотого эталона. Не стало больше референтной инстанции, под
эгидой которой могли диалектически взаимообмениваться субъект и
объекты, меняясь своими определениями вокруг некоторой стабильной
идентичности по надежным правилам; это конец субъекта сознания.
Возникает соблазн сказать: это царство бессознательного. Все логично: если
субъект сознания есть психический эквивалент золотого эталона, то именно
бессознательное является психическим эквивалентом спекулятивных денег и
плавающих капиталов. Действительно, сегодня индивиды, опустошенные как
субъекты и оторванные от своих объектных отношений, находятся по
отношению друг к другу в состоянии дрейфа, непрерывных
трансференциальных флуктуации: вся общественная жизнь прекрасно
описывается в терминах бессознательного по Делёзу либо монетарной
механики (потоки, подключения, отключения, трансфер/контр-трансфер),
или же в рисменовских терминах «otherdirectedness»1 — собственно,
«otherdirectedness» и выражает собой, разве что в англосаксонских и не
совсем
шизофренических
терминах,
эту
зыбкость
личностных
идентичностей. Почему у бессознательного (пусть даже сиротского и
шизофренического)
должно
быть
привилегированное
положение?
Бессознательное — это просто психическая структура,
1
Управляемость извне (англ. ). - Прим. перев.
78
современная нынешней, радикальнейшей фазе господствующего обмена,
структурной революции ценности.
ЗАБАСТОВКА
Исторически забастовка получала свое оправдание в системе производства,
как организованное насилие с целью отнять у осуществляющего встречное
насилие капитала если не власть, то хотя бы часть прибавочной стоимости.
Ныне такой забастовки больше не существует:
1. Потому что капитал способен завести в тупик любую забастовку — так как
мы больше не живем в системе производства (максимализации прибавочной
стоимости). Пусть пропадает прибыль, лишь бы сохранялось
воспроизводство формы социальных отношений!
2. Потому что забастовки ничего не меняют по сути: капитал сегодня сам
занимается перераспределением прибылей, для него это вопрос жизни и
смерти. В лучшем случае забастовка отнимает у капитала то, что он и так бы
в конце концов уступил по своей собственной логике.
Итак, коль скоро производственные отношения, а вместе с ними и классовая
борьба оказываются поглощены искусно организованными социальнополитическими отношениями, то очевидным образом нарушить этот цикл
может лишь нечто такое, что неподвластно организации и определению
класса как
- исторической представительной инстанции;
339
- исторической производственной инстанции.
Только те, кто ускользает от коловращения производства и
представительства, могут расстроить его механизмы и из самой глубины
своей несознательности произвести переворот всей «классовой борьбы»,
который может оказаться и концом классовой борьбы как геометрического
места «политики». Именно поэтому в забастовках последнего времени
получает особый смысл участие иммигрантов1.
1
Однако эти выступления не отделены непроходимым барьером от выступлений любой другой группы, лишенной социального представительства.
Женщины, молодежь, лицеисты, гомосексуалисты и даже сами «пролы» при
условии, что они действуют «стихийно», то есть при допущении, что
профсоюзы по сути не представляют их, представляя лишь самих себя, — а в
подобном смысле мы все являемся «иммигрантами». И наоборот, сами
иммигранты могут перестать быть таковыми. Итак, «иммигрантов как
таковых» не существует, и они не образуют нового исторического субъекта,
неопролетариата, приходящего на смену старому.
79
Так как миллионы трудящихся оказываются в силу механизма
дискриминации лишены всякой инстанции, представляющей их интересы, то
именно они, выходя на сцепу классовой борьбы в западных странах, доводят
кризис до решительного уровня, уровня представительства. Все общество,
включая профсоюзы, рассматривает иммигрантов как внеклассовых
элементов (да еще и при экономико-расовом сообщничестве профсоюзных
«масс»: для организованного «класса» пролетариев, привязанного к своему
экономико-политическому
силовому
отношению
с
классом
капиталистической буржуазии, иммигрант «объективно» является классовым
врагом), и в силу этой своей социальной исключенности они играют роль
анализатора, разлагающего отношения между трудящимися и профсоюзами
и вообще между «классом» и любой представительной инстанцией этого
«класса». Занимая отклоняющееся положение по отношению к системе
политического представительства, они заражают своей девиантностью весь
пролетариат в целом, который тоже понемногу приучается обходиться без
системы представительства и без всякой инстанции, претендующей говорить
от его имени.
Такая ситуация не продлится долго: профсоюзы и хозяева уже почуяли
опасность и стараются реинтегрировать иммигрантов как «полноправных
фигурантов» на сцене «классовой борьбы».
Анатомическое вскрытие профсоюзов
Своего рода генеральной репетицией этого кризиса стала забастовка в марте
— апреле 1973 года на заводах Рено. Внешне хаотичная, несогласованная,
манипулируемая и в конечном счете неудачная (если не считать грандиозной
340
терминологической победы — замены табуированного отныне термина OS
[«специализированный рабочий»] термином АР, «производственный
агент»!), она в действительности ярко явила собой агонию профсоюзов,
оказавшихся в тисках между «массами» и хозяевами. Поначалу это была
«стихийная» забастовка, начатая OS-иммигрантами. Но сегодня у Всеобщей
конфедерации труда есть наготове оружие против такого рода происшествий
— распространение забастовки на другие заводы или на другие категории
персонала, использование ее как повод для ставших уже ритуальными
массовых весенних выступлений. Однако на сей раз даже этот механизм
контроля, который хорошо проявил себя начиная с 1968 года и которым
профсоюзы рассчитывали пользоваться на протяжении жизни целого
поколения, фактически ускользнул у них из рук. Даже отнюдь не стихийные
массы (на Сегенском, Фленском, Сандувильском заводах) то прекращали, то
возобновляли (что не ме80
нее важно) работу, не обращая внимания на «советы» своих профсоюзов. У
профсоюзов все получалось невпопад. Когда они добивались чего-то от
хозяев и предлагали рабочим это одобрить, те не хотели. Стоило им добиться
уступки от рабочих, чтобы возобновить переговоры с дирекцией, как
дирекция от нее отказывалась и закрывала заводы. Она обращалась к
рабочим через голову профсоюзов. Фактически она сознательно
подталкивала дело к кризису, чтобы загнать профсоюзы в угол: сумеют ли
они контролировать всех трудящихся? Под угрозой оказалось само их
социальное существование, их легитимность. Именно таков был смысл
«ужесточения» позиций дирекции и государственной власти на всех уровнях.
Речь шла уже не о противоборстве организованного (объединенного в
профсоюзы) пролетариата и хозяев, а о борьбе профсоюза за
представительство под двойным давлением профсоюзных масс и патроната;
эта борьба явилась итогом всех стихийных забастовок последних лет, ее
детонатором стали трудящиеся, не объединенные в профсоюзы, непокорная
молодежь, иммигранты, всевозможные внеклассовые элементы.
В этом плане ставка оказалась необычайно высокой. Вместе с легитимностью
профсоюзного представительства могло рухнуть и все здание общества.
Парламент и другие посредующие механизмы утрачивают свой вес. Даже
полиция ни на что не годна без профсоюзов, если те неспособны
поддерживать порядок на заводах и вокруг них. В мае 1968 года именно они
спасли режим. Теперь же пробил и их час. Эта важность происходящего
парадоксальным образом выражается в самой хаотичности событий (не
только при забастовках на заводах Рено, но и при выступлениях лицеистов).
То ли бастуют, то ли нет — непонятно. Никто больше ничего не решает. Чего
добиваются? С кем борются? О чем говорят? Счетчики Гейгера, которыми
профсоюзы, политические партии и прочие группки измеряют боевитость
341
масс, зашкаливали. Движение лицеистов словно растекалось в руках у тех,
кто хотел бы оформить его согласно своим целям: у него, что, и вовсе нет
целей? Во всяком случае, оно не хотело, чтобы ему подсовывали чужие цели.
Рабочие возобновили работу, не добившись никаких результатов, тогда как
они могли это сделать на неделю раньше с заметным выигрышем, и т.д. По
сути эта хаотичность напоминает хаотичность сновидения: в ней
проявляются сопротивление или цензура, воздействующие на самое
содержание сна. В данном случае в ней проявляется важнейший факт,
который самим пролетариям нелегко признать: общественная борьба
сместилась и ведется уже не против традиционного внешнего классового
врага (патроната и капитала), а против истинного внутреннего классового
врага, против своей же собственной классово-представительной инстанции
— партии или
81
профсоюза. Против той инстанции, которой рабочие делегируют свои
полномочия и которая обращается против них самих, поскольку ей
делегируют свои полномочия также и патронат и правительство. Капитал сам
по себе отчуждает только рабочую силу и ее продукт, он обладает
монополией только на производство. Партии же и профсоюзы отчуждают
социальную силу эксплуатируемых и обладают монополией на
репрезентацию. Начало борьбы с ними — это исторический шаг вперед в
революционном движении. Однако этот шаг вперед оплачивается меньшей
четкостью, недостаточным разрешением картины, внешним отступлением
назад, непоследовательностью, нелогичностью, бесцельностью и т.д.
Действительно, все становится неопределенным, все создает помехи, когда
приходится выступать против своей же собственной репрессивной
инстанции, изгонять профсоюзных активистов, делегатов, ответственных
представителей из собственного сознания. Однако эта нечеткость весенних
событий 1973 года как раз и показывает, что в них оказалась затронута самая
суть проблемы: профсоюзы и партии мертвы, им остается только умереть.
Развращение пролетариата
Такой кризис представительства является важнейшим политическим
аспектом последних социальных выступлений. Однако сам по себе он может
и не быть смертельным для системы, и повсюду (и в самих же профсоюзах)
уже намечается его формальное преодоление (перехват) в рамках общей
схемы самоуправления. Никакого делегирования полномочий, каждый сам в
полной мере отвечает за производство! Идет новое идеологическое
поколение! Но придется ему нелегко, так как данный кризис сочетается с
другим, еще более глубоким, который затрагивает уже само производство,
самую систему производства. И здесь опять-таки иммигранты косвенно
оказываются в роли анализаторов. Так же как они анализировали отношения
«пролетариата» с его представительными инстанциями, они анализируют и
342
отношение трудящихся с их собственной рабочей силой, их отношение к
самим себе как производительной силе (а не только к некоторым из них,
образующих представительную инстанцию). Все оттого, что именно они
были последними оторваны от традиции не-продуктивизма; оттого, что их
пришлось социально деструктурировать, дабы ввергнуть в трудовой процесс
в его западном смысле, а в ответ они уже сами глубоко деструктурируют этот
общий
процесс
и
господствующую
в
западной
цивилизации
продуктивистскую мораль.
Впечатление такое, что их насильственное вовлечение [embauche] на
европейский рынок труда вызывает все большее развра82
щение [débauche] европейского пролетариата по отношению к труду и
производству. Теперь уже приходится говорить не только о «тайных»
приемах сопротивления труду (лентяйстве, транжирстве, отлынивании и
т.д.), которые отнюдь не прекратились, — но теперь уже рабочие открыто,
коллективно, спонтанно прекращают работу, просто так, ни с того ни с сего,
ничего не требуя, ни о чем не торгуясь, к великому отчаянию профсоюзов и
хозяев, а через неделю так же внезапно, и притом все вместе, возобновляют
ее. Ни поражения, ни победы — да это и не забастовка, а просто
«прекращение работы». Такой эвфемизм красноречивее самого слова
«забастовка»: вся дисциплина труда рушится, все морально-практические
нормы, утвержденные за два века промышленной колонизации в Европе,
распадаются и забываются, без всяких видимых усилий, без «классовой
борьбы» в собственном смысле слова. Отказ от непрерывной работы,
наплевательское отношение к ней, несоблюдение трудового расписания,
равнодушие к заколачиванию денег, сверхурочным, должностному росту,
сбережениям и предусмотрительности — работают ровно по минимуму,
после чего прекращают и откладывают остальное на потом. Именно за такое
поведение европейские колонисты упрекают «недоразвитые» пароды: их
невозможно приучить к труду/ценности, к рациональному и непрерывному
рабочему времени, к понятию выигрыша в заработке и т.д. Только вывозя их
за море, удается наконец интегрировать их в трудовой процесс. Зато
западные рабочие в то же самое время все более и более «регрессируют» к
поведению «недоразвитых». Впечатляющий реванш за колонизацию в самой
современной ее форме (импорта рабочей силы): развращается сам западный
пролетариат, так что его еще, глядишь, придется однажды экспортировать
обратно в слаборазвитые страны, чтобы заново там приучать к историческим
и революционным ценностям труда.
Существует тесная связь между этой ультраколонизацией трудящихсяиммигрантов (на месте колонии были нерентабельны, вот их и приходится
импортировать) и той деколонизацией промышленности, которая охватывает
все секторы общества (повсюду, в школе, на заводе, свершается переход от
343
hot-фазы инвестирования труда к циничной cool-практике трудовых задач).
Именно иммигранты (а также OS из числа молодежи и
сельскохозяйственных рабочих), поскольку они лишь недавно вышли из
«дикарского» равнодушия к «рациональному» труду, — именно они
анализируют, разлагают западное общество, все то скороспелое,
неустойчивое, поверхностное и произвольное, что содержится в его
принудительной коллективизации через труд, этой коллективной паранойе,
которую долго возводили в ранг морали, культуры и мифа, забывая, что на
самом Западе эта промышленная
83
дисциплина была установлена ценой неслыханных усилий лишь менее двух
веков назад, что она так и не добилась окончательной победы, а сегодня
начинает давать опасные трещины (собственно, ей и не прожить дольше, чем
другой колонизации — колонизации заморских стран).
Забастовка ради забастовки
Забастовка ради забастовки — такова ныне истинная суть борьбы.
Немотивированная, бесцельная, лишенная политической референции, она
соответствует и противостоит такому производству, которое и само
немотивированно, бесцельно, лишено референции и социальной
потребительной стоимости, не имеет другой цели, кроме себя самого, —
производству ради производства, то есть системе простого воспроизводства,
которая крутится вхолостую в гигантской тавтологии трудового процесса.
Забастовка ради забастовки — это обратная тавтология, но она субверсивна,
разоблачая эту новую форму капитала, соответствующую последней стадии
закона стоимости.
Забастовка наконец перестает быть средством и только средством,
оказывающим давление на соотношение политических сил и на игру власти.
Она сама становится целью. Она отрицает, радикально пародируя ее на ее же
собственной территории, ту целесообразность без цели, какой сделалось
производство.
В производстве ради производства больше не бывает транжирства. Само
это понятие, значимое в рамках ограниченной экономики пользования, стало
для нас неприменимым. Оно связано с благонамеренной критикой системы.
«Конкорд», космическая программа и т.д. — это не транжирство, напротив.
Ибо теперь система, дошедшая до столь высокого уровня «объективной»
бесполезности, производит и воспроизводит сам труд. Собственно, все
(включая трудящихся и профсоюзы) именно этого от нее прежде всего и
требуют. Все вращается вокруг проблемы занятости: социальная политика,
это создание рабочих мест — и вот британские профсоюзы, чтобы сохранить
занятость, готовы превращать «Конкорд» в сверхзвуковой бомбардировщик;
инфляция или безработица? — да здравствует инфляция, и т.д. Труд, подобно
344
социальному страхованию или потребительским благам, сделался предметом
социального перераспределения. Грандиозный парадокс: труд все меньше и
меньше является производительной силой и все больше и больше —
продуктом. Этот аспект — одна из самых характерных сторон той перемены,
которую претерпевает ныне система капитала, той революции, в результате
которой она переходит от собственно производственной стадии к стадии
воспроизводства. Чтобы функционировать и распространяться вширь, она
все
84
меньше нуждается в рабочей силе, а от нее требуют, чтобы она давала,
«производила» все больше труда.
Такому абсурдному замкнутому кругу — системе, в которой работают, чтобы
производить труд, — соответствуют и требования бастующих ради
забастовки (впрочем, этим сегодня заканчивается и большинство забастовок
«с конкретными требованиями»): «Оплатите нам дни забастовки», — что по
сути значит «заплатите нам, чтобы мы могли воспроизвести забастовку ради
забастовки». Это абсурд всей системы, вывернутый наизнанку.
Ныне, когда продукты производства — все продукты, включая и сам труд, —
оказались по ту сторону полезного и бесполезного, производительного труда
больше нет, остался только труд воспроизводительный. Точно так же нет
больше и «производительного» или «непроизводительного» потребления,
осталось только потребление воспроизводительное. Досуг столь же
«производителен», сколь и труд, фабричный труд настолько же
«непроизводителен», как досуг или труд в третичном секторе; первая
формула не отличается от второй, и эта неотличимость как раз и знаменует
собой
завершение
фазы
политической
экономии.
Все
стали
воспроизводителями — то есть утратили конкретные целевые установки,
которые их различали. Никто больше не производит. Производство умерло.
Да здравствует воспроизводство !
Генеалогия производства
При нынешней системе воспроизводится сам капитал в самом строгом своем
определении — как форма общественных отношений, — а не в вульгарном
понимании, как деньги, прибыль и хозяйственная система. Воспроизводство
всегда понималось как «расширенное» воспроизводство способа
производства, обусловленное этим последним. На самом же деле следовало
мыслить способ производства как одну из модальностей (не единственную)
режима воспроизводства. Производительные силы и производственные
отношения — иными словами, сфера материального производства —
представляют собой, пожалуй, лишь одну из возможных, то есть исторически
относительных конъюнктур, возникающих в процессе воспроизводства.
Воспроизводство — форма гораздо более емкая, чем экономическая
345
эксплуатация. А стало быть, игра производительных сил не является ее
необходимым условием.
Разве исторически статус «пролетариата» (наемных промышленных рабочих)
не определялся прежде всего заточением, концентрацией и социальной
исключенностью?
85
Заточение мануфактурного рабочего — это фантастическое распространение
того заточения, которое описано у Фуко для XVII века. Разве не возник
«промышленный» труд (то есть труд неремесленный, коллективный,
поднадзорный и без владения средствами производства) в первых больших
Генеральных госпиталях? На своем пути к рационализации общество первым
делом интернирует праздношатающихся, бродяг, девиантных индивидов,
дает им занятие, прикрепляет к месту, внушает им свой рациональный
принцип труда. Однако здесь происходит взаимозаражение, так что разрез, с
помощью которого общество учредило свой принцип рациональности, обращается и на все трудовое общество в целом: заточение становится
микромоделью, которая затем, в качестве промышленной системы, распространяется на все общество в целом, и под знаком капитала и
продуктивистской целесообразности оно превращается в концентрационный
лагерь, место заключения, затворничества.
Вместо того чтобы распространять понятия пролетариата и эксплуатации на
расовое, половое и т.п. угнетение, следует задаться вопросом, не обстоит ли
дело наоборот. Кто такой изначально рабочий? Не совпадает ли его
глубинный статус со статусом безумца, мертвеца, природы, животных, детей,
негров, женщин — статусом не эксплуатации, а экскоммуникации,
отлучения, не ограбленности и эксплуатируемости, а дискриминируемости и
мечености?
Я предполагаю, что настоящая классовая борьба всегда происходила на
основе этой дискриминации — как борьба недочеловеков против своего
скотского положения, против мерзости кастового деления, обрекающего их
на недочеловеческий труд. Именно это скрывается за каждой забастовкой, за
каждым бунтом; даже и сегодня это скрывается в самых «экономических»
требованиях забастовщиков — вся их разрушительная сила идет отсюда. При
этом сегодняшний пролетарий является «нормальным» человеком,
трудящийся возведен в достоинство полноправного «человеческого
существа», и, кстати, в этом качестве он перенимает все виды
дискриминации, свойственные господствующим классам, — он расист,
сексист, мыслит репрессивно. В своем отношении к сегодняшним
девиантным элементам, ко всем тем, кого дискриминируют, он на стороне
буржуазии — на стороне человеческого, на стороне нормы. Оттого и
получается, что основополагающий закон этого общества — не закон
эксплуатации, а код нормальности.
346
Май 1968 года: иллюзия производства
Первой ударной волной этого перехода от производства к чистому
воспроизводству оказался май 1968 года. Первым оказался зат86
ронут университет, и прежде всего гуманитарные факультеты, потому что
там стало особенно очевидно (даже и без ясного «политического» сознания),
что там ничего больше не производят, а только лишь воспроизводят
(преподавателей, знания и культуру, каковые сами становятся факторами
воспроизводства системы в целом). Именно это положение, переживаемое
как полная ненужность и безответственность («Зачем нужны социологи?»),
как социальная неполноценность, и подхлестнуло студенческие выступления
1968 года — а вовсе не отсутствие перспектив: в процессе воспроизводства
перспектив всегда хватает, чего нет, так это мест, пространств, где бы
действительно что-то производилось.
Эта ударная волна продолжает разбегаться. Она и будет распространяться до
крайних пределов системы, по мере того как целые сектора общества
низводятся из разряда производительных сил до простого состояния
воспроизводительных сил. Хотя первоначально этот процесс затронул так
называемые «надстроечные» сектора, такие как культура, знание, юстиция,
семья, но очевидно, что сегодня он постепенно охватывает и весь так
называемый «базис»: забастовки нового поколения, происходящие после
1968 года, — неважно, что они частные, стихийные, эпизодические, —
свидетельствуют уже не о «классовой борьбе» пролетариата, занятого в
производстве, но о бунте людей, которые прямо у себя на заводах приписаны
к воспроизводству.
Однако и в этом секторе первыми страдают маргиналыю-аномические
категории — молодые OS, завезенные на завод прямо из деревни,
иммигранты, не члены профсоюза и т.д. Действительно. В силу указанных
выше причин «традиционный», организованный в профсоюзы пролетариат
имеет все шансы среагировать последним, так как он может дольше всех
сохранять иллюзию «производителъного>> труда. Это сознание того, что по
сравнению со всеми прочими ты настоящий «производитель», что все-таки,
пусть и ценой эксплуатации, ты стоишь у истоков общественного богатства,
— такое «пролетарское» самосознание, усиливаемое и санкционируемое
классовой организацией, несомненно образует сильнейшую идеологическую
защиту от деструктурации, осуществляемой нынешней системой, которая,
вместо того чтобы, по старой доброй марксистской теории, пролетаризировать целые слои населения, то есть ширить эксплуатацию «производительного» труда, подводит всех под один и тот же статус воспроизводительного труженика.
Работники ручного «производственного» труда более всех живут в иллюзии
производства, подобно тому как свой досуг они переживают в иллюзии
347
свободы.
87
До тех пор пока труд переживается как источник богатства или
удовлетворения, как потребительная стоимость, пусть даже это труд
наихудший, отчужденный и эксплуатируемый, — он все-таки остается
сносным. До тех пор пока еще можно различить некоторое «производство»,
отвечающее (хотя бы в воображении) некоторым индивидуальным или
общественным потребностям (потому-то понятие потребности обладает
столь фундаментальной важностью и столь мощной мистифицирующей
силой), — до тех пор даже самые худшие индивидуальные или исторические
обстоятельства остаются сносными, потому что иллюзия производства — это
всегда иллюзия его совпадения с его идеальной потребительной
стоимостью. Так что те, кто верит сегодня в потребительную стоимость
своей рабочей силы, — пролетарии — потенциально более всех
мистифицированы, менее всех способны к бунту, которым охвачены люди в
глубине своей тотальной ненужности, в порочном кругу манипулирования,
где они оказываются лишь вехами в безумном процессе воспроизводства.
В тот день, когда этот процесс распространится на все общество в целом, май
1968 года примет форму всеобщего взрыва, и проблемы смычки
студентов/трудящихся больше не встанет: в ней всего лишь выражалась
пропасть, разделяющая при нынешней системе тех, кто еще верит в свою
рабочую силу, и тех, кто в нее уже не верит.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ КАК СИМУЛЯТИВНАЯ
МОДЕЛЬ
Политическая экономия для нас — это теперь реальное, то же самое, что
референт для знака: горизонт уже мертвого порядка явлений, симуляция
которого позволяет, однако, поддержать «диалектическое» равновесие
системы. Реальное — следовательно, воображаемое. Здесь опять-таки две
некогда различные категории слились воедино и продолжают дрейфовать
вместе. Код (структурный закон ценности) систематически играет на
реактивации политической экономии (узкорыночного закона стоимости) как
реального/воображаемого нашей цивилизации, и манифестация этой
ограниченной формы ценности равносильна оккультации ее радикальной
формы.
Прибыль, прибавочная стоимость, механика капитала, классовая борьба —
весь дискурс критики политической экономии развертывается напоказ как
референтный дискурс. Таинство ценности представляют на сцене
(разумеется, таинство всего лишь изменило смысл: теперь таинственной
сделалась структурная ценность): все согласны с тем, что экономика является
«определяющей инстанцией», и она становится «внесценической»,
348
«непристойной» [obscène]1. Это своего
1
В этом смысле заслуживает анализа рекламная афиша банка BNP: «Меня
интересуют твои деньги. Ты мне, я тебе — одолжи мне свои деньги и будешь
получать прибыль от моего банка».
1) Капитал (в лице своего передового института — международного финансового капитала) впервые столь ясно, глядя вам прямо в глаза,
провозглашает закон эквивалентности, причем в качестве рекламного
аргумента. Обычно о подобных вещах умалчивают, рыночный обмен
аморален, и реклама всячески старается его скрыть, подменив идеей услуги.
Поэтому можно быть уверенным, что такая откровенность представляет
собой маску второго порядка.
2) На вид задача — экономически убедить людей, что отнести деньги в BNP
— выгодное дело. Но истинная стратегия оказывается параллельной (наподобие параллельной полиции). Она в том, чтобы убедить людей самой этой
прямотой капитализма, разговором «лицом к лицу»: довольно сантиментов,
долой идеологию услужливости, играем в открытую и т.д. В том. чтобы
убедить их самой этой «непристойностью» раскрытия скрыто-аморального
закона эквивалентности. Этакое «мужское» сообщничество: мы по-мужски
делимся с вами непристойной правдой капитала. Оттого эта афиша так
попахивает развратом, оттого так сально и блудливо смотрят эти глаза,
направленные на ваши деньги, словно на ваши гениталии. Используется
техника перверсивной провокации — гораздо более тонкая, чем примитивное
обольщение улыбкой (тема встречной рекламной кампании банка «Сосьете
женераль»: «Улыбаться должен клиент, а не банкир»). Соблазнить людей
самой непристойностью экономики, поймать их на извращенном очаровании,
которым обладает для них капитал даже в самой своей жестокости. С этой
точки зрения рекламный слоган означает, говоря попросту: «Меня
интересует твоя задница. Ты мне, я тебе — дай-ка мне свою задницу, и я тебя
поимею». Некоторым такое по вкусу.
За гуманистической моралью обмена скрывается глубинное желание капитала, головокружительное желание закона ценности, и реклама банка
пытается уловить именно это тайное, сверх- или недоэкономическое
сообщничество. Тем самым она свидетельствует, быть может и невольно, об
определенной политической интуиции.
3) Рекламщики не могли не знать, что это лицо вампира, похотливое сообщничество и прямое нападение станут вызывать отрицательную реакцию у
среднего класса. Зачем же они пошли на такой риск?
Тут-то и кроется самая необычная уловка: реклама создана для того, чтобы
кристаллизировать психические сопротивления закону прибыли и
эквивалентности — чтобы провести мысль об эквивалентности капитала и
прибыли, капитала и экономики («ты мне, я тебе») в тот самый момент,
когда, это уже больше не верно, когда капитал уже сместил свою стратегию,
349
а потому и может прямо заявлять свой «закон» — ведь теперь его суть уже в
другом; провозглашение этого закона оказывается всего лишь новой,
дополнительной мистификацией.
Капитал больше не живет благодаря законам экономики, и потому эти законы могут стать рекламным аргументом, перейти в сферу знака и знаковой
манипуляции. Экономика теперь — лишь театр, где разыгрываются
количественные характеристики ценности. Это по-своему выражает и данная
реклама, в которой деньги — всего лишь предлог.
Отсюда — заключенные в ней богатые возможности подстановки, благодаря
которым она может работать на любых уровнях.
Например:
«Меня интересует твое бессознательное. Ты мне, я тебе — открой мне свои
фантазмы и будешь пользоваться моим психоанализом».
«Меня интересует твоя смерть. Ты мне, я тебе — застрахуй свою жизнь, и я
обеспечу твоих близких».
«Меня интересует твоя производительность. Ты мне, я тебе — предоставь
мне свою рабочую силу и будешь пользоваться моим капиталом».
И так далее: эта реклама может служить «всеобщим эквивалентом» во всех
социальных отношениях нашего времени.
4) Если глубинное сообщение рекламы заключается не в эквивалентности
а=а (этим она никого не обманет, и сами рекламщики это хорошо знают),
то, быть может, оно заключается в прибавочной стоимости (в том факте, что
итогом предлагаемой операции для банкира и капитала будет уравнение
а=а+а') ? Реклама почти не скрывает эту истину, и каждый может ее
почуять. Капитал здесь играет на самой грани, почти снимая маску, — но это
не страшно, так как реально реклама толкует не о количественной
эквивалентности и не о прибавочной стоимости, а о тавтологии: не а=а, не
а=а+а', но Л есть А,
то есть банк есть банк, банкир есть банкир, деньги есть деньги, и вам с этим
ничего не поделать. Делая вид, будто формулирует экономический закон
эквивалентности, афиша реально утверждает императив тавтологии, это
фундаментальное правило господства. Ведь если банк есть банк, стол есть
стол, а дважды два — четыре (а не пять, как хотелось Достоевскому), то в
этом-то и состоит подлинное доверие к капитализму. Когда капитал говорит
«меня интересуют твои деньги», он делает вид, что толкует о выгоде, чтобы
обеспечить себе кредит. Такой кредит принадлежит экономике, а вот
доверие, связанное с тавтологией и резюмирующее в ней всю идентичность
капиталистического строя, принадлежит области символического.
89
рода провокация. Капитал ищет себе алиби уже не в природе, Боге или
морали, а прямо в политической экономии, в ее критике, и живет
внутренним саморазоблачением — в качестве диалектического стимула и
350
обратной связи. Вот почему в «дизайне» капитала играет такую важную роль
марксистский анализ.
Здесь действует тот же сценарий, какой описан у Бурдье/Пассерона для
системы образования: ее кажущаяся автономия позволяет ей эффективно
воспроизводить структуру классового общества. Так и здесь: кажущаяся
автономия политической экономии (точнее, ее значимость как определяющей
инстанции)
позволяет
ей
эффективно
воспроизводить
правила
символической игры капитала, его реальную власть над жизнью и смертью,
которая основана на коде и постоянно подстегивает политическую
экономию, делая из нее свое средство, алиби, прикрытие для своей
непристойности.
Чтобы машина воспроизводила производственные отношения, она должна
функционировать. Чтобы питать собой систему меновой
90
стоимости, товар должен обладать потребительной стоимостью. Таков был
сценарий на первичном уровне. Сегодня симуляция перешла на вторичный
уровень: товар должен функционировать как меновая стоимость, дабы
скрыть, что он обращается как знак и воспроизводит собою код2. Общество
должно представляться как классовое общество,
2
Поэтому если раньше (в том числе и у Маркса) был натуралистический
фантазм потребительной стоимости, то у нас теперь — экономический
фантазм меновой стоимости. Для нас в структурной игре кода меновая
стоимость играет ту же роль, какую играла потребительная стоимость при
рыночном законе стоимости, — роль референциального симулякра.
91
как классовая борьба, оно должно «функционировать» на марксистскокритическом уровне, дабы замаскировать истинный закон системы и возможность ее символического разрушения. Маркузе уже давно отметил этот
сбой в материалистической диалектике: производственные отношения,
вместо того чтобы быть деконструированы производительными силами, сами
теперь подчиняют себе производительные силы (науку, технику и т.д.),
обретая в них свою новую легитимностъ. Здесь также приходится
переходить
на
вторичный
уровень:
общественные
отношения
символического господства подчиняют себе способ производства в целом
(производительные силы и производственные отношения вместе), обретая в
них, в видимом развитии и революционном перевороте политической
экономии, свою новую легитимность и идеальное алиби.
Отсюда необходимость воскрешать, драматизировать политическую
экономию как защитную структуру. Отсюда особый тип кризиса,
постоянный симулякр кризиса, с которым мы имеем дело сегодня.
На этой эстетической стадии политической экономии, когда производство
характеризуется целесообразностью без цели, рушится этико-аскетическая
351
мифология труда и накопления. И вот капитал, рискующий погибнуть от
этого разжижения ценностей, вновь обращается с ностальгией к великому
этическому периоду своей истории, когда производить еще имело какой-то
смысл, — к золотому веку дефицита и развития производительных сил.
Чтобы восстановить целевые установки, чтобы реактивировать принцип
экономики, нужно возродить дефицит. Отсюда — экология, позволяющая
благодаря
угрозе
абсолютного
дефицита
восстановить
этику
энергосбережения. Отсюда энергетический и сырьевой кризис — настоящий
дар небес для системы, которой зеркало производства являло одну лишь
пустую форму, охваченную смятением. Кризис способен вернуть коду
экономики его утраченную референцию, вернуть принципу производства
ускользавшую от пего серьезность. Мы вновь обретем вкус к аскезе, ее
патетическую инвестированность, рождающуюся от нехватки и лишений.
Весь поворот к экологии, произошедший в последние годы, уже позволил
запустить этот процесс возрождения через кризис — не кризис
перепроизводства, как в 1929 году, а кризис системной инволюции и
повторного разыгрывания утраченной идентичности3. Кри3
Американский сенат даже стал оценивать, во что обойдется вернуть всю
воду к той степени чистоты, какую она имела до завоевания Америки
европейцами (к «норме 1491 года» — Христофор Колумб, как известно,
доплыл до Америки в 1492-м). Оказалось — в 350 миллиардов долларов. Но
эти миллиарды ничего не значат; ведь на самом деле сенаторы высчитывают,
во что обойдется вернуть всю систему к исходной чистоте эпохи
первоначального накопления, к золотому веку рабочей силы. К норме 1890
года? а может быть, 1840-го?
Точно так же денежная система грезит сегодня о золоте и Gold Exchange
Standard [золотом обменном стандарте (англ.). — Прим. перев.], якобы
способных стабилизировать и возродить бумажные деньги. Действительно,
свободная и безудержная спекуляция на утрате золотого обеспечения денег
(а именно таково нынешнее положение вещей) ежеминутно грозит
катастрофой — такой произвольностью курса и такой чудовищной
инфляцией, что сама инстанция денег может рухнуть и лишиться всякого
доверия. Здесь опять-таки необходимо циклическое восстановление через
референцию, через «критику», чтобы финансовые обмены не доходили до
предела своей нереальности, где они разрушают сами себя.
92
зис не производства, а воспроизводства (оттого невозможно определить,
какова в нем доля истины и симулякра). Экология — это производство,
питающееся призраком дефицита, обретая в нем естественную
необходимость, которая придала бы новую силу закону ценности. Однако
экология действует слишком медленно. Более энергичную терапию дает
внезапный кризис вроде нефтяного. Чем меньше нефти, тем заметнее
352
становится, что у нас есть производство. Как только сырье вновь получает
отмеченное положение, рабочая сила тоже обретает свое прежнее место, и
весь механизм воспроизводства опять становится ясно постижимым.
Механизму обеспечен еще один, новый оборот.
Итак, не надо паники. В тот самый момент, когда интенсивная мобилизация
рабочей силы, сама ее этика грозят рухнуть, — как раз кстати случился
материально-энергетический
кризис,
скрадывающий
поистине
катастрофическое разрушение целевых установок производства и
переводящий его в разряд обычных внутренних противоречий (известно
ведь, что эта система живет своими противоречиями).
*
Иллюзорно и представление, будто на известном этапе расширенного
воспроизводства система капитала переходит от стратегии дефицита к
стратегии изобилия. Нынешний кризис доказывает, что эта стратегия
обратима. Иллюзия возникала из наивной веры в реальность дефицита или
же в реальность изобилия, то есть из иллюзии реальной
противопоставленности этих двух явлений. На самом же деле они просто
альтернативны, и стратегическое определение неокапитализма заключается
в переходе не к фазе изобилия (потребления, репрессивной десублимации,
сексуального освобождения и т.д.), а к фазе систематического чередования
одного и другого — дефицита и изобилия, — ведь оба они потеряли свою
референцию, а следовательно и антагонистическую реальность, и система
одинаково может играть то на одном, то на другом. Такова завершающая
стадия
93
воспроизводства. В политике подобная стадия наступает тогда, когда с
нейтрализацией антагонизма левых и правых функции власти могут
осуществляться как игра их чередования.
Именно
эта
недетерминированность
терминов,
нейтрализация
диалектической оппозиции до простого структурного чередования
производит столь характерное чувство неуверенности в реальности кризиса.
Такое невыносимое чувство симулякра характерно для всего связанного с
систематическим функционированием кода, и его вечно пытаются заклинать
в терминах заговора. Кризис якобы подстегивается «крупным капиталом» —
успокоительная гипотеза, поскольку в ней восстанавливается некая реальная
экономико-политическая инстанция и предполагается наличие некоего
(тайного) субъекта кризиса, то есть какой-то исторической истины. Ужас
симулякра отступил: лучше уж что угодно другое, лучше уж вездесущая
экономико-политическая фатальность капитала, лишь бы в нем был ясный
смысл; лучше уж прибыль, эксплуатация и вся эта экономическая жестокость
капитала, чем признание той ситуации, где мы живем и где все играется и
353
переигрывается как простой результат кода. Неузнавание этой «истины»
мирового господства (если у него есть истина) не уступает по масштабу
самому кризису, который впервые делает ее всецело очевидной.
В самом деле, кризис 1929 года еще был кризисом капитала, измеряемого
уровнями реинвестиций, прибавочной стоимости и прибыли, кризисом
(пере)производства, измеряемого целевыми установками общественного
потребления. А разрешен был этот кризис регулированием спроса через
бесконечный обмен целевыми установками между производством и
потреблением. С тех пор (это окончательно утвердилось с концом Второй
мировой войны) производство и потребление перестали быть двумя
противоположными и потенциально противоречащими друг другу полюсами.
Одновременно, вместе с самой возможностью кризиса, весь порядок
экономики утратил и всякую внутреннюю детерминированность. Он
сохраняется лишь как процесс экономической симуляции, сближающийся с
процессом воспроизводства, который его полностью и поглощает1.
1
Разумеется, между структурным и рыночным законами ценности сохраняются противоречия, так же как прежде они имелись между рыночным законом и пережитками докапиталистических ценностей (каковые и до сих пор
не исчезли полностью). Так, абсолютной задачей системы является контроль
над смертью — иначе невозможна структурная отмеченность жизни, - но это
наталкивается на экономические императивы, на традиционную логику
прибыли (огромная стоимость длительного лечения, поддержания жизни
больных и т.д.). В результате — компромисс, некое абсурдное равновесие
(собираются зафиксировать норму в 35% больных лейкемией, жизнь которых
будут поддерживать). Подсчитывают маргинальную стоимость смерти. За
этим порогом больным предоставляют умирать. Экономический цинизм? —
нет, напротив, это как раз экономика не дает системе дойти до предела
собственной логики, то есть полностью преградить людям доступ к своей
смерти.
Фактически имеет место сложная игра двух форм стоимости, в которой все
определяется этой стратегией двоения и кризиса. Ибо кризис — это то, что
якобы требует решения, тогда как он уже является этим решением.
94
Но существовал ли когда-нибудь реальный дефицит, а стало быть и
реальность всего принципа экономики, — чтобы сегодня можно было
говорить, что он исчезает и лишь играет роль мифа, да еще и
альтернативного мифу об изобилии? Существовала ли исторически
потребительная стоимость дефицита, а стало быть и абсолютная
ценностная установка экономики, чтобы сегодня можно было сказать, что
она исчезла в цикле воспроизводства, уступив место безраздельному
господству кода, регуляции через код, которая и распоряжается пашей
жизнью и смертью? Скажем так: экономика для своего самопроизводства (а
354
она только и производит что себя самое) нуждается в таком диалектическом
напряжении между дефицитом и изобилием , — однако система для своего
самовоспроизводства нуждается сегодня уже только в мифическом
оперировании экономикой.
*
Именно потому, что сфера экономики нейтрализована, теперь обо всем
можно говорить в терминах политической экономии и производства.
Экономика, и предпочтительно в марксистском своем варианте, становится
эксплицитным дискурсом целого общества, вульгатой всякого анализа. Все
идеологи обрели сегодня в политической экономии свой родной язык. Все
социологи, human scientists2 и т.д. склоняются к марксизму как опорному
дискурсу. Даже и христиане — особенно, конечно, христиане. Поднимается
как бы новая левая — божественная левая. Благодаря той же интеграции без
берегов все сделалось «политическим» и «идеологическим». Преступления и
происшествия — это политика, спорт тоже, об искусстве и говорить нечего;
всюду правота на стороне классовой борьбы. Весь скрытый дискурс капитала
стал явным, и всюду отмечается ликование по поводу этого признания
«истины».
Май 1968 года ознаменовал собой решающий этап в этой натурализации
политической экономии. Поколебав систему в самых глубинах ее
символической организации, встряска мая 1968 года сделала
2
Специалисты по гуманитарным наукам (англ.). — Прим. перев.
95
насущно, жизненно необходимым переход от «надстроечных» идеологий
(моральных, культурных и т.п.) к идеологизации самого базиса. Сделав
официальным дискурс своей критики, капитал под прикрытием этой
легализации экономики и политики удваивает свою власть. Именно
политической экономией заткнули пробоину, образованную 1968 годом, —
причем именно марксистской политической экономией, подобно тому как на
местах «продажей» кризиса занимались профсоюзы и левые партии. Таким
образом, скрытая референция экономики и политики была извлечена на свет
лишь затем, чтобы спасти катастрофическую ситуацию, и с тех пор ее
продолжают распространять, обобщать, отчаянно воспроизводить, потому
что открытая маем 1968 года катастрофическая ситуация так и не исчерпана.
Набравшись храбрости, можно было бы сказать, что экономика и ее критика
представляют собой всего лишь надстройку, — да только не нужна нам такая
храбрость, потому что это все равно что вывернуть старую шкуру наизнанку.
Где же в таком случае базис?.. и т.д. К тому же это означало бы дать
возможность экономике однажды вновь подняться наверх — по закону
качелей, представляющему собой один из эффектов кода. Нас слишком долго
обманывали «базисом», чтобы снова затевать эту игру масок. Этим
355
«базисным» и «надстроечным» детерминациям положила конец сама
система. Сегодня она делает вид, будто рассматривает экономику как базис,
потому что Маркс гениально подсказал ей такую запасную стратегию, по
фактически капитал никогда реально не функционировал согласно этому
воображаемому разграничению — не так он наивен. Его могущество
происходит именно от одновременного развития на всех уровнях сразу, от
отказа задаваться всерьез вопросом, что чем детерминировано, отказа от
хитроумного разграничения инстанций и от всякой «идеологии», — от того,
что он никогда по сути не отождествлялся с производством, как это делал
Маркс, а вслед за ним и все прочие революционеры, которые одни только и
верили и верят в производство, связывая с ним свои фантазмы и
безрассудные надежды. Сам же капитал довольствуется тем, что
распространяет свой закон одним всеохватывающим движением, неумолимо
заполоняя все пространство жизни и не заботясь о приоритетах. Он навязал
людям труд — но он навязал им также и культуру, потребности, речь и функциональные языки, информацию и коммуникацию, право, свободу,
сексуальность, инстинкт самосохранения и инстинкт смерти, — он во всем
выдрессировал их согласно враждебным и безразличным друг другу мифам.
Это и есть его единственный закон — безразличие. Иерархизировать
инстанции — слишком опасная игра, грозящая обернуться против пего. Нет,
он умеет нивелировать, нейтрализовывать,
96
разграфлять общей разметкой, делать неразличимым — и именно так он и
действует согласно своему закону. А еще он умеет скрывать этот
фундаментальный процесс под маской «детерминирующей» все остальное
политической экономии.
Для нынешнего капитала, этой гигантской полиморфной машины,
символическое (дар и отдаривание, взаимность и обратимость, трата и
жертвоприношение) не значит больше ничего, природа (базовая референция
источника и субстанции, диалектика субъекта/объекта и т.д.) тоже ничего
больше не значит, да и политическая экономия переживает сама себя в
состоянии глубокой комы, зато все эти призраки по-прежнему бродят в
операциональном поле ценности. Быть может, здесь в грандиозном масштабе
отзывается закон, отмеченный у Маркса: всякое событие сначала проживает
историческую жизнь, а затем воскресает в форме пародии. Разве что для пас
обе эти фазы сливаются воедино, так как старая добрая материалистическая
история сама стала процессом симуляции, не дает больше возможности даже
для театрально-гротескной пародии; сегодня террор вещей, лишенных своей
субстанции, осуществляется напрямую, сегодня симулякры непосредственно
предвосхищают собой пашу жизнь во всех ее определениях. Теперь это уже
не спектакль и не воображаемое — это тактика яростной нейтрализации,
которая оставляет мало места для клоунады типа Наполеона III,
356
исторического фарса, который, в духе Маркса, легко преодолевается
реальной историей. Симулякры — другое дело, они сами ликвидируют пас
вместе с историей. А может быть, это связано с вообще характерными для
Маркса иллюзиями насчет возможностей революции в системе. Он прекрасно
видел уже намечавшуюся в его эпоху способность капитала подрывать свои
собственные основы и переходить на «повышенную скорость передачи». Он
хорошо видел, что капитал стремится сократить или далее вовсе
ликвидировать роль рабочей силы в своем процессе, заменив ее гигантской
силой омертвленного труда. Но, считая силу живого труда объективным,
исторически необходимым основанием капитала, он делал отсюда вывод, что
капитал тем самым роет себе могилу. Иллюзия: капитал похоронил рабочую
силу, только более изощренным способом: он сделал ее вторым членом
регулярной оппозиции с капиталом. Из ее энергии разрыва, которая должна
была взорвать производственные отношения, он сделал однородный
производственным отношениям элемент оппозиции, симулируемой под
знаком мертвого труда. Отныне одна-единственная господствующая
инстанция, инстанция мертвого труда, раздваивается на капитал и живой
труд: их антагонизм разрешен посредством бинарного механизма,
функционирующего согласно коду. Но как же, спросят, прибавочная
стоимость,
97
производство? А капиталу на них наплевать. Не будем приписывать ему
марксистские интуиции (хотя Маркс сделал все, чтобы просветить капитал
насчет будущего, которое его ожидает: если он будет упрямо играть на поле
производства, то быстро придет к гибели, экономика — это смертельная
ловушка для капитала), но он как будто правильно понял Маркса в этом
пункте и потому «избрал» ликвидацию производства, переход к стратегии
иного типа. Я говорю «как будто», потому что отнюдь не обязательно, чтобы
капитал вообще когда-либо рассматривал себя в подобном продуктивистском
смысле (в сущности, так рассматривал его один лишь Маркс — и проецировал свой фантазм в виде исторической истины), вероятнее предположить, что
он всегда лишь играл в производство, готовый затем оставить эту игру, когда
она вовлечет его в смертельные противоречия. Разве капитал когда-нибудь
принимал производство всерьез? Он не так глуп: даже в самую свою
серьезную производственную пору капитал, должно быть, уже был сплошной
симуляцией.
Поэтому реально посягают на его господство лишь такие поступки, которые
происходят в этом поле радикальной недетерминированности и ломают эту
экономическую стратегию разубеждения.
*
Система никогда не может быть уничтожена прямой, диалектической
357
революцией ее экономического или политического базиса. Все то, что
создает противоречия, силовые отношения, вообще энергию, — все это лишь
выворачивает систему наизнанку и дает ей новый толчок для искривленнокругового движения, подобного ленте Мёбиуса. Ее никогда нельзя победить
по ее же логике — логике энергии, расчета, разума и революции, истории и
власти, по логике какой бы то ни было целевой или антицелевой установки;
на этом уровне никакому насилию не за что зацепиться, и оно оборачивается
против себя. Систему никогда нельзя победить в плане реального; роковой
ошибкой всех наших революционных стратегов как раз и является намерение
покончить с системой в плане реального — а это всего лишь их воображаемое, и она сама же внушает его нападающим на себя, она живет и
переживает себя именно потому, что все время толкает их сражаться на
территории реального, то есть на ее же собственной территории. Сюда все
бросают свою энергию, ярость своего воображаемого, и по неумолимой
логике все это неизменно идет на пользу самой системе. Ей ни к чему
реальное насилие или контрнасилие, она живет насилием символическим. Не
в том упрощенном смысле, в котором эта формула получила широкое
распространение, — не в смысле «на98
силия через знаки», которым система якобы дублирует или же «маскирует"
свое материальное насилие. Нет: символическое насилие выводится из
особой логики символического (которая не имеет ничего общего со знаком и
энергией) — из таких явлений, как обращение, непрестанная обратимость
отдаривания и, наоборот, захват власти путем одностороннего одаривания1.
Поэтому необходимо перенести все в сферу символического, где действует
закон вызова, обращения, увеличения ставок. Такого, что и на смерть
можно ответить только другой, равной или большей, смертью. Здесь нет
реального насилия или же реальных сил, есть только вызов и символическая
логика. Коль скоро господство возникает оттого, что система обладает
исключительным правом на дарение без отдаривания — дарение труда, на
который невозможно ответить разрушением или жертвоприношением, разве
что в ходе потребления, которое само вписывается новым витком спирали в
систему одаривания, откуда нет выхода, новым витком спирали господства;
или же дары средств массовой информации, на передачи которых невозможно ничего возразить в силу их монополии на код; или повсеместные и
ежеминутные дары социальной системы, всех этих инстан1
Дар, понимаемый в смысле дара-обмена, объявили характерной чертой
первобытных «экономик», а заодно и альтернативным принципом по
отношению к закону ценности и к политической экономии. Это худшая из
возможных мистификаций. Дар — это наш миф, наш идеалистический миф,
соотносящийся с нашим материалистическим мифом; под ними обоими мы и
погребаем первобытных людей. Первобытный символический процесс не
358
знает бескорыстного дара, ему известны лишь дар-вызов и обращение
обменов. Когда эта обратимость нарушается (именно в силу возможности
одностороннего одаривания, каковая предполагает возможность накопления
и одностороннего перемещения ценностей), то собственно символическое
отношение гибнет и возникает власть; в дальнейшем она лишь
развертывается в экономическом механизме договора. Сама идея накопить
под свою ответственность [sur sa tête, букв. «на свою голову». — Прим.
перев.] (это и есть «капитал» [от лат. caput, «голова»]) некоторый запас
ценностей, который стал бы расти и множиться, — это наша
операциональная фикция, наша метафизика, приманка капиталистического
накопления; но точно такой же фикцией является и представление о том, что
от всего этого можно полностью отречься (в дарении). Первобытным людям
известно, что так не бывает, что зафиксировать ценность на одном из членов
структуры, вообще изъять некий сегмент из обмена, выделить в обмене лишь
одну сторону — все это немыслимо; ничего не бывает без возмещения, не в
договорном смысле слова, а в том, что процесс обмена неостановимо
обратим. Они как раз и строят все свои отношения на этом непрестанном
возвратном движении обмена, на амбивалентности и смерти. А наш
общественный строй основан на возможности разделить и автономизировать
два полюса обмена: отсюда вытекает либо эквивалентный обмен (договор),
либо неэквивалентный обмен без возмещения (дар). Но, как можно видеть, и
там и тут господствующим фактором является разрыв единого процесса и
принцип автономизации ценности.
99
ций защиты, страхования, жалования и заботы, от которых уже никому не
уйти, — тогда единственным выходом оказывается обратить против системы
сам же принцип ее власти: невозможность ответа и возражения. Бросить
системе такой вызов, на который она не сможет ответить ничем кроме
своей гибели и крушения. Ведь никому, даже системе, не уклониться от
символической обязанности, и такая ловушка — единственный шанс ее
катастрофы. Поставить систему в положение скорпиона, окруженного огнем
смертельного вызова. Ибо тот дар, на который она должна ответить, чтобы не
потерять лицо, — этот дар, конечно, может быть только даром смерти.
Пускай система сама убьет себя, отвечая на многократный вызов смерти и
самоубийства.
Так бывает при захвате заложников. В символическом плане, то есть в плане
жертвоприношения, где исключаются всякие моральные соображения о
невиновности жертв, заложник является заместителем, alter ego
«террориста»; его смерть заменяет собой смерть террориста, да они могут и
слиться в одном жертвенном акте. Ставкой является смерть без всякой
возможной сделки, и поэтому она влечет за собой обязанность набавлять
цену. Разумеется, система переговоров и сделок всемерно пытается
359
развернуться и здесь, и сами террористы нередко втягиваются в этот
сценарий расчетливо-эквивалентного обмена (получая за жизнь заложников
некоторый выкуп, или свободу, или просто славу громкой операции). Под
таким углом зрения захват заложников не представляет собой ровно ничего
оригинального, им просто создается неожиданное, сиюминутное силовое отношение, разрешимое путем традиционного насилия или же переговоров.
Это чисто тактическое действие. Но в игре есть и иная ставка, как хорошо
проявилось в случае с террористами в Гааге, когда на протяжении небывалых
десятидневных переговоров никто вообще не знал, о чем договариваться, не
мог условиться о терминах или о вариантах эквивалентного обмена. А если
их все-таки и удавалось сформулировать, то «требования террористов»
оказывались равнозначны полному отказу от сделок. Вокруг этого и идет
игра: вокруг невозможности никаких сделок, которая означает выход на
символический уровень, совершенно игнорирующий подобные расчеты и
обмены (тогда как система только и живет сделками, пусть даже в равновесии насилия). На такое вторжение символического (а это самое опасное,
что может с пей приключиться; по сути, только такой и бывает «революция»)
система не может, не умеет ответить ничем, кроме физической, реальной
гибели террористов, — но в этом ее поражение, потому что такая гибель как
раз и была их ставкой, потому что тем самым система сама же напоролась на
свое насилие, не сумев по-на100
стоящему ответить на брошенный ей вызов. Ведь в рамках системы легко
становится предметом учета и подсчета любая смерть — даже массовая
бойня на войне, — но только не смерть-вызов, не символическая смерть, так
как ей уже нет исчислимого эквивалента, с нее начинается непримиримая
гонка нарастающих ставок, которую может остановить одна лишь ответная
смерть. Откликом на смерть может стать только смерть. И в данном случае
так и происходит: система поставлена перед необходимостью совершить
самоубийство в ответ, что она явным образом и делает в форме
растерянности и слабости. Колоссальный аппарат власти словно разжижается
в этой ситуации — ситуации ничтожно мелкой в терминах силовых
отношений, но вся нелепость (то есть непомерность) которой обращается
против него. Ни полиция, ни армия, никакие институты власти с ее потенциалом насилия ничего не могут сделать против ничтожно малой, но зато
символической гибели одного или нескольких людей. Просто их гибель
увлекает власть в такую сферу, где ей больше нечем ответить (сходным
образом произошло и внезапное структурное разжижение власти в 1968 году
— не оттого, что власть была слабее, а просто в силу символического сдвига,
который осуществляли своей практикой студенты). Чтобы принять вызов,
система может только умереть в ответ, развалиться. В этот миг ее смерть
становится символическим ответом — но от него она и гибнет.
360
Вызов обладает смертоносной эффективностью. Об этом знают, или знали,
все общества кроме нашего. Наше общество сейчас открывает это для себя
вновь. Пути альтернативной политики — это пути символической
эффективности.
Так аскет, умерщвляющий свою плоть, бросает вызов Богу — сумеет ли тот
воздать ему равное возмездие? Бог делает все что может, чтобы воздать ему
«сторицей», в форме престижа, духовной власти, даже мирового господства.
Но тайная мечта аскета — дойти до такой степени умерщвления плоти,
чтобы сам Бог не смог принять такой вызов и оплатить такой долг. Тогда он
одержит победу над самим Богом и сам станет Богом. Поэтому аскет всегда
близок к ереси и святотатству и за это осуждаем церковью, которая тем и занята, что предохраняет Бога от такого символического поединка, от такого
гибельного вызова, когда от Бога требуется умереть, принести себя в жертву,
чтобы принять вызов аскета. Задачей церкви всегда было и будет избегать
такого рода катастрофических столкновений (катастрофических прежде
всего для нее самой), заменяя их реальным обменом покаяний и
вознаграждений, системой эквивалентностей между Богом и людьми, в
которой сама она будет выполнять роль импресарио.
101
Так же и в наших отношениях с системой власти. Все институции, все
социальные, экономические, политические, психологические опосредования
призваны никому не давать случая для такого символического, смертельного
вызова, для такого необратимого дара, который, подобно абсолютному
умерщвлению плоти аскетом, позволяет взять верх над любой властью, сколь
бы могущественной ни была ее инстанция. Надо, чтобы такой возможности
прямого символического столкновения никогда не возникало. Надо, чтобы
все было предметом сделки. И в этом источник нашей глубокой тоски.
Поэтому в захвате заложников и других подобных актах возрождается нечто
завораживающее: для системы это одновременно и чудовищное зеркало ее
собственного репрессивного насилия, и образец недоступного ей насилия
символического, того единственного насилия, которое она не может
осуществить, — ее собственной смерти.
ТРУД И СМЕРТЬ
В других обществах ставку делали на многое — на рождение и родство, на
душу и тело, на истину и ложь, на реальность и видимость. Политическая
экономия свела все к одному производству, зато эта ставка оказалась очень
велика, связана с непомерным насилием и непомерными упованиями.
Сегодня с этим покончено: система не оставила за производством никакой
реальной значимости. Зато на свет выходит другая, более радикальная
истина, и само торжество системы как раз и позволяет разглядеть эту новую
361
фундаментальную ставку. Оказывается даже возможным ретроспективный
анализ всей политической экономии как не имеющей никакого отношения к
производству. Это своего рода ставка жизни и смерти. Символическая
ставка.
Все ставки являются символическими. Только символическими они и
бывают. Эта сторона дела всюду проступает сквозь структурный закон
ценности, неизбежно заложенный в коде.
Категория рабочей силы зиждется на смерти. Чтобы стать рабочей силой,
человек должен умереть. Эту свою смерть он потом постепенно продает в
обмен на заработную плату. Но экономическое насилие, осуществляемое над
ним капиталом через неэквивалентный обмен зарплаты и рабочей силы,
ничто по сравнению с насилием символическим, которое осуществляется над
ним уже при самом его определении как производительной силы.
Фальсификация, неэквивалентность этого обмена — ничто по сравнению со
знаковой эквивалентностью зарплаты и смерти.
Уже самой возможностью количественной эквивалентности вообще
предполагается смерть. Эквивалентностью зарплаты и рабочей силы
предполагается смерть рабочего, эквивалентностью всех товаров друг другу
предполагается символическое истребление вещей. Во всех этих случаях
именно смерть делает возможным расчет экви103
валентов и их регулирование как безразличных объектов. Это не
насильственно-физическая гибель, это безразличная взаимоподстановка
жизни и смерти, нейтрализация как жизни, так и смерти в послежитии, то
есть в отсроченной смерти.
Труд есть медленная смерть. Обычно это понимают в смысле физического
истощения. Но следует понимать это иначе: труд не противостоит как та или
иная смерть — «осуществлению жизни» (таков идеалистический взгляд на
дело), он противостоит как медленная смерть — смерти насильственной.
Такова символическая реальность. Труд как отсроченная смерть
противостоит немедленной смерти в жертвоприношении. Вопреки всяким
благодушным или «революционным» воззрениям типа «труд (или же
культура) есть противоположность жизни», следует стоять на том, что
единственная альтернатива труду — не свободное время или же не-труд, а
жертвоприношение.
Все это проясняет генеалогия раба. Первоначально военнопленного простонапросто умерщвляли (тем самым делая ему честь). Потом его начинают
«щадить» и сохранять (conserver — поэтому он servus [раб]) в качестве
добычи и престижного имущества; он становится рабом и занимает место
среди предметов домашней роскоши. Лишь много позже его приставляют к
подневольной работе. Однако он еще не «трудящийся», так как труд
появляется лишь на стадии крепостного или же раба-отпущенника, который
362
наконец-то освобожден от нависающей угрозы смертной казни; зачем
освобожден? а вот именно для труда.
Итак, труд всегда вдохновляется отсроченной смертью. Он и есть
отсроченная смерть. Все решает ритм смерти — медленной или
насильственной, безотлагательной или отсроченной: именно этим радикально разграничиваются два типа организации — экономическая и
жертвенная. Наша жизнь бесповоротно помещена в рамки первой,
укорененной в беспрестанном «отлагании» [différence] смерти.
Этот сценарий никогда не менялся. Трудящийся всегда остается человеком,
которого не стали казнить, которому отказали в этой чести. И труд
предстает прежде всего как знак унижения, когда человека считают
достойным одной лишь жизни. Капитал эксплуатирует трудящихся до
смерти? Парадоксальным образом, худшее, что он с ними делает, — это
отказ в смерти. Отлагая их смерть, он превращает их в рабов и обрекает на
бесконечное унижение — жить в труде.
В подобных символических отношениях сама субстанция труда и
эксплуатации безразлична; господин всегда обретает свою власть прежде
всего благодаря отсрочке смерти. Таким образом, власть, вопреки бытующим
представлениям, — это вовсе не власть предавать
104
смерти, а как раз наоборот — власть оставлять жизнь рабу, который не имеет
права ее отдать. Господин присваивает чужую смерть, а сам сохраняет право
рисковать своей жизнью. Рабу в этом отказано, он обречен на жизнь без
возврата, то есть без всякой возможности искупления.
Изымая раба из смерти, господин изымает его и из оборота символического
имущества; это и есть насилие, которому он его подвергает, обрекая его
служить рабочей силой. Это и есть тайна власти (так и Гегель в своей
диалектике господина и раба выводит власть господина из нависающей над
рабом отсроченной угрозы смерти). Труд, производство и эксплуатация
являются лишь одним из возможных воплощений этой структуры власти, то
есть структуры смерти.
Это меняет все перспективы революционного упразднения власти. Раз власть
— это отсроченная смерть, то ее не устранить, пока не будет устранена эта
отсрочка смерти. И поскольку власть (этим она всегда и везде определяется)
состоит в факте дарения без возврата, то понятно, что власть господина,
односторонне жалующего рабу жизнь, будет упразднена лишь в том случае,
если эту жизнь можно будет ему отдать, — при смерти неотложной. Иной
альтернативы нет: сохраняя свою жизнь, невозможно упразднить власть, так
как дарение остается необращенным. Радикальный отпор власти и единственная возможность ее упразднения — только в том, чтобы отдавать свою
жизнь, отвечая на отсроченную смерть смертью немедленной. Отправной
точкой любой революционной стратегии может быть только жест, которым
363
раб вновь ставит на кон свою смерть, тогда как ее умыкание и отлагание
позволяли господину обеспечивать свою власть. Это отказ не быть
казненным, отказ жить под гнетом отсроченного смертного приговора, отказ
быть в неоплатном долгу за свою жизнь, — фактически быть обязанным
долго расплачиваться за нее медленной смертью от труда, которая ничего
уже не изменит в униженности раба и в фатальности власти. Насильственная
смерть все меняет, медленная же смерть не меняет ничего, ведь для символического обмена необходим определенный ритм, он должен как бы
скандироваться: любую вещь следует вернуть тем же жестом и в том же
ритме, иначе не получается взаимности и, собственно, нет и возврата как
такового. Стратегия властной системы в том и состоит, чтобы сдвигать
время обмена, подменяя непрерывностью и смертельной линейностью труда
искривленность и незамедлительную обратимость смерти. Поэтому рабу
(рабочему) бесполезно отдавать свою жизнь господину и капиталу
понемногу, крохотными порциями, по мере убивающего его труда —
подобное гомеопатическое жертвоприношение именно что не является
жертвоприношением, оно не затрагивает глав105
ного, то есть отлагания смерти, а лишь придает этому структурно неизменному процессу форму постепенного истечения.
Конечно, можно предположить, что эксплуатируемый трудом отдает жизнь
эксплуататору, то есть в самом процессе своей эксплуатации отвоевывает
себе возможность символического ответа. В ходе труда образуется как бы
контр-власть, так как эксплуатируемый ставит на кон свою собственную
медленную смерть. Это соответствовало бы гипотезе Лиотара о
либидинальной экономике, об интенсивном наслаждении эксплуатируемого
в самой своей униженности и эксплуатируемости. Да, Лиотар прав — у
эксплуатируемого всегда имеет место либидинальная интенсивность,
инвестиция желания и отдача своей смерти1, но только происходит все это не
в характерно символическом ритме немедленного ответа, то есть полного
разрешения. Наслаждение не-властью (даже при условии что это не фантазм,
позволяющий восстановить у пролетария торжество желания) никогда не
упразднит власти.
Сам способ ответа медленной смертью в труде оставляет господину
возможность вновь и вновь возвращать рабу жизнь в труде, через труд. Счет
никогда не бывает оплачен до конца, он все время сводится в пользу власти,
той диалектики власти, которая обыгрывает разнесенность двух полюсов
смерти и обмена. Раб остается пленником господской диалектики, его смерть
или же постепенно источаемая жизнь служат бесконечному воспроизводству
господства.
К тому же система занята нейтрализацией этого символического отпора,
откупаясь от него заработной платой. В то время как эксплуатируемый
364
стремится отдать свою жизнь эксплуататору в своем труде, эксплуататор
обуздывает эту самоотдачу зарплатой. Здесь опять-таки необходимо
просветить все рентгеновскими лучами символического. Вопреки всем
видимостям нашего опыта (капитал покупает у трудящегося его рабочую
силу и забирает себе прибавочный труд), капитал как раз дает трудящемуся
труд (а трудящийся отдает капиталисту капитал). По-немецки Arbeitgeber, то
есть предприниматель, значит «трудодатель» ; а рабочий — Arbeitnehmer,
«трудополучатель». В трудовых отношениях дает именно капиталист, он
обладает инициативой дарения, и это, как и в любых других социальных
отношениях, обеспечивает ему преимущество и власть, далеко выходящую за
пределы экономики. Отказ от труда в своей радикальной форме есть отказ
от этого символического господства, от этого униже1
Думается, это верно скорее для фазы дикой эксплуатации и физического
унижения, капиталистического «растления» эксплуатируемых под властью
рыночного закона стоимости. Много ли осталось от этого в нынешней фазе
структурного закона ценности?
106
ния пожалованием. Даяние и получение труда функционируют непосредственно как код отношений социального господства, код дискриминации.
Этот отравленный подарок обозначается заработной платой — обобщающим
знаком всего кода. Ею санкционируется одностороннее дарение труда, то
есть, иными словами, ею символически искупается то господство, которое
капитал осуществляет посредством дарения труда. Одновременно это дает
капиталу возможность заключить всю операцию в рамки договора,
стабилизировать коллизию в сфере экономики. Сверх того, зарплата
превращает работника в «получателя благ», дублируя его статус «получателя
работы» и усиливая его символическую недостаточность. Поэтому отказываться от работы, оспаривать заработную плату — значит ставить под
угрозу процесс экономического дара, выкупа и возмещения, обнажая
скрывающийся под ним фундаментальный символический процесс.
Сегодня зарплату уже не нужно вырывать силой. Ее вам, как и все остальное,
дают — не в обмен на труд, а с тем, чтобы вы ее тратили, то есть для труда
иного рода. И в ходе этого потребления, в ходе пользования вещами
получатель зарплаты воспроизводит в точности то же самое символическое
отношение медленной смерти, какое он претерпевает в ходе труда.
Пользователь вещи живет такой же ее отсроченной смертью (он не приносит
ее в жертву, а «изнашивает», функционально «расходует» ее), что и смерть
трудящегося, умирающего в капитале. И подобно тому как зарплата
позволяет откупиться за одностороннее дарение труда, так же и цена,
уплаченная за вещь, всего лишь дает возможность пользователю откупиться
за ее отсроченную смерть. Доказательством тому символический обычай, по
которому все доставшееся даром (подаренное, выигранное в лотерее или в
365
карты) должно не использоваться, а растрачиваться, растранжириваться.
Любое господство должно быть чем-то искуплено. Раньше искуплением
служила жертвенная смерть (ритуальное умерщвление царя или вождя) или
же ритуальное обращение (праздник и некоторые другие социальные
ритуалы, представлявшие собой иную форму жертвоприношения). На этой
стадии власть еще разыгрывается прямо и открыто. Эта социальная игра
обратимости прекращается с диалектикой господина и раба, где обратимость
власти уступает место диалектике воспроизводства власти. Однако здесь попрежнему требуется симулировать искупление власти. Так и устроен
капитал, где формальный выкуп власти осуществляется через громадный
механизм труда, заработной платы и потребления. Экономика является
сферой искупления по преимуществу, где за господство капитала удается
откупиться, так и не ставя его по-настоящему на кон, — наобо107
рот, процесс выкупа переключается на его же собственное бесконечное
самовоспроизводство. В этом, возможно, и заключается необходимость
экономики и ее исторического возникновения: обществу, ставшему гораздо
крупнее и подвижнее первобытных групп, насущно требуется система
искупления, которая была бы одновременно измеримой, контролируемой,
бесконечно распространимой (в отличие от ритуалов), а главное, не ставила
бы под угрозу процесс отправления и наследования власти; оригинальным и
беспрецедентным решением данной проблемы как раз и оказываются
производство и потребление. Симулируя искупление в этой новейшей форме,
подмена символического экономическим позволяет окончательно обеспечить
господство политической власти над обществом.
Экономике удалось чудесным образом скрыть истинную структуру власти,
поменяв местами составные части ее определения. В то время как власть
состоит в том, чтобы односторонне одаривать (и, в частности, жизнью — см.
выше), нам внушили как очевидность нечто прямо противоположное: будто
власть состоит в том, чтобы односторонне брать и присваивать себе. Под
прикрытием этого гениального фокуса может и впредь осуществляться
действительное символическое господство, так как все усилия угнетенных
попадают в ловушку: они пытаются отобрать у власти взятое ею у них или
даже «взять власть» как таковую, — не видя, что тем самым лишь
содействуют своему угнетению.
На самом же деле и труд, и зарплата, и власть, и революция должны быть
переосмыслены наоборот:
- труд не является эксплуатацией, а даруется капиталом;
- зарплату не завоевывают, а тоже получают в дар; служит она не для
покупки рабочей силы, а для искупления власти капитала1;
- медленная смерть от труда есть не пассивное страдание, а отчаянный вызов
одностороннему дару труда со стороны капитала;
366
- единственный эффективный отпор капиталу в том, чтобы отдать ему
даримое, а это символически возможно только через смерть.
Но раз система, как мы видели, сама отстраняет экономику, лишает ее
доверия и даже самой субстанции, то в этом смысле не ставит ли она под
вопрос и свое собственное символическое господство? Нет, ведь система во
всем насаждает свою стратегию власти, то есть стратегию безответного дара,
совпадающего с отсроченной смертью. То же самое социальное отношение
устанавливается в средствах мас1
Это особенно ясно в случае «негативного налога», когда зарплата односторонне жалуется, вменяется человеку без обмена на какой-либо труд. Его
нанимают
вне
всякой
эквивалентности,
понятно,
что
таким
тpaнcэкoнoмичecким
договором
утверждается
чистое
господство,
порабощение через дары и премии
108
совой информации и в сфере потребления: мы уже видели (в «Реквиеме по
Масс-медиа»), что на одностороннее распространение передач нечем
ответить, от них нечем отдариться. Так и в проекте CERFI1 массовая
смертность в автомобильных авариях уже истолковывалась как «цена,
которую коллектив платит своим институтам... государственные дары вносят
в коллективное сознание фактор «задолженности». И тогда напрасная гибель
становится просто попыткой покрыть этот дефицит. Кровь, льющаяся на
дорогах, — это отчаянная форма компенсации государственных даров,
связанных с их прокладкой. То есть авария находит свое место в
пространстве символической задолженности перед государством. Вполне
вероятно, что чем больше будет расти эта задолженность, тем сильнее станет
обозначаться тенденция аварийности. Все «рациональные» стратегии для ее
обуздания (профилактика, ограничение скорости, организация медицинской
помощи, наказания) фактически не дают ровно ничего. Симулируя
возможность ввести аварию в рамки рациональной системы, они по этой
самой причине неспособны ухватить корень проблемы — оплату
символической задолженности, создающей, узаконивающей и усиливающей
зависимость коллектива от государства. Подобные «рациональные»
стратегии, напротив, обостряют проблему. Для борьбы с последствиями
аварий они предлагают создание новых механизмов, новых государственных
институтов, то есть дополнительных «даров», которые лишь еще более
отягчают символическую задолженность». Так и повсюду в борьбе
сталкиваются общество и политическая инстанция (ср. у Пьера Кластра:
общество против государства), возвышающаяся над ним в силу власти,
которую она обретает, заваливая его дарами, заставляя его переживать само
себя, отнимая у пего смерть, — копя и расточая ее затем понемногу в своих
собственных целях. В глубине души никто не приемлет этих благодеяний,
старается как может отдариться2, однако власть дарит все больше и больше,
367
порабощая все хуже и хуже, и, чтобы покончить с этим, общество или же
отдельные индивиды могут доходить до самоуничтожения. Это единственно
неотразимое оружие, и от одной лишь коллективной угрозы его применения
власть может рухнуть. Перед лицом простого символического «шантажа»
(баррикады 1968 года, захват заложни1
Centre d'études, de recherches et de formation institutionnelles — Учебноисследовательский центр по изучению институций (социологический
институт в Фонтене-су-Буа). — Прим. перев.
2
Это и есть символический обмен. Наперекор любым идеологиям дара —
гуманистической, анархистской или же христианской, — следует подчеркнуть: дар есть источник и самая сущность власти. Власть упраздняется лишь
отдариванием — это и есть обратимость символического обмена.
109
ков) власть распадается: раз она живет моей медленной смертью, то я ей
отвечу моей насильственной смертью. Потому-то мы и мечтаем о
насильственной смерти, что живем смертью медленной. И даже одна эта
мечта невыносима для власти.
II. ПОРЯДОК СИМУЛЯКРОВ
ТРИ ПОРЯДКА СИМУЛЯКРОВ
Со времен эпохи Возрождения, параллельно изменениям закона ценности,
последовательно сменились три порядка симулякров:
- Подделка составляет господствующий тип «классической» эпохи, от
Возрождения до промышленной революции;
- Производство составляет господствующий тип промышленной эпохи;
- Симуляция составляет господствующий тип нынешней фазы, регулируемой
кодом.
Симулякр первого порядка действует на основе естественного закона
ценности, симулякр второго порядка — на основе рыночного закона
стоимости, симулякр третьего порядка — на основе структурного закона
ценности.
ЛЕПНОЙ АНГЕЛ
Подделка — а заодно и мода — рождается вместе с Возрождением, когда
феодальный строй деструктурируется строем буржуазным и возникает
открытое состязание в знаках отличия. В кастовом или чиновном обществе
не бывает моды, так как человек всецело закреплен за своим местом и
368
межклассовые переходы отсутствуют. Знаки защищены запретом,
обеспечивающим им полную ясность: каждый знак недвусмысленно
отсылает к определенному социальному статусу. В церемониале невозможна
подделка — разве что как кощунственная черная магия, соответственно и
смешение знаков наказуемо как серьезное нарушение порядка вещей. Если
порой — особенно сегодня — мы еще и начинаем мечтать о мире надежных
знаков, о сильном «символическом порядке», то не будем строить иллюзий:
такой порядок уже существовал, и это был порядок свирепо-иерархический,
ведь прозрачность знаков идет рука об руку с их жестокостью. В жестоких
кастовых обществах — феодальных или архаических — число знаков
невелико, их распространение ограниченно, каждый из них в полной мере
весом как запрет, как межкастовое, межклановое или межличностное
взаимное обязательство; такие знаки не бывают произвольными.
Произвольность знака появляется тогда, когда, вместо того чтобы связывать
двух лиц узами неразрывной взаимности, он начинает в качестве
означающего отсылать к расколдованному миру означаемого, общему
знаменателю реального мира, которому никто ничем не обязан.
С концом обязательного знака наступает царство знака эмансипированного,
которым могут теперь одинаково пользоваться все классы. На смену
знаковой эндогамии, свойственной статусным обще115
ствам, приходит состязательная демократия. Тем самым через посредство
межклассовых ценностей/знаков престижа с необходимостью возникает и
подделка. Это переход от ограниченного числа знаков, «свободное»
производство которых находится под запретом, к массовому
распространению знаков согласно спросу. Но такой умножаемый знак уже не
имеет
ничего
общего
со
знаком
обязательным,
ограниченно
распространяемым: он подделывается под него — не путем извращения
«оригинала», а путем расширительного употребления материала, чья ясность
была всецело обусловлена его принудительной ограниченностью.
Новоевропейский знак, выражающий уже не дискриминацию, а лишь
состязательность,
разгруженный
от
всякой
принудительности,
общедоступный, — все еще, однако, симулирует свою необходимость,
выдавая себя за связанный с миром. Он грезит о знаках прошлого и желал бы
вновь обрести их реальную референтность, а вместе с ней и их
обязательность; по обрести ему удается лишь причинность — ту
референциальную причинность, реальность и «естественность», которыми
ему и придется жить отныне. Но это отношение десигнации есть лишь
симулякр символической обязательности; им производятся одни лишь
нейтральные ценности, которые обмениваются в объективном мире. Знак
переживает ту же судьбу, что и труд. «Вольный» труженик волен лишь
производить эквивалентности — «вольный и эмансипированный» знак волен
369
лишь производить эквивалентные означающие.
Поэтому новоевропейский знак обретает свою значимость в симулякре
«природы». Проблематика «естественности», метафизика реальности и
видимости — это характерно для всей буржуазии с эпохи Возрождения, это
зеркало буржуазного, классического знака. Ностальгия по природной
референтности знака остается живучей еще и сегодня, несмотря на ряд
ломавших эту конструкцию переворотов — таких как промышленный
переворот, когда знаки начинают опираться уже не на природу, а только на
закон обмена и поступают в распоряжение рыночного закона стоимости. Мы
еще вернемся к таким симулякрам второго порядка.
Итак, в эпоху Возрождения вместе с естественностью родилась и подделка.
Подделка идет на всех уровнях, от ложного жилета (только спереди) до
лепных интерьеров и грандиозных театральных машин барокко. В самом
деле, классическая эпоха была прежде всего эпохой театра. Начиная с
Возрождения театральность охватывает все формы социальной жизни и
архитектуры. Именно здесь, в дерзаниях лепной скульптуры и барочного
искусства, метафизика подделки распознается как новое устремление людей
Возрождения к светской демиургии, к преображению любой природы в одну
единственную
116
субстанцию, по своему театральному характеру подобную социальной
жизни, унифицируемой под знаком буржуазных ценностей, независимо от
различий по крови, рангу и касте. Лепнина — это торжество демократии
всевозможных искусственных знаков, апофеоз театра и моды, в котором
выражается способность нового класса к, любым свершениям, поскольку ему
удалось сломать систему исключительного владения знаками. Этим
открывается путь к небывалым сочетаниям, к всяческим вариантам игры и
подделки; прометеевские стремления буржуазии обратились прежде всего на
подражание природе, а уже потом — на производство. В храмах и дворцах
лепнина принимает любые формы, имитирует любые материалы: бархатные
занавеси, деревянные карнизы, округлости человеческой плоти. Лепнина позволяет свести невероятное смешение материалов к одной-единственной
новой субстанции, своего рода всеобщему эквиваленту всех остальных, и она
прекрасно подходит для создания всевозможных театральных чар, так как
сама является представительной субстанцией, зеркальным отражением всех
остальных.
Но симулякры — это не просто игра знаков, в них заключены также особые
социальные отношения и особая инстанция власти. Лепнину можно мыслить
как триумфальный взлет науки и технологии, но она также, и прежде всего,
связана с барокко, а то в свою очередь — с Контрреформацией, с той
попыткой согласно новому пониманию власти контролировать весь мир
политических и душевных явлений, которую впервые предприняли иезуиты.
370
Имеется тесная связь между иезуитской покорностью души («perinde ас
cadaver») и демиургическим замыслом избавиться от природной субстанции
вещей, заменив ее субстанцией синтетической. Как и подчиненный
организации человек, вещи обретают при этом идеальную функциональность
трупа. Здесь уже заложена вся технология и технократия — презумпция
идеальной поддельности мира, которая находит себе выражение в
изобретении универсального вещества и в универсальной комбинаторике
веществ. Воссоединить разъединенный в результате Реформации мир
согласно единообразной доктрине, универсализировать мир (от Новой
Испании до Японии — отсюда миссионерство) под властью одного слова,
сформировать
государственную
политическую
элиту
с
единой
централизованной стратегией — таковы задачи, которые ставили себе
иезуиты. Для всего этого требовалось создавать действенные симулякры —
систему организации, систему театральной помпы (сцена, на которой играют
кардиналы-министры и серые кардиналы) и систему воспитания и
образования, впервые систематически направленную на пересоздание
идеальной природы ребенка. Важнейшей системой того же рода явля117
ется и лепное покрытие барочной архитектуры. Все это предшествует
продуктивистской рациональности капитала, но в этом уже присутствует — в
плане не производства, а подделки — тот же проект всеобщего контроля и
господства, социальная схема, уже глубоко демонстрирующая внутреннее
единство системы.
Жил в свое время в Арденнах повар на пенсии Камиль Рено, которому
изготовление фигурных тортов и искусство кондитерской пластики внушили
гордый замысел пересоздать мир начиная с той стадии, где оставил его Бог...
то есть с природной стадии — устранив из него всякую органическую
спонтанность и заменив ее одним веществом, принимающим разные формы,
— железобетоном; из бетона он сделал всю домашнюю обстановку — стулья,
выдвижные ящики, швейную машинку, во дворе расставил целый бетонный
оркестр, включая скрипачей со скрипками; всюду бетон и бетон — бетонные
деревья с настоящими листьями, железобетонный кабан с замурованным
внутри настоящим кабаньим черепом, бетонные овцы, покрытые настоящей
шерстью. Он наконец-то нашел первообразную субстанцию, и в
вылепленных им разнообразных вещах из нее делалось все, кроме кое-каких
«реалистических» нюансов (кабаньего черепа, древесной листвы), да и то
здесь демиург всего лишь делал уступку зрителям... ибо сей
восьмидесятилетний бог-творец с очаровательной улыбкой показывал свое
творение посетителям. Он не оспаривал божественное творение, он просто
пересоздавал его, дабы сделать более ясным для ума. Никакого
люциферовского бунта, никаких пародийных замыслов, никакого
пристрастия к «наивному» искусству в стиле ретро. Арденнский повар
371
просто царил над унифицированной умственной субстанцией (ведь бетон
есть умственная субстанция, позволяющая, как и понятие, упорядочивать
реальные явления и вычленять их по своему усмотрению). Его проект
недалеко отстоял от того, которому следовали авторы лепной скульптуры в
эпоху барокко, и, в общем, состоял в проекции «на местность» той
общественной жизни, которая течет сегодня в больших городах. Подделка
работает пока лишь с субстанцией и формой, а не с отношениями и
структурами, но на этом своем уровне она уже стремится к контролю над
бесконфликтным обществом, вылепленным из неподвластного смерти
синтетического вещества; этим нерушимым артефактом гарантируется
вечность власти. Таким же чудесным человеческим изобретением стала и
пластмасса — вещество, не знающее износу, прерывающее цикл
взаимоперехода мировых субстанций через процессы гниения и смерти. Это
внециклическое вещество, даже в огне оставляющее неразрушимый остаток,
— нечто небывалое, этот симулякр воплощает в себе в концентрированном
виде всю семиотику мироздания. Это не
118
имеет ничего общего с «прогрессом» технологии или же рациональными
устремлениями науки. Это проект господства над политической и душевной
жизнью, фантазм самозамкнутой умственной субстанции — наподобие
барочных лепных ангелов, обхватывающих руками кривое зеркало.
АВТОМАТ И РОБОТ
Эти два типа искусственного человека разделяет целый мир. Один
представляет собой театральную подделку человека средствами часовой
механики, где техника всецело служит аналогии и эффекту симулякра. Во
втором техническое начало господствует, машина берет верх, а вместе с
машинностью утверждается и эквивалентность. Автомат исполняет роль
придворного, благовоспитанного человека, участвует в театрально-бытовой
игре дореволюционного общества. Робот же, как показывает его имя,
работает: театра больше нет, наступает пора человеческой механики.
Автомат — analogon человека, он остается его собеседником (играет с ним в
шахматы!). Машина — эквивалент человека, и в качестве эквивалента она
включает его в себя, в единый операциональный процесс. В этом вся разница
между симулякром первого и второго порядка.
Итак, не следует обольщаться их «фигуративным» сходством. Автомат
возникает из вопросов о природе, о тайне души или же ее отсутствия, о
дилемме видимостей и сущности; он словно Бог — что у него внутри, в
глубине, по ту сторону? Один лишь поддельный человек позволяет
задаваться такими вопросами. Вся метафизика человека как главного
действующего лица на природном театре творения воплотилась в автомате,
372
а затем исчезла в эпоху Революции. У автомата и нет другого назначения,
кроме постоянных сравнений с живым человеком — чтобы быть
естественнее его, образуя его идеальное подобие. Это безупречный двойник
человека, вплоть до гибкости движений, вплоть до функционирования
органов и ума; возникает даже тревожная мысль, что никакого отличия
вообще нет, то есть что с душой покончено и осталось одно лишь идеальнонатурализованное
120
тело. В общем, кощунство. Поэтому отличие приходится специально
поддерживать, как в истории с тем слишком совершенным автоматом, хозяин
которого сам изображал на сцене отрывистые движения, чтобы хоть ценой
такого обмена ролями не допустить их путаницы. Таким образом, задаваемые
автоматом вопросы остаются открытыми, а потому его механика —
оптимистична, пусть даже подделка и содержит всегда какую-то
дьявольскую коннотацию1.
С роботом — ничего подобного. С ним нет больше вопроса о видимостях,
его единственная истина — его механическая эффективность. Он больше не
ориентируется на сходство с человеком, да его с ним и не сравнивают. Нет
больше того неуловимого метафизического отличия, что создавало тайну и
очарование автомата; робот поглотил это отличие и усвоил его себе на
пользу. Суть и видимость слились в единую субстанцию производства и
труда. В симулякре первого порядка отличие никогда не отменяется: в нем
всегда предполагается возможность спора между симулякром и реальностью
(их игра достигает особой тонкости в иллюзионистской живописи, но и
вообще все искусство живет благодаря зазору между ними). В симулякре же
второго порядка проблема упрощена путем поглощения видимостей — или
же, если угодно, ликвидации реальности; так или иначе, в нем встает
реальность без образа, без эха, без отражения, без видимости; именно таков
труд, такова машина, такова вся система промышленного производства в
целом, поскольку она принципиально противостоит театральной иллюзии.
Нет больше ни сходства ни несход1
В подделке и репродукции всегда присутствует элемент тревоги, беспокоящей странности: Беньямин сближает беспокойство, вызываемое
фотографией, которая сходна с колдовским трюком, и вообще любой
технической аппаратурой, которая всегда ведь нечто воспроизводит, — и
беспокойство от собственного отражения в зеркале. Здесь уже есть нечто
колдовское. А уж тем более если отражение отделяется от зеркала и его
становится возможным по желанию переносить, хранить, воспроизводить
(ср. «Пражского студента», где дьявол уносит из зеркала образ студента и в
дальнейшем доводит его до гибели с помощью этого образа). Таким образом,
всякий акт воспроизводства предполагает злые чары, будь то очарованность
Нарцисса своим отражением в воде, навязчивые идеи двойничества или же
373
— кто знает — смертоносный разворот той гигантской машинерии, которую
человек сегодня порождает в качестве собственного образа (нарциссический
мираж техники, по Маклюэну) и которая затем являет ему этот образ
искаженным и испорченным, — бесконечно воспроизводя его самого и его
власть до самого края света. Репродукция дьяволична по своей сущности, она
подрывает нечто основополагающее. Это практически не изменилось и у нас:
в симуляции (которую мы характеризуем здесь как оперирование кодом) попрежнему осуществляется грандиозный проект манипуляции, контроля и
смерти, подобно тому как симулякр-объект (первобытная статуэтка или
фотографический снимок) всегда имел своей первой задачей какую-то
операцию черной магии.
121
ства, ни Бога ни человека — только имманентная логика операционального
принципа.
С этого момента роботы и вообще машины могут бесконечно количественно
умножаться, это даже и есть их закон — в отличие от автоматов, которые
оставались механизмами великолепно-исключительными. Да и сами люди
стали бурно умножать свою численность лишь с того момента, когда
благодаря
промышленной
революции
получили
статус
машин;
освободившись от всяких отношений подобия, освободившись даже от
собственного двойника, они растут вместе с системой производства,
представляя собой просто ее миниатюрный эквивалент. Реванш симулякров,
питающий собой легенду об ученике чародея, не происходил в пору
автоматов, зато он является законом симулякров второго порядка: здесь
робот, машина, омертвленный труд все время господствуют над трудом
живым. Такое господство необходимо для цикла производства и
воспроизводства. Именно благодаря такому перевороту эпоха подделки
сменяется эпохой (ре)продукции. Природный закон ценности и свойственная
ему игра форм уступают место рыночному закону стоимости и
свойственному ему расчету сил.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМУЛЯКР
В эпоху промышленной революции возникает новое поколение знаков и
вещей. Это знаки без кастовой традиции, никогда не знавшие статусных
ограничений, — а стало быть, их и не приходится больше подделывать, так
как они изначально производятся в огромных масштабах. Проблема
единичности и уникального происхождения для них уже не стоит:
происходят они из техники и смыслом обладают только как промышленные
симулякры.
Это и есть серийность, то есть самая возможность двух или п идентичных
объектов. Отношение между ними — это уже не отношение оригинала и
374
подделки, не аналогия или отражение, а эквивалентность, неотличимость.
При серийном производстве вещи без конца становятся симулякрами друг
друга, а вместе с ними и люди, которые их производят. Угасание
оригинальной референтности единственно делает возможным общий закон
эквивалентностей, то есть делает возможным производство.
Все понимание производства резко меняется, если видеть в нем не
оригинальный процесс, во всяком случае процесс, дающий начало всем
остальным, — а, напротив, процесс исчезновения всякого оригинала,
дающего начало серии идентичных единиц. До сих пор производство и труд
рассматривались как некоторый потенциал, сила, исторический процесс,
общеродовая деятельность — таков свойственный современной эпохе
энергетико-экономический миф. Пора задаться вопросом, не выступает ли
производство в области знаков как одна лишь особенная фаза — не является
ли оно по сути лишь эпизодом в череде симулякров: симулякром
производства, с помощью техники,
123
потенциально идентичных единиц (объектов/знаков) в рамках бесконечных
серий.
Баснословные энергетические ресурсы, действующие в технике,
промышленности и экономике, не должны скрывать от нас, что по сути дела
здесь всего лишь достигается та бесконечная репродуктивность, которая хоть
и бросает вызов «природному» порядку, но в конечном итоге является
симулякром «второго порядка» и довольно-таки слабым воображаемым
средством для покорения мира. По сравнению с эрой подделки, двойников,
зеркал, театра, игры масок и видимостей, эра серийно-технической
репродукции невелика по размаху (следующая за ней эра симулятивных
моделей, эра симулякров третьего порядка, имеет значительно большие
масштабы).
Важнейшие
последствия
этого
принципа
репродукции
первым
сформулировал Вальтер Беньямин в «Произведении искусства в эпоху его
технической воспроизводимости». Он показывает, что репродукцией
поглощается весь процесс производства, меняются его целевые установки,
делается иным статус продукта и производителя. Он показывает это на
материале искусства, кино и фотографии, потому что именно там в XX веке
открылись
новые
территории,
свободные
от
«классических»
производительных традиций и изначально расположенные под знаком
воспроизводства; но, как мы знаем, сегодня в эту сферу попадает все
материальное производство. Как нам известно, сегодня именно в плане
воспроизводства — моды, масс-медиа, рекламы, информационнокоммуникативных сетей, — в сфере того, что Маркс пренебрежительно
именовал непроизводительными издержками капитала (какова ирония
истории!), то есть в сфере симулякров и кода, обретают свое единство общие
375
процессы капитала. Беньямин первым (а вслед за ним Маклюэн) стал
понимать технику не как «производительную силу» (на чем зациклился
марксистский анализ), а как медиум, то есть форму и порождающий принцип
всего нового поколения смыслов. Уже сам факт, что какую-либо вещь
вообще можно воспроизвести точь-в-точь в двух экземплярах, представляет
собой революцию: вспомнить хотя бы ошеломление негров, впервые
увидевших две одинаковых книги. То, что эти два изделия техники
эквивалентны с точки зрения общественно необходимого труда, в
долгосрочной перспективе не столь существенно, как само серийное
повторение одного и того же предмета (а равно и индивидов как рабочей
силы). В качестве медиума техника берет верх не только над «содержанием»
[message] изделия (его потребительной стоимостью), но также и над рабочей
силой, которую Маркс пытался объявить революционным содержанием
производства. Беньямин и Маклюэн оказались прозорливее Маркса: они
разглядели, что подлинное содержа124
ние, подлинный ультиматум заключался в самом воспроизводстве. А
производство как таковое не имеет смысла — его социальная целенаправленность теряется в серийности. Симулякры берут верх над историей.
Впрочем, эта стадия серийной репродукции, стадия промышленного
механизма, конвейера, расширенного воспроизводства и т.д., длится недолго.
Как только мертвый труд берет верх над живым, то есть с завершением
первоначального накопления, серийное производство уступает первенство
порождающим моделям. И здесь происходит переворот в понятиях
происхождения и цели, ведь все формы меняются с того момента, когда их
уже не механически воспроизводят, а изначально задумывают исходя из их
воспроизводимости, из дифракции порождающего ядра-модели. Здесь мы
оказываемся среди симулякров третьего порядка. Это уже не подделка
оригинала, как в симулякрах первого порядка, но и не чистая серийность, как
в симулякрах второго порядка; здесь все формы выводятся из моделей путем
модулирования отличий. Смысл имеет только соотнесенность с моделью, и
все теперь не происходит согласно собственной целенаправленности, а
выводится из модели, из «референтного означающего», образующего как бы
опережающую целевую установку и единственный фактор правдоподобия.
Перед нами симуляция в современном смысле слова, по отношению к
которой индустриализация образует лишь первичную форму. В конечном
счете основу всего составляет не серийная воспроизводимость, а модуляция,
не количественные эквивалентности, а различительные оппозиции, не закон
эквивалентностей, а подстановка элементов — не рыночный, а структурный
закон ценности. В технике или экономике не надо искать секретов кода —
наоборот, самую возможность промышленного производства надо искать в
генезисе кода и симулякров. Каждый новый порядок симулякров подчиняет
376
себе предыдущий. Подобно тому как подделка была поставлена в серийное
производство (а искусство всецело перешло в «автоматизм»), так и весь
порядок производства сейчас оборачивается операциональной симуляцией.
Исследования Беньямина и Маклюэна располагаются на самом рубеже
репродукции и симуляции — в точке, где производство, утратив
референциальное оправдание, оказывается объято головокружением. В этом
они знаменуют собой решительный прогресс по сравнению с Вебленом и
Гобло. Последние при описании, например, знаков моды все еще исходят из
классической конфигурации: знаки образуют социально-отличительный
материал, направляются и применяются в целях престижа, статусной
дифференциации.
Разрабатываемая
здесь
стратегия
исторически
соответствует стратегии прибыли и то125
вара у Маркса, когда еще можно говорить о потребительной стоимости знака
или же рабочей силы, когда вообще еще можно говорить об экономике,
потому что еще сохраняется Оправдание [Raison] знака и Оправдание
производства.
МЕТАФИЗИКА КОДА
«Лейбниц, человек математического ума, видел в мистическом изяществе
бинарной системы, включающей только нуль и единицу, прообраз
божественного творения. Единичность Верховного существа, по его мысли,
способна путем бинарных операций вывести из небытия все сущее».
(Маклюэн)
Основные симулякры, создаваемые человеком, переходят из мира природных
законов в мир сил и силовых напряжений, а сегодня — в мир структур и
бинарных оппозиций. После метафизики сущего и видимого, после
метафизики энергии и детерминизма — метафизика недетерминированности
и кода. Кибернетический контроль, порождающие модели, модуляция
отличий, обратная связь, запрос/ ответ и т.д. — такова новейшая
операциональная конфигурация (промышленные симулякры были всего
лишь операторными). Ее метафизический принцип (Бог Лейбница) —
бинарность, а пророк ее — ДНК. Действительно, «генезис симулякров»
обретает сегодня свою завершенную форму именно в генетическом коде. В
результате неуклонного истребления референций и целевых установок,
утраты подобий и десигнаций обнаруживается бинарный знак программирования, чисто тактический по своей «значимости», располагающийся на
пересечении других сигналов (частиц информации/тестов) и по своей
структуре соответствующий микромолекулярному коду запроса и контроля.
На этом уровне вопрос о знаках, об их рациональном предназначении, о том,
что в них есть реального и воображаемого, что они
377
127
вытесняют и скрадывают, какую иллюзию образуют, о чем умалчивают и
какие побочные значения содержат, — такого рода вопросы снимаются. Мы
уже видели, как с появлением машин сложные и богатые иллюзиями знаки
первого порядка стали знаками «сырыми», тусклыми, промышленноповторяемыми, лишенными отзвуков, операторно-действенными. Насколько
же более радикальную перемену несут с собой сигналы кода — нечитаемые,
не допускающие никакой интерпретации, погребенные в виде программных
матриц бесконечно глубоко в «биологическом» теле, — черные ящики, в
которых созревают все команды и все ответы. Нет больше театра
репрезентации, пространства знаков, их конфликтов и их безмолвия, — один
лишь черный ящик кода, молекула, посылающая сигналы, которые просвечивают нас насквозь, пронизывают сигнальными лучами вопросов/ ответов,
непрерывно сверяя нас с нашей запечатленной в клетках программой.
Тюремная камера [cellule], электронный элемент [cellule], партийная ячейка
[cellule], микробиологическая клетка [cellule] — во всем этом проступает
стремление найти мельчайшую неделимую частицу [cellule], органический
синтез которой осуществлялся бы согласно показателям кода. Однако и сам
код представляет собой просто элементарную генетическую матрицу, в
которой мириадами пересечений производятся все мыслимые вопросы и
решения — только выбирай (но кто?). У этих «вопросов» (информационносигнальных импульсов) нет никакой целевой установки, кроме генетически
неизменного или же варьируемого в мельчайших случайных отличиях
ответа. Это пространство имеет даже скорее линейный, одномерный характер
— пространство клетки, бесконечно порождающей одни и те же сигналы,
словно заученные жесты одуревшего от одиночества и однообразия узника.
Таков генетический код — неподвижный, словно пластинка, которую заело,
а мы по отношению к нему не что иное, как элементы звукоснимающего
устройства. Вместе с детерминированностью знака исчезает и вся его аура,
даже самое его значение; при кодовой записи и считывании все это как бы
разрешается.
Таковы симулякры третьего порядка, при котором мы живем, таково
«мистическое изящество бинарной системы, системы нуля и единицы»,
откуда выводится все сущее, таков статус знака, где кончается сигнификация,
— ДНК или операциональная симуляция.
Все это прекрасно резюмирует Сибиок («Генетика и семиотика», в журнале
«Versus»):
«Бесчисленные наблюдения подтверждают гипотезу о том, что внутренний
мир организма прямо происходит от первообразных форм жизни. Наиболее
примечательным фактом является повсеместное присутствие молекулы ДНК.
Генетический
128
378
материал всех известных на земле организмов в значительной степени
состоит из нуклеиновых кислот ДНК и РНК, которые и содержат в своей
структуре информацию, передаваемую из поколения в поколение и сверх
того способную к самовоспроизводству и имитации. Таким образом,
генетический код универсален или почти универсален. Его расшифровка
явилась выдающимся открытием, поскольку она показала, что «языки двух
основных полимеров, нуклеиновой кислоты и протеина, тесно соотносятся
между собой» (Крик 1966, Кларк/Наркер 1968). В 1963 году советский
математик Ляпунов доказал, что во всех живых системах происходит
передача по точно установленных каналам небольшого количества энергии
или материи, содержащего огромный объем информации, которая в дальнейшем отвечает за контроль больших количеств энергии и материи. В
подобной перспективе многие феномены, как биологические, так и
культурные (накопление, обратная связь, каналы передачи сообщений и
другие), могут рассматриваться как различные аспекты обработки
информации. Таким образом, информация предстает в значительной мере как
повтор информации или же как информация иного типа, особого рода
контроль, который, по-видимому, является универсальным свойством жизни
на земле, независимо от ее формы и субстанции.
Пять лет назад я привлек внимание к взаимосближению генетики и
лингвистики — автономных, но параллельных дисциплин в более широком
ряду наук о коммуникации (к которому принадлежит также зоосемиотика).
Терминология генетики полна выражений, взятых из лингвистики и теории
информации (Якобсон 1968, подчеркнувший как основные сходства, так и
существенные структурно-функциональные различия между генетическим и
вербальным кодом)... Сегодня уже ясно, что генетический код должен
рассматриваться как наиболее фундаментальная из всех семиотических
сетей, то есть как прототип всех прочих сигнальных систем, применяемых
животными включая человека. С такой точки зрения молекулы, представляющие собой квантовые системы и ведущие себя как стабильные носители
физической информации, а равно зоосемиотические и культурные системы,
включая язык, образуют одну непрерывную цепь стадий, все более сложных
энергетических уровней в рамках единой мировой эволюции. Таким образом,
и язык и живые системы можно описывать с единой кибернетической точки
зрения. На данный момент это всего лишь полезная аналогия или же
предвидение... Взаимное соотнесение генетики,
129
животной коммуникации и лингвистики может подвести нас к полному
познанию динамики семиозиса, а такое познание, в конечном счете, быть
может есть не что иное, как определение сущности жизни».
Так образуется стратегическая модель нашего времени, повсеместно
сменяющая собой ту общую идеологическую модель, которую давала в свое
379
время политическая экономия.
Под знаком строгой «науки» мы встречаем ее в книге Жака Моно
«Случайность и необходимость». Диалектической эволюции больше пет,
жизнь
регулируется
дисконтинуальной
недетерминированностью
генетического кода — телеономическим принципом: цель не полагается в
итоге (итога вообще нет, как нет и причинной обусловленности), а
наличествует изначально, зафиксированная в коде. Как видим, здесь все то
же самое: просто порядок целей уступает место игре молекул, а порядок
означаемых — игре бесконечно малых означающих, вступающих только в
случайные взаимоподстановки. Все трансцендентные целевые установки
сводятся к показаниям приборной доски. Правда, здесь еще сохраняется
обращение к природе, к «биологической» природе, в которой нечто
зафиксировано; на деле эта природа, как и всегда, — фантазматическая, в
ней, словно в метафизическом святилище, обретается уже не
субстанциальный первоисток, а код; должна же быть у кода «объективная»
опора — а для этой цели ничто не подходит лучше, чем молекулы и генетика.
Жак Moнo — суровый толковник этой молекулярной трансцендентности, а
Эдгар Морен — ее восторженный адепт (ADN [ДНК] = Адонаи!). Но и у того
и у другого фантазм кода, чьим эквивалентом является реальность власти,
смешивается с молекулярным идеализмом.
Здесь перед нами вновь бредовая иллюзия восстановления единства мира,
подведенного под один принцип, — будь то принцип единой и однородной
субстанции у иезуитов времен Контрреформации или принцип генетического
кода у технократов биологической (и лингвистической) науки, предтеча же
им Лейбниц со своим бинарным божеством. Ведь программа, которая здесь
имеется в виду, не имеет отношения к генетике, это программа социальноисторическая. В биохимии гипостазируется идеал общественного строя,
управляемого чем-то вроде генетического кода или макромолекулярного
исчисления, PPBS (Planning Programming Budgeting System)1, чьими операциональными контурами пронизано все тело общества. Технокибернетика
обретает в этом, по словам Моно, свою «естественную филосо1
Система бюджетного планирования и программирования (англ.). Прим.
перев.
130
фию». Завороженность биологическими, биохимическими явлениями
существовала в науке еще с первых ее шагов. В органицизме (биосоциологизме) Спенсера она действовала на уровне структур второго и
третьего порядка (по классификации Жакоба в «Логике живого»), теперь же,
с развитием современной биохимии, — на уровне структур четвертого
порядка.
Кодированные сходства и несходства — так выглядит кибернетизированный
общественный обмен. Остается лишь добавить «стереоспецифический
380
комплекс», чтобы дополнительно ввести сюда и внутриклеточную
коммуникацию, которая у Морена преображается в молекулярный Эрос.
Практически и исторически это означает замену социального контроля через
цель (а вместе с ним и более или менее диалектического провидения, которое
заботится о достижении этой цели) социальным контролем через
предвидение,
симуляцию,
опережающее
программирование,
не
детерминированную,
а
регулируемую
кодом
мутацию.
Вместо
целенаправленного процесса, обладающего идеальным развитием, перед
нами порождающие модели. Вместо пророчеств — «зафиксированная»
программа. Между тем и другим нет принципиальной разницы. Меняются (и,
надо заметить, фантастически совершенствуются) одни лишь схемы
контроля.
От
продуктивистско-капиталистического
общества
к
кибернетическому неокапитализму, ориентированному уже на абсолютный
контроль, — такова суть перемены, которой оказывает поддержку
биологическая теоретизация кода. В этой перемене нет ничего
«недетерминированного»: в ней находит завершение длительный процесс,
когда один за другим умерли Бог, Человек, Прогресс, сама История, уступив
место коду, когда умерла трансцендентность, уступив место имманентности,
соответствующей значительно более высокой стадии ошеломляющего
манипулирования общественными отношениями.
*
В ходе бесконечного самовоспроизводства система ликвидирует свой миф о
первоначале и все те референциальные ценности, которые она сама же
выработала по мере своего развития. Ликвидируя свой миф о первоначале,
она ликвидирует и свои внутренние противоречия (нет больше никакой
реальности и референции, с которой ее можно было бы сопоставлять) — а
также и свой миф о конце, то есть о революции. В революции проявлялась
победа родовой человеческой референции, первичного человеческого
потенциала. Но что же делать, если капитал стирает с карты самого человека
как родовое
131
[générique] существо, заменяя его человеком генетическим [génétique]?
Золотым веком революции был век капитала, когда еще имели хождение
мифы о начале и конце. Как только мифы вступают в короткое замыкание (а
единственная опасность, исторически грозившая капиталу, происходила из
этого мифического требования рациональности, которым он был изначально
пронизан) в фактической операциональности, операциональности без
дискурса, как только капитал становится сам себе мифом, а вернее
алеаторно-недетерминированной машиной, чем-то вроде социальногенетического кода, то больше не остается никаких шансов закономерно
свергнуть его. В этом и заключается его главная сила. Вопрос только, не
381
является ли мифом сама его операциональность, не является ли мифом сама
ДНК.
Действительно, здесь пора задуматься всерьез о статусе пауки как дискурса.
В интересующей нас проблеме, где этот дискурс столь простодушно
абсолютизирует себя, это особенно уместно: «Платон, Гераклит, Гегель,
Маркс — их идеологические построения, представлявшиеся как априорные, в
действительности строились апостериори, для оправдания некоторой
предзаданной этико-политической теории... Для пауки единственным
априори является постулат объективности, который запрещает ей
участвовать в подобных спорах» (Moнo). Но ведь этот постулат и сам
вытекает из отнюдь не невинного решения объективизировать мир и
«реальность». Фактически этим постулируется логика определенного
дискурса, и вся научность, вероятно, есть не что иное, как пространство этого
дискурса, который никогда сам не признает себя таковым, прикрывая
политическое, стратегическое слово симулякром своей «объективности».
Кстати, чуть ниже Moнo сам прекрасно формулирует его произвольный
характер: «Возникает вопрос, не являются ли все образующие научный
дискурс отношения инвариантности, постоянства и симметрии лишь
фикциями, которыми мы подменяем действительность, чтобы получить ее
операциональный образ... Это логика, основанная на совершенно абстрактном, быть может даже условном, принципе тождества. Похоже, однако, что
человеческий разум неспособен обойтись без такой условности». Здесь как
нельзя лучше выражено, что наука сама определяет себя как порождающую
формулу, как дискурс-модель, вверяясь чисто условному порядку (но не
какому попало, а порядку тотальной редукции). Однако Moнo лишь вскользь
затрагивает эту опасную гипотезу об «условном» принципе тождества.
Лучше уж строить науку на более прочной основе «объективной»
реальности. На помощь приходит физика, свидетельствуя о том, что
тождество не просто постулат — оно содержится в самих вещах, поскольку
имеется «абсолютное тождество между двумя атомами, находящимися в
одном квантовом со132
стоянии». Так как же — условность или объективная реальность? На самом
деле наука, как и любой другой дискурс, организуется по конвенциональной
логике, по, как и всякий идеологический дискурс, требует себе для
оправдания какой-нибудь реальной, «объективной» референции, опоры в том
или ином субстанциальном процессе. Если принцип тождества «верен» хоть
где-то, пусть в бесконечно малом масштабе двух атомов, тогда и все
построенное на нем условное здание науки тоже оказывается «верным». Вот
и гипотеза о генетическом коде, о ДНК, тоже верна и неустранима. Так и
действует метафизика. Наука объясняет вещи, предварительно выделенные и
формализованные, чтобы ей повиноваться, — только в том и состоит ее
382
«объективность»; а этика, санкционирующая подобное объективное
познание, представляет собой просто систему защиты и неузнавания,
направленную на сохранение этого порочного круга1.
«Долой все гипотезы, позволявшие верить в какой-то истинный мир», —
говорил Ницше.
1
Вообще, в книге Моно есть одно явное противоречие, отражающее
двойственность любой науки в наши дни: его дискурс ориентирован на код,
то есть на симулякры третьего порядка, но действует он согласно «научным»
схемам второго порядка — таким как объективизм, «научная» этика
познания, принцип истины и трансцендентности науки и т.д. Все эти вещи
несовместимы с недетерминированными моделями третьего порядка.
ГИПЕРРЕАЛИЗМ СИМУЛЯЦИИ
Все сказанное характерно для бинарного пространства, для магнитного поля
кода, с его поляризациями, дифракциями, гравитациями моделей и
постоянным, непрерывным потоком мельчайших дизъюнктивных единиц
(элементов «вопрос/ответ», представляющих собой кибернетический атом
значения). Следует понимать, сколь велико различие между этим полем
контроля и репрессивным пространством традиционного общества —
пространством полицейского порядка, который еще соответствовал что-то
значащему насилию. То было пространство дрессировки реакций, в основе
которой лежал разработанный Павловым аппарат программированных,
повторяющихся агрессий и которую в умноженном масштабе можно было
встретить в рекламном «вдалбливании» и политической пропаганде 30-х
годов. Таким насилием ремесленно-индустриального типа вырабатывалось
поведение, основанное на страхе и животном повиновении. Теперь все это не
имеет смысла. Концентрационно-тоталитарная и бюрократическая система
— это схема, относящаяся к эпохе рыночного закона стоимости.
Действительно, система эквивалентностей предопределяет и форму
всеобщего эквивалента, то есть централизацию всех процессов в целом. Это
архаическая
рациональность
по
сравнению
с
рациональностью
симулятивной: в последней регулирующую роль играет уже не один
всеобщий эквивалент, а дифракция моделей, форма не всеобщего
эквивалента, а различительной оппозиции.
III. МОДА, ИЛИ ФЕЕРИЯ КОДА
ЛЕГКОВЕСНОСТЬ УЖЕ-ВИДЕННОГО
383
Мода занимает необычайно привилегированное положение, оттого что мир в
ней полностью разрешается. Ускорение чистой дифференциальной игры
означающих выступает в ней феерически ярко — феерическое
головокружение от утраты всякой референции. В этом смысле она
представляет собой завершающую форму политической экономии — тот
цикл, где отменяется линейный характер товара.
В знаках моды нет больше никакой внутренней детерминированности, и
потому они обретают свободу безграничных подстановок и перестановок. В
итоге этой небывалой эмансипации они по-своему логично подчиняются
правилу безумно-неукоснительной повторяемости. Так обстоит дело в моде,
регулирующей одежду, тело, бытовые вещи, — всю сферу «легких» знаков.
В сфере «тяжелых» знаков — политике, морали, экономике, науке, культуре,
сексуальности — принцип подстановочности никогда не действует настолько
вольно. Эти различные области можно разместить в порядке убывающей
«симулятивности», однако все они, пусть и в неравной степени, одновременно тяготеют к сближению с моделями симуляции, безразличной дифференциальной игры, структурной игры со смыслом. В этом смысле можно
сказать, что все они одержимы модой. Ведь мода может пониматься как
самый поверхностный и самый глубинный из социальных механизмов —
через нее код властно сообщает всем другим областям свою инвестицию.
В моде, как и в коде, означаемые ускользают, а ряды означающего более
никуда не ведут. Различие означаемого и означающего отменяется подобно
различию полов (А.-П.Жеди, «Гермафродитизм
170
означающего»), пол разменивается в игре различительных оппозиций, и
начинается какой-то грандиозный фетишизм, с которым связано особое
наслаждение и особое отчаяние: завораживающая власть чистой
манипуляции и отчаяние от ее абсолютной недетерминированности. По
своей глубинной сути Мода внушает нам разрыв воображаемого строя вещей
— строя референциального Разума во всех его формах, и хотя от такого
разгрома разума, от такой ликвидации смысла (в частности, на уровне
нашего тела — отсюда тесная связь моды с одеждой), от такой
целесообразности без цели, которую являет нам мода, мы и можем получать
удовольствие, одновременно мы и глубоко страдаем от связанного с этим
распада рациональности, когда разум попадает во власть простого, чистого
чередования знаков.
Мы противимся признавать, что все секторы нашей жизни оказались в сфере
товара, и еще сильнее — что они оказались в сфере моды. Дело в том, что
здесь ликвидация ценностей идет особенно радикально. Под властью товара
все виды труда обмениваются друг на друга и теряют свою особость — под
властью моды уже сами труд и досуг как таковые меняются своими знаками.
Под властью товара культура продается и покупается — под властью моды
384
все культуры смешиваются в кучу в тотальной игре симулякров. Под
властью товара любовь превращается в проституцию — под властью моды
исчезает само отношение субъекта и объекта, рассеиваясь в ничем не скованной cool-сексуальности. Под властью товара время копится как деньги —
под властью моды оно дробится на прерывистые, взаимоналагающиеся
циклы.
Сегодня все на свете, в самом своем принципе идентичности, затронуто
влиянием моды — ее способностью переводить любые формы в состояние
безначальной повторяемости. Мода всегда пользуется стилем «ретро», но
всегда ценой отмены прошлого как такового: формы умирают и воскресают в
виде призраков. Это и есть ее специфическая актуальность — не
референтная отсылка к настоящему моменту, а тотальная и моментальная
реутилизация прошлого. Мода — это, парадоксальным образом,
несвоевременное. В пей всегда предполагается замирание форм, которые как
бы абстрагируются и становятся вневременными эффективными знаками, а
уже те, в силу какой-то искривленности времени, могут вновь появиться в
настоящем времени, заражая его своей несвоевременностью, чарами призрачного возврата [revenir], противостоящего структурному становлению
[devenir]. Эстетика возобновления: мода получает свою легковесность от
смерти, а современность — от уже-виденного. В ней и отчаяние от того, что
ничто не вечно, и, наоборот, наслаждение от знания, что за порогом смерти
все сохраняет шанс на повторную жизнь — по
171
только уже лишенную невинности, так как весь мир реальности успевает
поглотить мода; она придавливает живое значение всей тяжестью
мертвого труда знаков — и притом с чудесной забывчивостью, в
фантастически неузнаваемом их виде. Но вспомним, что и чары
индустриально-технической машинерии тоже происходят оттого, что все это
мертвый труд, который следит за трудом живым и постепенно пожирает его.
Наше ослепленное неузнавание старых форм соразмерно этой операции,
когда мертвый хватает живого. Один лишь мертвый труд обладает
совершенством и странностью уже-виденного. Таким образом, удовольствие
от моды — это наслаждение призрачно-циклическим миром форм,
отошедших в прошлое, но вновь и вновь воскресающих в виде эффективных
знаков. По словам Кёнига, мода снедаема своего рода суицидальным
желанием, которое реализуется в тот самый момент, когда она достигает
своего апогея. Это верно, только это желание смерти — созерцательное,
связанное со зрелищем беспрестанного упразднения форм. То есть и само
желание смерти также реутилизируется в моде, очищается от всяких
субверсивных фантазмов и включается, как и все остальное, в ее безвредные
циклические революции.
Прочистив эти фантазмы, которые в глубинах воображаемого придают
385
повтору чарующее обаяние прошлой жизни, мода производит свой
головокружительный эффект исключительно на поверхности, в чистой
актуальности. Значит ли это, что она обретает ту невинность, какую Ницше
приписывал древним грекам: «Они умели-таки жить... оставаться у
поверхности, у складки, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы,
звуки, слова... Греки были поверхностными — из глубины!» («Веселая
паука»)?1 Нет, мода лишь симулирует эту невинность становления. Она лишь
реутилизирует, вовлекает в повторный оборот этот цикл видимостей.
Доказательством этому то, что развитие моды исторически совпадает с
развитием музея. Парадоксальным образом, музейный императив вечной
запечатленности форм и императив их чистой актуальности функционируют
в нашей культуре одновременно. Просто управляет ими один и тот же статус
знака в пашей современной цивилизации.
В то время как разные стили взаимно исключают друг друга, для музея
характерно виртуальное сосуществование всех стилей, их смешение в рамках
одного и того же культурного суперинститута, точнее их ценностная
соизмеримость под знаком золотого эталона культуры. Так же поступает и
мода в рамках своего цикла: она играет взаимоподстановками абсолютно
всех знаков. Темпоральность му1
Ф.Ницше, Сочинения, т. 1, М., Мысль, 1990, с. 496. — Прим. перев.
172
зея характеризуется «совершенством», завершенностью — это специфическое состояние того, что миновало и ни в коем случае не современно. Но
мода тоже никогда не современна — она играет на повторяемости однажды
умерших форм, сохраняя их в виде знаков в некоем вневременном
заповеднике. Мода из года в год с величайшей комбинаторной свободой
фабрикует «уже бывшее». Поэтому у нее тоже есть эффект моментального
«совершенства» — совершенства почти музейного, но применительно к
мимолетным формам. И обратно, в музее есть элемент дизайна,
обыгрывающего разные произведения как элементы единого целого. Мода и
музей — современники и сообщники, совместно противостоящие всем
прежним культурам, которые строились из неэквивалентных знаков и
несовместимых стилей.
МОДНАЯ «СТРУКТУРА»
Мода существует только в контексте современности — в свойственной ей
модели разрыва, прогресса и инновации. Старое и новое значимо чередуются
друг с другом в любой культуре. Но только у нас, начиная с эпохи
Просвещения и промышленной Революции, имеется историко-полемическая
структура перемен и кризисов. В современную эпоху, по-видимому,
одновременно утверждается и линейное время технического прогресса,
386
производства и истории, и циклическое время моды. Это лишь кажущееся
противоречие, так как фактически современная эпоха отнюдь не
представляет собой радикального разрыва с прошлым. Да и традиция — это
не преобладание старого над новым: она просто не знает ни старого, ни
нового, оба эти понятия сразу изобретены современностью, и потому она
всегда является и «нео-» и вместе с тем «ретро», сочетает модернизм с
анахронизмом. Диалектика разрыва в ней очень быстро превращается в
динамику смешения и реутилизации. В политике, технике, искусстве,
культуре она характеризуется терпимым для системы уровнем изменчивости,
при котором ничего не меняется в основном строе вещей. Так и мода нимало
ему не противоречит — в ней с большой ясностью выражаются
одновременно миф о переменах (которые благодаря ей переживаются как
высшая ценность в самых обыденных аспектах жизни) и структурный закон
перемен, согласно которому они осуществляются через игру моделей и
различительных оппозиций, то есть через особую упорядоченность, не
уступающую коду традиции. Ведь сущностью современной эпохи является
бинарная логика. Именно она дает толчок бесконечной дифференциации и
«диалектическим» эффектам разрыва. Современность — это не
преобразование, а подстановка
174
всех ценностей, их комбинаторика и амбивалентность. Современная эпоха —
это особый код, и эмблемой его служит мода.
Только в подобной перспективе и возможно описать пределы моды — то
есть преодолеть два параллельных предрассудка, которые заключаются:
1° в растяжении ее границ до крайних антропологических пределов, а то и до
поведения животных;
2° наоборот, в сокращении ее сегодняшней сферы до одной лишь области
одежды и знаков внешнего облика.
Мода не имеет ничего общего с ритуальным порядком (а тем более с
брачными нарядами животных), так как в нем нет ни эквивалентности/чередования старого и нового, ни систем различительных
оппозиций, ни серийно-комбинаторной дифракции моделей. Напротив, мода
образует средоточие современной культуры, включая такие ее стороны, как
наука и революция, потому что этой логикой насквозь пронизан весь порядок
современности, от секса до масс-медиа, от искусства до политики. Даже в тех
аспектах моды, которые кажутся наиболее близкими к ритуалу, — мода как
зрелище, праздник, расточительство, — еще яснее выступает их разница:
ведь уподоблять моду церемониалу мы можем только в эстетической
перспективе (подобно тому как уподоблять соответствующие процессы
нашего времени первобытным структурам мы можем только через понятие
праздника), которая сама принадлежит современной эпохе (с ее игрой
различительных оппозиций «польза/бесполезность» и т.д.) и которую мы
387
проецируем на архаические структуры, чтобы подтянуть их к нашим
аналогиям. Наша мода — это зрелище, самоудваивающаяся и эстетически
любующаяся собой социальность, игра перемен ради перемен. При
первобытном же строе демонстрация знаков никогда не имела такого
«эстетического» эффекта. Точно так же и наш праздник — это своеобразная
«эстетика» трансгрессии, чего не было при первобытном обмене, хоть мы и
любим искать там отражение или образец наших праздников,
переосмысливая потлач «эстетически» и этноцентрически.
В той же мере, в какой необходимо разграничивать моду и ритуальный
порядок, требуется и более радикальный анализ моды в рамках нашей
собственной системы. При минимальном, поверхностном определении моды
говорят всего лишь так (Эдмои Радар в журнале «Диоген»): «В языке моде
подчиняется не значение дискурса, а его миметический носитель, то есть
ритм, тональность, артикуляция; в выборе слов и оборотов... в мимике...
Сказанное относится и к интеллектуальным модам, таким как
экзистенциализм или структурализм: заимствуется словарь, а не направление
поисков...» Таким образом,
175
сохраняется некая глубинная структура, недоступная для моды. На самом же
деле моду следует искать в самом производстве смысла, в самых
«объективных» его структурах, поскольку они тоже покорны игре симуляции
и комбинаторной инновации. Необходимо идти вглубь и в случае одежды и
тела: ныне уже само тело как таковое, со своей идентичностью, полом,
социальным статусом, сделалось материалом для моды, а одежда составляет
лишь его частный случай. И так далее. Конечно, одной из областей, где
действуют «эффекты» моды, является популяризация научных и
культурных течений. Но необходимо рассмотреть и собственно науку и
культуру, в самой «оригинальности» их процессов, чтобы выяснить, не
подчиняются ли и они тоже модной «структуре». Раз есть возможность их
популяризации — чего не было ни в какой другой культуре (ни факсимиле,
ни дайджест, ни подделка, ни имитация, ни симуляция и массовое
распространение в упрощенной форме немыслимы для ритуального слова,
для сакрального текста или жеста), — значит, уже у истоков инновации в
этих областях имеет место манипулирование аналитическими моделями, простыми элементами и регулярными оппозициями, в результате чего оба
уровня, «оригинал» и популяризация, оказываются по сути однородными, а
различение их — чисто тактическим и моральным. Эдмон Радар не замечает,
что не только «мимика» дискурса, но и сам его смысл подпадает под власть
моды, как только в некотором всецело автореференциальном культурном
поле понятия начинают взаимопорож-даться и взаимоперекликаться как
чистая игра отражений. Так может происходить и с научными гипотезами.
Фатального превращения в моду не избегает и психоанализ, в самом
388
средостении своей теоретической и клинической деятельности: он тоже
вступает в стадию институционального самовоспроизводства, развивая те
элементы симулятивных моделей, что уже содержались в его
основополагающих понятиях. Если раньше имела место работа
бессознательного, то есть психоанализ был детерминирован своим объектом,
то
сегодня
это
потихоньку
сменилось
детерминированностью
бессознательного самим психоанализом. Теперь он уже сам воспроизводит
бессознательное и сам является собственной референцией (обозначает себя
как моду). Бессознательное входит составной частью в наши нравы,
пользуется большим спросом, и психоанализ обретает общественное
могущество, как код — что сопровождается чрезвычайным усложнением
теорий бессознательного, которые по сути все безразличны и могут
подставляться одна вместо другой.
У моды есть «светская» сторона — модные мечты, фантазмы, психозы,
научные теории, лингвистические школы, не говоря уже об искусстве и
политике, — но все это мелочи. Гораздо глубже ею бы176
вают охвачены дисциплины-модели — именно постольку, поскольку им
удается к вящей своей славе автономизировать собственные аксиомы и
вступить в эстетическую, чуть ли не игровую фазу развития, когда, как в
некоторых математических формулах, существенна только безупречная
симметрия аналитических моделей.
«ВЛЕЧЕНИЕ» К МОДЕ
То, что мода служит носителем бессознательного и желания, что ее пытаются
таким образом истолковывать — ничего не значит, ведь в моде сегодня само
желание. Действительно, существует особое «влечение к моде», которое
имеет мало общего с индивидуальным бессознательным, — это нечто столь
неистовое, что с ним не справиться никакому запрету, это желание
упразднить смысл, погрузиться в чистые знаки, в первозданную,
непосредственную социальность. По сравнению с такими социальными
процессами, как медиатические, экономические и т.д., мода сохраняет в себе
нечто от радикальной социальности, не в плане психологического обмена
содержаниями, а в плане непосредственной общности знаков. Об этом писал
уже Лабрюйер: «Любителю редкостей дорого не то, что добротно или
прекрасно, а то, что необычно и диковинно, то, что есть у него одного.
Модное и труднодоступное он ценит больше, чем совершенное.
Собирательство для него не развлечение, а страсть, которая если и уступает в
силе честолюбию и любви, то лишь потому, что предмет ее очень мелок»1.
У Лабрюйера страсть к моде сближается со страстью собирательства и с
такими предметами страстного влечения, как тюльпаны, птицы или же
389
гравюры Калло. Действительно, мода сближается с коллекцией (как это
явствует из самих этих названий) топкими косвенными сходствами. По
словам Оскара Уайльда, «обе они дают человеку такое чувство
защищенности, какого никогда не давала даже религия».
1
Ж. де Лабрюйер, Характеры, М.-Л., Художественная литература, 1964, с.
312. — Прим. перев.
180
Спасти свою душу через моду — коллективная страсть, страсть к знакам,
страсть к циклу (коллекция ведь тоже цикл), приводящая к тому, что какаянибудь модная черта с головокружительной быстротой циркулирует и
распространяется во всем обществе, удостоверяя его интеграцию и вбирая в
себя любые идентификации (так же как общий признак коллекционных
предметов интегрирует субъекта в едином, бесконечно повторяемом
циклическом процессе).
Эта мощь и это наслаждение коренятся в самом устройстве модного знака.
Семиургия моды противоположна функциональности экономики. Этике
производства1 противоположна эстетика манипулирования, самоудвоения и
тяготения к одной лишь модели как зеркалу: «Лишенная содержания, она
[мода] становится зрелищем, посредством которого люди показывают сами
себе свою способность сообщать значение незначительному» (Барт,
«Система моды»). Отсюда все чары, вся завораживающая сила моды — от
решений, которые она изрекает, не опираясь ни на что кроме себя самой. Это
наслаждение произвольностью как благодатью для избранных, кастовая
солидарность, связанная с дискриминативной силой знака. В этом мода радикально расходится с экономикой, хотя и увенчивает ее собой. По сравнению
с безжалостной целенаправленностью производства и рынка, которые она
вообще-то сама же и инсценирует, мода представляет собой праздник. Она
вбирает в себя все цензурируемое режимом экономической абстракции. Она
переворачивает все категорические императивы.
В этом смысле она отличается спонтанной заразительностью, тогда как
экономический расчет отделяет людей друг от друга. Разгружая знаки от
всякой ценности и всякого аффекта, она сама становится страстью —
страстью к искусственности. Модный знак абсурден, формально бесполезен,
он образует совершенную систему, где ничто более не обменивается на
реальность, он произволен и вместе с тем абсолютно последователен,
обязательно соотнесен с другими знаками — отсюда происходит его
заразительная сила, а равно и доставляемое им коллективное наслаждение.
Мода — по ту сторону рационального и иррационального, прекрасного и
безобразного, полезного и бесполезного; и вот эта ее во всех отношениях
имморальность, легковесность порой сообщает ей (в обществах
тоталитарных, пуританских
1
Но, как мы видели, сегодня и сама экономика строится согласно этой не390
детерминированности, из нее удаляется этика, уступая место производству
как «целесообразности без цели», которое смыкается с головокружительной
бесполезностью моды. А следовательно, и о производстве можно сказать то
же самое, что Барт писал о моде: «Система отбрасывает смысл, однако ничем
не поступается в самом зрелище значения».или архаических) субверсивную
силу и, в отличие от экономики, всегда делает ее тотальным социальным
фактом — к которому и подход должен быть тотальным, как у Мосса к
обмену.
Мода, как и язык, изначально стремится к социальности (это доказывает от
противного фигура денди в своем вызывающем одиночестве). Но в отличие
от языка, который стремится к смыслу и перед ним устраняется, мода
стремится к социальности театральной и сама собой любуется. Тем самым
для каждого из нас она оказывается местом особой напряженности, зеркалом,
где отражается наше желание собственного образа. В противоположность
языку, который стремится к коммуникации, она без конца разыгрывает
коммуникацию, вовлекает ее в игру ничего не сообщающей сигнификации.
Отсюда доставляемое ею эстетическое удовольствие, которое не имеет
ничего общего с красотой или безобразием. Так не является ли она своего
рода праздником, бесцельным удвоением коммуникации?
Наиболее «праздничной» она предстает в том своем аспекте, который
касается одежды и знаков тела, так как во всем этом есть элемент «wasteful
consumption»1, «потлача». Впрочем, сказанное верно главным образом для
высокой моды. Именно это позволяет журналу «Вог» выступить со
следующим прелюбопытным символом веры: «Что может быть еще более
анахроничным, еще более овеянным мечтами, чем парусный флот? Это
Высокая Мода. Это крепкий орешек для экономиста, Противоположность
всякой доходности, вызов всякой демократизации. Максимум людей высшей
квалификации с горделивой медлительностью изготовляют минимум
моделей сложного покроя, которые будут повторены, с такой же
медлительностью, в лучшем случае раз двадцать, а в худшем ни разу...
Платья ценой в два миллиона... Так зачем же эта растрата сил? — спросите
вы. А почему бы и нет? — отвечают творцы, мастера, работницы и 4000
заказчиц высокой моды, которые все одержимы одним и тем же стремлением
к совершенству. Кутюрье — это последние авантюристы современного мира.
Они культивируют бесполезный поступок... Зачем Высокая Мода? — думают
ее хулители. А шампанское зачем?» И дальше: «Ни практически, ни
логически невозможно оправдать безумные авантюры одежды. Излишняя, а
стало быть необходимая, мода принадлежит к области религии». Потлач,
религия, даже ритуальная феерия выразительности, как в брачных нарядах и
танцах животных, — все идет в ход, чтобы восславить моду наперекор
экономике, как прорыв к иной, игровой социальности.
Но, как мы знаем, реклама тоже выдает себя за «праздник потребления»,
391
масс-медиа — за «праздник информации», ярмарки — за
1
Расточительное потребление (англ.). — Прим. перев.
«праздник производства» и т.д. Художественный рынок или скачки тоже
могут сойти за потлач. Почему бы и нет? — спросил бы журнал «Вог».
Повсюду функциональное расточительство пытаются выдать за
символическое уничтожение. Экономика так сильно утвердила среди нас
свой принцип пользы, так сковала нас своим требованием
функциональности, что все выходящее за эти рамки легко приобретает
аромат игры и бесполезности. Но при этом не замечают, что закон ценности
действует и далеко за пределами экономики, что истинное его поле действия
— это сегодня епархия моделей. Всюду, где есть модели, утверждается и
закон ценности, осуществляется репрессия через знаки и репрессия самих
знаков. Оттого радикальное отличие разделяет символические ритуалы и
знаки моды.
В первобытных культурах знаки открыто циркулируют по всей
протяженности «вещей», в них еще не «выпало в осадок» означаемое, а
потому у них и нет никакого основания или истинного смысла. Реальности,
этой наиглавнейшей из наших коннотаций, не существует. В мире знака нет
«заднего смысла», нет бессознательного (которое представляет собой
последнюю, самую хитрую из коннотаций и рационализации). Знаки
взаимообмениваются здесь вне всяких фантазмов, без галлюцинаций
реальности.
Поэтому они не имеют ничего общего с современным знаком, чей парадокс
так охарактеризован у Барта: «Неустанно действует тенденция превращать
чувственное в значимое, тенденция ко все более сложно организованным
системам. Одновременно, в тех же самых размерах, знак стараются
замаскировать в качестве знака, скрыть его систематическую природу,
рационализировать его, подвести под него основание, связать с какой-нибудь
мировой инстанцией, субстанцией, функцией» («Система моды», с. 285). В
эпоху симуляции знаки только и делают что выделяют реальность и
референцию как некий сверхзнак, подобно тому как мода только и делает что
выделяет, выдумывает наготу как сверхзнак одежды. Реальность умерла, да
здравствует реалистический знак! Таким парадоксом современного знака
определяется его радикальное отмежевание от знака магического или
ритуального, который используется при обмене в случаях маски, татуировки
или праздника.
Пусть мода и феерична, но это все еще фееричность товара и, более того,
фееричность симуляции, кода и закона.
МОДИФИКАЦИЯ ПОЛА
То, что одежда, макияж и т.п. обладают сексуальной инвестицией, — факт в
392
высшей степени сомнительный; точнее, в области моды действует особая,
модифицированная сексуальность. Хотя моду и резко осуждают в
пуританском духе, но мишенью критики является здесь не секс. Настоящее
табу направлено на легковесность, на страсть к неоправданному и
искусственному — возможно, более глубокую, чем половое влечение. В
нашей культуре, прикованной к принципу пользы, все неоправданное
выступает как трансгрессия, насильственное нарушение, и моду осуждают за
то, что в пей проявляется мощь чистого, ничего не означающего знака.
Сексуальная провокация имеет второстепенное значение по сравнению с
этим принципом, отрицающим все основы нашей культуры.
Разумеется, это табу касается также и «неоправданной» сексуальности, не
связанной с воспроизводством рода, но, сосредоточившись на проблеме пола,
есть опасность поддаться на уловку пуританства, которое стремится свести
суть дела к одной лишь сексуальности, тогда как речь идет о самом принципе
реальности, о принципе референции, с которым связаны также и
бессознательное и сексуальность и которому противостоит мода со своей
чистой игрой отличий. Выдвигать здесь на первый план сексуальность —
значит опять-таки нейтрализовыватъ символическое с помощью пола и
бессознательного. В соответствии с той же самой логикой анализ моды
традиционно ограничивается модой в одежде, потому что именно там легче
всего отыгрывается сексуальная метафора. Последствие такого смещения:
все дело сводится к одной лишь перспективе сексуального «раскрепощения»,
каковое логично завершается простым раскрепощением костюма. И
начинается новый цикл моды.
184
Мода, несомненно, — эффективнейшее средство нейтрализации
сексуальности (накрашенная женщина — это женщина, которую нельзя
трогать; ср. ниже, в разделе «Тело, или Кладбище знаков»), именно потому,
что страсть к ней — не сообщница, а соперница и, как показано еще у
Лабрюйера, победительница пола. Поэтому страсть к моде проявляется во
всей своей двойственности именно в отношении тела, которое смешивают с
полом.
Более глубокий взгляд на моду имеет место тогда, когда она предстает как
театральное представление самого тела, когда тело оказывается средством
сообщения моды1. Раньше оно было вытесняемым, но и непроницаемым в
своей вытесненности святилищем, теперь оно само пронизано модой. Игра
фасонов одежды уступает место те1
Ср. выделяемые Бартом («Система моды», с. 261) три разновидности «тела
моды»:
Г Тело — чистая форма, лишенная собственных атрибутов, тавтологически
определяемая одеждой.
2° Каждый год определяют, что такое-то тело (тип тела) является модным.
393
Это тоже вариант отождествления тела с одеждой.
3° Одежду делают такой, чтобы она преобразовывала реальное тело и делала
его знаком идеального тела моды.
Эти три разновидности примерно соответствуют исторической эволюции,
которую претерпел статус женщины-модели, — первоначальной
непрофессиональной
модели
(женщины
из
высшего
света),
профессиональной манекенщицы, чье тело функционирует также и как
сексуальная модель, и последней (сегодняшней) фазы, когда манекенщицами
становятся все: всех призывают, заставляют инвестировать в свое тело
правила модной игры, все становятся «агентами» моды, так же как все
становятся производственными агентами. Становясь всеобщей, мода
одновременно захлестывает всех и каждого и все уровни значения.
Эти три фазы развития моды можно также связать с последовательными
фазами концентрации капитала, со структурированием экономики моды
(изменениями в постоянном капитале, в органическом составе капитала, в
скорости товарооборота, оборота финансового и промышленного капитала.
См. «Утопия», № 4). Однако аналитический принцип этого взаимодействия
экономики и знаков не всегда ясен. В историческом расширении сферы моды
можно усматривать не столько прямую соотнесенность с экономикой,
сколько гомологичность ее развития расширению рынка:
I. На первой стадии к моде относятся только разрозненные черты, минимальные вариации в одежде маргинальных категорий населения, тогда как
вся система остается в общем однородной и традиционной (так и на первой
стадии политической экономии в обмен идут только излишки производства,
в остальном же оно полностью поглощается внутригрупповым потреблением
— доля вольнонаемного труда очень мала). Мода выступает при этом как
нечто внекультурное, внегрупповое, чужое (для крестьянина — это
городское, и т.д.).
II. Мало-помалу мода виртуально вбирает в себя все культурные знаки и
начинает управлять знаковым обменом, так же как на второй стадии
политическая экономия виртуально вбирает в себя любое материальное
производство. Вес прежние системы производства и обмена исчезают в
едином универсальном измерении рынка. Вес культуры вовлекаются в
универсальную игру моды. Референтной группой моды является на этой
стадии господствующий в культуре класс, именно он управляет
различительными ценностями моды.
III. Мода распространяется повсюду и становится просто образом жизни [le
mode de vie]. Она проникает во все ранее недоступные ей сферы. Все претерпевают и сами воспроизводят ее действие. Она подчиняет себе
собственное отрицание (не-модность), становится собственным означающим
(как и производство на стадии воспроизводства). Но в некотором смысле это
и ее конец.
394
185
лесной игре, а та, в свою очередь, — игре моделей116. Тем самым одежда
теряет свой церемониальный характер (которым она обладала вплоть до
XVIII века), связанный с использованием знаков именно как знаков.
Разъедаемая означаемыми тела, которое как бы просвечивает сквозь нее в
своей сексуальности и природности, одежда теряет свою фантастическую
изобильность, которой она обладала начиная с первобытных обществ.
Нейтрализуемая необходимостью обозначать тело, она теряет свою силу
чистой маски, начинает нечто обосновывать.
Но при этой операции нейтрализуется также и тело. Оно тоже теряет свою
силу маски, которой оно обладало в случаях татуировки и ритуального
наряда. Отныне оно может играть только со своей собственной истиной,
совпадающей с его внешними границами, — со своей наготой. В наряде
знаки тела открыто смешивались в своей игре со знаками не-тела. Затем
наряд становится одеждой, а тело трактуется как природа. Начинается уже
другая игра: игра оппозиции одежды и тела, игра обозначения и цензуры (тот
же разрыв, что между означающим и означаемым, та же игра сдвигов и
намеков). Собственно, мода и начинается вместе с этим разделением тела,
одновременно и вытесняемого и уклончиво обозначаемого; и она же кладет
этому конец при симуляции наготы, когда нагота становится симулятивной
моделью тела. Для индейца все тело — лицо, то есть символическое
обетование и завоевание, тогда как для нас нагота лишь сексуальный
инструментарий.
116
Какое-нибудь эластичное платье или колготки, позволяющие телу
«свободно играть», на самом деле ничего не «раскрепощают»: в плане знаков
это лишь дополнительное усложнение. Обнажение структур вовсе не
возвращает к нулевому уровню истины, а облекает их новым значением,
прибавляющимся к прежним. И это зародыш нового цикла форм, новой
системы знаков. Таков цикл формальной инновации, такова логика моды, и
никто не в силах здесь что-либо изменить. «Раскрепощение» структур структур тела, структур бессознательного, функциональной истины вещей в
дизайне и т.д. — всякий раз лишь открывает дорогу к универсализации
системы моды (это ведь единственная система, допускающая
универсализацию,
способная
управлять
оборотом
всех,
даже
противоречащих друг другу знаков). Это как бы буржуазная революция в
системе знаков, наподобие буржуазной революции в политике, которая тоже
открывает путь к универсализации рыночной системы.
186
Эта новая реальность тела как скрытого пола изначально была
отождествлена с телом женщины. Невидимое тело — женское тело
(разумеется, не в биологическом, а в мифологическом плане). Таким образом,
соединение моды и женщины, возникшее в буржуазно-пуританскую эпоху,
395
свидетельствует о двойном отношении индексации: зависимости моды от
скрытого тела и зависимости женщины от скрытого пола. Это соединение
еще не существовало (или существовало в меньшей мере) вплоть до XVIII
века (и, разумеется, его вовсе не было в церемониальных обществах) —
сегодня же, у пас, оно начинает исчезать. Когда же эта фатальность скрытого
пола и запретной истины тела оказывается, как у нас, снята, когда сама мода
нейтрализует оппозицию одежды и тела, тогда связь женщины с модой
постепенно прекращается1 — мода распространяется на всех и все меньше и
меньше является принадлежностью определенного пола или возрастной
группы. Но только во всем этом нет никакого прогресса или освобождения.
Работает та же логика, что и всюду, и если мода распространяется на всех —
не только на женщину как своего привилегированного носителя, — то это
просто значит, что запрет на тело тоже сделался всеобщим, получил форму
более тонкую, чем пуританское подавление, — форму всеобщей
десексуализации. Ведь тело обладало сильным потенциалом сексуальности
только при вытеснении, как скованный страстный позыв. А будучи отдано во
власть модных знаков, тело сексуально расколдовывается, становится
манекеном, о чем и говорит половая неразличимость слова mannequin2.
Манекен всецело сексуален, но пол у пего — бескачественный. Его пол —
мода. Или, вернее, в моде пол утрачивается как отличие, зато становится
всеобщим как референция (как симуляция). Все бесполо, зато все
сексуализировано. Утратив свою особость, мужское и женское тоже получают возможность безграничного посмертного существования. Сексуальность в одной лишь нашей культуре пропитывает собой все значения —
оттого, что знаки, со своей стороны, заполнили собой всю сферу
сексуального.
Этим объясняется парадокс наших дней: у нас на глазах происходит
одновременно «эмансипация» женщины и мощная вспышка моды. Просто
мода имеет дело вовсе не с женщинами, а с Женственностью. По мере того
как женщины выбираются из своего неполноправного положения, все
общество в целом феминизируется (так же
1
У этой связи есть и много других социально-исторических причин:
маргинальность и социальная неполноценность женщины (или же
молодежи). Но здесь нет никакой разницы: социальная вытесненность и
зловещая аура сексуальности всегда отождествляются в одних и тех же
категориях.
2
Манекенщик, манекенщица (фр. ). — Прим. перев.
187
обстоит дело и с безумцами, детьми и т.д. — это нормальное следствие из
логики исключения). Потому-то выражение «получить свое» [prendre son
pied], обозначавшее женский оргазм, распространилось сегодня на всех, а
вместе с тем и начинает, разумеется, обозначать вообще что угодно. Но
396
следует также учитывать, что женщина может «освобождаться» и
«эмансипироваться» только в качестве «силы наслаждения» или «силы
моды», подобно тому как пролетариев всегда освобождали только в качестве
рабочей силы. Здесь имеет место глубокая иллюзия. Историческое
определение Женственности строится исходя из телесно-половой
предопределенности, связанной с модой. Историческое освобождение
Женственности может стать только расширенным осуществлением той же
самой судьбы (при этом она оказывается судьбой всех, но и не теряет своего
дискриминационного характера). Когда женщина получает равный со всеми
доступ к труду по модели пролетария, то одновременно и все получают
доступ к модно-половому освобождению по модели женщины. Здесь сразу
становится ясно, до какой степени мода, является трудом и сколь необходимо
рассматривать как исторически равные труд «материальный» и труд модный.
Производить товары по законам рынка столь же капитально важно (да и
просто является капиталом!), как и разрабатывать свое тело по законам пола
и моды. Разделение труда происходит не там, где обычно думают, или,
вернее, разделения труда вообще нет: разработка тела, разработка смерти,
производство знаков, производство товаров суть просто разные свойства
одной и той же системы. Думается, с модой все даже хуже: ведь если
трудящийся заживо отторгнут от себя самого под знаком эксплуатации и
принципа реальности, то женщина-то заживо отторгнута от себя и от своего
тела под знаком красоты и принципа удовольствия!
УПРАВЛЯЕМЫЙ НАРЦИССИЗМ
Все сказанное заставляет заново поставить вопрос о нарциссизме с точки
зрения его контроля обществом. Явление, о котором у пас до сих пор шла
речь, упомянуто у Фрейда в статье «О нарциссизме»1 : «Вырабатывается
самодовольство женщины, вознаграждающее ее за то, что социальные
условия так урезали ее свободу в выборе объекта. Строго говоря, такие
женщины любят самих себя с той же интенсивностью, с какой их любит
мужчина. У них и нет потребности любить, важно быть любимой, и они
готовы удовлетвориться мужчиной, отвечающим этому главному для них
условию... Такие женщины больше всего привлекают мужчин, не только по
эстетическим мотивам, так как они обычно отличаются большой красотой, но
также и вследствие интересного психологического сочетания». Далее говорится о том, что дети, кошки и некоторые другие животные вызывают у нас
зависть, так как «производят впечатление, будто им все в мире безразлично»,
в силу «той нарциссической последовательности, с которой они умеют
отстранять от своего Я все его принижающее». Однако в нынешней
эротической системе имеет место уже не этот первичный нарциссизм,
связанный со своеобразной «полиморфной перверсией», а скорее сдвиг того
397
«нарциссизма, которым в детстве реальное Я наслаждалось в сравнении с Я
идеальным», — точнее, проекция «нарциссического совершенства детства»
как Я-идеала, связанного, как известно, с вытеснением и сублимацией. Такое
самовознаграждение женщины своим телом и риторика красоты в действи1
См.: 3.Фрейд, Психоанализ и теория сексуальности. СПб., Алетейя, 1998, с.
152-153. - Прим. перев.
211
тельности отражают жесточайшую этическую дисциплину, развивающуюся
параллельно той, что царит в области экономики. Собственно, в рамках этой
функциональной Эстетики тела процесс подчинения субъекта своему
нарциссическому Я-идеалу ничем и не разнится с процессом его
общественного принуждения к этому, когда человеку не оставляют иной
альтернативы, кроме любви к себе, самоинвестиции по социально
предписанным правилам. Такой нарциссизм, стало быть, в корне отличен от
кошачьего или детского, поскольку осуществляется под знаком ценности.
Это упра