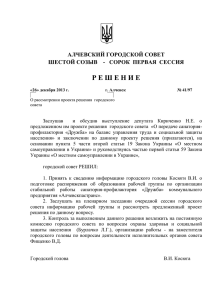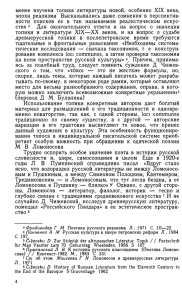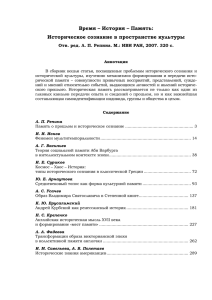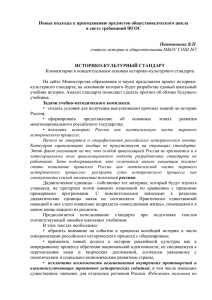Город как место памятования
реклама

А.В. Дахин Город как место памятования // Гуманитарная география. Альманах № 4. М.: Институт культурного наследия им. Д.С. Лихачёва. М. 2006. Исторические города России переживают сейчас трудные времена. Вековые тела многих из них рушатся под давлением, с одной стороны, запустения и бюджетного безденежья, а с другой – от денежных бизнесменов, которым «старя рухлядь» не нужна. Перед глазами Нижний Новгород, его исторический центр, который испытывает на себе все «прелести» текущей модернизации. Для захвата коммерчески привлекательных территорий в районе исторической застройки бизнесы и власти действуют грубо и цинично. Историческая среда центральной части города разрушается строительством примитивных «коробок», какие и в советские-то времена ставить в этих местах не решались. Так в 1970-е гг. советский модерновый «центр города» был заложен на противоположном историческому центру берегу реки Оки (ансамбль площади Ленина и бульвара Мира) [Дахин 2004]. Одновременно, предпринимаются некоторые попытки архитектурной реанимации исторических территорий города, но в основном они мотивированы политическими обстоятельствами. Так, после принятия в конце 2004 г. федерального закона, утвердившего новый октябрьский праздник (День народного единства, 4 октября), региональные власти начали активную работу по реконструкции церкви Рождества Иоанна Предтеча, у подножья которой нижегородский староста Козьма Минин собирал пожертвования от жителей города на нужды Ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде. Один из парадоксов ситуации состоял в том, что произошло столкновение интересов уникальности места и, думаю, можно сказать, унитарности политики. В результате чего пострадавшим оказалось историческое тело города, а также идентичность городского сообщества. Собственно событие состояло в том, что на площади перед церковью Ильи Пророка была поставлена уменьшенная копия памятника Минину и Пожарскому, стоящего на Красной площади в Москве и прочно ассоциирующегося с московским культурным ландшафтом. Уникальное место (природный ландшафт), уникальное событие, уникальный архитектурный ансамбль оказался аранжирован вторичным объектом, объектом «second hand» за авторством г-на Церетели. Описанная ситуация является, пожалуй, наиболее резонансным событием последних лет, отражающим положение, в котором находится историческое тело города. Злоба же дня такова, что множество мелких и тихих событий незаметно «съедают» его, поглощая часть за частью. У этих процессов есть свои экономические, политические, градостроительные аспекты, но чтобы пояснить, в чём социальная проблема исторического города, мы предлагаем антропный взгляд на ситуацию. Мы рассмотрим город как форму социально-исторического памятования городского сообщества и с этой позиции попробуем ответить на вопрос «что происходит с историческим российским городом?» Вопросы теории. На уровне высокой философии обеспокоенность судьбой человека и «человеческого», которая отражена в ряде ярких публикаций [Habermas 2004], [Кутырёв 2005] и др. известна и вполне обоснована. Но вне прикладных интерпретаций она остаётся непрактичной. В нашем рассуждении мы хотели бы, имея в виду философскую озабоченность, уточнить, как эти проблемы выглядят, так сказать, на практике. В частности, мы бы поставили в зависимое соотношение два обстоятельства, определяющие состояние города, взятого в качестве архитектурно оформленной антропной субстанции. Одно обстоятельство – это состояние структур социальноисторической памяти сообщества людей, образующих городской социум, а другое – состояние их самотождественности и самоидентичности (считают они себя в городе «аборигенами» или «туристами»). В ряде прошлых исследований нами или при нашем участии было показано, что наличие активных, хорошо работающих структур живой социально-исторической памяти человеческих сообществ является необходимым условием сохранения их самотождественности и самоидентичности [Дахин, Рыжова 2003], [Дахин 2005:30-32]. Аналогичная зависимость давно известна в области психологических наук: человек, потерявший память утрачивает способность к самоидентификации. Ослабление индивидуальной памяти влечёт также распад структуры личности [Рибо 2000]. Если с индивидуальной памятью и с психологией индивидуальной самоидентификации всё более или менее понятно, то с коллективной памятью и её связью с коллективной самотождественностью дело обстоит иначе. Коллективная социально-историческая память стала предметом активного внимания гуманитарных наук относительно недавно. Эти исследования, развивающиеся по преимуществу в русле истории и социологии, пока не имеют широкого признания в России. Наиболее известными авторами являются Морис Хольбвакс [Halbwachs 1980, 1992], Пьер Нора [Nora 1989], Явель Зерубавель [Zerubavel 1986] и др. Как это всегда бывает с живыми, становящимися концептами, теоретические представления о социально-исторической памяти имеют ряд дискуссионных полей. Одно из них представлено П.Нора в следующих словах: «…конец истории с известным концом - возложил на настоящее тот "долг памяти", о котором нам без конца твердят. В отличие от Поля Рикёра, который отказывается употреблять это избитое выражение и предпочитает ему выражение "работа памяти", я лично готов его принять, но только при условии придания ему гораздо более широкого смысла, чем тот, в котором оно обычно употребляется: смысла, связанного с материальным, механическим представлением о наследовании, а не с моралью, с утратой, а не с уплатой, между которыми существует огромная разница [Нора 2005]. Иными словами, за двумя выражениями – «долг памяти» и «работа памяти» - стоят различные концепты. В нашем понимании города мы в большей мере солидаризируемся с позицией П. Рикёра. Мы исходим из того, что диагностика состояния исторического тела города, основой которого является городское сообщество и его самотождественность, нуждается в изучении именно «работы памяти», то есть понимания того, действуют ли и как действуют социальные структуры и институции, обеспечивающие рутинное наследование городской культуры во времени и её историческое наследование из поколения в поколение. Второй дискуссионный аспект, в отношении которого необходимо оговориться, состоит в том, что в литературе, как правило, используются ещё два различных термина: выражение «историческая память» и выражение «социальная память». В частности Я. Зерубавель пишет о коллективной памяти, делая акцент на том, что она является частью исторического знания: «Итак, я рассматриваю тот уровень исторического знания, который Морис Хольбвакс называет коллективной памятью » [Зерубавель 2004]. В.Б. Устьянцев, опираясь на работы Н.Я. Данилевского и особенно Н.Н. Страхова, использует термин «социальная память», подчёркивая этим отличие коллективного памятования от индивидуального: «В непрерывном взаимодействии знаковой деятельности, информационных отношений и первичных функций, - пишет он, - создаются текстовые механизмы памяти общества, закрепляемые в институте социальной памяти. Генезис и развитие институтов социопамяти зависит от сложившихся способов кодирования и передачи информации в социальноисторической среде, от культуры типизации поведения и мышления индивидов в изменяющихся исторических ситуациях» [Социальная память…2001:7]. Приоритет термина «социальная память» подчёркивает также О.Т. Лойко [Лойко 2002]. Чтобы пояснить свою позицию в этом дискуссионном поле, - а формально состоит она в том, что мы используем термин «социально-историческая память», вернёмся к идеям М. Хольбвакса. Дело в том, что вопреки приведённому выше утверждению Я. Зерубавеля, Хольбвакс не рассматривал коллективную память в качестве уровня исторического знания. Точнее, позиция Хольбвакса об отношении коллективной памяти и исторического знания содержит ряд существенных нюансов. В статье, специально посвящённой вопросам соотношения коллективной памяти и истории, он писал «…что коллективная память не совпадает с историей и что выражение "историческая память" выбрано не очень удачно, потому что оно связывает два противоположных во многих отношениях понятия. … Дело в том, что история обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память. Пока воспоминание продолжает существовать, нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще как-либо фиксировать». [Хольбвакс 2005a]. Можно согласиться с Я. Зерубавелем, что представления Хольбвакса об исторической науке несколько устарели и что, рассуждая о коллективной памяти, он имеет в виду некие сведения, знания о событиях прошлого. Но это не то, что принято называть «историческим знанием». Противопоставляя в названной статье «живое прошлое» и «письменно зафиксированное» прошлое, «факты» и «образы», память индивидуальную и «память группы» М. Хольбвакс стремился подчеркнуть, что «живая память» сообщества о событии отличается от «исторического знания» о том же событии тем, что в первом случае событие сохраняется как элемент самотождественности группы, а во втором случае нет. Поэтому он писал: «Наша память опирается не на выученную, а на прожитую историю. … Так, несомненно, был день, когда я познакомился с тем или иным товарищем, или, как говорит господин Блондель, день, когда я впервые пошел в лицей. Это историческое представление; но если я внутренне не сохранил личного воспоминания об этом знакомстве или этом дне, это представление повиснет в воздухе, эти рамки останутся незаполненными и я ничего не вспомню. Так что может показаться очевидным, что в каждом акте воспоминания присутствует специфический элемент - само существование самодовлеющего индивидуального сознания» [Хольбвакс 2005]. Обращаясь в своей статье к работе памяти индивидуального «я», Хольбвакс делает акцент на том, что «живая память» сохраняет событие прошлого как нечто для-субъекта-бытующее, как часть личностного мира, личностной истории и «имени», если пользоваться словарём А.Ф. Лосева [Лосев 1991]. Главная же идея, как нам представляется, состоит в том, что, противопоставляя «живую память» и «рамки исторических понятий», М. Хольбвакс связывал коллективную память с чувством личной причастности, с переживанием самотождественности социального субъекта (сообщества) через памятование о событии прошлого. Поэтому, используя термин «социально-историческая память» мы стремимся подчеркнуть, что в строении коллективной памяти есть регистр, в поле которого события предшествующей истории связаны с самотождественностью социального субъекта1. Сейчас в России, пожалуй, наиболее популярна концепция «мест памяти» («les lieux de mémoire») П. Нора. Он исходит из того, что с угасанием живых традиций в современном обществе мы застаем лишь их реликты, “архивные формы” памяти, которые можно обнаружить в особых, изолированных от обычного течения жизни “местах”. Эти места представляют собой, “в сущности, не что иное, как останки, последние воплощения мемориального сознания, которое почти исчезло в наши дни, в эпоху, постоянно занятую поисками прошлого, поскольку память о нем оказалась По этой тематике существуют «точечные» исследования, как, например [Ben-Amos 2003], [Buckham 2003]. 1 утраченной” [Nora 1989:12]. В этом контексте действие структур социальноисторической памяти определяется через термин «комеморация»: это все те многочисленные способы, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом [Halbwachs 1980: 82]. Особые изолированные места – это то, что в других исследованиях принято называть памятниками, музеями, заповедниками и т.п. Выпавшие из лона живых структур социально-исторической памяти, «памятники» и «музеи» перестают быть полноценной основой социальной самотождественности и самоидентичности участников коммеморации: туристы, посещающие памятники не идентифицируют себя с культурой, которую те представляют. «Реликты», - здания, культурные ландшафты и т.п., – являют собой объекты коллективного памятования, которые остались вне структур самотождествоваия и самоидентичности локальных сообществ, которые, иными словами, становятся местами «общего пользования». Тогда их берёт под опеку государство или бизнес и превращает их в объекты туристического бизнеса. Если такой опеки не находится, то объекты разрушаются и исчезают с лица земли. Некоторые практические вопросы сохранения материальных «реликтов» от полного распада исследуют современные географические науки, которые определяют их понятием «культурные ландшафты». «К настоящему времени в российской географической науке обозначились три основных подхода к определению и пониманию культурного ландшафта, которые условно можно обозначить как классический ландшафтовый географический подход (1), этнолого-географический подход (2) и информационно-аксиологический подход (3) [Культурный ландшафт…2004:14]. В этих контекстах понятие «культурный ландшафт» указывает на специфический памятник истории культуры и природы, в отношении которого предпринимаются действия, необходимые для сохранения всех основных его элементов: природного (экосистема), культурного (здания, сооружения) и социального (аборигенных сообществ с традиционными формами быта и промысла). Обращает на себя внимание, что и в концепции «мест памяти» П.Нора, и в концепции «культурного ландшафта» речь идёт о ситуации, когда «живые традиции», а точнее, - живые структуры социально-исторического памятования, - угасают, распадаются, оставляя отдельные здания или целые ландшафты на произвол судьбы. Но какова природа этого угасания? Можно ли его избежать или замедлить? Наконец, чем можно компенсировать это угасание с тем, чтобы объекты оставались в поле самотождествования и самоидентификации локальных сообществ? Все эти вопросы чрезвычайно актуальны для российских исторических городов, особенно оттого, что памятники находятся в тесном соседстве с современностью и конкурируют с ней за место под солнцем. Если памятный объект выпадает из поля самоидентичности городского социума, и если он не находит попечителя в лице туристического бизнеса, государства или чего-либо подобного, - он обрекается на полное исчезновение. Вопросы включения памятных объектов в реестры охраняемых государством памятников или в структуры туристических маршрутов – это во многом вопросы юридические и бюрократические, которых мы не будем касаться. Мы хотим привлечь внимание к той стороне проблемы, которая выявляет значимость структур социально-исторического памятования локального сообщества в поддержании социального функционирования материальных объектов исторического города. Наряду с перечисленными выше работами социологов и географов, необходимо упомянуть ещё одну опорную концепцию, которая позволяет двигаться в обозначенном тематическом поле. Это исследование «искусной памяти», предпринятое Ф. Йейтс [Йейтс 1997]. Изучая западноевропейские источники, описывающие приёмы и методы запоминания/припоминания (мнемоники), Йейтс показала, что в этой уходящей своими корнями в античную культуру традиции существовало устойчивое понимание различия между «естественной памятью» и «искусной памятью»: «искусство будет дополнять природу», - цитирует она известное в древности пособие неизвестного ныне римского учителя риторики, написанное около 86-82 гг. до н.э. [Йетйс 1997:28]. Во-вторых, искусная память базируется на том, что использует для запоминания «места» (loci) и «образы». «Образы» предназначены для непосредственного напоминания об объекте памятования, а «места» нужны для запоминания образов в нужном порядке. Искусство состояло в том, чтобы правильно подобрать сначала места для запоминания образов, а потом – правильно побрать образы для запоминания «вещей» или «слов» [Йейтс 1997:18-23]. Что особенно интересно подчеркнуть для настоящего рассуждения, так это то, что одним из важнейших элементов запоминания были архитектурные образы: «Память искушённого оратора того времени должна нам представляться в виде архитектурного строения с порядками заполняемых мест, которые непостижимым для нас способом заполнены образами» [Йейтс 1997:61]. В наставлениях отмечается, что при подборе мест памяти («loci памяти») «не следует злоупотреблять слишком частым использованием межколонных пространств, ибо их взаимное сходство приведёт к путанице». «Loci должны быть среднего размера, чтобы помещенные в них образы не терялись из виду, и не слишком узкими, чтобы образы их не переполняли. На них не должен падать чересчур яркий свет, чтобы помещённые в них образы не отсвечивали и не ослепляли бы своим блеском; они не должны быть также слишком затемнены, чтобы тень не покрывала образы» [Йейтс 1997:19-20]. Исследование Ф. Йейтс позволяет нам дополнить концепцию «мест памяти» П. Нора потому что вводит вместе со своим понятием «loci» ещё и понятие «образы». Надо подчеркнуть ещё то, что и «loci», и «образы» непосредственно связаны с личностью запоминающего субъекта, являются частью его идентичности, его «я» [Хаттон 2003:160-167]. В противном случае запоминания/припоминания происходить не будет. Социально-историческая память городского сообщества. В свете сказанного выше, город – это совокупность огромного количества «loci», имеющихся в распоряжении жителей города. Собственно, «loci» означает здесь «известные места», то есть те, расположение которых члены городского сообщества знают из собственного опыта: знают где находится такая-то улица, такая-то площадь, такой-то дом, дерево, овраг и т.п. и знают как они выглядят. Подчеркнём, что «знают» не потому, что «выучили», а потому что «прожили». В каждом городе есть достаточно много мест, расположение и облик которых известен всем жителям города. Такие места мы определяем понятием городская loci-совокупность, указывая одновременно на базовую структуру коллективной идентичности городского сообщества. Понятно, что городская loci-совокупность может быть общей, а может быть частной потому что, соответственно, есть места города, которые известны всем горожанам, но есть и места, знание о которых распространено преимущественно среди отдельных социальных групп. Например, молодёжь имеет свою городскую loci-совокупность, в которую входит большое число молодёжных клубов, дансингов, других мест для «тусовок». У преступных сообществ имеется совершенно иная городская loci-совокупность, включающая в себя места для «стрелок», «разборок», пустыри, СИЗО и пр. Оставляя в стороне частные loci-совокупности, мы сосредоточим своё внимание на феномене общегородской. Общегородская loci-совокупность формируется, прежде всего, из фоновых практик, из повседневной бытовой и профессиональной (функциональной) активности жителей сообщества на территории города. Это часть города, которая является «своей», «знакомой», «освоенной», является частью коллективного имени «нижегородец» и частью общегородской идентичности2. Выражение «я нижегородец» предполагает, что говорящий живёт в этом городе, бывает на таких-то улица, на таких-то площадях и считает их, - эти места, - частью своей жизни. Эта разновидность городской lociсовокупности может охватывать сетью знания весь город и притом достаточно равномерно в том случае, если город не требует больших затрат на преодоление своего пространства или пространственная мобильность всех групп населения примерно одинаково высока. В противном случае общегородская loci-совокупность «сжимается», включает в себя ограниченное число мест: например, центральную площадь города, вокзал, «универмаг» и что-то в этом духе. Остальные территории города остаются вне опыта, остаются «незнакомыми» и значит «чужими». Для исторического города состав/объём общегородской loci-совокупности имеет принципиальное значение для практической диагностики состояния социально-исторической памяти городского сообщества. Если эта совокупность «покрывает» историческое тело города достаточно плотной и равномерной сеткой знания, то можно говорить, что естественная основа социально-исторического памятования сообщества находится в хорошем состоянии и можно вести речь о сохранении или возрождении «мест памяти» на естественной основе социально-исторического памятования. Если же общегородская lociсовокупность разрушена, если она охватывает только отдельные фрагменты исторического тела города, тогда вернее вести речь о сохранении или возрождении «мест памяти» в том смысле, как их понимает Нора. Второй составляющей общегородской loci-совокупности является топонимический язык городского сообщества. Несмотря на то, что, казалось бы, он формируется в практиках и связан с ними, он является относительно самостоятельным слоем структур социально-исторического памятования. Дело в том, что топонимический язык городского сообщества удерживает историю топонимов – названий улиц, площадей, районов, отдельных зданий и сооружений и пр., и даже историю названия города. Так, целому ряду российских городов в начале 1990-х гг. были возвращены исторические названия. В их числе был и Нижний Новгород, в советский период называвшийся Горьким. Топонимичесий язык сообщества сыграл заметную роль в переименовании города в 1992 г. Название «Нижний Новгород» сохранялось «на языке» сообщества на протяжение всего горьковского периода жизни города: был фирменный поезд «Москва-Горький» с названием «Нижегородец», была гостиница «Нижегородская» и пр. Поэтому возвращение исторического названия города было достаточно естественным, оно опиралось на коллективную память сообщества [Дахин 2004]. Отдельными «loci» являются топонимы тех или иных мест в городе: названия улиц, территорий (Кузнечиха, Караваиха – бывшие пригородные посёлки, включённые в городскую черту в 1930-60-е гг.), отдельных зданий (кроме названия башен Нижегородского Кремля, есть названия у некоторых зданий города, как, например, «Серая лошадь» у здания 1950-х гг. постройки) и пр. Совокупность общеизвестных в городе топонимов, покрывающих историческое тело города – это самостоятельный набор «ячеек», мест (loci), которые могут удерживать образы городской жизни и обеспечивать их историческое наследование. Наконец, третий обширный пласт общегородской loci-совокупности образует институциональная инфраструктура городской коммеморации, то есть специализированные социальные институты, призванные хранить фрагменты предшествующей истории города и институционализированные объекты памятования. Это музеи, библиотеки, архивы, архитектурные и пр. памятники, экскурсионные бюро и т.п. В целом институциональная инфраструктура городской коммеморации имеет В современном крупном городе сильное влияние на формирование общегородской loci-совокупности оказывает система городского общественного транспорта и в целом транспортная инфраструктура города. 2 сложное внутренне устройство, поскольку включает множество локальных, отраслевых, специализированных подразделений. К общегородской loci-совокупности относятся лишь те элементы этой инфраструктуры, которые предназначены и доступны для общегородского пользования. В отличие от фоновых практик и топонимического языка основой памятования здесь выступает «историческое знание», а не «опыт». Тем не менее, в соединении с первыми двумя пластами общегородской loci-совокупности это историческое знание может включаться в строй городской идентичности, самотождественности горожанина. Происходит это в том случае, если объекты институциональной инфраструктуры изначально воспринимаются как часть горожанином как части личностного/коллективного мира, как элементы коллективного приватного городского сообщества: «наш музей», «наша библиотека» и т.п. В отличие от этого иногородний турист, посещающий те же музеи памятные места воспринимает их как «их музей», «их памятник» и т.п. Как и «loci» в исследовании Ф. Йейтс, общегородская loci-совокупность является лишь предпосылкой памятования, условием, необходимым для работы коллективной памяти. Акт памятования предполагает, что «loci» используется для помещения в них образов, которые являются главными объектами памятования. То есть существование loci-совокупности, её содержание, подновление, реставрация и пр. – всё это ещё не есть памятование как таковое. Полноценная работа памяти начинается тогда, когда lociобъекты вовлечены в процесс памятования об образах событий предшествующей истории, об образах героев этих событий, которые и являются главными объектами коммеморации. Поэтому к двум, так сказать, материальным предпосылкам работы социально-исторической памяти городского сообщества, - имеется в виду а) материальное тело исторического города (здания, улицы, прозоры, природные ландшафты и пр.), работающих в качестве loci, и б) городской топонимический глоссарий, тоже работающий в качестве loci, - прибавляется ещё одна, духовная, интеллектуальная предпосылка, а именно – образы предшествующей истории города, мифы, легенды, рассказы, басни, песни, анекдоты и пр. которые ассоциируются с архитектурными, художественными, историческими и пр. памятниками города, с теми или иными названиями и, в понимании горожан, как бы «живут в них». Строго говоря, городской объект, - архитектурный ансамбль, обелиск, улица и пр., - или название не может рассматриваться в качестве loci, если на нём не «завязана» (как узелок на память) какая-то история, легенда, нарратив. Духовные предпосылки социально-исторического памятования можно было бы назвать «эйдосами» города, с тою разницей, что они создаются городским сообществом и им же передаются из поколения в поколение. Эта сторона социально-исторического памятования напоминает представленную А.Ф. Лосевым в работе «Античная мифология в её историческом развитии» [Лосев 1956:14] природу мифа и фетишизма, когда «дух вещи не воспринимается отдельно от самой вещи». В другой работе, поясняя природу мифа, Лосев писал: «Так всегда и бывает, что доказуемое и выводимое основывается на недоказуемом и самоочевидном; и мифология только тогда и есть мифология, если она не доказывается, если она не может и не должна быть доказываемой” [Лосев 1991а:30-31]. В смысловой перекличке с Лосевым важно то, что соединение «loci» и «образа» в процессе памятования тоже «не доказывается», то есть основывается не некоторой самоочевидной связи их друг с другом (и ещё с самотождествованием социального субъекта). Этот смысловой резонанс не случаен, хотя в нашем рассуждении речь не идёт об архаическом фетишизме и мифологизме как таковых. Близость концептов обусловлена тем, что структурная «эссенция» фетишизма и мифа далёкой архаики унаследованы современной культурой в форме микроструктурного элемента (в форме своеобразного «микрочипа») памяти. Для пояснения приведём один фрагмент из цитированной выше статьи Хольбвакса. Говоря о взаимосвязи индивидуальной и групповой памяти, он приводит в пример Стендаля и его воспоминание о дедушке: «Почему из всех членов своей семьи Стендаль сохранил столь глубокое воспоминание, прежде всего, о своем дедушке, почему он рисует нам столь живую картину, вспоминая именно этого человека? Не потому ли, что для него он представлял уходящий XVIII век, потому, что он был знаком с некоторыми из "философов" (Просвещения. - Примеч. пер.) и что через него ему удалось поистине проникнуть в то дореволюционное общество, связь с которым он постоянно подчеркивает? Если бы личность этого старика не связалась рано в его сознании с трудами Дидро, Вольтера, Д'Аламбера, с родом интересов и чувств, которые возвышались над горизонтом маленькой, тесной и консервативной провинции, он не был бы тем, кем он был, то есть тем из родственников, кого Стендаль больше всех уважал и любил» [Хольбвакс 2005]. В свете нашего подхода фигура дедушки была для Стендаля своеобразным loci, которое стало вместилищем образов «некоторых философов», «интересов и чувств». В определённом смысле фигура дедушки стала для молодого Стендаля хранителем/фетишем образов философов и эпохи Просвещения. И, с другой стороны, оттого, что фигура дедушки стала таким loci, именно о нём сохранилось наиболее «глубокое воспоминание». Безусловно, позже Стендаль читал и узнавал многое о французских Просветителях из книг, на уровне исторического знания. Но первые, связанные с фигурой дедушки представления были не просто «знанием», но были частью семейной/личностной идентичности и естественным ресурсом его памяти. Возвращаясь к теме города, мы, таким образом, выделяем теперь ту сторону социально-исторического памятования городского сообщества, которая «отвечает» за содержание памятуемого, за то, что именно помнится. В этом плане наиболее просто дело обстоит с тем сегментом общегородской loci-совокупности, который назван институциональной инфраструктурой городской коммеморации. Носителями содержания здесь являются специалисты, экскурсоводы, реставраторы, учителя, профессия которых состоит в том, чтобы хранить живое знание и передавать, излагать его, учить ему других. Ещё раз подчеркнём, что с точки зрения их профессии разницы между «горожанином» и «туристом» нет. Поэтому надо понимать, что институциональная инфраструктура городской коммеморации остаётся частью социально-исторической памяти городского сообщества только при условии, что институциональные объекты одновременно являются частью общегородской lociсовокупности, то есть какими-то путями интегрированы в индивидуальные/групповые идентификационные миры основной массы горожан или хотя бы какой-то значительной группы жителей города. Несколько сложнее обстоят дела с тем, каким образом функцию loci может играть топонимический глоссарий городского сообщества. Превращение «названий» в loci может происходить как под действием обстоятельств жизни, - когда новые события воспринимаются в привязке к названиям мест, - так и под влиянием рассказов, комментариев, которые привязаны к названиям мест. Особенность этих процессов состоит в том, что «для них» нет и не может быть специальной профессии и специальной организации. Эта сторона социально-исторического памятования базируется на стихийных практиках коммуникаций внутри городского сообщества, внутри отдельных больших и малых его групп, на внутрисемейных коммуникациях. Иными словами, разговорная, нарративная сторона фоновых практик является основным поставщиком образов, закрепляющихся в формах топонимических названий. Эта же коммуникационная активность «населяет» образами и городские объекты, входящие в общегородскую loci-совокупность. Коромыслова башня Нижегородского Кремля является вместилищем легенды о героической девушкенижегородке, отбившей коромыслом татаро-молнгольский отряд, озеро Светлояр хранит легенды и образы Града Китежа, здание краеведческого музея (бывший особняк купца Рукавишникова) населяют истории о пении Шаляпина, которое было слышно на другом берегу реки Волги и т.д. Причём речь не идёт только об историях «про прошлое». Главным является привычка горожан видеть свой город, привычка рассматривать, любоваться, присматриваться и обсуждать, делиться наблюдениями. Никаких историй не будет существовать в городе, жители которого стремглав передвигаются в теле города ничего не видя вокруг, ничего не замечая, не рассматривая. Манера жизни делового человека-кочевника отчасти стимулирует эту «абсолютную проходимость» [Бодрийяр 2001:33-34] городских пространств, когда события повседневной жизни даже визуально привязываются только к деловому ежедневнику, к интерьерам деловых офисов, автомобилей или самолётов. Город остаётся за рамной процесса жизни. - Что Вы видели сегодня в городе? - Ничего. Это значит, что произошло отслоение зрения (а значит и чувства, и мышления) человека от города. Индустриальная трансформация способа зрения и некоторые её причины описаны метафорой Поля Вирильо «машина зрения» [Вирильо 2004]. Для нас же важно подчеркнуть, что если взгляд, мысль, чувства повседневной жизни не «зацепляются» за материальное тело города, то исчезают и «эйдосы» города, Новые исчезают потому, что им неоткуда взяться, старые – потому, что им некуда «переселиться», негде обрести новую нарративную оболочку/тело. Мёртвые здания «хранят» образы и «населены» ими только в случае, если истории и легенды – старые и новые - постоянно вьются вокруг них, пересказываются при них и в их присутствии, внутри городского сообщества. Если это происходит, то существует невидимая, но устойчивая сеть образов предшествующей и текущей истории, местом памятования которой выступает город. Заключение Понимаемый в качестве места действия коллективной социально-исторической памяти городского сообщества, исторический город предстаёт в виде довольно громоздкого и в ряде ключевых своих моментов не видимого невооружённым глазом образования. Поэтому в таком качестве город довольно трудно представить в качестве объекта проектирования, планирования, развития. В России культура социального проектирования сложных систем вообще довольно низкая. Тем не менее, мы убеждены в целесообразности теоретических и прикладных исследований в этом направлении. На первых порах они могут избавить хотя бы от наиболее грубых, нелепых и непоправимых ошибок. В этом плане упомянутый казус с «second hand» от Церетели в Нижнем Новгороде может быть исправлен. Но и для исправления необходимо иметь хотя бы элементарные представления о социальном строении исторического тела города. Для этого необходимо увидеть, что неточно подобранная аранжировка исторического ландшафта деформирует, девальвирует и без того ослабленные структуры социально-исторического памятования городского сообщества, наносит невидимый глазом ущерб городской идентичности. Распад городской идентичности превращает ощущение «мой/наш город» в ощущение «ихний город». Вслед за этим город становится беспризорным, «ничейным»: все в нем живут, но никому до него нет дела. Поэтому из-за распада городской идентичности город погружается в мусор, в пыль, в запустение, на фоне которого «потёмкинскими» смотрятся наспех подремонтированные, иногда позолоченные одиноко торчащие предметы гордости властей, бизнесменов или церкви. Конечно, в ситуации глобальной открытости статус, социальная миссия и значимость локальной идентичности исторического города меняется. Она вовлекается в контакты с новыми внешними структурами социально-исторического памятования и с новыми сферами социальной идентификации. В нашем очерке за скобками рассуждения остались аспекты, связанные с миграционной подвижностью, с общероссийской идентичностью и др. Мы посчитали это возможным, так как хотели выделить ключевые и плохо осмысленные на сегодня структурные компоненты, обеспечивающие локальную устойчивость городского социального пространства, компоненты, наделяющие локальное пространство исторического города неповторимым духом, ароматом, тональностью, - то есть теми качествами, которые будет цениться и будут пользоваться спросом при всех «глобализациях» и «мировых торговлях». Источники. Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: РУДОМИРО, 2001. Вирильо П. Машина зрения. СПб.: Наука, 2004. Дахин А. Архикультура архаики: образы неба и земли в архитектурных изваяниях культуры // Гуманитарная география. Научный и культурнопросветительный альманах. Вып. 2 / Д.Н. Замятин – отв. ред., сост. М.: Институт наследия. 2005. С.26-36. Дахин А.В. Имена городов в структуре локальных социо-культурных пространств // Возвращённые имена: идентичность и культурный капитал переименованных городов России / А.Макарычев – ред. Н.Новгород: IREX. 2004. C. 2430. Дахин А.В., Рыжова Т.С. Российский исторический «город» и проблема сохранения разнообразия культур в контексте глобализации // Крупные города и вызовы глобализации / Колосов В.А., Эккерт Д. – ред. Смоленск: Ойкумена, 2003. С.201-214. Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio. 2004. №.3. http://abimperio.net/scgibin/aishow.pl?state=showa&idart=1041&idlang=2&Code=tV0yl4gkIPGAGxB9a52i1vxUj Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997. Культурный ландшафт как объект наследия / Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. – ред. М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Булганин, 2004. Кутырёв В.А. От какого наследства мы не отказываемся // Человек. 2005. № 1. С. 33-48. Лойко О.Т. Феномен социальной памяти. Томск: ТГУ, 2002. Лосев А.Ф. Философия имени. М.: МГУ, 1991. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991а. Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М.: Искусство, 1957. Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 4041. http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=35011401 Рибо Т. Общие амнезии (потери памяти) // Психология памяти. М.: ЧеРо, 2000. C. 33-61 Социальная память российской цивилизации / Академик РАСН В.Б. Устьянцев ред. Саратов: Приволжское книжное издательство, 2001. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб.: Владимир Даль, 2003. Хольбвакс М. Коллективная и историческая память. Часть 1 // Неприкосновенный запас. 2005. №40-41. http://www.nzonline.ru/index.phtml?aid=30011360 Хольбвакс М. Коллективная и историческая память. Часть 2 // Неприкосновенный запас. 2005a. №40-41. http://www.nzonline.ru/index.phtml?aid=30011360 Ben-Amos Avner. War Commemoration and the Formation of Israeli National Identity // Journal of Political and Military Sociology. 2003. Vol.31. No. 2 (Winter). Pp. 171-195. Buckham Susan. Commemoration as an expression of personal relationships and group identities: a case study of York Cemetery // Mortality. 2003. Vol.8. No.2. Pp. 160-175. Habermas J. The Future of Human Nature. Cambridge, Oxford: Polity Press. 2004. Halbwachs Maurice. La Memoire collective [1950] // Maurice Halbwachs. The Collective Memory / Translated by F. J. and V. Y. Ditter. New York. 1980. Pp. 50-87. Halbwachs Maurice. Les cadres sociaux de la memoire [1925] // Maurice Halbwachs. On Collective Memory / Engl. transl. and intr. Lewis A. Coser. Chicago. 1992. Pp. 37-189. Nora Pierre. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // Representations. 1989. Vol. 26. Zerubavel Yael. The Holiday Cycle and the Commemoration of the Past: Folklore, History, and Education // Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, 1986. Vol. 4.