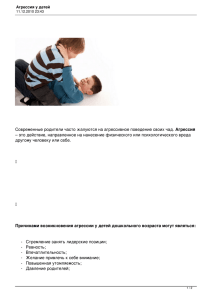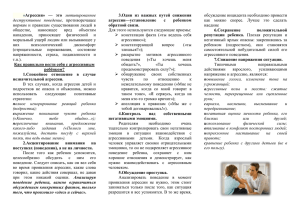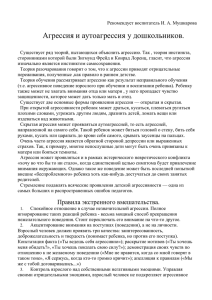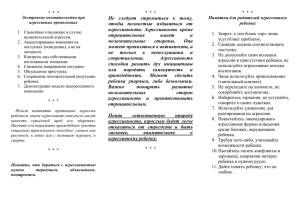ПЛАН Введение 1. Модели изучения агрессии и агрессивного поведения
реклама

ПЛАН Введение 1. Модели изучения агрессии и агрессивного поведения 1.1. Теория влечения (психоаналитический подход). 1.2. Экологический подход. 1.3. Фрустрационная теория (гомеостатическая модель). 1.4. Теория социального научения (бихевиоральная модель). 2. Виды и формы проявления агрессивности личности. 3. Теоретические подходы к изучению эмоционального восприятия 4. Особенности агрессивного поведения у лиц с органическими поражениями головного мозга 5. Особенности эмоционального восприятия у лиц с агрессивным поведением Список использованной литературы Введение Согласно наиболее принятому определению, агрессия — это форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [6]. Проблема агрессивности человека в отечественной психологической литературе представлена малочисленными и довольно противоречивыми по содержанию и выводам публикациями [6], [2, 124], [10], [14, 102.]. Между тем за рубежом интерес к ней очень велик и не ослабевает до настоящего времени [11, 6.], [23, 806.], [24, 83]. Одной из важнейших характеристик действий и поступков, определяющих устанавливаемые взаимоотношения между людьми, а также эффективность индивидуального личностного развития, является агрессивность. Именно агрессивное поведение приводит к возникновению конфликтов во взаимоотношениях между людьми и неконструктивным способам их разрешения. "Мы не хотим сказать, что агрессия - это нечто, противоположное нравственности: некоторые формы агрессии не рассматриваются как аморальные. Но в большинстве случаев агрессия аморальна, поэтому те же механизмы, которые ответственны за нравственное научение, лежат и в основе социализации агрессивных импульсов", - пишут Р. Кратчфилд и Н. Ливсон [19, 68]. Далее они сопоставляют два приемлемых и взаимосуществующих определения агрессии. Первое основано на внешней оценке поведения: "Агрессия это любой вид поведения, наносящий вред другому". Второе связывается с намерениями человека, т. е. с тем, о чем можно узнать лишь изучая побуждения человека: "Агрессия - это любые действия, имеющие целью причинение вреда другому" [14, 69]. Опираясь на сходные с приведенными определения агрессии, многие из психологов считают агрессию врожденной, неотъемлемой характеристикой поведения в живом мире, связанной с борьбой за выживание. Но они же признают, что над агрессивными импульсами, агрессивными проявлениями в поведении человека возможен контроль, связанный с обучением и воспитанием. "Процесс научения контролировать свои агрессивные устремления или выражать их в формах, приемлемых в рамках данной цивилизации, называется социализацией агрессии" [19, 69]. В отечественной психологии большее значение придается механизмам социализации, формирующему воздействию социальной ситуации развития (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). Но тем не менее учитывается и возможность реализации природно закрепленных механизмов агрессивного поведения, усугубляемой аномалиями физиологического и психического развития ребенка [5], [13]. Большинство проявлений агрессии разными наблюдателями интерпретируется однозначно, как недопустимое, требующее коррекции поведение человека. Проявления агрессии различны: от прямого физического воздействия (применения силы), словесных оскорблений и запугивания оппонента грядущими неприятностями до косвенных замечаний и скрытых попыток осуществить принудительное управление поведением другого человека. Известны проявления агрессии, переходящие в болезненное состояние, не поддающиеся социализации. Но известны и такие поступки и действия, которые одними участниками группового конфликта интерпретируются как проявления агрессии, а другими - как активность, настойчивость и последовательность в достижении целей. Классификация проявлений агрессии: 1. Болезненные проявления агрессии (неуправляемые вспышки ярости, гнева, разрушительного возбуждения); 2. Физические, словесные и другие виды агрессии, связанные с усвоением норм и правил, неприемлемых для всего общества (как правило, это бывает связано с особенностями социализации, с закреплением норм антиобщественного поведения); 3. Различные виды агрессии, связанные с недостаточной усвоенностью норм и правил поведения в обществе или с недостаточной сформированностью собственных средств самоуправления в действиях и поступках (недостаточная обученность и воспитанность); 4. Все виды действий, которые одними наблюдателями интерпретируются как агрессивные (вызывают у них подозрение в посягательстве на чьи-то права, попытке причинить вред), а у других наблюдателей связываются с проявлениями активности, настойчивости. Нарушениями поведения или социальной дезадаптацией М. Раттер [25] называет такие ситуации, в которых главная проблема личности заключается в проявлении социально неодобряемых форм поведения. К ним относятся: плохие отношения с другими детьми, обнаруживающие себя в драках, ссорах, нетерпимом отношении друг к другу, демонстративное неповиновение, разрушительные действия и лживость. Сюда же включают и антиобщественные поступки: пропуски уроков, срывы занятий, воровство, поджоги. При этом нужно помнить о том, что: - дети, с раннего возраста агрессивные и задиристые, став старше, обнаруживают большую склонность к асоциальным проявлениям; - дети с синдромом социальной дезадаптации чаще испытывают трудности во взрослой жизни: неудачная судьба, неудачные браки, низкие заработки, тоскливые однообразные социальные отношения, худшие профессии, большая склонность к употреблению алкоголя, наркотиков; - синдром социальной дезадаптации чаще встречается у мальчиков. Под другим углом зрения М. Раттер рассматривает агрессивность как один из факторов происхождения антиобщественного поведения, обозначая ее связь с другими факторами: такими как тяжелая обстановка в семье, многодетность, отставание в усвоении школьных знаний, неблагоприятная школьная атмосфера, стиль воспитания в семье, стиль воспитания и преподавания в школе. В. Клайн [19], справедливо отмечая негативные аспекты проявления агрессии, считает, что в агрессивности есть и "определенные здоровые черты", которые могут оказаться полезными для активной жизни. Это - настойчивость, инициатива, упорство в достижении цели, стремление к победе, преодоление препятствий. Эти качества присущи лидерам и победителям. Агрессию может вызвать ситуация, связанная со стремлением к установлению справедливости, - считает Г. С. Хоманс. "В ситуациях разрешения справедливости люди ищут "распределительной справедливости" - беспристрастности в распределении поощрений и наказаний... Как реагируют люди, когда они чувствуют, что справедливость нарушается? Скрытый гнев, возмущение или по крайней мере рост напряженности являются наиболее частыми откликами" [19, 74]. По мнению многих авторов, как адаптивные можно рассматривать и агрессивные проявления, связанные с избавлением от фрустрации и тревоги [19], [25]. Рассматривая проявления агрессии у детей в рамках традиционных условий воспитания, в условиях их обычной жизни, мы прежде всего отметим ту пагубную роль агрессии, которую она играет в становлении личности, превращая ее либо в потенциального агрессора, либо в потенциальную жертву всех настоящих и будущих конфликтов. Менее заметно, но не менее пагубно деформирующее влияние агрессии на общее развитие всех высших психических функций. Более грубые нарушения обнаруживаются, как правило, в специфических заболеваниях: дефектах речи, нарушениях работоспособности, аллергиях, бронхиальной астме, энурезе и т. п. В целом же собственные агрессивные проявления или же постоянное ожидание подобного от окружающих ограничивает активность ребенка, усиливают его тревожность, формируют заниженную или компенсированную самооценку. Неслучайно агрессивных детей, равно как и детей, постоянно опасающихся агрессии, относят к группе детей с аффективным поведением, к группе риска. Проявления агрессии в их активной форме определяются в первую очередь условиями воспитания, условиями социализации. Р.С. Сирс, Е.Е. Маккоби, К. Левин в своем исследовании выявили два главных фактора, определяющих возможное развитие агрессивности в поведении ребенка: снисходительность (под ней понимают степень готовности родителей и воспитателей прощать проступки, понимать и принимать ребенка) и строгость наказания родителями агрессивных проявлений ребенка. По поводу первого фактора можно встретить согласие у многих авторов. Г. Эберлейн, например, определяет агрессивность как "отчаяние ребенка, который ищет признания и любви". По поводу второго фактора мнения не столь однозначны: одни авторы считают строгость наказания одной из причин агрессивности, другие - приводят примеры того, как в разных культурах строгость наказания приводит к разным последствиям [21]. Изучение различных концепций агрессии дает возможность рассмотреть данное психическое явление с разных сторон. Каждая теория имеет как позитивные аспекты, раскрывающие природу агрессии, помогающие понять ее сущность, так и спорные тезисы. Для нас наиболее понятной, отражающей практическую направленность, является теория социального научения. Наш опыт взаимодействия с детьми показывает, что, действительно, дети перенимают агрессивные формы поведения своих родителей. Если в семье преобладает агрессивная модель воспитания (нетерпимость, раздражение, наказание), ребенок не овладевает гуманными конструктивными способами взаимодействия с окружающими. Сущность агрессии и агрессивного поведения в психологической литературе трактуется по-разному. Понимание агрессии зависит от теоретической концепции, в рамках которой разрабатывается данная категория. Можно выделить несколько теорий, раскрывающих природу возникновения и формы проявления агрессивности человека: психоаналитическая теория, экологическая теория, фрустрационная теория и теория социального научения. Рассмотрим эти аспекты. 1. Модели изучения агрессии и агрессивного поведения 1. Теория влечения (психоаналитический подход). Основоположником этой теории является Зигмунд Фрейд. Он считал, что агрессивное поведение по своей природе инстинктивно и неизбежно. В человеке существует два наиболее мощных инстинкта: сексуальный (либидо) и инстинкт влечения к смерти (танатос). Энергия первого типа направлена на упрочнение, сохранение и воспроизведение жизни. Энергия же второго типа направлена на разрушение и прекращение жизни. Фрейд утверждал, что все человеческое поведение является результатом сложного взаимодействия этих инстинктов, и между ними существует постоянное напряжение. Ввиду того, что существует острый конфликт между сохранением жизни (эросом) и ее разрушением (танатосом), другие механизмы (смещение) служат цели направлять энергию танатоса вовне, в направлении от "Я". А если энергия танатоса не будет обращена вовне, то это вскоре приведет к разрушению самого индивидуума. Таким образом, танатос косвенно способствует тому, что агрессия выводится наружу и направляется на других. Уменьшить вероятность появления опасных действий может внешнее проявление эмоций, сопровождающих агрессию, то есть агрессия понимается как разрушающее поведение, по своей природе инстинктивное, и возникает потому, что человеческие существа генетически или конституционально «запрограммированы» на подобные действия. Агрессия присуща всем живым организмам, у человека она представлена структурной частью бессознательного [30]. 2. Экологический подход. Новое звучание эта тема получила благодаря работам К.Лоренца [20], который придерживался эволюционного подхода к агрессии, что было схоже с позицией З.Фрейда. Согласно Лоренцу, агрессия берет начало, прежде всего из врожденного инстинкта борьбы за выживание, который присутствует у людей так же, как и у других живых существ. Он предполагал, что инстинкт развился в ходе длительной эволюции, в пользу чего свидетельствуют три его важные функции. Во-первых, борьба рассеивает представителей видов на широком географическом пространстве, и тем самым обеспечивается максимальная утилизация имеющихся пищевых ресурсов. Во-вторых, агрессия помогает улучшить генетический фонд вида за счет того, что оставить потомство сумеют только наиболее сильные и энергичные индивидуумы. Наконец, сильные животные лучше защищаются и обеспечивают выживание своего потомства. В то время как у Фрейда не было однозначного мнения относительно накопления и разрядки инстинктивной энергии, у Лоренца [20] был совершенно определенный взгляд на эту проблему. Он считал, что агрессивная энергия (имеющая своим источником инстинкт борьбы) генерируется в организме спонтанно, непрерывно, в постоянном темпе, регулярно накапливаясь с течением времени. Таким образом, развертывание явно агрессивных действий является совместной функцией определенного количества накопленной агрессивной энергии и наличия и силы особых облегчающих разрядку агрессии стимулов в непосредственном окружении. То есть, чем большее количество агрессивной энергии имеется в данный момент, тем меньшей силы стимул нужен для того, чтобы агрессия «выплеснулась» вовне. Рассмотрев теорию, предложенную К. Лоренцом, мы обнаруживаем сходство с психоаналитическим подходом и идеями З.Фрейда в том, что агрессия является врожденной и неизбежной функцией и, соответственно, агрессивные проявления невозможно устранить. Никакие позитивные изменения в структуре человеческого общества не смогут предотвратить зарождение и проявление агрессивных импульсов. 3. Фрустрационная теория (гомеостатическая модель). Эта теория возникла как противопоставление концепциям влечений: здесь агрессивное поведение рассматривается как ситуативный, а не эволюционный процесс. Основоположником этого направления исследования человеческой агрессивности считается Дж. Доллард. Согласно его воззрениям, агрессия - это не автоматически возникающие в организме человека влечения, а реакция на фрустрацию: попытка преодолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, достижению удовольствия и эмоционального равновесия. Рассматриваемая теория утверждает, что, во-первых, агрессия всегда есть следствие фрустрации, и, во-вторых, фрустрация всегда влечет за собой агрессию, а агрессия понимается как намерение навредить другому своим действием. В отношении побуждения к агрессии решающее значение имеют три фактора: Степень ожидаемого субъектом удовлетворения от будущего достижения цели; Сила препятствия на пути достижения цели; Количества последовательных фрустраций. То есть, чем в большей степени субъект предвкушает удовольствие, чем сильнее препятствие и чем большее количество реакций блокируется, тем сильнее будет толчок к агрессивному поведению. А если фрустрации следуют одна за другой, то их сила может быть совокупной и это может вызвать агрессивную реакцию большей силы, чем каждая из них в отдельности. Когда выяснилось, что индивидуумы не всегда реагируют агрессией на фрустрацию, Доллард и соавторы [4] пришли к выводу, что подобное поведение не проявляется в тот же момент фрустрации прежде всего из-за угрозы наказания. В этом случае происходит "смещение", в результате которого агрессивные действия направляются на другого человека, нападение на которого ассоциируется с наименьшим наказанием. Таким образом, человек, которого удерживает от агрессивности против фрустатора сильный страх наказания, прибегает к смещению своих нападок, направляя их на другие мишени - на тех лиц, по отношению к которым у данного индивидуума не действует сдерживающий фактор. 4. Теория социального научения (бихевиоральная модель). Последнее теоретическое направление - это теория социального научения, предложенная А.Бандурой [6]. В отличие от других, эта теория гласит, что агрессии представляет собой усвоенное поведение в процессе социализации через наблюдение соответствующего образа действий и социальное подкрепление, т.е. происходит изучение человеческого поведения, ориентированного на образец. Основные положения теории социального научения, объясняющие усвоение, провоцирование и регуляцию агрессивного поведения представлены в работе в виде таблицы 1. Таблица 1 Теория социального научения Бандуры Агрессия, приобретается посредством: Биологических факторов (например, гормоны, нервная система) Агрессия провоцируется: Воздействием шаблонов (например, возбуждение, внимание) Научения (например, непосредственный опыт, наблюдение) Неприемлемым обращением (например, нападки, фрустрация) Побудительными мотивами (например, деньги, восхищение) Инструкциями (например, приказы) Эксцентричными убеждениями (например, параноидальными убеждениями) Агрессия регулиру- Внешним поощрением и наказанием (например, материальное вознаграж- ется: дение, неприятные последствия) Викарным подкреплением (например, наблюдение за тем, как поощеряют или наказывают других) Механизмами саморегуляции (например, гордость, вина) Согласно теории Бандуры, исчерпывающий анализ агрессивного поведения требует учета трех моментов: Способов усвоения подобных действий. Факторов, провоцирующих их появление. Условий, при которых они закрепляются. Поэтому существенное значение здесь уделяется обучению, влиянию первичных посредников социализации, а именно родителей, на обучение детей агрессивному поведению. В частности, было доказано, что поведение родителей может выступать в качестве модели агрессии и что у агрессивных родителей обычно бывают агрессивные дети. Также эта теория утверждает, что усвоение человеком широкого диапазона агрессивных реакций - прямое поощрение такого поведения, т.е. получение подкрепления за агрессивные действия повышает вероятность того, что подобные действия будут повторяться и в дальнейшем. Вместе с тем, существенное значение имеет результативная агрессия, т.е. достижение успеха при использовании агрессивных действий. Сюда же относится и викарный опыт, т.е. наблюдение поощрения агрессии у других. Социальное поощрение и наказание относятся к побуждению агрессии. Самопоощрение и самонаказание - модели открытой агрессии, регулируемые поощрением и наказанием, которые человек устанавливает для себя сам [6]. Следует отметить, что теория Бандуры оставляет гораздо больше возможностей предотвратить и контролировать человеческую агрессию. Тому есть две важные причины: Согласно этой теории в целом, агрессия представляет собой приобретенную в процессе научения модель социального поведения. В этом качестве она является открытой прямой модификации и может быть ослаблена с помощью процедур (устранение условий, поддерживающих агрессивное поведение); Социальное научение предполагает проявление агрессии людьми только в определенных социальных условиях, способствующих подобному поведению. На наш взгляд, в настоящее время теория социального научения является наиболее эффективной в определении подходов к коррекции агрессивного поведения. 2. Виды и формы проявления агрессивности личности. Э. Фромм считает, что существует два вида агрессии: «доброкачественная» и «злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит оборонительный характер. Как только опасность исчезает, затухает и данная форма агрессии. «Злокачественная» агрессия представляет собой жесткость и деструктивность и бывает спонтанной и связанной со структурой личности [4]. А. Басс и А. Дарки выделяют 5 видов агрессии, которые схематично можно изобразить следующим образом: Агрессия Физическая агрессия (физические действия против кого-либо) Раздражение (вспыльчивость, грубость) Косвенная агрессия Направленная (сплетни, злобные шутки) Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т.д.) Негативизм (оппозиционная манера поведения) Ненаправленная (крики в толпе, топание и т.д.) Все эти виды агрессии можно наблюдать у людей всех возрастов, а иногда они проявляются с самого раннего детства. На становление агрессивного поведения ребенка оказывают влияние многие факторы, например, проявлению агрессивных качеств могут способствовать некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга, а также различные социальные факторы [20]. В содержательном плане ведущими признаками агрессивного поведения можно считать такие его проявления, как: выраженное стремление к доминированию над людьми и использованию их в своих целях; тенденцию к разрушению; направленность на причинение вреда окружающим людям; склонность к насилию (причинению боли). Обобщая все перечисленные признаки, можно говорить о том, что агрессивное поведение личности подразумевает любые действия с выраженным мотивом доминирования. Следовательно, исходя из перечисленных признаков, можно выделить формы проявления агрессии человека. Среди форм агрессивных реакций, встречающихся в различных источниках, необходимо выделить следующие: физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица; косвенная агрессия – действия, как окольными путями направленные на другое лицо (сплетни, злобные шутки), так и ни на кого не направленные взрывы ярости (крик, битье кулаками по столу и др.); вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (например, крик), так и через содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань); склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости; негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета или руководства. Может нарастать от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев. 3. Теоретические подходы к изучению эмоционального восприятия Объектом изучения в этой теории являются частные эмоции. Каждая из которых рассматривается отдельно от других как самостоятельный переживательно-мотиваци-онный процесс. К. Изард [14, с. 55] постулирует пять основных тезисов: основную мотивационную систему человеческого существования образуют 10 базовых эмоций: радость, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд/смущение, вина, удивление, интерес; каждая базовая эмоция обладает уникальными мотивационными функциями и подразумевает специфическую форму переживания; фундаментальные эмоции переживаются по-разному и по-разному влияют на когнитивную сферу и на поведение человека; эмоциональные процессы взаимодействуют с драйвами, с гомеостатическими, перцептивными, когнитивными и. моторными процессами и оказывают на них влияние; в свою очередь, драйвы, гомеостатические, перцептивные, когнитивные и моторные процессы влияют на протекание эмоционального процесса. В своей теории К. Изард определяет эмоции как сложный процесс, включающий нейрофизиологические, нервно-мышечные и чувственно-переживательные аспекты, вследствие чего он рассматривает эмоцию как систему. Некоторые эмоции, вследствие лежащих в их основе врожденных механизмов, организованны иерархически. Источниками эмоций являются нейронные и нервно-мышечные активаторы (гормоны и нейромедиаторы, наркотические препараты, изменения температуры крови мозга и последующие нейрохимические процессы), аффективные активаторы (боль, половое влечение, усталость, другая эмоция) и когнитивные активаторы (оценка, атрибуция, память, антиципация). Говоря о базовых эмоциях, К. Изард выделяет их некоторые признаки: базовые эмоции всегда имеют отчетливые и специфические нервные субстраты; базовая эмоция проявляет себя при помощи выразительной и специфической конфигурации мышечных движений лица (мимики); базовая эмоция сопровождается отчетливым и специфическим переживанием, осознаваемым человеком; базовые эмоции возникли в результате эволюционно-биологических процессов; базовая эмоция оказывает организующее и мотивирующее влияние на человека, служит его адаптации. Однако сам К. Изард признает, что некоторые эмоции, отнесенные к базовым, не обладают всеми этими признаками. Так, эмоция вины не имеет отчетливого мимического и пантомимического выражения. С другой стороны, некоторые исследователи приписывают базовым эмоциям и другие характеристики. Очевидно, что базовыми можно называть те эмоции, которые имеют глубокие филогенетические корни, т. е. имеются не только у человека, но и у животных. Так, С. Шевалье-Сокольников (1973) справедливо указывает, что способы эмоционального выражения свидетельствуют о фундаментальности эмоции только в том случае, если прослеживается их филогенетическое происхождение, т. е. если имеется экспрессивное сходство выражения эмоции в мимике у человека и у других приматов. Поэтому такие дискретные эмоции, присущие только человеку, как стыд и вина, к ним не относятся. Вряд ли можно назвать эмоциями также интерес и застенчивость [15]. Не отрицая мотивационного значения эмоций, трудно согласиться с К. Изардом в том, что эмоции являются основной мотивационной системой организма и в качестве фундаментальных личностных процессов придают смысл и значение человеческому существованию. Мотивация гораздо сложнее, чем это представляется К. Изарду, и эмоции выступают лишь в качестве одного из мотиваторов, влияющих на при-нятие решения и поведение человека. Точно так же смысл и значение человеческого существования определяется не только эмоциями, но и ценностями, социальными потребностями и т. п. Несколько странно рассмотрение эмоций, с одной стороны, как мотивационной системы организма, а с другой — как фундаментального личностного процесса. Особенности эмоционального восприятия у лиц с органическими поражениями головного мозга Изучение роли различных областей мозга в обеспечении: эмоций проводилось в рамках клинических - неврологических, психиатрических и нейропсихологических - исследований. Вопрос о связи эмоций с функциональной асимметрией мозга, как известно, отнюдь не исчерпывает современных сведений о проблеме мозговой организации эмоций или эмоционально-личностной сферы. Более традиционным для нейропсихологии является не "полушарный", а "региональный" подход к этой проблеме, т.е. изучение роли различных областей мозга в эмоционально-личностных нарушениях. Клинический анализ высших психических функций и эмоционально-личностной сферы у больных с локальными поражениями мозга позволяет выделить три основных локализации очага поражения, приводящие к отчетливым эмоционально-личностным расстройствам. К ним относятся поражения лобных долей, височных долей и гипофизарно гипоталамической или диэнцефальной области мозга. Поражение каждой из этих областей характеризуется особым нейропсихологическим синдромом (или, вернее, набором вариантов синдрома), в который входят и эмоциональные нарушения. Наиболее отчетливы эмоционально-личностные нарушения при поражении лобных долей мозга. Как известно, анатомически и функционально лобные доли мозга неоднородны. В них выделяются конвекситальные (дорзальные или латеральные) медиобазальные отделы. Первые принадлежат к блоку программирования и контроля за психической деятельностью, вторые - к энергетическому, неспеци- фическому блоку мозга [21; 31]. Эмоциональные нарушения в большей степени связаны с поражением медиобазальных отделов лобных долей мозга. Они распространяются на все основные типы эмоциональных явлений - эмоциональный фон (состояния), эмоциональное реагирование и эмоционально-личностные качества. В наибольшей степени страдает наиболее высокий личностный уровень эмоциональной сферы, что и приводит к "лобному" нарушению поведения. Клинические работы, описывающие нарушения личности и поведения больных с поражением лобных долей мозга, весьма многочисленны (В.М. Бехтерев, 1907; В.К. Хорошко, 1912; М.С. Лебединский, 1948; А.С. Шмарьян, 1949; Т.А. Доброхотова, 1974; Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина, 1977; А.Л. Абашев-Константиновский, 1959; и др.). Они показывают, что при травматических, опухолевых или сосудистых поражениях лобных долей мозга (одной или - особенно - обеих) возникают нарушения эмоционально-личностной сферы в виде неадекватного отношения к себе, своему состоянию, своей болезни, предстоящей операции, близким, друзьям, в виде эмоциональной тупости, эйфории и т. д. По данным Т.А. Доброхотовой (1974), специально, с позиций психиатра, изучавшей эмоциональные расстройства при очаговых поражениях головного мозга, при поражении лобных долей мозга, можно выделить общие черты эмоциональных расстройств - это ограничение объема эмоциональных реакций, исчезновение дифференцированности, адекватности эмоций, исчезновение переживания болезни. Эти симптомы многократно описаны в клинической литературе. А.Р. Лурия [21], тщательно изучавший варианты "лобного синдрома", выделял эмоциональноличностные нарушения как обязательный симптом этого синдрома. В нейропсихологической литературе эти нарушения описывались как "эмоциональное безразличие", "эмоциональная тупость", "благодушие", "эйфория", "дурашливость", "нарушение системы отношений", "исчезновение чувства ответственности" и т.п. Как известно, А.Р. Лурия предостерегал от попыток непосредственного соотнесения понятий "личность" и "мозг", которые могут рассматриваться как "неоклейстицизм" (или современная форма психоморфологизма). А. Р. Лурия видел первоочередную задачу нейропсихологии личности в необходимости изучения мозговых механизмов нарушений мотивационной сферы и в связи с этим говорил о том, что нарушение способности к порождению мотивов (особенно социально-значимых) связано, прежде всего с поражением лобных долей мозга. При данной форме патологии нарушения личности связаны не только с мотивационными расстройствами, но и с нарушениями произвольного контроля и самоконтроля и нарушениями критики [21]. Надо отметить, что личностные дефекты, свойственные "лобным" больным, выходят, конечно, за пределы одних только эмоциональных нарушений, распространяясь на все виды психической деятельности. Одновременно с нарушением высшего уровня эмоциональной сферы - эмоционально-личностных качеств - у больных с поражением лобных долей мозга изменяются и сравнительно элементарные эмоциональные ощущения - болевые. Рядом авторов показано, что после фронтальной лоботомии больной, страдающий раковым заболеванием и испытывавший ранее сильные боли, перестает обращать на боль особое внимание. Больные переставали жаловаться, потребность в обезболивающих средствах значительно уменьшалась. Как известно, существует несколько вариантов "лобного синдрома". Их можно подразделить на две основные подгруппы - первая связана с поражением латеральных конвекситальных отделов лобных долей мозга, вторая - с поражением их медиобазальных отделов. Нейропсихологические наблюдения показывают, что эмоциональные нарушения при этих двух вариантах синдромов различны. В целом эмоционально-личностные нарушения преобладают при поражении медиально-базальных отделов лобных долей мозга. Именно у этой категории больных чаще всего отмечается эйфория, дурашливость, эмоциональная несдержанность, раздражительность, отсутствие чувства такта и т. п. (А.С. Шмарьян, 1949; А.Р. Лурия, 1969; А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, 1969; Н.А. Филиппычева и др., 1982). По данным Т.А. Доброхотовой (1974 г.), при опухолях, воздействующих на медиобазальные отделы обеих лобных долей мозга, возможен синдром "гневливой мании". Согласно мнению А.Р. Лурия [21], поражение медио-базальной и орбитальной частей лобной коры (полей 11, 12, 32 и 47) ведет к аффективным расстройствам, нередко - к эйфории, недостаточной критичности, импульсивности, расторможению примитивных влечений. По данным Б.И. Белого (1987), у больных с опухолями правой лобной доли первые признаки заболевания нередко выражаются в виде эмоционально-личностных изменений (эйфории, анозогнозии, бестактности, некритичности и т.п.), что проявляется на фоне подвижности, многоречивости, а не заторможенности, как у левосторонних больных. Автор отмечает, что иногда у правосторонних больных наблюдается "злобность и агрессивность". Данное положение нашло подтверждение не только на больных с локальными поражениями головного мозга, но и на достаточно большом материале, полученном при лечении психически больных с помощью операции - фронтальной лейкотомии (отсечение волокон, идущих от конвекситальных и медиальных отделов коры лобных долей к зрительному бугру). После операции наряду с положительным эффектом - ослаблением бредовых идей, напряженности, агрессивных тенденций, - появлялись и новые симптомы - апатия или эйфория, эмоциональное уплощение, благодушие, исчезновение чувства ответственности за свои поступки, аффективная неустойчивость, отвлекаемость. В большей степени страдает духовная сфера: интерес к работе, любовь к музыке, живописи, литературе и т.п. Именно из-за этих новых симптомов фронтальная лейкотомия в большинстве стран и в нашей стране тоже была абсолютно исключена. Основной вывод, который можно сделать из материалов, полученных при лечении этим методом, это то, что пересечение связей, соединяющих лобные доли с передними базально-медиальными структурами, ведет к выраженным эмоционально-личностным нарушениям. Однако эмоционально-личностные изменения наблюдаются и при поражениях конвекситальных отделов лобных долей мозга, особенно при массивных или двусторонних очагах (А. С. Шмарьян, 1949; А. Л. Абашев-Константиновский, 1959; А. Р. Лурия, 1963, 1969, 1973; и др.). Чаще - в виде эмоциональной апатии, безразличия, "невосприятия" собственной болезни, потери интереса к окружающему на фоне общей адинамии и аспонтанности. Следует отметить, что клинические наблюдения за больными с поражением лобных долей мозга выявляют большую вариабельность симптомов, в том числе и тех, которые относятся к эмоциональноличностной сфере. В большинстве случаев наблюдаются отчетливые или даже грубые эмоциональноличностные расстройства, однако в ряде случаев изменения эмоционально-личностной сферы столь малы и неопределенны, что с трудом поддаются диагностике. Это различие нельзя объяснить лишь величиной и характером очага - они связаны, по-видимому, и с другими, пока еще плохо исследованными факторами - особенностями преморбида, возрастом больного и др. Разноречивость данных, имеющихся по этому поводу в литературе, отражает сложность самой проблемы. Как писал в свое время Л. Тойбер, крупнейший американский нейропсихолог, мы еще далеки от понимания "загадки лобных долей". Если в ранних работах авторы, описывая эмоционально-личностные нарушения при локальных поражениях мозга (главным образом при поражении лобных долей мозга), не фиксировали внимание на стороне поражения, то позже - в связи с общим интересом к проблеме межполушарных отношений появляются работы, специально ориентированные на выявление латеральных особенностей таких нарушений. Одним из первых исследователей, подчеркивавших особую роль правого полушария в организации эмоций, был В.К. Хорошко (1912), указывавший, что при поражении правой лобной доли возникают "расстройства поведения" в виде импульсивных действий и некритичности к себе, подобные тем, которые наблюдаются при поражении обеих лобных долей. Поражения левой лобной доли чаще проявляются в виде "общей аспонтанности поведения". А.С. Шмарьян (1949) также говорил о преимущественном отношении правой лобной доли к эмоционально-личностным изменениям (вплоть до полной "лобной агнозии" своего самочувствия), в то время как левая лобная доля имеет более тесную связь с интеллектуальными процессами, интеллектуальной активностью ("инициативой мысли"). А.Р. Лурия [21] неоднократно указывал на то, что при поражениях правой лобной доли, как правило, чаще возникают изменения характера, неадекватное отношение к своему состоянию, общая некритичность, чем при поражениях левой лобной доли, для которых характерны явления адинамии (двигательной и интеллектуальной) и нарушения произвольной регуляции различных видов психической деятельности и поведения в целом. В исследованиях D. Bowers, K. Heilman (1981) было показано, что больные с правосторонним поражением передних отделов мозга могли идентифицировать незнакомые лица по фотографиям, но не могли описать выражения лиц, узнавали знакомые лица, но не могли определить, какую эмоцию испытывает данный человек. К латеральным особенностям эмоционального реагирования относят также и такой показатель, как степень дифференцированности эмоций, связанную с социальным опытом. По данным Т.А. Доброхотовой и Н.Н. Брагиной (1977), при поражении левой лобной доли нередко исчезают высокодифференцированные эмоциональные переживания, связанные с прошлым опытом, причем при тяжелых поражениях возможен полный "эмоциональный паралич", что сочетается с явлениями адинамии, аспонтанности, с нарушениями произвольной регуляции деятельности. Подобный синдром не свойствен больным с поражением правой лобной доли. Наконец, характеризуя специфику работы передних отделов левого и правого полушарий мозга в обеспечении психической деятельности вообще, включая и эмоции, ряд авторов считает, что нарушение осознания эмоций свойственно и левосторонним, и правосторонним поражениям. Однако если у левосторонних больных страдает преимущественно когнитивная обобщающая, оценка эмоций, включающая семантические вербальные категории, то правосторонним больным больше свойственно нарушение собственно отражения - на чувственном уровне - своего эмоционального состояния (Д.В. Ольшанский, 1979; и др.). Следует, однако, отметить, что мнение о существовании латеральных различий эмоциональных нарушений поддерживают не все авторы. Во многих работах, посвященных изучению симптомов поражения лобных долей мозга, патологическая симптоматика описывается безотносительно к стороне поражения. Многие авторы не находили (и не находят) разницы в картине эмоциональноличностных нарушений, да и других (кроме речевых) при поражении лобных долей мозга. Б. Колб и Л. Тейлор, например, считают, что операция по удалению лобных долей мозга значимо редуцирует число спонтанно возникающих лицевых экспрессии (живость мимики), независимо от стороны хирургического вмешательства. Имеются даже работы, полностью отрицающие какие-либо (в том числе и эмоциональные) симптомы поражения правой лобной доли, что можно объяснить общей неразработанностью проблемы. Второй областью мозга, поражение которой приводит к эмоциональным расстройствам, являются височные доли мозга. Как известно, височные доли включают в себя структуры лимбической системы - амигдалярный комплекс, гиппокамп. Если конвекситальные отделы коры височных долей мозга представляют собой корковое звено слухового анализатора, то базальные и медиальные отделы коры височной доли относятся к корковому звену неспецифической системы мозга. Именно эти анатомические особенности височных долей мозга и определяют характер симптоматики, возникающей при поражении различных отделов височных долей мозга. Накопление сведений о роли височных структур в осуществлении эмоциональных явлений шло по двум направлениям. К первому следует отнести клинические и клинико-нейропсихологические наблюдения за больными, имеющими поражения в пределах височных долей мозга. По данным Т.А. Доброхотовой (1974), при поражении височных долей эмоциональные расстройства занимают ведущее место в общей картине заболевания. При поражении обеих височных долей эмоциональные расстройства выражаются в депрессивных состояниях и пароксизмальных аффективных нарушениях, причем эти симптомы связаны со стороной поражения. Поражения правой височной доли чаще сопровождаются аффективными пароксизмами в виде приступов ярости, страха, тревоги, ужаса, которые протекают на фоне выраженных вегетативных и висцеральных расстройств (А.Г. Шмарьян, 1949; Т.А. Доброхотова, 1974; Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина, 1977, 1981). Подобные приступы отрицательных аффектов характерны для начала заболевания, а при длительном заболевании возможны стойкие фобические явления. Эмоционально-аффективные нарушения обычно сочетаются с эпилептическими припадками. При длительном течении болезни возможны эпилептоидные изменения личности (в виде оскудения эмоциональной сферы, стереотипии поведения и т.п.). Нередки обонятельные, слуховые галлюцинации, сопровождающиеся неприятными ощущениями. Постоянные эмоциональные нарушения проявляются в депрессивном настроении. Остаются сохранными тонкие эмоциональные проявления, "вся социальная сфера эмоций", их дифференцированность. Страдают более элементарные - базальные - эмоции. Возможны особые состояния сознания, приступы деперсонализации, дереализации, во время; которых больной как бы "лишается чувств", отдаляется от окружающего мира, т. е. изменяется "тонус эффективности" - эмоциональная окраска восприятия себя и окружающего (Т.А. Доброхотова, 1974; Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина, 1977). Возможны приступы приятных соматических ощущений, когда все окружающее и собственное самочувствие резко улучшается, после чего наступает приступ тоски, страха, ужаса. Для всех этих приступов характерна сохранность критики больного, его отношения к происходящему как к болезненному состоянию. Для левосторонних поражений височной доли более характерны не пароксизмы, а постоянные эмоциональные расстройства как реакция на дефект речи, памяти. Возможно состояние ажитированной депрессии, и даже - ипохоадрического бреда. В ранних стадиях заболевания - раздражительность, плаксивость. Вегетативно-висцеральные приступы сопровождаются речевыми расстройствами. Тревожно-фобическую депрессию при поражении левой височной области отмечали и другие авторы (А.М. Вейн, А.Д. Соловьева, 1973). Таким образом, поражение височной области сопровождается двумя типами пароксизмов - в виде чрезмерного усиления аффекта (чаще - страха, ужаса) или в виде резкого уменьшения аффективного тонуса. Аффективные пароксизмы, как правило, сопровождаются выраженными висцеральновегетативными нарушениями (А.М. Вейн, П.И. Власова, 1971, 1975; Т.А. Доброхотова, Н.Н. Брагина, 1977). Для них характерны и устойчивые изменения эмоционального состояния в виде депрессии (больше - при поражении левого полушария) с сохранностью критики к своему состоянию. Можно сказать, что высший личностный уровень эмоциональной сферы у этих больных остается относительно сохранным, чем они и отличаются от "лобных" больных. Больные достаточно активны, и лишь в отдельных случаях возможны изменения личности по типу эпилептоидных. Подобные эмоциональные нарушения характерны прежде всего для медио-базальной локализации очага поражения. А.Р. Лурия [21] рассматривал медио-базальные отделы височной области как структуры, регулирующие состояния активности организма, его аффективную сферу и имеющие непосредственное отношение к процессам памяти. Относя функции медио-базальных отделов коры больших полушарий к числу малоизученных проблем нейропсихологии, А.Р. Лурия [21] включал их в состав первого функционального блока мозга (энергетического). Как известно, эти структуры по своему происхождению и строению в большей части относятся к образованиям древней, старой и межуточной коры (И.Н. Филимонов, 1949) и сохраняют тесные связи с неспецифическими образованиями разных уровней. Совместно с медиальными отделами лобных долей мозга медиальные отделы височных долей входят в "висцеральный мозг", регулируя протекание различных вегетативных процессов в организме. Клинические и нейропсихологические наблюдения относительно роли височных структур в эмоциональном реагировании подтверждаются и многочисленными теперь работами по стереотаксическому лечению "височной" эпилепсии. Данными работами уточнены сведения о роли в регуляции эмоций глубинных височных структур - миндалевидного ядерного комплекса (МЯК). Показана роль МЯК в формировании агрессивности и пароксизмальных аффективных состояний: у больных височной эпилепсией с выраженными эмоционально-аффективными нарушениями в МЯК. (в дорсомедиальной части) регистрируется эпилептическая электрическая активность. Деструкция этих отделов МЯК ведет к уменьшению или полному исчезновению агрессивности и пароксизмальных аффективных состояний. Авторы считают, что гиппокомпальные структуры непосредственно не участвуют в обеспечении эмоциональных состояний (П.М. Сараджишвили и др., 1977; и др.). Таким образом, при поражении височных структур нет грубых изменений личности - больные достаточно критичны к себе и окружающим, достаточно активны и целенаправленны. Наиболее характерны для них аффективно-вегетативные пароксизмы и депрессивные или агрессивные состояния (особенно при поражении правого полушария). Третья группа структур, имеющих непосредственное отношение к эмоционально-личностной сфере, это гипофизарно-диэнцефальные отдели мозга, тесно связанные с медио-базальными отделами лобных и височных долей мозга. Поражение этих областей возникает при патологических процессах, возникающих в образованиях, расположенных по средней линии или воздействующих на эти образования (опухоли гипофиза, III желудочка, прозрачной перегородки, базальных отделов мозга). Хотя эмоционально-личностные нарушения при гипофизарно-диэнцефальных поражениях изучены пока еще недостаточно, тем не менее из отдельных описаний можно составить определенную картину, которая характеризуется рядом общих черт. Во-первых, поражение данных областей мозга сопровождается патологией эндокринных нейрогуморальных механизмов, нарушением гормональных процессов. Клинические особенности этих нарушений зависят от уровня и локализации поражения в указанной зоне. Эндокринно-обменные нарушения, наряду с другими факторами, обусловливают достаточно отчетливую эмоциональную патологию. Во-вторых, поражение этих структур ведет к нарушениям неспецифических активационных процессов (в виде синдрома возбуждения, бессонницы или синдрома угнетения, сонливости), что накладывает свой отпечаток и на эмоциональную сферу. В-третьих, поражение этих структур всегда связано с выраженной вегетативной патологией - нарушениями регуляции сердечно-сосудистой, температурной и других систем организма. Данные симптомы наряду с другими (базально-церебральными, опто-хиазмальными и др.) симптомами от смещения образований основания мозга, а также общемозговыми симптомами входят в клиническую картину заболевания. На этом фоне развиваются различные психические, в том числе и эмоционально-личностные изменения. При грубых случаях наблюдаются гипофизарные нарушения эмоциональной сферы в виде "гипофизарной деменции" с явлениями общего психического возбуждения, эйфории или агрессивности, озлобления. Отмечено, что клинические (в том числе и эмоциональные) проявления заболевания зависят от ряда факторов: локализации, характера, стадии заболевания, возраста больного и др. (А.С. Шмарьян, 1949; Т.А. Доброхотова, 1974; и др.). Описаны также эмоциональные нарушения при других поражениях гипофизарно-диэнцефальной области (опухоли гипофиза, прозрачной перегородки, III желудочка, зрительного бугра), которые в целом повторяют приведенные выше синдромы (Т.А. Доброхотова, 1974). Автор отмечает, правда, что при поражении зрительного бугра имеются не только диэнцефальные, но и полушарные симптомы (речевые дефекты при левосторонней локализации, гностические - при правосторонней). Возможны симптомы дисфункции лобных долей мозга (аспонтанность, некритичность, склонность к персеверациям и др.). В целом эмоционально-аффективные нарушения, возникающие при поражениях гипофизарнодиэнцефальной области мозга, протекают, как правило, в форме расстройства фоновых состояний при большей сохранности критики, т.е. собственно личностного отношения к своему эмоциональному дефекту. Наконец, в клинической литературе имеются описания эмоциональных расстройств при поражении задних отделов больших полушарий. Так, при острых массивных сосудистых поражениях задних отделов правого полушария нередко появляются явления беспечности, благодушия, эйфории, которые постепенно исчезают; при поражении задних отделов левого полушария возможны эмоциональные сдвиги в сторону депрессии в сочетании с другими левосторонними симптомами (Т.А. Доброхотова, 1974). Однако, по свидетельству всех авторов, выраженность и частота этих нарушений значительно уступает тем, которые наблюдаются при поражении передних отделов мозга [32]. Подводя итоги клиническим (неврологическим, психиатрическим) и клинико-нейропсихологическим работам, посвященным нарушениям эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях головного мозга, можно отметить, что описания эмоциональной феноменологии носят довольно аморфный характер. Они скорее обозначают "поле фактов", чем анализируют его. В них, как правило, нет четких критериев, определяющих сами эмоциональные и личностные дефекты, их специфику и отличие общих нарушений поведения, которые могут иметь множественный генез. Подобная ситуация не случайна. Она объясняется большой сложностью самой проблемы, ее неразработанностью. При всей необходимости и большой научной ценности клинических описаний эмоциональноличностной патологии эта область знания нуждается в точном экспериментальном исследовании и параллельно в разработке теоретического, понятийного аппарата, что всегда тесно взаимосвязано. 4. Особенности агрессивного поведения у лиц с органическими поражениями головного мозга Согласно морфологической модели агрессии существуют особенности агрессивного поведения у лиц с органическими поражениями головного мозга. Экспериментальные исследования функций лобных долей, проведенные Kluver H. и Bucy P. C. (1934), показали, что при повреждении определенных участков головного мозга (амигдалы) наступали серьезные изменения поведения – обезьяны и кошки утрачивали агрессивные реакции. С другой стороны, повреждения вентромедиальных ядер гипоталамуса, вызывали торможение агрессии, приводили к состоянию перманентной агрессивности животных. В обоих случаях речь идет о нарушении гомеостаза. То есть, надо предполагать, что имеют место две тенденции, совокупная деятельность которых обеспечивает их равновесие. Однако, это «равновесное состояние» больше у одних индивидов, особей и меньше у других, что и определяет их поведение в обыденной повседневной жизни вне экстремальных ситуаций. Исследуя методом компьютерной томографии и ядерно-магнитного резонанса склонных к насилию лиц, J.M. Tonkonogy выявил, что среди них части случаи с признаками органического поражения головного мозга. Доминировали поражения передненижнего фрагмента височной доли и миндалин, что интерпретируется автором как возможный нейроанатомический субстрат насилия. M.T. Wong et al. (1994) приводят результаты компьютерно-томографического и нейрофизиологического обследования 372 пациентов (независимо от диагноза) психиатрического госпиталя строгого режима, совершивших агресивно-насильственные общественно опасные действия. Авторы выявили коррелирующие с агрессией по степени выраженности органические изменения в височных долях головного мозга и изменения биоэлектрической активности (медленные и острые волны) аналогичной локализации (цит. по Антонян Ю.М. и соавт., 1999). Соответственно, мы можем говорить о том, что существует взаимосвязь между органическим поражениями головного мозга и уровнем агрессии. 5. Особенности эмоционального восприятия у лиц с агрессивным поведением Существует теория, согласно которой агрессия всегда есть результат действия фрустраторов, т.е. непреодолимых барьеров, стоящих на пути к достижению цели, вызывающих состояние растерянности, или фрустрации. Интерес к изучению фрустрации и ее связи с агрессией был вызван опубликованной в 1939 г. фрустрационно-агрессивной гипотезой. Эта гипотеза, разработанная группой психологов Йельского университета (США) во главе с Д. Доллардом (Dollard D., 1932), опирающаяся на работы 3. Фрейда и К. Левина, утверждала, что агрессия всегда следует за фрустрацией, а «случаи агрессивного поведения всегда предполагают существование фрустрации», т.е. если организм подвергается воздействию фрустрации, то он всегда на это реагирует агрессией, и что не существует такой агрессии, которая возникает не на почве фрустрации. В несколько смягченной модифицированной форме теорию обусловленности агрессии фрустрацией поддерживают Берковиц (Berkowitz S., 1962) и Мак-Нейл (McNeil E., 1959). Так, Берковиц вводит новую дополнительную переменную, характеризующую возможные переживания, возникающие в результате фрустрации, — гнев — эмоциональное возбуждение в ответ на фрустрацию. Он отмечает, что агрессия не всегда бывает доминирующей реакцией на фрустрацию и при определенных условиях может быть подавлена. Кроме того, Берковиц большое внимание уделяет катарсическому аффекту агрессии. В концепцию фрустрации-агрессии Берковиц ввел три существенные поправки: а) фрустрация не обязательно реализуется в агрессивных действиях, но она стимулирует готовность к ним; б) даже при готовности агрессия не возникает без надлежащих условий; в) выход из фрустрирующей ситуации с помощью агрессивных действий воспитывает у индивида привычку к подобным действиям. Следует подчеркнуть, что многие психологи, в том числе и западные, такие как Басс (Buss А., 1961), Кауфман (Kaufmann Н., 1965) и др., этой теории не разделяют, и, действительно, реальными фактами ее универсальность не подтверждается. Вопрос о том, не связана ли агрессия в каждом конкретном случае с фрустрацией, закономерен, но это вовсе не означает, что между агрессией и фрустрацией необходимо имеется неразрывная связь. Прежде всего, далеко не всякая агрессия провоцируется фрустрацией. Агрессия может возникать, например, с «позиции силы» и является выражением властности, и тогда ни о какой фрустрации речи быть не может. С другой стороны, фрустрация часто агрессией не сопровождается, она имеет многообразные проявления, в том числе и толерантность, при которой всякая мысль о нападении исключается. Кстати сказать, агрессивная реакция на фрустратор часто не ослабляет, а усиливает состояние фрустрации. Необходимо отметить, что наибольшее внимание сторонников фрустрационно-агрессивной гипотезы привлекает исследование условий, при которых ситуация фрустрации ведет к возникновению агрессивных действий. К важным выявленным ими переменным, влияющим как на возникновение, так и на торможение агрессии, можно отнести сходство-несходство агрессоров и жертвы, оправданностьнеоправданность агрессии, а также собственно агрессивность как личностную характеристику испытуемых. Недостатком данного подхода является, в первую очередь, отсутствие четкости в понимании фрустрации, вследствие чего акцент в экспериментальных исследованиях сместился с анализа причин возникновения фрустрации, а затем и агрессии, на изучение переменных, способствующих возникновению или торможению агрессии. В процессе своего развития фрустрационный подход к объяснению агрессии претерпел значительные изменения. В частности, в конце тридцатых годов возникла концепция фрустрации С. Розенцвейга, обратившегося к анализу фрустрационных ситуаций, классификации и типизации реакций на фрустрацию. Многие исследователи стали рассматривать агрессию лишь как один из возможных выходов из фрустрирующей ситуации. Более того, некоторые ученые пришли к выводу, что при фрустрации личность реагирует целым комплексом защитных реакций, одна из которых играет ведущую и структурирующую роль. Исключительно важен и эмоциональный компонент агрессивного состояния. Здесь, прежде всего, выделяется гнев. Часто человек на всех этапах агрессивного состояния — при подготовке агрессии, в процессе ее осуществления и при оценке результатов — переживает сильную эмоцию гнева, иногда принимающую форму аффекта, ярости. Но не всегда агрессия сопровождается гневом и не всякий гнев приводит к агрессии. Более того, совсем неверно было бы считать каждый гнев провоцирующим агрессию. Существует «бессильный гнев» при фрустрации, когда нет никакой возможности снять ба- рьер, стоящий на пути к цели. Так, иногда подростки переживают гнев по отношению к старшим, но этот гнев агрессией даже в словесной форме обычно не сопровождается. Эмоциональная сторона агрессии не исчерпывается гневом. Особый оттенок этому состоянию придают переживания недоброжелательности, злости, мстительности, а в некоторых случаях и чувства своей силы, уверенности. Бывает и так, что агрессор переживает радостное, приятное чувство, патологическим выражением которого является садизм. Эмоции могут играть в жизни человека не только положительную, но и отрицательную (разрушительную) роль. Они могут приводить к дезорганизации поведения и деятельности человека. Эта роль эмоций в первой трети XX века признавалась едва ли не единственной. Ряд французских психологов (Клапаред, 1928; Janet, 1928; Pieron, 1928 и др.) одновременно высказали мысль, что эмоции могут нарушать целенаправленную деятельность. Так, Э. Клапаред писал: «Бесполезность и даже вредность эмоций известна каждому. Представим, например, человека, который должен пересечь улицу; если он боится автомобилей, он потеряет хладнокровие и побежит. Печаль, радость, гнев, ослабляя внимание и здравый смысл, часто вынуждают нас совершать нежелательные действия. Короче говоря, индивид, оказавшийся во власти эмоций, "теряет голову"» (1984, с. 95). П. Жане указывал, что эмоция — это дезорганизующая сила. Эмоция вызывает нарушения памяти, навыков, приводит к замене трудных действий более простыми. О дезорганизующей роли некоторых эмоций психологи говорили и позже (Фортунатов, 1976; Young, 1961). Выявлено отрицательное влияние переживаний, связанных с предыдущим неуспехом, на быстроту и качество интеллектуальной учебной деятельности подростков (Носенко, 1998). Во многих случаях дезорганизующая роль эмоций, очевидно, связана не столько с их модальностью, сколько с силой эмоционального возбуждения. Здесь проявляется «закон силы» И. П. Павлова (при очень сильных раздражителях возбуждение переходит в запредельное торможение) или что то же — закон Йеркса—Додсона. Слабая и средняя интенсивность эмоционального возбуждения способствуют повышению эффективности перцептивной, интеллектуальной и двигательной деятельности, а сильная и сверхсильная — снижают ее (Hebb, 1949; Рейковский, 1979). Однако имеет значение и модальность эмоции. Страх, например, может нарушить поведение человека, связанное с достижением какой-либо цели, вызывая у него пассивно-оборонительную реакцию (ступор при сильном страхе, отказ от выполнения задания). Это приводит либо к отказу от деятельности, либо к замедлению темпов овладения какой-либо деятельностью, представляющейся человеку опасной, например, при обучении плаванию (Дашкевич, 1969; Шувалов, 1988). Дезорганизующая роль эмоций видна и при злости, когда человек стремится достичь цели во что бы то ни стало, повторяя одни и те же действия, не приводящие к успеху. При сильном волнении человеку бывает трудно сосредоточиться на задании, он может позабыть, что ему надо делать. Один курсант летного училища при первом самостоятельном полете забыл, как сажать самолет, и смог совершить это только под диктовку с земли своего командира. В другом случае из-за сильного волнения гимнаст — чемпион страны — позабыл, выйдя к снаряду, начало упражнения и получил нулевую оценку. Отрицательное влияние сильных эмоциональных реакций на поведение обнаруживается и в опытах на животных. В опытах Е. Л. Щелкунова (1960) крыс обучали находить выход из лабиринта, а потом постепенно убирали часть перегородок. Оказалось, что при сильном болевом наказании они переходили к стереотипному повторению однажды выработанного навыка, вместо того чтобы искать короткий путь, как это наблюдалось при пищевом подкреплении. Однако по мере изучения роли эмоций отношение к ним стало меняться, и в настоящее время дезорганизующая роль эмоций подвергается сомнению. Так, В. К. Вилюнас (1984) считает, что дезорганизующую роль эмоций можно принять лишь с оговорками. Он полагает, что дезорганизация деятельности связана с тем, что эмоции организуют другую деятельность, которая отвлекает силы и внимание от основной деятельности, протекающей в тот же момент. Сама же по себе эмоция дезорганизующей функции не несет. «Даже такая грубая биологическая реакция, как аффект, — пишет Вилюнас, — обычно дезорганизующая деятельность человека, при определенных условиях может оказаться полезной, например, когда от серьезной опасности ему приходится спасаться, полагаясь исключительно на физическую силу и выносливость. Это значит, что нарушение деятельности является не прямым, а побочным проявлением эмоций, иначе говоря, что в положении о дезорганизующей функции эмоций столько же правды, сколько, например, в утверждении, что праздничная демонстрация выполняет функцию задержки автотранспорта» (с. 15). С этим можно согласиться. Такой функции, запрограммированной природой, у эмоций действительно нет. Было бы странно, если бы эмоции появились в эволюционном развитии живых существ для того, чтобы дезорганизовывать управление поведением. А вот дезорганизующую роль эмоции, помимо их «воли», играть могут, о чем и говорилось выше. Смысл разделения роли и функции эмоций как раз и состоит в том, чтобы не путать то, что предначертано природой как признак прогрессирующего развития, с тем, что получается в качестве побочного эффекта, вопреки предначертанной функции. Список использованной литературы Аликина, Н.В. Принципы диагностики агрессивного поведения в условиях ВТК / Н.В. Аликина // Психологическое изучение осужденных несовершеннолетних. - Домодедово. - 1991. - С. 124 — 137. Антонян, Ю.М., Гульдан, В.В. Криминальная патопсихология / Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан. М., 1991. С. 124 — 129. Белинская, Е.П. Я - концепция и ценностные ориентации старших подростков в условиях быстрых социальных изменений / Е.П. Белинская // Вестник МГУ, серия №14, №4. - 1997. – С. Берковиц, Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль / Л. Берковиц Л. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. - 510 с. Буянов, М.И. Беседы о детской психиатрии / М.И. Буянов. М.: Просвещение, 1986 – 208 с. Бэрон, Р., Ричардсон, Д. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. - СПб: Питер, 2001. - 352 с. Васильева, Н.В. Агрессивное поведение и его соотношение с клинико-нозологическими характеристиками индивида //Актуальные вопросы клинической и социальной психиатрии /Под общей ред. О.В. Лиманкина, В.И. Крылова. - СПб.: СЗПД, 1999. - С.145-152. Васильева, Н.В. Реакция на фрустрацию у высокоагрессивных личностей / Н.В. Васильева // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева. - 1998. - №1. - С.36-39. Волкова, Е.В. Скажем "нет" агрессии! / Е.В. Волкова // Психологическая газета. - 2003. - № 5. - С. 17-21. Ениколопов, С.Н. Агрессивность как специфическая форма активности и возможности ее исследования на контингенте преступников / С.Н. Ениколопов/ Психологическое изучение личности преступника. М., 1976. - С. 83 — 114. Ениколопов, С.Н. Опросник Басса — Дарки / С.Н. Ениколопов // Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. М., 1990. С. 6. Ениколопов, С.Н. Понятие агрессии в современной психологии / С.Н. Ениколопов // Прикладная психология. - 2001. - № 1. - С. 60-71. Захаров, А.И. Как преодолеть страхи у детей / А.И. Захаров. М.: Просвещение, 1986. – 126 с. Изард К. Психология эмоций. М.: Эксмо, 1999. - 464 с. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - М.: Питер, 2007. - 784 с. Кон, И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И.С. Кон. М.: Политиздат, 1984. – 126 с. Кондракова, И.Э. Предупреждение и педагогическая коррекция агрессивного поведения подростков в школе / И.Э. Кондракова: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : СПб., 2000. - 167 c. Кондратенко, В.Т., Чернявская, А.Г. По лабиринтам души подростка / В.Т. Кондратенко, А.Г. Чернявская. Минск., 1991.- 344 с. Креч, Д., Кратчфилд, Р., Ливсон, И. Нравственность, агрессия, справедливость / Д. Креч, Р. Кратфилд, И. Ливсон // Элементы психологии. М., 1992. – 268 с. Лоренц, К. Агрессия (так называемое зло) К. Лоренц / . - М.: Просвещение, 1994. – 272 с. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М.: ЛКИ, 2007. - 256 с. Поливанова, К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста / К.Н. Поливанова //Вопросы психологии, №1 - 1996. С. 44-46. Пошивалов, В.П. Новые направления в изучении агрессивного поведения / В.П. Пошивалов // Журн. высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. 1987. Т. 37. - Вып. 4. - С. 805 — 806. Ратинова, Н.А. Тест руки Э. Вагнера / Н.А. Ратинова // Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики. М., 1989. - С. 83 — 90. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер. М.:Прогресс, 1987 – 424 с. Реан, А.А. Агрессия и агрессивность личности / А.А. Реан - СПб, 1995. - С.303-347. Реан, А.А. Социализация агрессии // Реан А.А, Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб., 1999. - С. 36-43. Ремшмидт, X.. Подростковый и юношеский возраст / Х. Ремшмидт. Проблемы становления личности. М.: Мир, 1994. – 456 с. Румянцева, Т.Г. Агрессия и контроль / Т.Г. Румянцева // Вопросы психологии. – 1992. - № 5-6. - С. 35. Фрейд, З. Я и Оно / З. Фрейд. Антология мысли - М.: Эксмо, 2007. - 864 с. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: Питер, 2007. - 496 с. Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Мозг и эмоции (нейропсихологическое исследование). М.: Изд-во МГУ, 1992. С. 6-67.