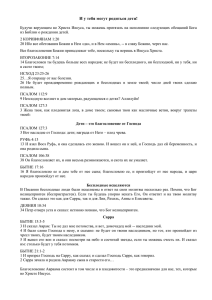Колядина Н. А. Л. Ж. И. Р. под небом Казахстана
реклама
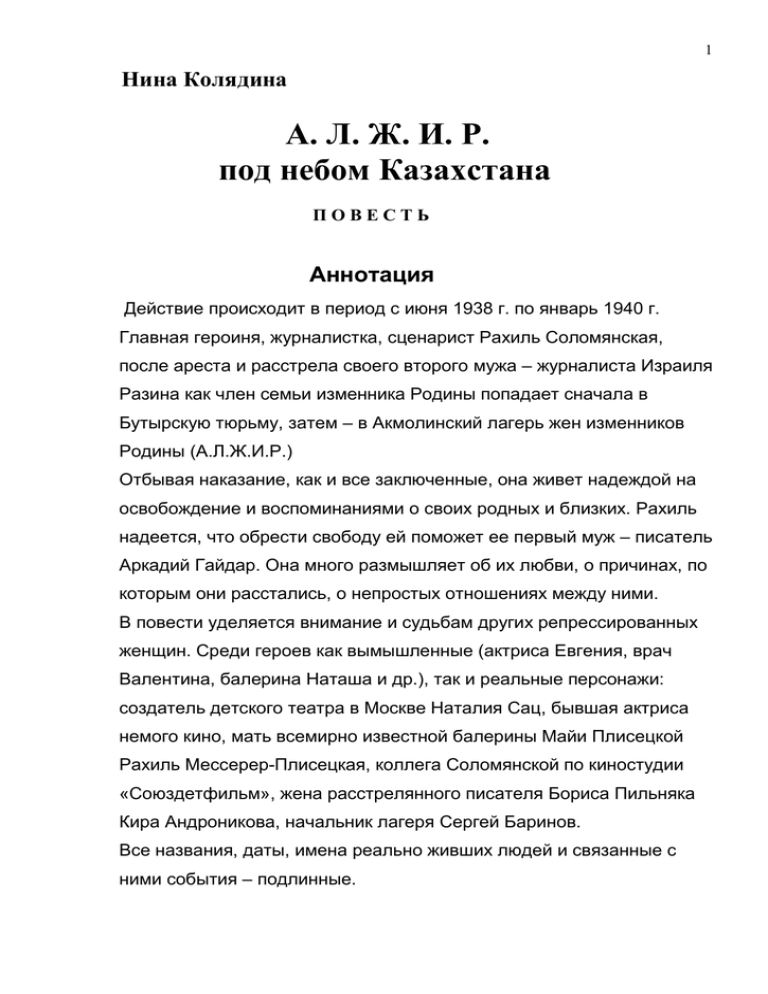
1 Нина Колядина А. Л. Ж. И. Р. под небом Казахстана ПОВЕСТЬ Аннотация Действие происходит в период с июня 1938 г. по январь 1940 г. Главная героиня, журналистка, сценарист Рахиль Соломянская, после ареста и расстрела своего второго мужа – журналиста Израиля Разина как член семьи изменника Родины попадает сначала в Бутырскую тюрьму, затем – в Акмолинский лагерь жен изменников Родины (А.Л.Ж.И.Р.) Отбывая наказание, как и все заключенные, она живет надеждой на освобождение и воспоминаниями о своих родных и близких. Рахиль надеется, что обрести свободу ей поможет ее первый муж – писатель Аркадий Гайдар. Она много размышляет об их любви, о причинах, по которым они расстались, о непростых отношениях между ними. В повести уделяется внимание и судьбам других репрессированных женщин. Среди героев как вымышленные (актриса Евгения, врач Валентина, балерина Наташа и др.), так и реальные персонажи: создатель детского театра в Москве Наталия Сац, бывшая актриса немого кино, мать всемирно известной балерины Майи Плисецкой Рахиль Мессерер-Плисецкая, коллега Соломянской по киностудии «Союздетфильм», жена расстрелянного писателя Бориса Пильняка Кира Андроникова, начальник лагеря Сергей Баринов. Все названия, даты, имена реально живших людей и связанные с ними события – подлинные. 2 Оглавление Глава первая. БУТЫРКА………………………. Глава вторая. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ…………….. Глава третья. КАТЕГОРИЯ «ТФ»……………. Глава четвертая. КАМЫШОВЫЙ АД…………... Глава пятая. ГРАНД ЖЕТЕ………………….. ЭПИЛОГ………………………………………………… Глава первая БУТЫРКА Солнце слепит глаза. Над головой ярко-синее, просто неправдоподобно синее небо. Такое, каким его рисуют дети, когда наносят на белый лист бумаги слабо разбавленную водой акварель. Белый, просто светящийся белизной пароход плывет по Каме. Палуба до отказа забита людьми: мужчины, женщины, старики, дети. Все они одеты по-летнему, и одежда у них такая яркая, пестрая, что хочется зажмурить глаза. Но Рахиль знает – стоит ей зажмуриться, и она потеряет из виду Аркадия. Вот он стоит напротив – такой статный, крепкий, красивый. Волосы на солнце выгорели, на открытом загорелом лице играет улыбка. Она берет его за руку – боится, что толпа оттеснит мужа. Пассажиры любуются дивной панорамой Перми, раскинувшейся по левому берегу реки. Вот показались купола белокаменного Петропавловского собора. Он стоит на холме, чуть выше того места, где в полноводную Каму впадает небольшая речка Егошиха. 3 – Ралька, ты не забыла, что мы сегодня венчаемся? – спрашивает ее Гайдар. Рахиль удивляется – они никогда не говорили о венчании. – Ты же не веришь в бога, – отвечает она ему. – Бога нет. Но есть обычай. Мои родители венчались. Да и твои, наверное, тоже. Или у евреев не принято венчаться? Рахиль не знает, что сказать в ответ. Пока она собирается с мыслями, веселящаяся толпа оттесняет от нее Аркадия. Она пытается удержать мужа, цепляется за его пальцы, но они выскальзывают из ее руки. Больше она не видит Гайдара – он растворяется в этой пестрой, ликующей массе людей. Рахиль хочет позвать его, но крик застревает в пересохшем горле. Ей страшно хочется пить – хотя бы глоток воды, и она сможет выкрикнуть его имя. Но язык будто приклеился к нёбу, и все попытки женщины произнести хоть слово оказываются тщетными. Сквозь плотную гомонящую толпу она пробивается к борту парохода, за которым разбиваются в брызги воды Камы. Но ни одна капелька не долетает до Рахили. Толпа напирает на нее, прижимая к борту, отчего ей становится совсем плохо: она уже не может не только кричать, но и дышать… – Лия Лазаревна, Лия Лазаревна… Что с вами? Очнитесь… – слышит она женский голос. Кто-то трясет ее за плечо. Лия – так чаще всего называли Рахиль друзья и родные – медленно, с трудом открыла глаза, попыталась что-то сказать, но сухие, потрескавшиеся губы не слушались. Наконец, сознание постепенно начало возвращаться к ней. Сквозь туман она увидела перед собой лицо Светланы. «Сон… Это был сон… – подумала Рахиль. – Кама, Пермь, белый пароход, Гайдар… Ничего этого не было… Или было когда-то? В той, другой, нормальной человеческой жизни… » 4 – Ничего, Светочка, ничего… – наконец, произнесла она и с усилием вдохнула спертый, горячий воздух, который был настолько тяжелым, что почти не проходил в легкие. – Голова что-то закружилась… – Как тут не закружиться – такая духота, – вздохнула Светлана. – Вы на меня навалились, и мне показалось, что сознание потеряли. – Может быть… Правда, очень душно, воздуха не хватает… – Там бак с водой занесли, – сказала девушка и легко спрыгнула с нар. – Пойду попью. И вам принесу водички … Между рядами нар она направилась в угол камеры, где, отгороженная грязной занавеской, стояла прикрытая крышкой, но от этого не менее вонючая параша. Рядом, на маленьком колченогом столике красовался обшарпанный тазик для постирушек и прочих нужд. Тут же находилась и тумбочка, на которую дежурные только что поставили бак с питьевой водой. Рахиль почувствовала, как пульсирует кровь у нее в висках. Каждый удар пульса вызывал дикую боль – будто кто-то невидимый с двух сторон бил ее молотками по голове. Она с трудом подняла ослабевшие, влажные руки и пальцами начала медленно растирать виски. Удары «молотков» чуточку ослабли, туман перед глазами постепенно рассеивался. В памяти начали оживать события последних суток… Вчера утром Рахиль пришла на кухню и оторвала листок прикрепленного к стене календаря. На новой странице обозначилась дата: 20 июня 1938 года, понедельник. Потом она пила на кухне чай, Варя хлопотала по хозяйству. Лия, хоть и торопилась на работу, не могла не рассказать домработнице о письме, которое она получила от Тимура. Мальчик отдыхал в Крыму в пионерском лагере, куда она выхлопотала для него путевку в Литфонде. Их разговор прервал настойчивый звонок в дверь. Сердце Рахили сначала остановилось, а потом заколотилось так, будто хотело 5 выпрыгнуть из грудной клетки. В голове стрелой пронеслась мысль, которая ей самой показалась нелепой: «Они что – сделали для меня исключение? Обычно приходят по ночам…» Каждый вечер после ареста Разина – ее второго мужа, ложась спать, она ждала и боялась такого вот звонка. Получается, зря – звонок прозвучал утром… Варя пошла открывать. Последнее, что Лия отчетливо помнила – это испуганные глаза домработницы, которую будто вдавили в стену вошедшие в квартиру люди с суровыми, словно каменными лицами… Дальнейшие события возникали в памяти отрывочно, словно выплывая из тумана и вновь погружаясь в него. Вот неожиданные гости показывают ей какие-то бумаги, что-то говорят. Рахиль не слышит слов, но смысл их и без того понятен. Вот, двигаясь, будто сомнамбула, она переодевается, достает из кладовки слегка потрепанный коричневый чемодан, складывает в него свои вещи. Потом она что-то говорит до ужаса напуганной Варе – кажется, просит ее позаботиться о Тимуре и дать телеграмму Аркадию. Вот она спускается по лестнице во двор, видит зловещий черный фургон, при одном взгляде на который у нее вновь начинает бешено колотиться сердце. Ноги не слушаются, отказываются двигаться. Кто-то подталкивает ее к открытой двери фургона, внутри которого уже сидят какие-то люди... А дальше – темнота, провал в памяти. Сколько времени их везли, что за люди сидели с ней рядом на узкой скамье, Рахиль не помнила. Из оцепенения ее вывел жуткий скрип решетчатых металлических дверей, сначала открывшихся перед ней, а потом со страшной силой захлопнувшихся за ее спиной. То, что происходило с ней за этими дверями, казалось Рахили жутким сном, который, проснувшись, хочется поскорее забыть. «Это не могло 6 быть правдой, это не могло быть со мной, потому что этого вообще не может быть!..» – молнией промелькнула в голове мысль. Молотки застучали по вискам с удвоенной силой. Веки Рахили снова сомкнулись, и она опять провалилась в небытие. «Я сплю, – обрадовалась она. – Камера, тюрьма… Приснится же такое… Вот сейчас проснусь, и все будет так, как есть на самом деле: Кама, Пермь, белый пароход, Гайдар…» – Лия Лазаревна, я вам водички принесла. Слава богу, успела набрать! Попейте, легче станет… – сквозь забытье услышала она голос Светы и хотела спросить девушку: «Ты зачерпнула воду из Камы? Как же тебе это удалось, ведь мы на верхней палубе?» Но язык отказывался поворачиваться. Ее пересохшие губы сначала ощутили прикосновение чего-то жесткого, прохладного, потом почувствовали, как с них стекают на подбородок тоненькие струйки воды. Испугавшись, что эти струйки закончатся и она не сможет утолить мучившую ее жажду, Лия открыла глаза и уже окончательно вернулась в страшную реальность: нет никакого парохода; есть эта жуткая тюрьма, вонючая, забитая такими же, как она, несчастными арестантками камера, жесткие трехъярусные нары, на которых, плотно прижавшись друг к другу, сидят заключенные женщины. Рядом с ней Светлана, которая пытается напоить ее из алюминиевой кружки. Сделав несколько глотков теплой, но вполне пригодной для питья воды, Рахиль почувствовала себя немного лучше. Впервые за последние сутки она обрела способность мыслить трезво. Застилавший ее разум туман словно растаял. В памяти поочередно, как кадры кинохроники, продолжали прокручиваться события вчерашнего дня. 7 …С диким скрипом захлопнулись железные двери. Лия оказалась в огромной странной комнате – круглой, с высокими сводчатыми потолками, совершенно не похожей ни на тюремную камеру, ни на кабинет следователя, какими она их себе представляла. Вдоль стен оборудованы какие-то стойки, напоминающие рыночные прилавки. За «прилавками» стоят одетые в темно-серые халаты тетки со злыми лицами. Рахиль подвели к одной из них – толстой, немолодой уже особе, испепелившей ее свирепым взглядом маленьких серых глаз. – Раздевайся, – приказала тюремщица. Рахиль хотела, было, возмутиться и попросить надзирательницу обращаться к ней на вы, но передумала – в конце концов, она не в редакции газеты и не на киностудии. А чего ждать от малограмотной бабы? – Поторапливайся, сука, – одна штоль тут! – зарычала тетка. Проглотив оскорбление, Рахиль молча начала расстегивать пуговицы на блузке, которые никак не хотели вылезать из петель. Руки совершенно ее не слушались. Тюремщица, между тем, продолжала подгонять арестантку, причем, такие выражения, как «продажная тварь», «вражья подстилка», «грязная жидовка» были самыми безобидными из тех, которые услышала в свой адрес Рахиль. Наконец, она справилась с одеждой и осталась в одном белье. – А портки я с тебя сымать должна? – взбесилась надзирательница. Доведенная тюремщицей почти до обморочного состояния несчастная женщина повиновалась. Бабища разложила на «прилавке» ее вещи: блузку, юбку, нижнюю рубашку, белье, чулки, туфли – все, что Лия надела на себя дома. Перетормошив одежду, вывернув наизнанку чулки, затем рукава и карманы кофточки, прощупав грязными руками каждый шов, вызывавшая омерзение тетка повторила ту же самую процедуру с 8 одеждой, которую Рахиль на всякий случай прихватила с собой из дома: ее любимым светло-коричневым жакетом, бежевой шелковой блузкой, которую она обычно надевала в особо торжественных случаях, а сегодня непонятно зачем сунула в чемодан, твидовой юбкой, домашней вязаной кофтой, запасным бельем, чулками. Причем, все это надзирательница делала нарочито медленно, изредка бросая на стоящую перед ней обнаженную женщину злобные взгляды, в которых, кроме нескрываемой ненависти к заключенной, угадывалась ещё и гадкая насмешка садистки. Рахиль, дрожа то ли от холода, то ли от страха, то ли от того и другого сразу, изо всех сил старалась устоять на ногах, не упасть на грязный, истоптанный сотнями башмаков холодный цементный пол. Пока тюремщица обследовала ее вещи, она краем глаза успела заметить, что справа от нее, возле такой же стойки, еще одна надзирательница выполняет точно такую же процедуру с другой арестованной. Лия повернула голову налево и от увиденного чуть не упала в обморок: совершенно голая женщина стояла перед «своей» тюремщицей, повернувшись к ней задом и руками раздвинув ягодицы. – Руки покажи! – рявкнула «обслуживающая» Рахиль бабища. Она снова молча повиновалась – как кролик, загипнотизированный удавом. А тюремщица продолжала отдавать приказы: – Пальцы растопырь! –Теперь на ногах! –Рот разинь! –Язык высунь! –Титьки подыми! –Задом повернись! –Нагнись… Такого унижения Рахиль не испытывала никогда в жизни. Получив, наконец, свои вещи, подгоняемая злобными окриками тюремщицы, 9 она кое-как оделась. Чулки, подвернув несколько раз, пришлось спустить до лодыжек, потому что надзирательница отбросила в сторону поддерживающие их резинки. Потом тюремщица, сверкнув маленькими злыми глазками, кинула Рахили смену белья, полотенце и мыльницу, предусмотрительно захваченную из дома, сунула в чемодан оставшуюся одежду, прикрепила к ручке бирку с фамилией арестованной и приказала: «Пошла!» По гулким коридорам с такими же высокими сводчатыми потолками ее повели в другое помещение. Процедуры, которые в нем проводились, не были столь унизительными, как в круглой комнате: заполнение каких-то анкет, фотографирование – анфас и профиль, снятие отпечатков пальцев, измерение роста… Потом в сопровождении двух надзирательниц Лия снова шла по длинному, довольно широкому коридору, с одной стороны которого были абсолютно одинаковые железные двери, с другой – большие, забранные решетками окна, через которые, несмотря на железные прутья, вполне сносно проникал уличный свет. «Наверное, ведут в камеру, – подумала она. – Скорей бы уж…» Рахиль не знала точно, сколько времени находится в стенах этого здания, нагонявшего на нее смертельный ужас, но понимала, что с того момента, когда ее вывели из квартиры на Рочдельской, до того, как она оказалась в этом бесконечном тюремном коридоре, прошел не один час. Ноги отказывались слушаться, каждый шаг отдавался ударом в висках, но, стиснув зубы, она терпела. – Стоять! Лицом к стене! – резанул по нервам голос одной из надзирательниц. Заключенная беспрекословно выполняла команды. Еще несколько секунд, и она, наконец, сможет сесть, а, возможно, и лечь, но главное – эти свирепые, ненавистные тетки в форме 10 сотрудников НКВД останутся за массивной железной дверью, которая вот-вот откроется перед ней. Лия не знала, что ждет ее за этой дверью, но почему-то была уверена, что самое страшное сегодня уже произошло. Наконец, позади нее стихло оглушительное лязганье металла. Сначала в нос ударил такой омерзительный запах, что у Рахили потемнело в глазах, и она едва не потеряла сознание. Когда через несколько секунд к ней вернулась способность видеть, она снова еле удержалась на ногах. Жуткая картина развернулась перед ней: довольно большая прямоугольная камера до отказа забита заключенными. От двери вдоль стен тянутся сплошные ряды трехъярусных нар, на которых, тесно прижавшись друг к другу, расположились женщины самого разного возраста – от совсем юных девушек, возможно, еще школьниц, до глубоких старух. Выглядели арестантки ужасно: многие были полуодетыми, некоторые – в одном белье явно не первой свежести, волосы у всех растрепаны. «Господи! Да их тут не меньше ста!» – ужаснулась Рахиль. Несколько человек – видимо, кому не хватило места на нарах, – стояли в проходе. Нечего было даже думать о том, чтобы не только лечь, но и сесть в этом душном, зловонном помещении, казавшемся настоящим адом. Единственное, что Лия смогла здесь себе позволить, – сделав несколько шагов вперед, присоединиться к стоящим в проходе заключенным и облокотиться на одну из стоек, к которым крепились доски нар. Она хотела поздороваться с сокамерницами, но язык не слушался ее, а к горлу подступила тошнота. – Здравствуйте, – обратилась к ней одна из женщин. – Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна Александровна. А вас как? 11 – Лия… Лия Лазаревна… – прохрипела Рахиль, не узнав собственный голос. Несколько заключенных назвали свои имена. Она их не запомнила. Кто-то спросил ее, как там на воле, о чем пишут в газетах. Она не ответила. Пол уплывал из-под ног. – Если хотите, можете сесть, – предложил кто-то из женщин. – Наверху есть места, только там вообще дышать нечем. «А разве тут есть чем дышать?» – подумала Рахиль и, закрыв глаза, прислонилась к металлической стойке. Слух уловил какой-то звук, похожий на топот ног. Звук этот доносился из коридора и по мере приближения к двери, недалеко от которой стояли женщины, становился все громче и отчетливее. Гулкие шаги стихли прямо за спиной Рахили. Заскрежетало железо. Со скрипом отворилась тяжелая дверь. – Захарьян! С вещами! – громким, бесстрастным голосом выкрикнула незнакомую фамилию надзирательница в милицейской форме. Чуть приоткрыв веки, Рахиль увидела, как красивая армянка лет сорока осторожно спустилась со второго яруса нар. Ее тут же обступили несколько сокамерниц, с которыми женщина тепло попрощалась. – Быстрее! Долго еще ждать?! – торопила заключенную надзирательница. Армянка вышла в коридор. Дверь за ней захлопнулась. Одна из женщин, стоявших в проходе, заняла освободившееся на нарах место. Рахиль снова сомкнула веки. Ей не хотелось тратить последние силы на разговоры, да и желания общаться с незнакомыми людьми у нее не было… 12 – Пойдемте, Лия Лазаревна, рядом со мной место освободилось, – услышала она приятный голос, явно принадлежавший молодой женщине. Какая-то девушка взяла ее за руку и потащила за собой вглубь камеры. Рахиль молча повиновалась. – На второй ярус нужно лезть, но вы не бойтесь, это нетрудно, лучше, чем на третий… – продолжала девушка. Где-то посредине камеры она остановилась и повернулась к Рахили. – Светлана! Вы?! – удивилась Рахиль, тотчас узнав девушку. С языка чуть не сорвался вопрос: «Как вы здесь оказались?», но она вовремя спохватилась. С этой худенькой, совсем юной девушкой с огромными карими глазами и двумя трогательными, уложенными «корзиночкой» косичками ее познакомила директор Центрального детского театра Наталия Ильинична Сац, с которой сама Рахиль была знакома через Гайдара. В тот день она повела Тимура на какую-то премьеру. Кажется, это было весной прошлого года. Они с сыном стояли в фойе театра. К ним подошла восторженная, довольная удачной постановкой, как всегда элегантная Сац. Женщины поздоровались, обменялись комплиментами, поговорили о спектакле. Тут Наталия Ильинична заметила в толпе зрителей Свету, окликнула ее, а когда девушка подошла к ним, сказала: – Познакомьтесь, Лия Лазаревна: Светлана Александровна Гайдукова – начинающая актриса, талантливая и весьма перспективная. Девушка зарделась от смущения. Чуть позже, когда Света, вежливо попрощавшись, отошла от них, Сац продолжала ее нахваливать: – Девочка действительно очень способная. И очень хорошо воспитана: трудолюбивая, ответственная, скромная. Кстати, 13 возможно, вы знаете ее папу? Уж Аркадий Петрович наверняка знает генерала Гайдукова… Потом Рахиль еще два-три раза встречалась со Светой. Они всегда здоровались, улыбались друг другу, но никогда не разговаривали. И вот судьба свела их здесь, в этой ужасной тюремной камере. – Я тут уже третий день… – продолжала девушка. – Сначала тоже, как вы, чуть в обморок не упала, но потом ничего – привыкла. – Разве к этому можно привыкнуть? – искренне удивилась Рахиль. – Нельзя, конечно… Но приходится. Что же делать? Жить-то надо… Остаток вчерашнего дня и ночь восстанавливались в памяти Рахили в виде каких-то коротких обрывков. «Держитесь вот здесь…», «Ставьте ножку сюда…», – учила ее Светлана, помогая забраться на жесткие, неудобные, покрытие грязным тряпьем нары. Потом она пыталась накормить свою подопечную какой-то жиденькой серой бурдой – то ли супом, то ли кашицей, произнося при этом такое привычное, домашнее слово «ужин». Рахиль, даже умирая от голода, не смогла бы проглотить и ложки этой бурды. Но дело было не в качестве пищи. Даже сдобным Вариным пирогам она предпочла бы возможность лечь, вытянуть отекшие, словно налитые свинцом ноги, закрыть слипающиеся веки и погрузиться в глубокий, крепкий сон, который позволил бы ей хоть на время забыться и отвлечься от происходящего кошмара. «Скорей бы наступила ночь…», – подумала Рахиль. Ночь наступила. Она была такой же ужасной, как и предшествующий ей день. Кое-как устроившись на нарах между Светланой и пожилой – лет семидесяти – женщиной, одетой, несмотря на жару, в теплый вязаный жакет, Рахиль закрыла глаза и впала в забытье, в которое периодически врывались лязганье металлических дверей и голоса тюремщиц, выкрикивающих фамилии заключенных. Арестанток вызывали то «с вещами», то «без вещей» – на допрос. 14 Приводили и новичков. Движение в камере не прекращалось всю ночь. В довершение ко всему по глазам с потолка бил яркий, ничем не приглушенный свет электрических лампочек. К утру, когда сквозь забранные решетками окна в камеру начали пробиваться первые лучи июньского солнца, сон все-таки подкрался к измученной женщине. – Подъем! Встать! – прозвучала команда надзирательницы. – Поверка! Рахиль застонала. Ее голова раскалывалась от боли, горло пересохло, ноги – вероятно, от жары – отекли еще сильнее. Она была настолько измучена и подавлена, что готова была умереть, только бы избавиться от этого кошмара. Тяжелые веки смыкались… – Лия Лазаревна, завтрак! – тормошила ее Светлана. – Покушайте хоть немного. Надо поесть, а то совсем сил не останется. Сил у Рахили не хватило даже на то, чтобы ответить девушке. Она лишь отрицательно покачала головой, закрыла глаза и провалилась в какую-то темную, бездонную яму... Она падала вниз так стремительно, что у нее перехватило дыхание. Потом падение замедлилось, и Рахиль плавно опустилась на дно этой ямы, где было тихо, темно и совсем не страшно. Она открыла глаза и где-то высоко-высоко увидела синее небо, яркое солнце… И вот она уже стоит на палубе большого белого парохода, который плывет по широкой реке. «Кто же вытащил меня из ямы?» – удивляется Рахиль и отвечает сама себе: «Господи! Ну, конечно, Гайдар!» Рахиль допила оставшуюся в кружке воду и почувствовала, как сжался ее желудок. 15 – Вот ваша пайка на день, – протягивая ей половину буханки черного хлеба и два кусочка сахара, сказала Светлана и, смутившись, добавила: – А кашу вашу я съела. Вы ведь не стали, а оставлять в камере миски нельзя… Вы уж простите меня, Лия Лазаревна… – Ну что вы, Светочка, не извиняйтесь. Я не знаю, как это вообще можно есть… – Можно, если больше нечего… Рахиль хотела что-то возразить, но новый, на этот раз более сильный спазм сдавил ей желудок, уже сутки не получавший никакой пищи. Она отломила кусок хлебного мякиша и понюхала его. Запах оказался вполне «хлебным», да и выглядела эта «половинка черного» почти так же, как те, что приносила из булочной Варя. Попробовав мякиш на вкус, Рахиль чуть не расплакалась – от этого кусочка повеяло чем-то обыденным, домашним, тем, что было таким привычным, пока не начался весь этот ужас. – Лия Лазаревна, эта пайка на весь день, больше не дадут… – осторожно напомнила Светлана. – А чем тут еще кормят? – спросила Рахиль и, отломив последний кусок мякиша, убрала оставшуюся горбушку. – В обед суп дают – жидкий, как вода. Вечером или тот же суп, или кашу, которую вы есть не стали… Перечислив блюда тюремного меню, девушка вздохнула: – Тем, у кого деньги есть, легче… – Деньги? – удивилась Рахиль. – У меня были деньги, но их же отобрали… – Да, отобрали, но можно обратиться к надзирательнице и заказать продукты. Их стоимость вычтут из ваших денег. Это разрешено. – В тюрьме есть магазин? – снова удивилась Рахиль. 16 – Можно и так сказать, – улыбнулась Светлана. – Лавкой здесь называется. Правда, отовариваться можно только один раз в десять дней. – И что же там можно купить? – Ну, маргарин, сахар, сушки, лук, дешевую колбасу, даже белый хлеб, – перечислила девушка названия продуктов. – Только всего понемножку… Рахиль хотела спросить, когда можно будет воспользоваться «услугой», но не успела – в их разговор вклинилась женщина, сидевшая с другой стороны от нее: – Да вы ознакомьтесь с правилами, они у двери висят. Там все написано – чего тут можно, чего нельзя… Меня Евгения Даниловна зовут, Света тетей Женей называет. Мы с ней уже познакомились, правда, Светочка? Девушка кивнула. Рахиль повернулась к соседке – той самой старушке в вязаном жакете, которая спала с ней рядом на нарах, и кивнула в знак приветствия. – Представляете, Лия Лазаревна, Евгению Даниловну из самой Сибири привезли! – сказала Света. – Нас с ней в один день сюда… поместили. Рахиль посмотрела на пожилую женщину и подумала: «Старушка-то за кого страдает? За мужа? За сына?» Спрашивать было как-то неудобно. Но Евгения Даниловна сама поведала свою историю. Они с мужем жили в далекой сибирской деревне Епанешниково, затерявшейся где-то между Омском и Новосибирском. – Степан Иванович, супруг мой, с мужиками рыбу в Оми ловил. В артели работал, – рассказывала сибирячка. – Я хозяйство вела, детей воспитывала… – А сколько у вас детей? – Рахиль по непонятной ей самой причине проявила интерес к чужой судьбе. 17 – Так, Господь пятерых послал, да двоих всего на этом свете оставил. – А что же с остальными случилось? – Старшенький, Ваняшка, еще пацаненком в речке утонул. И пятнадцати не исполнилось… Гриня, второй сыночек, как ушел в четырнадцатом на войну, так и сгинул – ни одной весточки от него не пришло. Младшенькая, Настенька, доченька единственная, замуж вышла за хорошего человека, ребеночка ждала, да разродиться не смогла. Померли оба – и она, и девочка, ангелочек божий… Евгения Даниловна замолчала. – А другие-то двое? Они-то как – живы? – тихо спросила Рахиль. Старушка ответила не сразу. Она выпрямила и без того прямую спину, поправила худой, жилистой рукой седые растрепавшиеся волосы и грустно сказала: – Коленька с Илюшей близнецы у меня. Не разлей вода всю жизнь были, да в Гражданскую разметало их по разным сторонам: Николай к красным подался, а Илюша поначалу у колчаковцев оказался. Потом перетянул его брат на свою сторону, тоже в Красную армию записал. Как война кончилась, вернулся Илья домой да с отцом в артели рыбачить стал. А Коленька так и остался служить. Выучился в Москве на командира, чин большой получил. Все, вроде, ничего было, покуда эта беда не стряслась… Пришли к нам люди какие-то, бумагами трясут, кулаками машут. Говорят, сын ваш, Лацко Николай Степанович, предатель и шпион, за что и арестован в Москве. А мы, получается, родня изменника, и нас всех тюрьма ждет не дождется. Забрали сначала Степана Ивановича с Илюшей, а потом и за мной пришли… Только какой же он шпион, Коленька-то мой? Он и за границей-то ни разу не был. Может, за Илюшеньку, братца своего, пострадал? Вспомнили, что он у белых служил? Только когда ж это было-то… 18 Евгения Даниловна замолчала. Она так и осталась сидеть – прямо, будто прислонившись к невидимой стенке. Выцветшие то ли от времени, то ли от пролитых слез серо-голубые глаза смотрели куда-то вдаль тоскливо и отрешенно. Уголки тонких губ опустились вниз и подчеркнули застывшую на морщинистом лице печаль. «Ну, у нее хоть сын за Колчака воевал, на самом деле врагом был ее Илюшенька… Хотя все равно бабушку жалко. Ну почему она должна за него отвечать?», – размышляла Рахиль. – Больше года прошло, как папу арестовали, – прервала ее размышления Светлана, – а кажется, что это было вчера. Ночью я проснулась от маминого крика. Испугалась, выбежала из своей комнаты, смотрю – мама на полу в коридоре без чувств лежит, босиком, халат распахнулся, Галя, домработница наша, в угол забилась, шепчет что-то и крестится. А папа – белый, как бумага, губы в ниточку сжаты, руки, как плети, опущены – стоит и молчит, и даже маму поднять не пытается… По квартире какие-то люди незнакомые ходят, роются везде, распоряжаются, как у себя дома… Я хочу к маме кинуться, поднять ее и не могу – ноги не слушаются, будто в пол вросли. Потом кто-то из этих людей воды из кухни принес, брызнул на маму и говорит: «Светлана, помогите ей». Я удивилась сначала – откуда он мое имя знает, а потом смотрю – лицо знакомое. Оказалось – военный один, детей своих в наш театр водил, цветы мне дарил.. Представляете, Лия Лазаревна? Рахиль не знала, что ответить девушке. Сказать, что и сама пережила нечто подобное, когда арестовали Разина? Но сейчас ей почему-то не хотелось восстанавливать в памяти события той ужасной ночи. – А мама как? Что с ней? – спросила она Светлану. – Ее тоже арестовали, позднее… Сначала мы с ней пытались что-то сделать, письма писали – товарищам Ежову, Ворошилову. 19 Доказывали, что папа никакого отношения к троцкистам не имеет. А потом… Потом нам сказали, что он сам во всем сознался… Но этого не может быть, Лия Лазаревна, мой папа был честным человеком! Последнюю фразу Светлана выкрикнула громко и нервно. Несколько женщин с сочувствием посмотрели на нее. Рахиль испугалась, что с девушкой случится истерика, и, обняв ее за плечи, прижала к себе. – Наталия Ильинична помочь обещала, ее ведь многие знают, уважают… – сквозь слезы продолжала Светлана. – Но не вышло ничего… Ее мужа тоже… А потом и саму Наталию Ильиничну… Что же это такое, Лия Лазаревна? – Тише, Светочка, тише, – успокаивала девушку Рахиль. – Случаются ошибки, даже такие ужасные… Людям свойственно ошибаться… – Но почему наша семья должна за чьи-то ошибки расплачиваться?! Почему? – рыдала Светлана. – За что маму забрали? А меня? Прямо на работе, в театре… Я только грим успела смыть… У меня здесь ни одежды никакой нет, ни денег… А папочка, бедный мой папочка… Неожиданно девушка прекратила рыдать, подняла голову и, глядя Рахили в глаза, шепотом, но довольно громко и внятно произнесла: – Его ведь расстреляли, Лия Лазаревна… Эту ошибку уже никто не исправит! Она снова горько заплакала, уткнувшись в плечо Рахили. – Ох, беда, беда… – покачала головой Евгения Даниловна. Постепенно рыдания девушки сделались тише, она только изредка всхлипывала и поскуливала, как выброшенный на улицу щенок. Глава вторая ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 20 Сквозь крошечное оконце «черного ворона» Рахили удалось разглядеть знакомые здания. «К трем вокзалам везут, на Комсомольскую… » – мелькнуло в голове. Через несколько минут фургон остановился. Послышалась команда охранника: «Выходить по одному!» Оказавшись на улице, Лия огляделась. Вместе с другими заключенными – испуганными женщинами самого разного возраста – она стояла в каком-то тупике, недалеко от забора, в котором был проделан проход, похожий на обычную дыру. За дырой виднелись железнодорожные пути. Кругом стояли охранники с истошно лающими собаками. – Разобраться по двое! Следовать за разводящим! Шаг в сторону считается побегом! – отдавал команды конвоир. Спотыкаясь о рельсы и шпалы, заключенные, тащившие в руках чемоданы, сумки, узлы, корзинки, в которых лежали продукты и вещи, взятые из дома или собранные для них родственниками, шли к стоявшему метрах в двухстах от забора железнодорожному составу. Это был обычный товарняк, кое-как переоборудованный для перевозки людей. От дверей в обе стороны тянулись деревянные, плохо обструганные, видимо, наспех сколоченные двухъярусные нары. В стенах были прорезаны окна, забранные металлическими решетками. Никакой платформы возле поезда не оказалось. Подгоняемые криками охранников женщины с трудом поднимались в вагоны. Свободных мест на нижнем ярусе нар не нашлось, и Рахили пришлось взбираться наверх. В распахнутые двери вагона все заходили и заходили подталкиваемые конвоирами женщины. Вместе с ними ей предстояло отправиться по этапу. Сколько времени они будут трястись в этом 21 странном поезде, где, в каком краю он сделает свою последнюю остановку и откроет двери для пассажиров, оказавшихся в нем не по своей воле, – ей было не известно. «Господи, какие «пассажиры»… – усмехнулась про себя Рахиль. – Мы все здесь «зечки», на каждой, как клеймо, тяжкий приговор – член семьи изменника Родины». В то, что Разин, преданный партии коммунист, журналист, бывший секретарь Шепетовского укома РКП (б), участвовал в какой-то контрреволюционной организации, Рахиль поверить не могла. Но ее мнения никто и не спрашивал. Сказано троцкист, значит, троцкист, враг народа. А она, следовательно, жена врага народа. Пусть даже их брак не зарегистрирован. Мало того, она ведь и с Гайдаром не развелась, и юридически Аркадий считается ее мужем. Когда Рахиль заикнулась об этом на первом допросе, следователь нагло рассмеялся ей в лицо и сказал: «С кем спишь, тот и муж. И скажи спасибо, что сын твой не от изменника Родины родился, а от товарища Гайдара». Поезд дернулся и медленно, будто нехотя пополз в неизвестность. Рахиль принялась рассматривать своих спутниц. Лица одних были испуганными, с застывшим на них выражением нескрываемого ужаса, другие казались отрешенными, будто окаменевшими и не отражали никаких чувств и эмоций, кроме готовности принять всё, что предначертала им судьба. Тут взгляд Рахили выхватил из множества женских лиц одно, которое она не смогла отнести ни к той, ни к другой категории. Ни страха, ни обреченности, ни тени сомнения не увидела Рахиль на этом лице. Наоборот, оно было спокойным, даже слишком спокойным для ситуации, в которой они оказались. Странная особа – бледная, худощавая брюнетка лет сорока – выглядела вполне уверенной в 22 себе, а в ее взгляде чувствовалось какое-то легкое презрение к окружающим. «Какая выдержка… – подумала она о незнакомке. – Держится так, будто и не терзают ее мучившие других женщин вопросы: «Почему они здесь? За что такая несправедливость? Что ждет их впереди?» Как ей это удается? Может, у нее есть ответы на эти вопросы? Может, она знает то, чего не знают другие?» Паровоз загудел и выбросил из трубы густые клубы серого, пахнувшего углем дыма. Состав давно уже набрал скорость и шел полным ходом. В зарешеченные окна со свистом врывался горячий августовский ветер, который не приносил прохлады. В переполненном вагоне стояла страшная духота. – Товарищ Соломянская! Лия Лазаревна! Вы меня не помните? – раздался где-то неподалеку звонкий, совершенно незнакомый Рахили голос. Она повернула голову туда, откуда прозвучало сопрано. На нее смотрела устроившаяся поблизости девушка лет двадцати, может, чуть больше. Что-то знакомое мелькнуло в этом милом круглом личике, обрамленном светло-русыми, прикрывающими маленькие ушки волосами, во взгляде то ли светло-серых, то ли голубых глаз. В вагоне было недостаточно света, и Лия не могла рассмотреть девушку как следует. Возможно, в другой обстановке она бы и узнала ее, но сейчас, как ни напрягала память, не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах они могли видеться. Между тем, обладательница сопрано, принося извинения своим соседкам по нарам, протиснулась к Рахили поближе. – Я Лена Белокурова, – видимо, поняв, что Рахиль не узнает ее, продолжала девушка. – Мы же с вами на «Мосфильме» встречались! Ну, вспомнили? 23 – Конечно, Леночка, я вас помню, – солгала Рахиль и, подумав, что разговаривает с начинающей актрисой, спросила: – Забыла только, у кого вы снимались? – Да нет, Лия Лазаревна! Я не артистка. Вы меня все-таки не узнали! Я секретарем работала у товарища Айзенберга, а вы к нему со сценариями приходили. Помните? – У Наума Ильича? – оживилась Рахиль. – Ну, конечно, я вас помню, Леночка. Только раньше вы, кажется, были с косой? – А… – махнула рукой Лена. – Я постриглась. Сейчас косы никто не носит. – Ну, вам и так, и так хорошо, – сказала Рахиль и, чтобы поддержать разговор, поинтересовалась: – Как там Наум Ильич? Спросила и тут же прикусила язык. «Ну и глупость же я сморозила, – пронеслось в голове. – Неизвестно ведь, когда Лена последний раз видела Наума…» Рахиль посмотрела на девушку и поразилась произошедшей в той перемене. Лицо Леночки, только что озаренное улыбкой – скорее всего, потому что она встретила здесь, в этом жутком вагоне, среди несчастных, совершенно незнакомых ей женщин, человека, которого она хоть немного знала, – вдруг как-то стразу осунулось, ее щечки мгновенно спали, взгляд потух. – Ну, вы знаете… Дело в том… Он… Его… – мямлила, опустив глаза, девушка. – Можете не продолжать, – Рахиль избавила Лену от необходимости произносить те страшные слова, которые на каждого, к кому имели хоть какое-то отношение, действовали как удар бича. Она взяла девушку за руку. Лена закрыла глаза и больше не пыталась возобновить разговор. Они тихонько покачивались в унисон с движущимся составом. 24 – По Рязанской дороге едем, – донесся до Рахили чей-то голос. – Мы с мужем по ней часто ездили, когда в Солотче отдыхали… После этих слов женщина замолчала – видно, предалась каким-то своим, дорогим ей воспоминаниям. Услышав хорошо знакомое название, Рахиль почувствовала, как екнуло сердце у нее в груди. Для исколесившего всю страну вдоль и поперек Гайдара Солотча была, пожалуй, самым любимым местом на земле. Ну, может, кроме Арзамаса… Он часто бывал там со своими товарищами по писательскому цеху – Паустовским, Фраерманом, Лоскутовым, любил рассказывать о мещерских лесах, реках и озерах, кишащих рыбой, о древнем, как мир, паровозике со смешным прозвищем то ли «козел», то ли «мерин», который по узкоколейке тащил несколько таких же древних вагончиков… «Последний раз он там был, кажется, прошлым летом, – погрузилась в воспоминания Рахиль. – Ну, да… Рассказывал нам с Тимуром, как «проклятое животное» укатило без него, и ему пришлось чуть ли не двадцать километров топать от Рязани до Солотчи пешком через окскую пойму… Тимурчик тогда развеселился и все просил отца в следующий раз взять его с собой». При мысли о сыне у Рахили сжалось сердце. Конечно, хорошо, что мальчика не было в Москве, когда ее арестовали, но, с другой стороны, она даже не могла обнять его на прощанье… Колеса все реже спотыкались о стыки рельсов. Состав медленно тормозил. Громко звякнули переводные стрелки, после чего эшелон переместился с главного пути на боковой. Протащившись еще немного по железнодорожному полотну, он остановился на запасном пути. 25 – Город какой-то… – Станция Рузаевка. На платформе было написано, я видела. – А где это? – Кажется, где-то в Мордовии. – Смотрите, на другом пути еще один поезд. Похоже, такой же, как наш… – Интересно, откуда? – Да кто ж его знает… Он раньше нас подъехал. Рахиль открыла глаза. Ее разбудил разговор двух женщин, стоявших в проходе возле окна и пытавшихся разглядеть что-то в кромешной тьме. Она узнала их по голосам. Это были Лидия Николаевна и Ольга Борисовна – жены ответственных партийных работников, впрочем, теперь уже бывших. Прислушиваясь к их диалогу, Рахиль поняла, что поезд остановился на какой-то станции, а на параллельном пути стоит другой эшелон, судя по всему, тоже перевозивший заключенных. Проснулись и зашептались остальные женщины. Вглядываясь в темноту, они пытались разглядеть, что происходит за металлическими решетками. С каждой минутой волнение среди арестанток усиливалось. Очевидно, в том, другом поезде происходило нечто подобное, потому что женщины, стоявшие ближе к окнам, уже не боясь никого разбудить, в полный голос переговаривались с обитателями параллельно стоявшего эшелона. – Женщины, вы откуда? – донесся снаружи приятный мужской баритон. – Из Москвы, – ответило ему сразу несколько голосов, и тут же кто-то из женщин спросил: – А среди вас нет Бромштейна, Якова Бромштейна? 26 Рахиль не расслышала ответа. Что тут началось! Шквал подобных вопросов обрушился на «троцкистов», «вредителей», «шпионов» и прочих «врагов народа», ехавших в эшелоне для заключенных мужчин: – Беркович!.. – Самойленко!.. – Шнейдер!.. – Тарасов! Тарасова там нет? – в сплошном голосовом потоке Рахиль различила знакомый голос. Он принадлежал Лидии Николаевне. «Значит, ее фамилия Тарасова, – подумала она – впрочем, у мужа и жены могут быть разные фамилии…» Рахиль вдруг поймала себя на мысли, что она завидует этим надрывно кричащим женщинам. Завидует потому, что, кроме горечи и боли, в этих истеричных криках есть еще и надежда – надежда на то, что их мужья живы и что когда-нибудь они встретятся. У Рахили такой надежды не было – ей сообщили, что ее муж, Разин Израиль Михайлович, за участие в контрреволюционной организации приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение… Слезы хлынули из глаз женщины, и она, зарыдав, дала им волю. Никто не видел, как она плачет. Арестанткам было не до нее… – А ну прекратить! Отойти всем от окон! Стрелять буду! – донесся с улицы громкий командный голос. Кричал охранник, патрулировавший между двумя составами и едва различимый в свете редких тусклых фонарей. Куда там! Крики не стихли. Мало того, они слились с другими звуками – со стонами и рыданиями растревоженных этой неожиданной встречей женщин. Неизвестно, чем бы все закончилось, и стал бы охранник стрелять, но паровоз, тащивший «мужской» эшелон, дал протяжный гудок и, тяжело запыхтев, двинулся с места… 27 «Надо спросить у кого-нибудь, какое сегодня число. Двенадцатое? Тринадцатое? А может, уже четырнадцатое? Сколько же дней мы едем? Господи! Чуть ли не две недели! За это время можно было бы добраться до Владивостока. А мы все едем, и едем, и едем… Непонятно где, а главное – неизвестно куда…», – размышляла Рахиль, покачиваясь на жестких нарах. Был разгар дня, но она лежала с закрытыми глазами. Ее попутчицы негромко переговаривались между собой. И хотя говорили они о том же, о чем она как раз думала, Рахили не хотелось присоединяться к их беседе. Ей хотелось сейчас «побыть одной», поразмышлять о происходящем. Краем уха она услышала, что на чей-то вопрос о сегодняшней дате Леночка ответила: «Четырнадцатое». Значит, всетаки четырнадцатое… Итак, едут они без малого две недели. В первые дни за окнами вагона мелькали знакомые пейзажи средней полосы России. Проносились мимо деревни и села, станционные поселки и города, по большей части, узнаваемые. Жизнь в этих городах шла своим чередом: ездили автобусы и машины, дымились заводские трубы, строились новые здания. Но почему-то больше всего привлекали внимание живущие там люди. Рахиль представляла себе, как они едут в автобусах, работают на заводах и фабриках, перевыполняя планы третьей пятилетки, а по вечерам возвращаются в свои дома, где собираются жить долго и счастливо. И им, этим людям, нет никакого дела до нее, до всех тех, кто проносится мимо в товарных составах, – арестанток, чьи лица даже невозможно разглядеть за решетками, закрывающими и без того маленькие окна вагонов. 28 «Интересно, что сказали бы эти люди, если бы знали, какие «грузы» перевозят проносящиеся мимо них товарняки? – подумала Рахиль. – А что сказала бы я сама?» Память услужливо развернула перед ней картину, от которой она содрогнулась. Это было весной, пятого мая. Рахиль запомнила дату, потому что это был день ее рождения. Работники киностудии по инициативе партийного руководства обсуждали опубликованную в «Правде» подборку откликов на очередной громкий процесс по делу врагов народа. Под общим заголовком «Стереть с лица земли подлых изменников Родины» были напечатаны резолюции прокатившихся по всей стране митингов и собраний, на которых советские люди единодушно клеймили «агентов фашистских разведок, шпионов и диверсантов, террористов и торговцев Родиной, пытавшихся восстановить в нашей счастливой стране власть помещиков, фабрикантов, кулаков». Ее коллеги вынесли резолюцию, в которой поддерживали мнение народа и тоже требовали «уничтожить», «расстрелять», «стереть с лица земли». Рахиль, как и все, голосовала за эту резолюцию, хотя у самой разрывалось сердце, потому что она никак не могла представить своего мужа, Израиля Михайловича, в клане врагов партии и народа. Ей казалось, что скоро там во всем разберутся, его обязательно отпустят, восстановят в должности. Не отпустили. Не восстановили. Не разобрались… В вагоне было нестерпимо жарко, но Рахили показалось, что у нее заледенели руки и ноги, а кровь в жилах застыла. Она провела ладонью по лицу и почувствовала, что пальцы стали влажными. «Нет, так нельзя, надо держаться, – подумала Лия, изо всех сил пытаясь справиться с волнением, вызванным леденящими душу воспоминаниями. – Надо переключиться на что-нибудь другое…» 29 Она стала думать о Тимуре. Ей хотелось представить лицо сына улыбающимся, с озорной искоркой в глазах, таким, каким она запомнила его перед отправлением в Крым, но почему-то в голове возникал иной облик мальчика: вот он, разбуженный среди ночи, потирая кулачками глаза, выходит из своей комнаты и с недоумением смотрит то на мать, то на отчима, то на каких-то незнакомых людей, хозяйничавших в их доме. Уже через несколько секунд десятилетний ребенок понимает суть происходящего, и лицо его становится таким бледным и испуганным, каким Рахиль не видела его никогда. Тимур горько плакал, когда увели Разина. Мальчик привык к отчиму, любил его, хотя любовь к родному отцу была сильнее и не ослабевала в его сердце никогда. Даже тогда, когда Гайдар устраивал свою жизнь с очередной пассией, имеющей собственных детей. Рахиль вспомнила двух симпатичных девчушек, дочек сотрудницы журнала «Мурзилка» Ани Трофимовой – Эру и Светлану. Аркадий полюбил их как родных и называл «Гайдарами», хотя брак с Анной зарегистрирован не был. Отношения Гайдара с Аней длились почти пять лет. Услышав от когото из знакомых, что Аркадий ушел от Трофимовой, Рахиль сначала не придала этому никакого значения, потому что хорошо знала характер бывшего мужа – вспылив, он мог наорать на свою вторую половину, схватить вещевой мешок и хлопнуть дверью – «навсегда». Но, помотавшись какое-то время по приятелям и выпустив накопившийся пар, Аркадий возвращался обратно и, как мог, старался загладить свою вину. Потом Рахиль узнала, что Гайдар все-таки расстался с Анной окончательно. «Ну вот, и Нюркино терпение лопнуло», – подумала тогда она. Жарким летом и осенью 1937-го Гайдар жил то в небольшой деревушке Головково, под Клином, на съемной даче, то в Солотче у 30 Фраермана. Узнав об аресте Израиля, он был первым – да что там первым – единственным, кроме ее матери, – кто примчался к ним с Тимуром на Рочдельскую, в дом, где они жили с Разиным. Тогда многие коллеги и знакомые Соломянской общение с ней свели до минимума. Впрочем, обижаться на них не стоило. Через это проходили все, чьи родственники были арестованы. Зимой, спустя полгода после ареста Разина, о судьбе которого можно было только догадываться, Рахили показалось, что они с Аркадием могут склеить разбитую когда-то «голубую чашку» и у них получится начать все с чистого листа. Они даже все вместе провели в Головкове несколько дней во время зимних каникул. Тимур тогда просто сиял от счастья. Но кончилось все очередным запоем Аркадия… Они поссорились, и Гайдар вдруг сорвался с места и махнул сначала на Кавказ, а оттуда, через Крым, в Одессу. Больше они не виделись… «Интересно, где он сейчас? Знает ли о моем аресте, – гадала Рахиль. – Скорее всего, знает. Ему должны были сообщить эту новость. И что тогда? Тогда он кинется мне помогать, будет стучаться во все двери… Конечно, Аркадий бабник и пьяница, и ничего с этим, не поделаешь, но человек он честный и смелый, в этом никто не сомневается…» По натуре Гайдар всегда был бойцом. Это Лия поняла еще в Перми, в первые дни знакомства с ним. Любимым жанром Аркадия стал фельетон. Сколько статей в этом жанре написано им за годы работы в разных газетах – и не сосчитать. Сотни! Гайдар поднимал самые злободневные темы, обличал жуликов и бюрократов всех мастей, не взирая на лица. Бывало, конфликтовал из-за этого с начальством, но никогда не сдавался. «И сейчас он не струсит, – подумала Рахиль. – Не может такого быть, чтобы он отказался от меня… Хотя бы из-за Тимура…» 31 Вдруг ее сердце кольнуло. В голову непонятно откуда – будто материализовавшись из горячего, липкого воздуха – проникла злая, разъедающая сознание мысль: «А что если он забыл про меня, нашел себе другую – молодую, красивую? Они наслаждаются друг другом, а мне приходится трястись в этом душном, вонючем вагоне, который везет нас неизвестно куда…» От этой мысли сердце Рахили защемило, по ее телу – от пальцев ног до макушки – прокатилась судорога. Она с трудом открыла отяжелевшие веки. – Лия Лазаревна, вы проснулись? – вывел ее из оцепенения голос Леночки. – Мы вот тут пытаемся понять, что это за местность. Вы случайно не знаете? Отъехав несколько сотен километров от Москвы, арестантки скоро перестали ориентироваться по местности. Перегоны между населенными пунктами стали длиннее. Часто, простояв несколько томительных часов возле какой-нибудь никому не известной станции, эшелон двигался в обратном направлении, и поначалу у некоторых заключенных возникало чувство, что их везут обратно – в Москву. Кое у кого из-за этого даже случались истерики… Рахиль медленно села на шершавые нары, почувствовав, как затекла у нее спина и онемели ноги, пригладила растрепавшиеся, давно не мытые волосы, посмотрела в окно и покачала головой: – Нет, не знаю… Но от Москвы далеко – природа другая, – ответила она на вопрос Леночки. – Да, совсем другая, – поддержала ее Лидия Николаевна. – А мне кажется, природа такая же, как у нас, только лесов поменьше, – возразила Ольга Борисовна. Рахиль невольно улыбнулась. Ольга Борисовна и Лидия Николаевна, подружившиеся здесь, в этом поезде и в первый день показавшиеся 32 Рахили чуть ли не сестрами-близнецами, при ближайшем рассмотрении оказались совершенно разными. Ольга Борисовна была пониже ростом, голубоглазая, обладала более аппетитными формами и красивой, гладкой кожей, которую не смогли испортить не только отсутствие хороших косметических средств, но даже царившая в поезде антисанитария. Лидия Николаевна была немного повыше и похудее и смотрела на всех бархатными, темнокарими глазами. Кожа на ее лице за время пути поблекла, посерела, покрылась мелкими воспаленными прыщиками. Рахиль отметила про себя, что, несмотря на скудное питание, которое во время стоянок заключенным выдавали сотрудники НКВД, Ольга Борисовна почти не похудела, а вот Лидия Николаевна потеряла изрядное количество килограммов, и теперь во внешности этих двух женщинах не было ничего общего. А уж характеры у них оказались совершенно разными. Если Лидия Николаевна всегда со всеми соглашалась, никогда не высказывала собственную точку зрения о чем-либо, то Ольга Борисовна любила поспорить и отстаивала свою позицию, даже если совершенно не разбиралась в сути дела. Лия часто наблюдала, как подруги вели диалог между собой. Если что-то рассказывала Ольга Борисовна, Лидия Николаевна смотрела на нее чуть влажными, печальными глазами и постоянно кивала головой, соглашаясь с каждым словом подруги. Стоило начать разговор Лидии Николаевне, как глаза Ольги Борисовны округлялись, и она, отчаянно жестикулируя, начинала доказывать той, в чем, по ее мнению, подруга была не права. Но все это не мешало им дружить. Ехавшие в вагоне женщины разбились на небольшие группки – исключительно по принципу соседства. Кое-кто из заключенных обнаружил здесь своих знакомых, но мало кто из них общался между собой. Во-первых, перемещаться в вагоне было весьма 33 затруднительно, во-вторых, далеко не всем хотелось говорить о своем аресте с тем, кого хорошо знал. Практически все арестантки были уверены, что в отношении их близких – мужа, сына, отца, брата – допущена жестокая ошибка и что сами они тоже невинные жертвы трагических обстоятельств. Многие надеялись, что их письма товарищу Калинину, наркому Ежову или самому товарищу Сталину помогут восстановить справедливость. Об этом шептались сидевшие на вагонных нарах женщины. Лишь одна из заключенных – та самая сорокалетняя брюнетка, лицо которой в первый день их пребывания в поезде поразило Рахиль своим иронически-надменным выражением, – практически не общалась со своими соседками. Вернее, заключенные сами сторонились этой женщины, избегали разговоров с ней. В первый же день следования по этапу, услышав, с каким благоговением произносят арестантки фамилии вождей, искренне веря, что руководители страны не знают об ошибках, которые допускают некоторые начальники рангом ниже, брюнетка усмехнулась и громко, обращаясь ко всем заключенным сразу, сказала: «Нельзя же быть такими наивными! Рыба тухнет с головы!» Эти слова вызвали шок, никто из этапированных не решился что-либо ответить, а некоторые чуть не лишились чувств, услышав крамолу. Рахиль тогда тоже оторопела, но в глубине души что-то щелкнуло, напомнив, что эта мысль ей и самой не раз приходила в голову. Однако она боялась даже думать об этом, не то что говорить, поэтому на всякий случай решила держаться от дерзкой брюнетки подальше. – Ой, смотрите, какие деревья – у нас такие не растут, – повернулась к женщинам припавшая к оконной решетке Леночка. Интерес девушки к местной флоре поддержала лишь Ольга Борисовна, получившая в свое время профессию учителя естествознания. 34 – Это черные тополя, осокори, – посмотрев в окно, сказала она. Лидия Николаевна согласно кивнула. – Красивые деревья – высокие, мощные, им никакие ураганы не страшны, – продолжала Ольга Борисовна. – Обычно возле рек растут. – А где, в каких местах? – поинтересовалась Лена. – Под Москвой я таких деревьев не встречала, а вот на Урале, в Сибири они часто попадаются. – Значит, нас в Сибирь везут, – приуныла Леночка. – Ясное дело, не в Крым, – вступила в разговор молчавшая до сих пор Лидия Николаевна. Ольга Борисовна по привычке округлила глаза, собираясь, было, возразить приятельнице, но на этот раз промолчала. Эшелон начал замедлять ход. – Опять стоять будем… – предположил кто-то из женщин. Чем дальше их эшелон удалялся от Москвы, тем продолжительнее становились его стоянки. Иногда состав, загнанный в тупик на какойнибудь станции, простаивал там около суток. Время в период этих длинных, утомительных стоянок тянулось невыносимо долго, порой заключенным казалось, что оно совсем остановилось. Особенно тяжело приходилось днем. Если в ночные часы, когда опустившаяся на землю прохлада приносила в вагон хоть немного свежего воздуха, вдыхая который можно было уснуть, то днем несчастные женщины испытывали все муки ада. Не прошло и часа, как поезд затих на запасном пути перед каким-то городом, а в вагоне уже невозможно было дышать. Крыша под жарким августовским солнцем раскалилась, как сковородка на огне, и воздух в вагоне с каждой минутой становился все более горячим и тяжелым. – Каждый раз, когда останавливаемся, я почему-то думаю: «Все – приехали», а потом оказывается, что это только стоянка, – с грустью сказала Леночка. – Когда-нибудь кончится эта дорога? 35 Девушке никто не ответил. У изнывающих от жары заключенных, казалось, не было сил на разговоры. Рахиль чувствовала, как по телу ползут горячие, липкие струйки пота. Ко лбу приклеились слипшиеся пряди волос, горло пересохло, губы потрескались, страшно хотелось пить. С улицы донеслись голоса охранников и собачий лай. С громким звуком раскрылись двери вагона. – Эй, сучки! Выходи по одному! С вещами! – услышала Рахиль хорошо знакомый голос. Кричал один из охранников – Степан. Этого щуплого, низенького парня со злыми, бегающими из стороны в сторону глазками заключенные боялись как огня. И хотя ни с кем из охранников женщины в разговоры не вступали – это было строжайше запрещено, – все-таки к каждому из сопровождавших их парней они относились по-разному. Когда на службу заступал Иван – немного неуклюжий деревенский парень с добродушным, усеянным веснушками лицом – никакого страха заключенные не испытывали. Ваня смотрел на всех с нескрываемой жалостью и сочувствием. На стоянках он никогда не забывал пополнить водой прикрепленный к решетке бачок, а во время раздачи пайка на его лице появлялось некоторое подобие улыбки. Однако, даже несмотря на установившиеся между заключенными и охранником почти дружеские отношения, на предпринятые женщинами попытки выпытать у Ивана, куда же их все-таки везут, парень испуганно пожимал плечами и отрицательно мотал головой, из чего можно было сделать вывод, что он и сам не знает конечной точки маршрута. Но сегодня заключенными командовал Степан. От его зычного голоса женщин бросило в дрожь. Да и сама команда «выходить», которую они ждали так долго, что уж и не надеялись услышать, прозвучала как-то 36 неожиданно. Арестантки растерялись и с недоумением поглядывали друг на друга. На лицах читался вопрос: «Неужели все – приехали?» – Шевелись, кому говорят! Выходи по одному! С вещами! – торопил их Степан. – Неужели нас здесь оставят, Лия Лазаревна? – услышала Рахиль дрожавший голосок Леночки, крепко вцепившейся в ее руку. – Не волнуйся, деточка, это всего лишь пересылка, – ответил девушке незнакомый женский голос. – Потерпи немного, скоро дальше поедешь. – Что такое пересылка? – спросила юная подруга Рахили. Страх в ее голосе почувствовался еще сильнее. – Пересылка-то? Да та же тюрьма, только пересыльная. Здесь этапы заново формируются. – Зачем? – искренне удивилась Леночка. – Ну, затем, чтобы дальше ехать, к месту назначения. – Но почему же сразу нельзя доехать? Зачем нужна эта остановка? – чуть не плача спросила девушка. – А кто ж его знает… Может, охранникам отдохнуть дают. Да и нам передышка в дороге нужна. Ты вот сколько дней в поезде ехала? – Ничего себе, передышка… – не ответив на вопрос собеседницы, пригорюнилась Лена. – Да тут в сто раз хуже, чем в поезде, хуже, чем в Бутырке. Правда, Лия Лазаревна? – Пожалуй… – коротко ответила изнемогавшая от усталости Рахиль. У нее не осталось сил на разговоры, и она была благодарна незнакомке, вступившей в диалог с Леночкой. Такого ужаса, как в Челябинской пересыльной тюрьме, ей испытывать еще не приходилось. Рахиль уже не была шокирована процедурой приема заключенных в это учреждение. Оформление документов, 37 осмотр, обыск проходили так же, как в Москве. Но помещение, в котором проводились эти процедуры, оказалось таким мрачным, грязным, тесным, что высокие сводчатые потолки, широкие, чистые коридоры и просторные кабинеты следователей Бутырской тюрьмы выглядели по сравнению с ним как дворцовые интерьеры. «Вот уж действительно – все познается в сравнении», – горько усмехнулась про себя Рахиль. Еще более тяжелое впечатление произвела камера, куда ее привели такие же злые, как в Бутырке, надзирательницы. Заключенных в ней было примерно столько же, сколько в московской, а вот размером она значительно уступала бутырской. Камера была забита битком. Женщины сидели не только на нарах, но и на полу. В углу стояла грязная, издающая невыносимый смрад параша. Еду давали такую, что Рахиль с удовольствием бы поменяла ее на воду, в которой домработница Варя отмывала кастрюли и сковородки. Удручало и то, что заключенных из ее вагона разместили по разным камерам. Ни Ольги Борисовны, ни Лидии Николаевны, ни других соседок по нарам в «своей» камере Лия не увидела. Знакомые лица, правда, попадались, но, по большей части, это были женщины, с которыми в поезде она не общалась. Хорошо еще Леночка оказалась рядом. После того, как они покинули вагон, девушка ни на шаг не отставала от Рахили. К счастью, их поместили в одну камеру. Повезло им и с местами на нарах: не успели женщины подумать о том, где бы им примоститься, как несколько заключенных были «выдернуты» из камеры «с вещами», и Рахиль с Леной устроились на освободившихся местах. – И сколько же нам здесь сидеть? – испуганно спросила Леночка. 38 – Кто ж его знает… Может, три дня, а может, три недели… Я вот четвертые сутки тут кукую…Рахиль вновь прислушалась к разговору Лены с незнакомой, судя по голосу, немолодой уже арестанткой. Мне столько не выдержать! Я тут умру, умру… – всхлипывала девушка. – Ничего, дочка, ничего, – успокаивала ее собеседница, – привыкнешь. При мне никто еще не помер… Рахиль повернула голову и, наконец, разглядела заключенную, с которой разговаривала сидевшая между ними Леночка. Женщина чемто напомнила ей сибирячку Лацко, с которой она познакомилась в Бутырской тюрьме: такая же худощавая, с длинными, растрепавшимися седыми волосами. И сидела она также прямо, как Евгения Даниловна. Правда, челябинская арестантка была лет на десять моложе бутырской. – Тебя как звать-то? – обратилась женщина к Леночке. Девушка назвала свое имя и сказала: – А это Лия Лазаревна, моя подруга. Мы с ней от самой Москвы едем. – Можно просто Лия, – решила, наконец, поддержать разговор Рахиль. – А вы откуда? – Я-то? А из-под Тамбова, слыхали, небось? А зовут меня Елена Лаврентьевна. Так что мы с тобой тезки, деточка, – улыбнулась она Леночке. – Ой, а у меня бабушка из Тамбова, – обрадовалась девушка. – Только она не в самом городе, а в какой-то деревне жила. – Да я тоже деревенская, в Кирсановском уезде родилась. Село там такое есть – Иноковка. Не слыхала? Леночка покачала головой. Рахиль заметила, что с лица девушки исчезло выражение ужаса, с которым та переступила порог камеры, и подумала о том, что за разговорами и время быстрее проходит, и собственный страх будто растворяется в общем горе. 39 – А что, бабушка твоя часто родину навещала? – продолжала задавать вопросы Елена Лаврентьевна, которой, видно, тоже хотелось поговорить, чтобы скоротать время. – Нет, она вообще туда ни разу не ездила, – ответила тезка. – Мама с папой давно уже, еще до революции, в Москву перебрались, а когда я родилась, и бабушку к себе взяли. Это в начале восемнадцатого было… Леночка замолчала. На ее хорошеньком личике появилось выражение грусти. Рахиль догадалась, что, воспоминания о родных вновь растревожили сердце девушки. Их арестовали весной – сначала отца, инженера одного из московских заводов, потом мать, работавшую на том же предприятии чертежницей. Об их судьбе девушка ничего не знала. Бабушка Лены слегла с сердечным приступом и только-только пошла на поправку, как единственную внучку прямо с работы увезли в Бутырскую тюрьму. Что стало с Матреной Тимофеевной, Лена не знала. Во всяком случае, свиданий в Бутырке у них не было. – Это хорошо… – вздохнула Елена Лаврентьевна. – Что «хорошо»? – отмерла Леночка. – Хорошо, что до двадцатого года уехали. А то бы хлебнули горюшка… – Почему? – искренне удивилась девушка. – Ой, дочка, вспомнить страшно, что мы тогда пережили. Людей голодом морили, расстреливали целыми деревнями, газами травили… – Кто? – только и смогла вымолвить Лена. – Да ирод этот, Тухачевский. Слава богу, получил по заслугам, сволочь… – со злостью сказала Елена Лаврентьевна. – Знать бы, где его могила, пошла бы и плюнула! 40 Рахиль похолодела. Михаил Тухачевский был и навсегда остался кумиром Гайдара, который считал его выдающимся полководцем. Она вспомнила, с какой злостью отзывался бывший муж о Ворошилове и Буденном, считая их причастными к организации процесса любимого маршала и его соратников. Несмотря на то, что Тухачевский признался в подготовке военного заговора против Советской власти, Гайдар так и не смог поверить в виновность военачальника. …В июне 1937-го на столицу обрушилась небывалая жара – такая, что плавился асфальт. Вечером, возвращаясь с работы домой, Рахиль почувствовала, что подошвы ее туфель прилипают к тротуару, а каблуки оставляют на нем глубокие ямки. Ей казалось, что происходит это не столько потому, что асфальтовое покрытие размякло под палящим целый день солнцем, а потому, что сама она стала вдвое тяжелее от навалившегося на нее груза. В этот день, как гром среди ясного неба, прозвучало сообщение об аресте известных всей стране полководцев – Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путны. Во всех газетах публиковались материалы дела, из которых следовало, что вина обвиняемых, а также покончившего жизнь самоубийством Гамарника, в нарушении воинского долга и измене Родине доказана. Более того, все арестованные признали себя полностью виновными. Рахиль, как и все ее коллеги, была потрясена. Целый день в «Союздетфильме» обсуждали это сообщение, опубликованное под рубрикой «В прокуратуре СССР». Люди недоумевали: все подсудимые имели высокие чины, власть, почет, чего же им еще не хватало? Коекто прямо говорил о том, что этим дело не кончится – ниточка потянется дальше. 41 Разин был дома. Перед ним на столе лежала развернутая «Правда». По одному взгляду на мужа Рахиль поняла, что он тоже озадачен и растерян. – В голове не укладывается… Неужели это правда, Изя? – снимая туфли, спросила она мужа. – А Гамарник-то, сволочь! – не отвечая на ее вопрос, вдруг взвился Израиль. – Знал ведь, знал, что все равно докопаются! И ареста не стал дожидаться – сам себя порешил! Но все равно – нет ему прощения! Через день на киностудии Лия неожиданно столкнулась с Гайдаром. «Союздетфильм» снимал киноленту «Дума про казака Голоту» по мотивам повести «РВС». Аркадий активно участвовал в творческом процессе, вместе с молодым режиссером Игорем Савченко писал сценарий фильма. Неделю назад Рахиль встретила его на киностудии и обратила внимание на то, как хорошо выглядит бывший муж: отдых на Кавказе, откуда они с Аней Трофимовой недавно вернулись, явно пошел ему на пользу. Но теперь, спустя всего неделю после их последней встречи, Аркадий выглядел так, что Рахиль испугалась за него. Казалось, он постарел лет на десять. В тот же день «Литературная газета» напечатала письмо, в котором большая группа советских литераторов клеймила шпионов позором и требовала их расстрела. Когда Разин зачитывал вслух фамилии известных писателей, поставивших свои подписи под этим письмом, Рахиль содрогнулась. – Не могу в это поверить… Изя, а что если они ошибаются? – задала она риторический вопрос. – Ошибаются? – переспросил Разин. – Все сразу? Ставский, Иванов, Вишневский, Фадеев, Федин, Толстой, Новиков-Прибой? Все сорок 42 шесть человек, самых известных писателей? Думай, что говоришь, Лия. Ей нечего было возразить мужу. На секунду в памяти возникло лицо Аркадия – серое, осунувшееся, небритое. – А подпись Гайдара там есть? – тихо спросила она Разина. – Нет, подписи Гайдара там нет, – глядя ей прямо в глаза, ответил муж. – А ты считаешь, что она должна быть? – Нет… Не знаю… Я видела его сегодня. Уверена, он думает, что тут какая-то ошибка… – Нет тут никакой ошибки, Лия. Ну, подумай сама – они же признались. Нет, просто так никого не арестовывают и не расстреливают. За Разиным пришли через пять дней после этого разговора… – Да, я знаю, что Тухачевский оказался врагом народа, – прошептала Леночка. – Но ведь его казнили за то, что он военный переворот готовил… О каких расстрелах, о каких газах вы говорите? – Ох, дочка, разве теперь разберешь, что к чему… – вздохнула Елена Лаврентьевна. Она замолчала. Женщина явно не хотела ворошить прошлое, но девушка не отставала: – Во время революции Тухачевский в Красной армии служил, с белыми воевал. Это потом он предателем стал… Так кого он газами травил? Белых? – Белых к тому времени уже разбили. Повсюду Советы властвовали, да не всем это нравилось. Вот послушай… – наклонившись к Леночке и понизив голос почти до шепота, сказала Елена Лаврентьевна. Рахиль снова обдало холодным потом, по телу прокатилась ледяная волна ужаса. Она испытывала двойственное чувство. С одной стороны, женщина понимала, что надо немедленно заставить сокамерницу замолчать – подобная беседа могла обернуться бедой и 43 для нее самой, и для слишком любопытной Лены. С другой стороны, Рахиль, как ни странно, и сама горела желанием услышать, что же скажет Елена Лаврентьевна. И интерес этот был не случайным. В юности Гайдар воевал на тамбовщине. Именно Тухачевский, который командовал тогда войсками Тамбовской губернии, летом 1921-го года подписал приказ о назначении Аркадия командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом. О военной службе бывшего мужа, его безграничной любви к Красной армии Рахиль больше знала из книг Гайдара, чем от него самого. Конечно, повести «В дни поражений и побед» и «Школа» были во многом автобиографичными, но все же их герои – и Сергей Горинов, и Борис Гориков – хоть и считались прототипами Аркадия Голикова, были вымышленными литературными персонажами. Об участии в боевых действиях самого Гайдара Лия имела только общее представление. Конечно, ей было известно, где он воевал, в каких местах боролся с врагами Советской власти, но какие-либо подробности военных действий они никогда не обсуждали. У них было много других тем для разговоров, да и не любил Аркадий рассказывать о войне. О его участии в подавлении тамбовского мятежа Рахиль знала только одно – Красная армия под руководством Михаила Тухачевского в короткий срок усмирила бандитов. Полк, которым командовал семнадцатилетний Аркадий, тоже участвовал в подавлении бандитского восстания. И вот судьба свела ее с человеком, который, по всей видимости, смотрел на события тех лет другими глазами… – Жил у нас в Иноковке мужик один – Петр Токмаков, – все также шепотом продолжала Елена Лаврентьевна. – Уважаемый был человек. В девятьсот четвертом году, как призвали его на армейскую службу, с японцами воевал, в четырнадцатом снова на фронте 44 оказался, всю войну прошел, много наград получил за храбрость и подвиги свои… Лена и Рахиль, затаив дыхание, слушали сокамерницу, которая тихим голосом, спокойно и по-крестьянски рассудительно рассказала им историю, от которой у обеих перехватило дыхание. … В родное село крестьянин Петр Токмаков вернулся после революции, в 1918-ом году, когда большевики заключили мир с немцами и распустили царскую армию. Простой солдат, дослужившийся до офицерского чина, полный Георгиевский кавалер он открыто возмущался «позорным миром с германцами». Но еще больше Петр Михайлович выражал недовольство порядками, которые установила новая власть. Он-то и подбил тамбовских мужиков к мятежу, который сам же и возглавил. И ведь пошли за ним крестьяне, вся тамбовщина поднялась! Да прислали большевики для усмирения мужицкого бунта злодея этого – Тухачевского со сворой таких же иродов, и что только делали они с людьми на земле тамбовской – кому сказать, не поверят. Концлагерей понастроили, куда крестьян без разбору сгоняли – женщин, детей, стариков. Голодом морили, сотнями расстреливали, требуя, чтобы люди мужиков выдавали, которые за Токмаковым пошли. А мужики-то в леса подались, партизанить начали. Так Тухачевский приказ отдал: всех ядовитыми газами морить, чтоб никого в живых не осталось… – Что вы такое говорите! Замолчите сейчас же! – прервала рассказчицу Рахиль и повернулась к Леночке, которая похолодевшими пальцами до боли сжимала ее руку: – Не слушай ее, Лена! Врет она все! Не было такого! – Как же не было, коль я сама в таком лагере сидела, – невозмутимо возразила Елена Лаврентьевна. – Возле Кирсанова он и находился. Почитай, половина наших, иноковских, в нем оказалось. У племянницы 45 моей, Любаши, младенец там помер. Молоко у нее от страха пропало, да и мы с ней чуть с голоду не умерли. – А у вас были дети? Что с ними стало? – проявила неуместное, по мнению Рахили, любопытство Леночка. – У меня детей, слава Богу, не было. Да и замуж я не выходила. – Почему? – не успокаивалась девушка. – Однолюбкой я оказалась… Приглянулся мне в молодости Петруша Токмаков, да не сложилось у нас, другую он полюбил… – А что с ним стало? – дрожащим шепотом спросила Леночка. – Так в бою он и погиб, сокол мой ненаглядный, – Елена Лаврентьевна перекрестилась. – Мужики его в лесу похоронили, и где могилка его, одному Богу известно... Женщина замолчала. Лена больше не задавала ей вопросов. По лицу девушки было видно, что рассказ тамбовской крестьянки ее ошеломил. Лия тоже молча переваривала повествование Елены Лаврентьевны. Ядовитые газы, концлагеря… Неужели это все правда? Если да, то какое отношение к этому имеет Аркадий? Он никогда ничего такого не рассказывал… И не писал… Неужели он мог поднять руку на женщин, стариков, детей? «Гайдар с мальчишеских лет воевал за Советскую власть, как и его отец, Петр Исидорович, как многие его товарищи – друзья детства, писатели, военные… – размышляла Рахиль. – Они боролись с теми, кто выступал против этой власти – с ее врагами. А врагов приходилось убивать…» Вдруг словно что-то щелкнуло у нее в голове, и мысли Рахили потекли в ином направлении. «Как же так случилось, что многие из тех, кого знал и любил Аркадий, кто так же, как и он, сражался за власть Советов, расстреляны как враги этой самой власти?» – недоумевала она. На этот вопрос у нее не было ответа… 46 «Будет когда-нибудь конец этой жуткой дороге?» – подумала Рахиль, сжавшись от холода. Она натянула на себя всю одежду, которая у нее имелась, но никак не могла согреться. Наступил сентябрь, и если днем еще грело по-летнему теплое солнце, то к ночи температура резко падала, и заключенные дрожали от холода, особенно, когда состав двигался с большой скоростью и ветер выдувал из вагона скопившееся за день тепло. Прошло около недели с того дня, как Рахиль покинула стены Челябинской пересыльной тюрьмы. Этот острог вызывал у нее тяжелые воспоминания, но было в них и одно светлое пятнышко – заключенным предоставили возможность помыться. И, как это ни покажется странным, стоя на скользком бетонном полу под струями холодной воды, вдыхая запах дешевого хозяйственного мыла, измученные бесконечной дорогой женщины почувствовали настоящее блаженство. Тюремная «помывка», казалось, прибавила сил, чтобы они могли вынести выпавшие на их долю испытания. К месту, где ей предстояло отбывать наказание, Лия ехала уже в другом эшелоне, в составе новой этапной партии, сформированной на пересыльном узле. Женщин, с которыми она успела подружиться в вагоне поезда, вывезшего их из Москвы, на этот раз рядом не оказалось. Ни с кем из новых подруг по несчастью она не завязывала близких отношений. Снова рассказывать о себе и своих родных, сетовать на судьбу, делиться впечатлениями об увиденном и услышанном уже не было ни сил, ни желания. Хотелось только одного – поскорее добраться до конечной точки маршрута. Очевидно, такие же чувства испытывали и другие заключенные. Женщины, в основном, молча сидели или лежали на нарах, 47 перекидываясь между собой лишь короткими фразами. Многие были истощены, больны, некоторые стонали от боли, но медицинской помощи никто не получал. Лия долго не могла заснуть. И не только от холода – в конце концов, завернувшись в теплую вязаную кофту, укрывшись сверху жакетом и закутав голову полотенцем, она немного согрелась. Спать не давали мысли о доме, о родных. Чем дольше они ехали, тем тревожнее было у нее на душе. Что с мамой? Как пожилая, больная женщина переносит выпавшие на ее долю страдания? А Тимурчик? Бедный мальчик… Можно представить себе, с каким настроением первого сентября он пошел в школу. Как встретили его одноклассники, друзья, узнав об аресте матери? Подростки часто бывают жестокими. Как отнеслись они к сыну врагов народа? Господи, дикость какая-то, абсурд… Но никуда не деться от этого абсурда. Она ничего не может изменить, ничем не поможет своему малышу. «Для меня он все еще малыш, – подумала Рахиль. – А ведь совсем уже большой мальчик, скоро двенадцать исполнится. Через пять лет ему будет семнадцать. Да я, пожалуй, не узнаю его, когда вернусь…» Кончиком полотенца она вытерла катившиеся по щекам слезы. Хватит плакать! Надо вспомнить что-нибудь хорошее… В памяти возникла картина – семилетний Тимур и Аркадий шагают по тропинке к конторе Ивнянской машинно-тракторной станции, где в небольшой комнатенке разместилась редакция многотиражной газеты «За урожай», в которой Рахиль работала корреспондентом. Она увидела их в окно и улыбнулась – оба просто сияли от счастья. Рахиль даже немного позлорадствовала: как бы ни любил Гайдар девчонок Трофимовой, а родной ребенок все равно дороже. Накануне вечером она засиделась в редакции, работая над очередным выпуском многотиражки. Дело продвигалось туго. Нужно 48 было придумать подписи к карикатурам, на которых местный художник изобразил нерадивых работников, срывающих подготовку к посевной, но в голову не лезло ни одной толковой мысли. В конце концов, решив оставить это дело до утра, Рахиль отправилась домой. Накануне прошел короткий, но сильный ливень, которого хватило на то, чтобы превратить уже утоптанную почву в черную кашу. С трудом вытаскивая ноги из грязи, Рахиль с тоской вспоминала свою уютную квартиру в Москве и в которой раз задавала себе один и тот же вопрос: как долго еще они с Тимуром будут сидеть в этой дыре? Прошло уже около двух лет с тех пор, как ей пришлось уехать из столицы. Да что там уехать – сбежать, бросив все – любимую работу, маму, друзей… Гайдар тогда жил и работал в Хабаровске. На Дальний Восток он укатил в январе 1932-го года, после того, как Рахиль, забрав Тимура, ушла от него к Разину, который был полной противоположностью ее первого мужа. Со вспыльчивым, непредсказуемым Аркадием она жила как на вулкане – не знаешь, когда он выплеснет наружу раскаленную лаву. С Израилем было спокойней и надежней, пока не случилась беда. В тот погожий июньский день в редакции газеты «За пищевую индустрию», где они оба работали, витало какое-то напряжение. Сотрудники скользили из кабинета в кабинет, словно тени, перебрасываясь между собой лишь короткими, деловыми фразами. Разина, который был заместителем ответственного редактора газеты, Рахиль нигде не могла найти, а спросить у кого-нибудь из коллег, что происходит, она не решалась – в редакции Соломянская была новичком. С работы Рахиль пришла раньше мужа, начала, было, готовить ужин, но все валилось у нее из рук. Наконец, она услышала, как в двери поворачивается ключ. Она вышла в коридор, чтобы встретить Разина. 49 По одному взгляду на мужа Рахиль поняла, что случилось что-то невероятное. – Ты представить себе не можешь, что наделал этот идиот! – едва переступив порог, начал возмущаться Израиль. – Что случилось, Изя? Какой идиот? – отступила в глубь коридора Рахиль. – Да Ковалев этот! Наш спецкор! Ездил в командировку на Украину, в Винницкую область, должен был подготовить материал о положении дел в сельском хозяйстве, о ходе коллективизации… Израиль прошел на кухню и, до отказа повернув вентиль крана, начал мыть руки. Вода хлестала с максимальным напором, отчего брызги разлетались в разные стороны. Обычно аккуратный Разин не обращал на это никакого внимания. Рахиль разволновалась еще сильнее. – Дорогой, да объясни, наконец, что произошло! Что такого натворил этот Ковалев? Она протянула мужу полотенце. Разин кое-как вытер руки, сел на свой любимый деревянный стул с обтянутым черной кожей сиденьем и, глядя Рахили в глаза, сказал: – Представляешь, вернулся этот идиот из командировки и написал на имя народного комиссара земледелия товарища Яковлева докладную записку, в которой отчитывался о своей поездке. – Ну и что? Что в этом особенного? Написал и написал! – Лиечка, если бы ты знала, что он там понаписал! – Ну, что же, что? Говори скорее! – А то, что люди в области голодают! Из-за того, что хлебозаготовки проводятся неправильно, повсюду, мол, перегибы допускаются. И у колхозников, и у единоличников весь хлеб изымают под метелку. И не только хлеб, но и корма для скота, и сено! Люди умирают с голоду, во многих деревнях всех собак съели… – А это правда, Изя? – еле слышно прошептала Рахиль. 50 Разин снова посмотрел жене прямо в глаза и сказал: – Если честно, я и сам не знаю… Ковалев не первый, кто об этом говорит. Несколько минут они молчали. Потом Израиль, поморщившись от досады, продолжил: – Ну, ладно, написал о перегибах и недостатках в отдельных районах, так давай еще и свои выводы делать! Ему, Ковалеву, видите ли, виднее, что надо предпринять при сложившихся обстоятельствах, какие районы следует освободить от хлебозаготовок! Разин понимал, что для него, как одного из руководителей газеты, опрометчивый поступок подчиненного добром не кончится. – Редактора уже вызывали на допрос, – тихим голосом сказал он жене. – Теперь моя очередь. Неизвестно, чем все кончится, но ничего хорошего из всего этого не будет. Лия, тебе нужно немедленно уехать из Москвы, немедленно… – Куда? – еле шевеля губами, спросила Рахиль. – Неважно куда, только подальше от Москвы и даже от области. В конце концов, наш брак не зарегистрирован, вместе мы живем меньше года, в газете ты работаешь совсем недавно. Может, о тебе никто и не вспомнит… Так Рахиль с пятилетним сыном оказалась в Ивне. Квартира, которую им с Тимуром предоставил политотдел Ивнянской МТС, находилась не где-нибудь, а во дворце. Дворец этот – построенное в классическом стиле красивое двухэтажное здание с высокими арочными окнами – принадлежал когда-то графу Кляйнмихелю. В революционные годы в графском имении случился пожар, и часть дворца выгорела, но сохранившиеся помещения вполне можно было использовать. Одно уцелевшее после пожара крыло местные власти переоборудовали под квартиры для работников политотдела недавно созданной машинно-тракторной станции… 51 Не успела уставшая Рахиль открыть дверь своей комнаты, как ей навстречу бросился Тимур: – Мама! Папка приехал! – Здравствуй, Лия. Не выгонишь? – прищурился Гайдар, слегка склонив голову на бок. Рахиль окинула взглядом брошенную на стул добротную, очевидно, новую серую шинель, валявшуюся рядом запылившуюся дорожную сумку и сказала: – Здравствуй, Аркадий. Каким ветром тебя сюда занесло? – Да вот, по сыну соскучился. Взял да и рванул из Москвы. – Папка, ты молодец, что приехал, – вставил свое слово Тимур. – Поздно уже, иди, сынок, ложись, – велела мальчику Рахиль. – Ну, мам… – заканючил тот. – Я не хочу спать! – Ложись, ложись… У самого глаза закрываются. Да и папа устал с дороги. – Я и правда устал, – зевнул Гайдар. – От Обояни сначала на попутке добирался, а потом несколько километров пешком шагал до самой Ивни. Ничего, сынок, мы с тобой еще наговоримся, я надолго приехал. Рахиль посмотрела на бывшего мужа: – Надолго – это насколько? – А вот пока новую книжку не допишу, не уеду… Несмотря на то, что оба устали, они проговорили чуть ли не до утра. Аркадий рассказал, что работает над новой повестью для детского журнала «Пионер». Она посетовала на то, что много времени проводит на работе, что ей совсем некогда заниматься Тимуром, которого надо готовить к школе. Сказала, что жизнь в деревне совсем не сладкая: зиму еле пережили на скудном пайке, который выделяли работникам политотдела. А колхозники чуть с голоду не помирали… – Мальчишки по галкам да воронам из рогаток стреляли, а бабы из убитых птиц суп на всю семью варили… – вздохнула Рахиль. 52 – Я сам в семнадцатом году голубя подстрелил, – предался воспоминаниям Гайдар. – Тетка его зажарила, а сама есть не стала, сказала, что брезгует. Только, думается мне, она не ела не потому, что брезговала, а чтобы нам, детям, больше досталось. Голубь-то маленький, не курица ведь… Мы с Олей и Катей только так уплетали, а Талка – так Аркадий звал старшую из трех своих сестер Наташу – долго ломалась, а потом попробовала и за обе щеки свою порцию умяла. Да… Голод не тетка… – В семнадцатом война была, поэтому и голодали. А сейчас-то почему? И земля здесь хорошая – чернозем, и климат благоприятный, и люди, вроде нормальные, трудолюбивые… Почему ж голодают? – недоумевала Рахиль. – Ничего, ничего… Вот колхозы крепко на ноги встанут, и по-другому люди заживут, – успокоил ее Аркадий. – Да и врагов много у Советской власти, вредят колхозам: технику ломают, конюшни жгут. Да что я тебе говорю – сама газеты читаешь… – Да… Тут в одном колхозе недавно конюшня сгорела, больше двадцати лошадей погибло. И не понятно – то ли поджег кто, то ли по чьей-то халатности пожар случился… – Скорей всего, вредительство. Кто-то из кулаков постарался… – Да уж кулаков-то всех давно выслали. Вроде и не осталось их в деревнях… Может, просто разгильдяйство чье-то. В колхозах ведь тоже люди разные: одни из кожи вон лезут, чтобы план выполнить, другим на все наплевать – раз добро не мое, колхозное, так и пусть пропадает. Я про таких часто в своей газете пишу, да вот толку мало. Гайдар пообещал Рахили помочь с выпуском очередного номера многотиражки и слово свое сдержал. Утром он, крепко держа за руку радостного Тимура, пришел к ней в редакцию, и вскоре у нее на столе лежали исписанные знакомым размашистым почерком листки… 53 «Да уж, вспомнила «хорошее…» – усмехнулась Рахиль. – Два года просидела в этой глуши!» И все-таки она немного успокоилась. Слез на ее лице больше не было – может, высохли, а может, кончились. Она приподняла голову и с надеждой посмотрела в окно – не светает ли? Но за металлическими решетками виднелось только черное ночное небо, по которому вслед за поездом неслись тяжелые, рваные тучи. Облачность не была сплошной, и видно было, как в промежутках между тучами сияют яркие, необыкновенно красивые, но такие далекие звезды. Когда-то они с Аркадием любовались сказочной красотой звездного неба. Да в той же Ивне, когда у каждого из них была своя семья и ничего, кроме сына, их не связывало, они не раз после заката сидели в графском парке на старой деревянной скамейке и рассматривали ночное небо. Над ними светили совершенно другие звезды, и почемуто они не казались такими далекими и холодными. «Наверное, потому, что там было тепло и спокойно», – подумала Рахиль и тут же почувствовала, как легкий холодок прокрался в душу. Спустя мгновение, она уже сознавала, что ее растревожило и почему именно сверкающие на темном небе звезды стали тому причиной. У книги, над которой тогда работал Гайдар, было красивое название – «Синие звезды». Действие повести разворачивалось в колхозной деревне, куда по воле случая попадал городской мальчик Кирюшка. Подросток вместе со своими новыми друзьями, деревенскими мальчишками, по замыслу Гайдара, неожиданно для самого себя должен оказаться свидетелем и участником борьбы колхозных активистов с кулаками и подкулачниками, которые мешали строить на селе новую жизнь. Главы, которые Аркадий посылал из Ивни в Москву, уже печатались в журнале «Пионер». Рахиль знала их содержание еще до публикации – 54 Гайдар читал ей написанные страницы, порой советовался о продолжении сюжета, спрашивал, нравится ли ей текст. И вот однажды… Она уже собиралась ложиться, как вдруг услышала тихий стук в окно. Накинув поверх халата жакет, Рахиль, стараясь не шуметь, вышла на улицу. – Ты чего шумишь? Тимур уже спит, – недовольно сказала она, разглядев в темноте Аркадия. – Эх, Ралька, – он обратился к ней так, как часто называл ее в молодости, – знала бы ты… – О чем? Случилось что-нибудь, Аркаш? Гайдар, слегка пошатываясь, подошел к крыльцу, плюхнулся на каменную ступеньку и принялся шарить по карманам в поисках папирос. Рахиль почувствовала исходящий от него запах алкоголя и разозлилась: – Да ты пьяный! И здесь меня опозорить хочешь? Мало тебе Архангельска и Москвы? Иди сейчас же в свою комнату и проспись! – Подожди, Ралька, не кричи, – закуривая, остановил ее Аркадий. – Я совсем немного выпил… Ерунда все это… В общем, я попрощаться хочу, завтра уезжаю. – Как уезжаешь? Почему? А книга? Ты же еще не закончил, – удивилась Рахиль. – Все! К черту эту книгу! Не идет она никак, не стыкуется что-то… В общем, будем считать, что «Синие звезды» закрылись черными тучами… – С ума сошел? Половина уже напечатана! И деньги ты получил! – разволновалась Рахиль, присаживаясь на ступеньку рядом с бывшим мужем. – А Ивантер что скажет? – А… Плевать… Боб как-нибудь выкрутится, на то он и редактор. – Но почему? Что случилось? Все ведь шло хорошо… 55 – Что хорошего, Ралька? Что хорошего в том, что люди в деревнях голодают? Кто в этом виноват? Кулаки? Вредители? Сама же говорила, что они давно сгинули. – Тихо, тихо… – не на шутку испугалась Рахиль. – Давай утром поговорим, иди проспись, Аркадий. – Ты думаешь, я пьян? Ну, пропустил немного с трактористами… Да не в этом дело, Лия! – А в чем, в чем дело? – А в том, что не хочу я больше эту книжку писать! Врать не могу! – взорвался Гайдар. Он сделал последнюю затяжку, загасил папиросу, бросил ее в темноту и, помолчав немного, уже более спокойно добавил: – Да и вообще – больше никаких кулацко-вредительских штучек. Лучше вплотную займусь «Военной тайной». Утром с сыном попрощаюсь и в Москву… Ладно, пойдем спать, Ралька. Он встал, снова достал из кармана пачку папирос, хотел еще что-то сказать, но, видно, передумав, махнул рукой и медленно, закуривая на ходу, пошел в свою комнату. Утром, перед отъездом, Гайдар поцеловал спящего Тимура, которого они решили не будить, и вышел на крыльцо. Рахиль, кутаясь в большой крестьянский платок, вышла за ним следом. – Крепись, Лия, – обняв ее своими большими, сильными руками, сказал Аркадий. – Надеюсь, недолго тебе осталось тут прозябать, кончится скоро эта чехарда с твоим Разиным… Вскоре Рахиль вернулась в Москву. Разина, наконец-то, оставили в покое. На целых три года… Рахиль осторожно, стараясь не потревожить соседок, повернулась на другой бок. Уснуть она так и не смогла. Воспоминания о днях, 56 прожитых в Ивне, не успокоили, а, наоборот, навеяли новые тревожные мысли. Тогда пассаж с «Синими звездами» сошел Аркадию с рук. Его товарищ, редактор журнала «Пионер» Бениамин Ивантер, которого приятели по-дружески называли то Бенькой, то Бобом, не стал поднимать бучу, а чтобы как-то выкрутиться перед читателями, придумал неожиданный ход: после публикации последней написанной Гайдаром главы редакция журнала предложила читателям самим написать окончание повести. Кажется, за лучший вариант была обещана премия. Но сейчас Рахиль меньше всего волновало, кто и как поставил финальную точку в сюжете и кому было выплачено вознаграждение. Беспокойство вызывала мысль о том, как бы ни аукнулись Аркадию события более чем четырехлетней давности… «Господи, а «Судьба барабанщика»! – содрогнулась Рахиль. – Еще неизвестно, чем обернется ему издание этой книги. Если вообще ктото возьмется ее издавать…» Повесть, над которой в последнее время работал Гайдар, вызывала разные толки даже среди его друзей. Одни похлопывали Аркадия по плечу и говорили о его будущей книге как о вещи нужной, своевременной, смелой. Про таких Рахиль думала, что они просто завидуют Аркадию, его растущей популярности и ждут, какая последует реакция после выхода повести, герой которой несправедливо осужден по ложному доносу. И это после суда над бывшими военачальниками – предателями и изменниками Родины! Другие, более близкие Гайдару люди, уговаривали его не лезть на рожон, изменить хотя бы причину ареста героя. «Ну, какая тебе разница, за что его посадят, – убеждал Аркадия осторожный и рассудительный Рувим Фраерман. – Сынишка-то его все равно 57 останется без отца. Вот и рассказывай о скитаниях мальчика. Ведь это главная идея повести?» Такого же мнения придерживались и Костя Паустовский, и Миша Лоскутов. После подобных советов Гайдар психовал, возмущался, пил, но, в конце концов, видно, поняв, что «с ложным доносом» книгу все равно никто печатать не возьмется, скрепя сердцем, переписал начало повести… – Ой, что это? Смотрите! – донесся до Рахили чей-то голос. Кажется, он принадлежал молодой женщине по имени Екатерина. Она проснулась раньше других и, кутаясь от холода в большой клетчатый платок, рассматривала мелькающий за окном пейзаж. Восходящее солнце освещало бескрайние степные просторы. В его лучах золотились пожухлые, пожелтевшие после летнего зноя травы, которые на сильном ветру колыхались, словно волны, и от этого раскинувшаяся до самого горизонта степь делалась похожей на огромное желтое море. Арестантки, примкнувшие к железным решеткам, наблюдали удивительную картину: наперегонки с поездом по золотистым волнам степного разнотравья скакал легкий полупрозрачный шар размером с огромный арбуз. Рядом, отталкиваясь от травы, словно мячики, подпрыгивали шарики поменьше. Иногда два «мячика» сталкивались, сцеплялись друг с другом, будто сиамские близнецы, делали вместе несколько прыжков, после которых сливались в один, гораздо больший по размену, шар. Потом этот шар, подгоняемый ветром, скакал дальше, вбирая в себя своих собратьев, уступающих ему в размере, отчего сам становился все больше и больше. – Это перекати-поле, трава такая, – просветила заключенных одна из арестанток, очевидно, как и Ольга Борисовна, знакомая с естественными науками. – У нее стебель ветвится и за лето делается 58 похожим на колючий шарик. А когда засыхает, отрывается от корня и катится, куда ветер несет… «Вот и мы, как перекати-поле, катимся, неизвестно куда…» – подумала Рахиль, тоже наблюдавшая удивительное природное явление. …И снова наступила ночь. Рахиль уже не знала, которой она была по счету в череде тех тягостных, зачастую бессонных, то нестерпимо душных, то невыносимо холодных ночей, сменяющих такие же тягостные и безрадостные дни, которые проживали заключенные на этапе. В вагоне стемнело раньше, чем на улице, но арестантки не спали. Какое-то тревожное волнение охватило женщин, измученных долгой, утомительной дорогой, которой, казалось, не будет конца. Это волнение усилилось после того, как эшелон начал медленномедленно сбавлять ход. За время пути он проделывал этот маневр десятки раз, и порой коекому из заключенных казалось, что они добрались-таки до места назначения. Однако после очередной стоянки состав снова набирал скорость и вез своих «пассажиров» по неизвестному им маршруту. Но сейчас весь вагон находился в состоянии необъяснимой тревоги. Женщины с нетерпением ждали, когда же остановится поезд. Наконец, состав резко заскрежетал тормозами, протащился еще несколько десятков метров по едва различимым в темноте рельсам, нервно дернулся и остановился. Арестантки замерли в тревожном ожидании. «Все… Приехали… Совсем…» – подумала Рахиль и сама удивилась – откуда такая уверенность. Но что-то подсказывало ей, что их эшелон добрался, наконец, до места своего назначения. 59 Несколько минут, которые показались женщинам часами, с улицы не доносилось ни звука. Потом послышался отдаленный собачий лай, который постепенно становился все громче. Вскоре к тявканью собак прибавились звуки шагов и голоса конвоиров. О чем они говорили, слышно не было. Несколько арестанток примкнули к окнам, пытаясь разглядеть чтолибо в кромешной осенней тьме, но, как ни напрягали зрение, не смогли увидеть, что происходит за стенами вагона. – Неужели нас ночью будут выводить? – раздался голос одной из заключенных. – Вряд ли… – ответил другой голос. – Значит, до утра будем сидеть…– сказала третья арестантка. Эта ночь была самой тягостной из всех прожитых на этапе ночей. Никто из заключенных даже не пытался заснуть. Женщины сидели в темноте, прислушиваясь к разговорам охранников и гадая, что же уготовила им судьба на этот раз. На рассвете за стеной вагона почувствовалось какое-то оживление. Лай собак и голоса конвоиров послышались совсем рядом. Вскоре загремели тяжелые железные затворы. «На выход! С вещами!» – раздался голос одного из охранников. Глава третья КАТЕГОРИЯ «ТФ» – Давай, давай! Работай! Ножками, ножками… Что – не нравится? Это тебе не по сцене скакать! Балерина, твою мать… Здоровый, загорелый «вохровец» со злостью плюнул себе под ноги и нагло уставился на хрупкую девушку с бледным, осунувшимся 60 личиком, которая вместе с Рахилью и другими женщинами босыми ногами топтала в неглубокой, но довольно широкой яме густую рыжую массу из разведенной водой глины и сухой нарезанной травы. По лицу худышки текли слезы, которые она даже не пыталась вытирать. «Сволочь!..», – подумала Рахиль, бросив на охранника недобрый взгляд. Больше всего на свете ей хотелось треснуть парня по наглой морде и по-матерински пожалеть девушку – вытереть ей слезы, погладить по голове, но она не могла сделать ни того, ни другого и, стиснув зубы, продолжала топтать вязкую, липнувшую к ногам субстанцию… Шел второй день ее лагерной жизни. Немногим более суток прошло с того момента, когда она вместе с сотнями других заключенных покинула, наконец, душный, опостылевший за время долгого пути состав, сделавший свою последнюю остановку на мало кому известной станции Акмолинск, затерявшейся среди бесконечных казахских степей. О том, что это именно Акмолинск, арестантки узнали не сразу, а уже в бараке, который стоял метрах в двухстах от железнодорожного пути. Эти двести метров большинство женщин преодолели с трудом – отвыкшие от ходьбы ноги отказывались двигаться, мешал идти и сильный, сбивающий с ног ветер. Когда подгоняемые конвоем, изможденные арестантки добрели до обнесенного колючей проволокой длинного барака, сложенного из саманного кирпича, и вошли внутрь, они встретили там таких же несчастных из предыдущего этапа. От них-то новенькие и услышали впервые название станции. Сколько часов заключенные просидели на голом полу казармы, ожидая отправку в лагерь, Рахиль не помнила. Все это время она находилась в полусознательном состоянии. Ее знобило, хотя в бараке было душно и жарко – сентябрьское солнце Казахстана днем 61 прогревало воздух почти до летних температур. «Только бы не разболеться, – думала Рахиль. – Не умереть бы в этом аду… Нет, я должна все вытерпеть… Должна, должна… Иначе никогда больше не увижу сына, маму…» Мысли о самых близких, родных, бесконечно любимых людях придавали ей сил. Думала она и об Аркадии: пусть не все у них было гладко, пусть порой не понимали они друг друга, пусть расходились, но ведь и сходились, пусть ссорились, но мирились же потом… Нет, не такой он человек, чтобы бросить ее в беде! Гайдар известный писатель, у него много знакомых в разных кругах, к которым он может обратиться. Потом она подумала о Галке. Вот кто наверняка замолвит о ней словечко... Они подружились еще в Перми. Невысокая, пухленькая, подвижная, как ртуть, темноволосая и кареглазая Рахиль внешне казалась полной противоположностью своей подруги. Стройная, светло-русая, голубоглазая Галина Плеско была на голову выше Ральки – так в юности друзья звали Рахиль. Девушек объединяла общая страсть – любовь к журналистике. Правда, в то время более опытная Галина уже работала в штате пермской газеты «Звезда», где и познакомилась со своим будущим мужем – арзамасским другом Гайдара Сашей Плеско, а Рахиль, работающая тогда на кожевенной фабрике закройщицей, была лишь внештатным корреспондентом. Через Плеско Соломянская познакомилась с Аркадием, который подписывался тогда еще своей настоящей фамилией – Голиков. Вскоре Рахиль поняла, что Галина недолюбливает арзамасского приятеля мужа. – Знаешь, Ралька, – предостерегала она подругу, после того как та призналась ей в своих чувствах к новому корреспонденту «Звезды», – 62 он, конечно, парень толковый, перспективный, но, помяни мое слово, намучаешься ты с ним. – Почему? – удивилась Рахиль. – Да необузданный он какой-то, не готов еще к семейной жизни, – уклончиво ответила Галина. – Неправда! – возразила Раля. – Как это не готов, если он уже был женат! Он сам мне честно обо всем рассказывал! – Не кипятись, – остановила подругу Галина. – А он рассказывал тебе, почему они с женой расстались? – Я об этом не спрашивала. Меня, кстати, это не интересует! – А зря, – продолжала Галина. – Его жена, Мария, сама от него ушла, потому что жить с ним невозможно. Сашка мне говорил, что Аркадий серьезно болен. Он, правда, долго лечился, но все равно на него порой накатывает… На лице Рахили отразились смешанные чувства. Видно было, что ее удивили слова подруги, но не верить ей девушка не могла – Галина никогда не лгала. Но как отреагировать на то, что она услышала? После минутного колебания Рахиль подняла голову вверх, отчего ее и без того высокие, красиво очерченные скулы придали лицу выражение абсолютной уверенности в собственной правоте, и спокойным, твердым голосом произнесла: – Значит, она его не любила. Разве любимого бросают в беде? Она с вызовом посмотрела на Плеско. Галину удивила запальчивость своей наивной подруги, и она не сразу нашла что ответить. – И потом – я люблю его, и он меня любит, – сказала Рахиль. В ее голосе теперь было меньше азарта и больше нежности. Галина вздохнула и с нескрываемой жалостью посмотрела на подругу. – Может, он тебя и любит, но, мне кажется, он из тех мужиков, которые ни одной юбки не пропустят. Да и выпить парень не дурак, а как выпьет – на себя не похож… – продолжала она. 63 Рахиль не ответила, давая понять Галине, что разговор на эту тему окончен. Но Плеско не унималась: – Не знаю, Ралька, как тебя еще предостеречь. Но, по-моему, ты делаешь ошибку. Приглядись к нему получше. – Пригляделась уже, – буркнула Рахиль. – Ну, хоть с замужеством не торопись! Тебе ведь всего восемнадцать, успеешь еще хомут на шею надеть, – без всякой надежды на то, что подруга прислушается к ее совету, подытожила разговор Галина. Аркадий и Рахиль расписались в декабре 1925-го, через месяц после этого разговора. Галины в Перми уже не было. Сашка Плеско, который еще раньше уехал в Москву и устроился на работу в газету политуправления Московского военного округа «Красный воин», в ноябре забрал в столицу жену и маленькую дочку. Не прошло и трех месяцев, как Раля вспомнила их беседу с Галиной и впервые пожалела о том, что не прислушалась к советам подруги. …В бараке нечем было дышать. Рахиль открыла глаза и огляделась. Со всех сторон ее окружали изможденные, измученные долгой дорогой женщины, которые в этих нечеловеческих условиях терпеливо ждали своей участи. Рахиль так устала, что посчитала бы за благо растянуться во весь рост на утоптанном глиняном полу барака и, подложив под голову коекакие вещи, хоть немного поспать. Но растянуться было негде. Слава Богу, после того как одна из арестанток немного подвинулась, удалось вытянуть затекшие ноги. Устроившись поудобнее, Рахиль пыталась поймать обрывки мыслей, крутившихся в ее голове минуту назад. «О чем же я сейчас думала, – силилась вспомнить она. – О чем-то очень важном… Аркадий… Галка… 64 Галка не любила Аркадия. Пыталась отговорить меня от брака с ним. И, в общем-то, оказалась права…» Рахиль обхватила голову руками и сжала ладонями виски. Нет, не то, не то… Она вспоминала про Галину не в связи с Аркадием… «Господи, что это я! – встрепенулась Рахиль. – Ежов! Галка знакома с женой самого товарища Ежова!» После того, как Рахиль и Аркадий перебрались в Москву, их отношения с семьей Плеско возобновились. Нельзя сказать, что они дружили семьями и часто встречались – у каждого из них появился новый круг общения. Но Аркадий не забывал своего старого приятеля и часто заходил к Александру в редакцию, а Рахиль перезванивалась, а порой и встречалась с Галиной, которая по-прежнему недолюбливала Гайдара. Как-то подруга сказала ей, что работает в одной газете с женой товарища Ежова. – Знаешь, Ралька, она все пытается со мной сблизиться, хочет подружиться, домой к себе приглашает – поморщилась Плеско. – А ты что? – спросила Рахиль. – Да мне как-то не по себе от этой дружбы… – Почему? – Ну, кто она и кто я… И потом, у нее и без меня подруг хватает, зачем я ей? – уклончиво ответила Галина. – Наверное, она ценит тебя как хорошего работника. Я ведь знаю, как ты выкладываешься! – Вот и пусть ценит как работника. Она моя начальница, и я не хочу нарушать субординацию. – Но дома-то ты у нее была? – не успокаивалась Рахиль. – Да была, была, – улыбнулась Галя. – Конечно, не в кремлевской квартире, а на даче. Евгения Соломоновна часто там артистов, журналистов, писателей собирает. 65 – Слушай, Галка, а правда, что у нее роман с Кольцовым? – снова проявила любопытство Рахиль. – С кем у нее роман, меня совершенно не касается, – оборвала подругу слишком правильная Галина. – И тебя, кстати, тоже. «Конечно, меня это не касается… Мне абсолютно все равно, с кем крутит романы жена наркома НКВД, – размышляла Рахиль, вспоминая свой последний разговор с Плеско. – Наплевать мне на ее любовников, даже самых знаменитых. Кольцов, Бабель, Шолохов… Ну чем они могут мне помочь… Ничем! А вот Галка может! Она каждый день встречается с Евгенией Соломоновной на работе. Так неужели не подойдет к ней, не попросит за свою подругу? Ну что ей стоит уговорить жену наркома, чтобы та обратилась к мужу, товарищу Ежову, с просьбой… – Становись! – прервал ее мысли зычный голос охранника. – Выходим из казармы! По двое разбираемся! Акмолинский лагерь жен изменников Родины – А.Л.Ж.И.Р. – встретил арестанток несколькими рядами колючей проволоки, натянутой между высокими, похожими на гигантские заточенные карандаши столбами, и установленными по всему периметру проволочного ограждения деревянными вышками, на которых маячили стрелки вооруженной охраны – ВОХРа. На огромной территории рядами выстроилось несколько таких же длинных, как на станции, одноэтажных саманных бараков для заключенных и еще каких-то построек – видно, административных и хозяйственных зданий. Внутри бараков, кроме единственной на всю казарму печи и сплошных двухъярусных нар, не было ничего. На нарах, правда, имелось некоторое подобие матрасов – матов, 66 связанных из высушенных стеблей камыша. Чемоданы и сумки арестанток с личными вещами лежали прямо на полу, под нарами. Служащей, которая оформляла документы Рахили при поступлении в лагерь, оказалась средних лет женщина с усталым, но не злым – как у большинства тюремных надзирательниц – лицом. Она даже обращалась к заключенным на «вы», что не только удивляло отвыкших от вежливой формы обращения женщин, но и вселяло в них некоторую надежду на то, что здесь, в лагере, к ним – женам, матерям, дочерям, сестрам изменников Родины – несмотря ни на что, будут относиться по-человечески. Пусть не все, но хоть кто-то… – Профессия? – задала вопрос сотрудница лагеря. – Журналистка… – ответила Рахиль. – Здесь написано: старший редактор сценарного отдела «Союздетфильма», – сверившись с каким-то документом, уточнила служащая. – Да, это мое последнее место работы… А вообще, я журналистка. Служащая что-то записала в своих бумагах и, подняв голову, посмотрела на Рахиль: – Проходите на медкомиссию. «Медкомиссия» представляла собой такую же уставшую, без какихлибо эмоций на лице женщину, облаченную в не слишком чистый белый халат. Она молча пробежалась глазами по документам Рахили и, не отрывая глаз от бумаг, чуть хрипловатым, безучастным голосом спросила: – Жалобы есть? Есть ли у нее жалобы?! Да у нее болит все, что только может болеть в человеческом организме! Раскалывается голова, отнимаются ноги, немеют пальцы рук, ломит спину, сводит от голода желудок, зудит покрытая сыпью кожа, ее знобит… – Нет… – тихо ответила Рахиль и потеряла сознание. 67 – Ничего, она просто устала в дороге, сейчас оклемается, – донесся откуда-то сверху незнакомый женский голос. Рахиль открыла глаза и поняла, что лежит на полу в том же самом служебном помещении, где проходила «медкомиссию». Над ней склонились две головы, одна из которых принадлежала врачихе, а другая – незнакомой ей служащей в форме сотрудника НКВД. Это ее голос слышала Лия. – Вам лучше? – равнодушно поинтересовалась врач. И, не дождавшись, пока заключенная поднимется с пола, вынесла вердикт: – Категория «ТФ». – А что это такое? – встав, наконец, на ноги, осмелилась спросить Рахиль. Врачиха молча проводила взглядом уходящую «энкавэдэшницу», посмотрела, как показалось Рахили, с жалостью в глаза арестантки и расшифровала короткую аббревиатуру: – Категория «ТФ» означает, что заключенный годен для тяжелого физического труда. По сравнению с жесткими, ничем не застеленными нарами вагона, колющийся, набитый стеблями и листьями камыша матрас показался Рахили чуть ли не пуховой периной. Поздним вечером, после всех процедур «заселения», рухнув на эту необычную шуршащую постель, она провалилась в глубокий сон. Проснувшись еще затемно, Лия долго не могла сообразить, где находится. Не стучали на рельсах колеса поезда, не было слышно паровозных гудков, не плыли за окнами луна, звезды, облака… «Это же Акмолинск, лагерь… Мы вчера приехали…» – вспомнила, наконец, она и тут же услышала знакомое: «Подъем!» Вздрогнув от этого крика, Рахиль села, пошевелила ногами и руками и поняла, что чувствует себя намного лучше, чем накануне вечером. 68 Главное, ей удалось выспаться. Крепкий сон помог восстановить силы, которые были так необходимы, чтобы выжить в этом тартаре. После переклички, проведенной «вохровцами» перед бараком, арестанток строем повели в столовую. На завтрак им выдали по половнику каши с ломтем черного хлеба. Каша оказалась теплой, не такой жидкой, как в Бутырской тюрьме, и заключенным, не получающим на этапе горячей пищи, она показалась даже вкусной. Рахиль съела все до последней крупинки, выпила кипятку и почувствовала себя вполне сносно. – Строиться! Разобраться по пятеркам! – зычным голосом скомандовал охранник. Колонной – как на праздничной демонстрации, только без транспарантов и портретов вождей – они шли по широкой, утоптанной тысячами ног дороге. С обеих сторон, через равные промежутки, шагали вооруженные конвоиры. Многие вели на поводках собак. – Берегут нас, как драгоценности… – ухмыльнулась шагающая рядом с Рахилью женщина примерно такого же, как она, возраста. Рахиль посмотрела на ее загоревшее, обветренное лицо и спросила: – А вы давно здесь? – Давно. С мая, – коротко ответила собеседница. Некоторое время они шли молча, потом женщина, видно, решив завязать более тесные отношения с вновь прибывшей заключенной, представилась: – Евгения. Можно просто Женя. Актриса. Восемь лет. – Рахиль. Можно просто Лия. Журналистка. Пять лет, – в тон ей ответила Рахиль. Обе женщины засмеялись. Идущие впереди арестантки с удивлением обернулись – смех среди заключенных был явлением редким. – Я тебя вчера вечером приметила, когда вас в нашем бараке размещали… Ничего, что я на «ты»? – сказала Женя и, не дожидаясь ответа, вздохнула: 69 – Да… «Повезло» нам… – В чем? – не поняла Рахиль. – В работе… На «саманку» ведут… – А что это? – Скоро узнаешь… – снова вздохнула Женя. Через распахнутые охранниками ворота колонна вышла за обнесенную колючей оградой территорию лагеря. За ограждением простиралась широкая полоса перепаханной земли, за которой виднелись невысокие столбики с натянутой между ними проволокой – толстой, но без колючек. – На ночь сюда собак привязывают, – пояснила новая знакомая Рахили. – Они вдоль этой проволоки бегают от столба до столба. – Боятся, что кто-нибудь сбежит? – с иронией спросила Лия. – Кто? Собаки? – отшутилась Женя. И хотя шутка не показалась Рахили остроумной, она улыбнулась. Евгения вызывала у нее симпатию. «Надо же, еще шутить пытается… В таком-то месте…» – подумала Лия. – Я здесь почти полгода, и ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь пытался бежать, – продолжала, между тем, Женя. – И дело не в собаках и не в охранниках… Просто бежать-то некуда – одна степь кругом. Да и зачем? Куда без документов денешься… – А ты в театре работала или в кино снималась? – Рахиль решила сменить тему. – Я театральная актриса. Почти десять лет в Саратовском драмтеатре служила, у Слонова. – Слонов, Слонов… Где-то я слышала эту фамилию, причем, совсем недавно. – «Где-то слышала!» – разгорячилась Евгения. – Разве можно не знать Слонова! Да на таких, как Иван Артемьевич, молиться надо! Это же великий артист и великий режиссер! 70 – Ну, конечно! Я видела афиши в начале лета: «Саратовский театр драмы имени Карла Маркса приезжает на гастроли в Москву», – вспомнила вдруг Рахиль. – И фамилия главного режиссера стояла – Слонов. – Значит, они все-таки гастролировали в Москве… – с грустью сказала Женя. – Наверное. Только я уже не могла сходить на спектакль… – тоже погрустнела Рахиль и, подавив подступающие к горлу рыдания, вздохнула: – Господи, ну за что, за что все это… – Не «за что», а за кого, – усмехнулась Евгения, – за мужа. Кстати, в чем таком твой провинился перед партией и народом? Шпионил в пользу Германии? Или троцкистов поддерживал? – С ума сошла! – испугалась Лия. – Мой муж ни в чем не виноват, произошла ошибка! – Ошибка? – с иронией переспросила Женя. – Вот досада… Ну, ошибку можно исправить… Или уже поздно исправлять? Рахиль не ответила. Ей почему-то не хотелось рассказывать Евгении о расстреле мужа, но та, видимо, сама обо всем догадалась. – Вот-вот… – сказала она. Потом, повернувшись к Рахили и стараясь заглянуть ей прямо в глаза, трагическим шепотом произнесла: – А вот мой Мишенька был настоящим немецким шпионом! Рахиль обомлела. Это неожиданное признание так ее напугало, что она даже не уловила сарказма в голосе Жени. – Сам он из поволжских немцев, – продолжала Евгения, да и работал на заводе, который еще в прошлом веке основал немец – Отто Беринг. До войны там чугун лили и двигатели какие-то выпускали, а в германскую – мины, снаряды, гранаты… В середине двадцатых, когда мой Мишенька на этот завод пришел, опять какие-то механизмы начали делать. Так вот, до революции 71 завод назывался «Сотрудник». Уж не знаю, сам ли Беринг такое название придумал или еще кто, да это не важно. Когда Миша туда устроился, название было уже другое: «Сотрудник революции». Но не в названии, повторяю, дело. Разговорился как-то Миша со старыми рабочими, а те пожаловались, что до семнадцатого года людей на заводе работало намного больше, и порядка тоже было куда больше. Миша тогда возьми и скажи: «Что ж, видно, надо снова Беринга в сотрудники звать, может, наведет порядок…» И что ты думаешь? На второй день прямо с работы забрали моего Мишеньку. Немецким шпионом объявили. Ну, а потом и меня… Некоторое время они шли молча. Колонна заключенных, сопровождаемая лаем собак и окриками конвоиров, обогнула огромное, заросшее камышом озеро, прошла еще немного по выжженной солнцем ковыльной степи и остановилась. Рахиль огляделась. Ее взору предстали ряды сложенных в штабеля кирпичей, видимо, уже готовых для использования в строительстве. Кирпичи были огромного размера – в несколько раз больше обычных. Поблизости на выровненных площадках стояли сколоченные из деревянных досок формы, заполненные густой, подсыхающей на солнце массой землистого цвета. Повсюду виднелись кучи земли, вороха каких-то сухих растений, бочки с водой, ведра, лопаты… – Ну, вот тебе и «саманка»… – вздохнула Евгения. «Да, Лийка… Была журналисткой, стала чернорабочей. Ничего не поделаешь – «ТФ» есть «ТФ», – снимая туфли, усмехнулась про себя Рахиль. 72 – Можно я рядом с вами встану? – раздался за спиной тихий, нежный голосок. Обернувшись, она увидела девушку, которая от лагеря до места работы шла с ней в одной шеренге. Всю дорогу Рахиль разговаривала с Женей, шагающей справа от нее, и не успела познакомиться ни с кем из других женщин. Она, правда, заметила, что с левой стороны к ней пристроилось какое-то тщедушное, безликое создание, облаченное в длинную бесформенную серую кофту. Несуразная хламида, надетая на летнее платье, была велика арестантке размеров на шесть и висела на ней как тряпье на огородном пугале. Лица заключенной Рахиль не разглядела, заметила лишь, что оно было очень бледным и принадлежало совсем юной особе. И вот теперь, обернувшись на голос, она смогла лучше рассмотреть девушку. – Меня зовут Наташа, – все так же тихо сказала та и посмотрела на Рахиль огромными черными глазами, обрамленными густыми длинными ресницами. Эти глаза и такие же черные, стянутые на затылке в небольшой тугой узел волосы подчеркивали белизну и нежность кожи на ее юном личике. Тонкие, изящной формы темные брови, красиво очерченные губы, аккуратный носик с маленькой горбинкой делали это личико необыкновенно красивым. – Конечно, конечно, – разрешила Рахиль и сразу вспомнила бутырскую сокамерницу Светлану и Леночку, вместе с которой ехала по этапу до Челябинска. Молодые девушки тянулись к ней, словно цыплята под крыло наседки, и Рахиль испытывала от этого некое подобие гордости – значит, ее считают сильной, способной поддерживать других. И хотя по возрасту она никак не могла быть этим девушкам матерью, Рахиль чувствовала, что все они ждут от нее именно материнской заботы. 73 – Давай разувайся, да и кофту можно снять, жарко уже, солнце вон как припекает, – вступив в роль наставницы, сказала она Наташе. Девушка послушно расстегнула серую хламиду, аккуратно сложила ее, положила рядом с маленькими туфельками на желтую траву и, распрямившись, встала, готовая выполнять дальнейшие распоряжения. Рахиль обомлела. Ее поразила великолепная осанка своей новой подопечной. Прямая спина, развернутые плечи, выразительные руки, тонкая талия, горделивая посадка головы на красивой шейке, высоко поднятый подбородок, какая-то особенная выворотность ног сразу выдавали в ней балерину. Но даже среди балетных Лия нечасто встречала подобную красоту и такое изящество. Краем глаза она заметила, что на лице топчущегося неподалеку охранника, заметившего метаморфозы, которые произошли с девушкой, появилось сначала удивленное, потом откровенно плотоядное выражение. Когда Наташа, прижав руки к туловищу, как это делают балерины, собираясь начать вращение на пуантах, грациозно шагнула к заполненной мокрой глиной яме, Рахили показалось, что девушка вотвот закрутится в стремительном фуэте, словно Одиллия в «Лебедином озере». Но вместо этого Наташа покорно погрузила ноги в липкую грязь. Из «грязи» заключенные формировали те самые саманные кирпичи, которые шли на строительство лагерных бараков и других помещений. Судя по нормам, установленным на каждую бригаду «саманщиц», кирпичей этих нужно было много. Они требовались для строительства новых бараков для новых заключенных, поток которых казался неиссякаемым. Бригадой, в которой оказались Рахиль и Наташа, руководила Евгения. Работая наравне с остальными арестантками, она строго следила за 74 соблюдением «технологического процесса»: знала, сколько нужно подлить в яму воды, сколько подложить соломы и на какой стадии требуется переворачивать саман. – Вот недольешь водички, тяжело месить будет, ноги из самана не вытащишь, – приговаривала Женя, выливая в яму очередную порцию воды, – а если перельешь, еще хуже – кирпичи потом расползаться начнут. Женщины, большинство из которых, судя по коричневому загару, провели в лагере не один месяц, слушались бригадира беспрекословно. Все они привычно выполняли свою работу. Топтание в глине сначала не показалось Рахили делом слишком тяжелым. Некоторое время она даже разговаривала с «топтавшейся» рядом Наташей, которая действительно оказалась балериной и совсем недавно танцевала на сцене Большого театра. Но вскоре у нее заныла спина. С каждой минутой боль нарастала – будто тяжелый железный лом пронизывал поясницу. Голова кружилась, перед глазами расплывались желтые пятна, ноги отказывались слушаться. Вытерев струящийся по лицу пот, Рахиль посмотрела на Наташу и ужаснулась: под глазами девушки появились черные круги, нос, на кончике которого повисла тяжелая капля то ли пота, то ли слез, обострился, бледные губы дрожали. – Ничего, ничего… Потерпите. Скоро второе дыхание откроется, – услышала она голос Жени. – Я сейчас упаду, не могу больше, – всхлипнула Наташа. Рахиль промолчала и крепко стиснула зубы. Ей не хотелось показывать свою слабость. – Если не выполним норму, накажут! Всех! – строго сказала Евгения. – Не останавливаться! Нельзя других подводить! «Нет, я никого не подведу, все вынесу, все стерплю, – еще сильнее стискивая зубы, думала Рахиль. – Если надо делать кирпичи, значит, 75 буду делать. Пусть они знают, что я тружусь честно и никакой работы не боюсь. Я ни в чем не виновата и докажу это… Меня освободят, освободят, освободят…» С обеих сторон от нее сосредоточенно трудились сотни женщин: они делали замесы, носили ведра с водой, топтали в ямах глину, заполняли ею специальные формы, переворачивали неподъемные пласты самана, надрываясь, таскали тяжелые кирпичи. Если бы Рахили удалось каким-то чудесным образом заглянуть в их души, она бы знала, что каждая из них думает о том же… – Недолго осталось, «саманка» скоро закончится – холода наступают, а в зиму глину не месят, кирпичи просохнуть должны… – донесся до Рахили голос Жени, показавшийся ей каким-то плоским, почти бесцветным. Она ничего не ответила своей новой подруге, даже головой не кивнула – не было сил. Промолчала и Наташа, которая снова плелась с ними в одной шеренге. В лагерь заключенные возвращались той же дорогой, по которой утром шли на работу, но сейчас она казалась им намного длиннее. «Шагай! Шагай! Шагай!» – приказывала Рахили пульсирующая в висках кровь. «Только бы не упасть… Если упаду, мне не встать, и тогда этот гад меня пристрелит!» – со злостью подумала она, бросив взгляд на топающего сбоку охранника – того самого, который околачивался возле них, когда они месили глину. Лия вспомнила, как бесцеремонно конвоир разглядывал Наташу там, на «саманке», и отметила про себя, что сейчас он не обращает на девушку никакого внимания. Охранник выглядел не лучшим образом, а когда парень вытер рукавом вспотевшее лицо, Рахиль не без злорадства подумала: «Умаялся бедненький». Через секунду она 76 удивилась: «Ничего ведь не делал и то устал за день. Как же мы-то все это выдержали?» Всю дорогу до лагеря Рахиль молчала. Не то чтобы ей не хотелось разговаривать. Наоборот, она бы поинтересовалась у Евгении, какие еще профессии ей предстоит освоить на зоне, что они будут делать, когда наступит зима, а главное – как вообще можно выжить в этом аду. Но на разговоры не было сил. Да и Женя больше не проронила ни слова. Бросив на нее мимолетный взгляд, Рахиль заметила, что лицо подруги осунулось, ее щеки ввалились, нос обострился. «Тоже измучилась… Хорохорилась, чтобы нас поддержать, а сама еле ноги передвигает. То-то голос ее показался мне каким-то странным...» – сделала свой вывод Лия. «Хоть бы одну весточку в Москву отправить… Хотя бы два слова: жива, здорова…» – думала Рахиль, опуская в вырытую в земле ямку очередной саженец малины. Но нет. В лагере спецрежима переписка запрещена, не говоря уже о посылках и свиданиях. Разрешена здесь только работа. С раннего утра до позднего вечера – работа, работа, работа. Труд, который должен способствовать перевоспитанию заключенных – членов семей изменников Родины. И они «перевоспитывались», топча вязкую глину для саманных кирпичей, таская тяжелые носилки со строительными материалами или мусором, срезая жесткие стебли камыша на заросшем озере, обрабатывая сельскохозяйственные поля… После «саманки» заключенная Рахиль Соломянская осваивала профессию землекопа. Почти весь сентябрь она вместе с другими женщинами копала арыки. 77 – Лагерь наш имеет сельскохозяйственный профиль, – каким-то дребезжащим, словно надтреснутым голосом растолковывал контингенту необходимость этой работы агроном из вольнонаемных Семен Иванович – пожилой уже, щупленький, низенького роста мужичок с жиденькой, треугольничком бородкой. Чем-то он напомнил Рахили председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Калинина. – Наша с вами задача, дорогие мои, подготовить почву к посадке малины, – продолжал дребезжать агроном. – Садовая малина – культура влаголюбивая, а у нас, как вы знаете, дождичек идет не часто, так что землицу, дорогие мои, надо будет орошать. Сначала Семен Иванович, несмотря на сходство с всесоюзным старостой, Рахили не понравился. Действовал на нервы его дрожащий, со скрипучими нотками голос, манера общения с заключенными казалась нарочито слащавой, а уж когда агроном с какой-то наивной простотой употреблял такое домашнее местоимение «наш» в отношении лагеря, Лия стискивала от злости зубы. Но спустя некоторое время она поняла, что Семен Иванович – мягкий, совершенно безвредный человек, который искренне жалеет вверенный ему контингент. А что касается местоимения «наш», так ведь это можно понять: агроном вместе со своей немолодой уже супругой живет на территории лагеря в одном из слепленных из самана домов для вольнонаемных служащих. Теоретическая часть много времени не заняла. Агроном доходчиво растолковал, какой ширины и глубины нужно копать арыки, по которым на плантацию побежит вода, и женщинам – бывшим учителям, музыкантам, журналистам, актрисам, редакторам, художницам, балеринам, домашним хозяйкам – выдали лопаты с плохо ошкуренными деревянными черенками. Никаких рукавиц заключенным не полагалось, или о них просто забыли. 78 Не прошло и часа после начала работы, как Лия почувствовала, что ее ладони горят огнем, но она решила не обращать на это внимания. Работающая рядом с ней Наташа поставила лопату и начала судорожно дуть на вздувшиеся на руках кровавые мозоли. – Эй, эй! Кончай филонить! – заорал на девушку словно из-под земли появившийся охранник – совсем молоденький деревенского вида парень. Наташа заплакала и показала парню изуродованные ладони. – А ты как думала! Хочешь копать да мозоль не набивать! – скороговоркой выпалил охранник и, схватившись за ружье, угрожающе цыкнул: – А ну работать! – Погодите, молодой человек, погодите, – остановил его подоспевший к месту инцидента агроном. – Ну какой из нее работник, если без рук останется? Так ведь, юноша? Парень на секунду растерялся. На его лице промелькнуло хорошо знакомое Рахили выражение – такое, какое она не раз замечала у Тимура в то мгновение, когда он еще сам не понял, правильно поступает или нет. Охранник махнул рукой и отвернулся – мол, поступайте, как знаете. К агрономам в деревнях всегда относились с уважением. – Есть какая-нибудь тряпица или платок? – осмотрев Наташины руки, спросил Семен Иванович. Девушка покачала головой и зарыдала еще сильнее. Тут же запричитали, заплакали и другие заключенные, в основном из тех, кто прибыл в лагерь в последние дни. Агроном посмотрел по сторонам, ищя взглядом охранника, но увидев, что парень по-прежнему делает вид, что происходящее ему безразлично, достал из своего кармана большой клетчатый носовой платок и разорвал его пополам. Перевязывая руки Наташи, он 79 приговаривал все тем же скрипучим, но теперь уже не казавшимся Рахили противным голосом: – Ну что делать, что делать… Надо потерпеть, потерпеть надо… А мозольки – это ничего, скоро они пройдут… И ручки скоро привыкнут, и спинка болеть не будет… Потерпи, деточка, потерпи… Ну что же делать… В голосе Семена Ивановича было столько сострадания, что Рахиль даже усомнилась в его искренности, но, посмотрев агроному в глаза, она не увидела в них ничего, кроме неподдельной жалости и боли, идущей из самого сердца этого пожилого и, похоже, тоже несчастного человека. Закончив перевязку, он поднял руку, чтобы по-отечески погладить Наташу по голове, но девушка, заметив этот его жест, в страхе отпрянула в сторону. «Бедный ребенок, – с тоской подумала Лия, – даже от сочувствия отвыкла…» Агроном, несколько удивившись такому поведению заключенной, пошел дальше между рядами арыков. Его спина сгорбилась, и сам он как-то сник, ссутулился, отчего показался Рахили еще несчастнее. – Говорят, у Семена Ивановича дочь арестовали, – шепнула ей на ухо работающая рядом с ними женщина – обычно молчаливая Сара. – Вот они с женой сюда и переехали откуда-то из Подмосковья, думали, дочку тут найдут. – Нашли? – только и могла спросить ошеломленная таким известием Рахиль. – Если бы… С поезда еще сняли, померла она где-то в дороге… – вздохнула Сара. К концу сентября заключенные, перелопатив тонны земли, вырыли километры арыков и приступили к посадке плодовых культур. 80 Наташа начала засыпать землей корни саженца, который придерживала Рахиль. – Деточка, корешки надо в разные стороны расправлять, как я вас учил, – раздался возле них голос Семена Ивановича. – Почва должна все пустоты между ними заполнить. Девушка бросила в сторону агронома, как показалось Рахили, недобрый взгляд, с несвойственной ей силой воткнула в землю лопату и, наклонившись над лункой, принялась нервно расправлять руками корни саженца. – Если мы не будем этого делать, дорогие мои, саженец может не прижиться. Малинка не уродится, и нас с вами заругают, – тоном школьного учителя продолжал наставлять женщин агроном. Оставив Рахиль и Наташу возле лунки с саженцем, Семен Иванович пошел дальше. Балерина молча утрамбовывала грунт вокруг прутиков малины. Убедившись, что девушка не настроена на разговор, Лия мысленно вернулась к своим родным – Тимуру и маме. Когда она думала о них, работа не казалось такой тяжелой, да и время будто бы шло быстрее. «Интересно, удалось им что-нибудь узнать обо мне? Хотя бы то, что я жива…» – подумала Рахиль и тут же вспомнила, как год назад сама не один месяц напрасно обивала пороги тюрьмы в надежде узнать хоть что-нибудь об участи мужа. «Да, но Семен Иванович как-то узнал о судьбе своей дочери…» – вертелась в голове мысль. Ей очень хотелось спросить агронома, как ему это удалось, но она не решалась – боялась лишний раз травмировать старичка. – Любезная, не надо так сильно землю уплотнять, водичка к корешкам не пройдет… – послышался где-то неподалеку его надтреснутый голос. 81 – «Любезная…», – передразнила агронома Наташа. – Хочет казаться добреньким, а сам, наверняка, подлый, злой! – Господи! Что ты такое говоришь? – изумилась Лия. – Семен Иванович никому ничего плохого не сделал. – Он притворяется, притворяется! – воскликнула Наташа. Рахиль, уловив в голосе девушки нотки явного раздражения, попыталась купировать начинающуюся у нее истерику. – Успокойся, Наташа. Семен Иванович хороший человек. С нами он вежлив, голоса никогда не повысит… А то, что учит нас, так он просто добросовестно выполняет свою работу, и… – Нет! Он плохой! Он только хочет казаться хорошим! – не дав подруге договорить и уже не сдерживая эмоций, кричала девушка. Рахиль, не на шутку испугавшись, посмотрела по сторонам. Агронома поблизости не было, но один из охранников быстро пошел в их сторону, ведя на поводке истошно лающего пса. Пока Лия соображала, что бы такое сказать парню, Наташа как-то слишком медленно подняла с земли очередной саженец и в таком же замедленном темпе опустила его в подготовленную яму. Рахиль поразила столь резкая смена настроения у девушки. Только что в ее глазах метались злые, похожие на маленькие молнии искры. Казалось, вот-вот разразится буря. Но уже через несколько секунд взгляд девушки сделался каким-то отрешенным, безучастным ко всему, глаза ее будто заволокло легким туманом. Сама она почему-то стала похожей на тряпичную куклу. Буря не началась. Охранник остановился и, потоптавшись на месте, закурил. Пес перестал заливаться лаем. Рахиль взялась за лопату. «Уже не первый раз с ней такое…» – подумала она. Нервозность Наташи, резкую смену настроений у девушки она объясняла ее молодостью и неопытностью. Себя же Лия считала уже много 82 повидавшим в этой жизни человеком, который твердо знает, что ни при каких обстоятельствах сдаваться нельзя. Она вспомнила Ивню. Тогда, шесть лет назад, ей казалось, что на ее долю выпали невероятные трудности, что ничего хуже, чем прозябание в этой дыре, где люди едва не умирают от голода, быть не может. Но эта вынужденная двухгодичная «ссылка» закалила ее, научила бороться с превратностями судьбы, подготовила к новым, еще более суровым испытаниям. Нет, она не сдастся! Она будет бороться до конца! Надо написать письмо товарищу Калинину, рассказать, что никакой ее вины перед Родиной, перед партией и народом нет. – Он злой, злой… Он такой же, как тот… – прервав размышления Рахили, завела вдруг прежнюю песню Наташа. На этот раз в ее голосе не было истерики. Он был тихим и жалобным, как у незаслуженно наказанного ребенка. Девушка руками растирала по щекам катившиеся градом слезы, отчего лицо ее тут же покрылось грязными разводами. За день Рахиль так устала, что у нее уже не было ни сил, ни желания успокаивать свою подопечную. Но она боялась, что у Наташи повторится нервный срыв, который привлечет к ним внимание охранников, а ей этого очень не хотелось. К тому же Лия искренне жалела несчастную, по всей видимости, начинавшую сходить с ума девушку. – Ну, все, все, успокойся, темнеет уже, скоро в лагерь пойдем… – сказала она. Рахили пришлось приложить немало усилий, чтобы ее голос прозвучал как можно спокойней и ласковей. – Да, да… Лучше в лагерь, в барак… Он туда не придет! Я его боюсь, боюсь! – вновь начала возбуждаться Наташа. 83 Заметив, что некоторые из работающих рядом женщин – кто с жалостью, кто с удивлением – начали прислушиваться к словам девушки, Лия тихо сказала подруге: – Наташенька, мы с тобой после ужина поговорим, в бараке. Ты мне все расскажешь, и я постараюсь тебе помочь. Договорились? Наташа молча кивнула. До конца рабочего дня она не проронила ни слова. Рахиль вытянула на матрасе уставшие за день ноги. Сейчас она начнет вспоминать что-нибудь приятное из своей прошлой жизни и уснет. Самыми приятными воспоминаниями были пермские, а из них – осень двадцать пятого года. Тогда она познакомилась с Аркадием и, несмотря на все предостережения своей старшей подруги Гали Плеско относительно его характера, влюбилась в него по уши. … Рахиль принесла в редакцию «Звезды» свою заметку, открыла дверь в кабинет Галины и замерла от неожиданности. Плеско и какойто незнакомый молодой человек склонились над ворохом бумаг, разложенных на Галкином столе. Парень был немного старше ее. Низенькой Рахили он показался очень высоким, крупным, надежным, таким, каким, в ее представлении, должен быть человек, способный защищать других, тех, кто слабее. А когда он поднял на нее умные, с легкой хитринкой глаза, Рахиль поняла, что пропала. – Отомри! – засмеялась Галина. – Познакомься – наш новый корреспондент Аркадий Голиков. Пока внештатный. Между прочим, Сашкин друг. И Кольки Кондратьева тоже. Как и они, из Арзамаса к нам приехал. 84 – Соломянская. Рахиль, – протягивая парню руку, сказала она, удивившись, что голос ее, обычно высокий и звонкий, прозвучал как-то хрипло. – Очень приятно, – улыбнулся Аркадий. – Я так понимаю, это полное имя. А уменьшительное от него какое? – Дома зовут Рувой, – почему-то смутилась Рахиль. – Рувой? Это хорошо. А можно я буду называть вас Рулей? Нет, лучше Ралей? Рахиль слегка растерялась и пожала плечами. Нет, парень над ней вовсе не надсмехался. Наоборот, он вел себя так, как будто они были знакомы уже много лет. – Так! – вмешалась в их диалог Галина. – Товарищ Голиков, вы не забыли, чем нам сейчас надо заниматься? Статью уже давно в набор надо было сдать, а мы тут с вами в имена играем... «Как он меня только не называл, – отдаваясь объятиям Морфея, подумала Рахиль. – Рулькой, Ралькой, Лилькой… А потом Лилю переиначил в Лию…» – Лия Лазаревна, Лия Лазаревна, – трясла ее за плечо Наташа. – Вы обещали со мной поговорить, помните? Рахиль открыла глаза. Ее тело, которое, погружаясь в сон, уже почти совсем расслабилось, заныло с новой силой. Спать хотелось ужасно, но она пересилила себя и села на нары. – Помню, Наташенька, конечно, помню, – ласково сказала она. – Пойдем к печке, чтобы никому не мешать. Днем, когда ярко светило солнце, женщины, работая на полях, снимали с себя верхнюю одежду. Но к вечеру температура резко падала, а по ночам и вовсе морозило. Уже несколько дней заключенные протапливали на ночь единственную на весь барак печь. Топливом служил камыш, за которым они в сопровождении охранников ходили к озеру. 85 Между рядами нар Лия и Наташа пробрались к остывающей уже печурке – стебли камыша прогорали быстро, и, чтобы поддерживать в бараке тепло, надо было постоянно подкидывать их в топку. Но пока этого никто не делал – лютые морозы были впереди. Женщины сели на сложенную из саманных кирпичей скамью. Рахиль взяла девушку за руку и поразилась – пальцы ее юной подруги были холодными, как сосульки, и дрожали так, будто через них проходил электрический ток. – Что ты хотела мне сказать, Наташенька, – сжимая тонкую ладошку девушки, спросила Рахиль. – Лия Лазаревна, скажите, почему люди бывают такими лживыми и жестокими? – услышала она голос девушки. Рахиль на мгновение растерялась, но тут же собралась и, не отвечая на заданный вопрос, спросила: – Ты хотела мне что-то рассказать? Что? Рассказывай, времени у нас немного, ложиться надо. Сама знаешь – завтра рано вставать. – Ой, я, наверное, вас разбудила… Простите, что не даю вам спать, – запоздало принялась извиняться Наташа. – Ничего… Я еще не спала. Слушаю тебя, – тихо сказала Лия. – Я никому, даже маме, об этом не говорила… – всхлипнула девушка. – Но мне надо, надо выговориться, иначе, я не знаю, что со мной будет… Он меня преследует… Всюду… Даже здесь… Наташа выдернула свои пальцы из руки Рахили, закрыла ладонями лицо и уткнулась головой в колени. Она сидела молча. Лия испытывала двойственные чувства. С одной стороны, ей страшно хотелось спать. Она знала, что если не выспится, работа завтра покажется настоящим адом, поэтому уже начинала сердиться на девчонку, которая лишала ее возможности на несколько часов забыться глубоким сном на камышовом матрасе. С другой стороны, 86 она очень жалела несчастную, похоже, не совсем здоровую девочку, к которой уже успела привязаться. – Я слушаю тебя, – настойчиво повторила она, уверенная, что речь пойдет о Семене Ивановиче, к которому Наташа, в отличие от других заключенных, почему-то испытывала неприязнь. – Больше всего на свете я любила балет, – неожиданно произнесла девушка. – Сколько себя помню, всегда хотела стать балериной… «Она что – собирается сейчас рассказывать мне о балете?», – подумала уже всерьез начинающая злиться на подругу Рахиль, но промолчала, решив подождать, что же еще выдаст бывшая балерина. А Наташа продолжала: – Знаете, какую партию мне больше всего хотелось танцевать? – задала она совсем не уместный, на взгляд Рахили, вопрос. – Какую? – из одной лишь вежливости спросила Лия, у которой уже слипались глаза. – Суок, – ответила девушка и снова замолчала. Не видя ее лица, Рахиль будто шестым чувством угадала, что Наташа предалась каким-то своим воспоминаниям. Неожиданно сон улетучился. Лия вдруг почувствовала, что между балетным прошлым девушки и ее нервными срывами в лагере есть какая-то связь. – Прекрасная партия. Мы с мужем были на премьере, кажется, году в тридцать пятом… Ну да, зимой тридцать пятого, в феврале, перед Днем Красной армии. Уж и не помню сейчас, кто танцевал партию Суок… – чтобы поддержать разговор, начала вспоминать события, теперь уже казавшиеся такими далекими, не очень хорошо разбирающаяся в балете Рахиль. – Лия Лазаревна! Да вы что! Это же была Лепешинская! Она тогда танцевала премьеру. Как такое можно забыть? – взвинтилась Наташа. – Ну, прости, пожалуйста, я не знаток балета, – смутилась Рахиль. – Хотя, конечно, Лепешинскую видела. Помню ее и в «Спящей 87 красавице», и в «Пламени Парижа». Кстати, а ты знаешь, почему главную героиню зовут Суок? Лия решила хоть как-то реабилитироваться перед балериной, а заодно и немного успокоить девушку. – Ну… Это писатель придумал, Юрий Олеша, автор сказки «Три толстяка», по которой поставлен балет. А что? Хорошее имя. Необычное, сказочное… – А вот и не сказочное, а самое настоящее, – парировала Рахиль. – И вообще, Суок – это не имя, а фамилия. – Как это? – удивилась Наташа. – А вот так: Суок – это девичья фамилия жены Олеши, Ольги. У нее есть две сестры – Лидия и Серафима. Обе тоже Суок. Со старшей, Лидой, я хорошо знакома через ее мужа, поэта Эдуарда Багрицкого. Знаешь такого? – Конечно! Кто же не знает «Смерть пионерки»! – Ну так вот, мы жили недалеко от них, в Кунцеве… Рахиль не стала уточнять, что дачу в Кунцеве они снимали с Гайдаром, а на премьеру «Трех толстяков» в Большой театр ходили уже с Разиным. – А героиню сказки, юную циркачку, Юрий Карлович назвал в честь сестер Суок, – продолжила она. – А я и не знала. Интересная история, – сказала Наташа. – Интересная, – согласилась Лия и подумала о том, что продолжение этой истории девушке лучше не знать. Не стоит сейчас говорить ей о том, что старшая из сестер Суок – Лидия год назад была арестована. И вовсе не как жена изменника Родины – с детства страдавший жестокой астмой Эдуард Багрицкий ушел из жизни еще в тридцать четвертом, не дожив до этого страшного дня. В литературных кругах ходили слухи, что честная, справедливая Лида пыталась заступиться 88 за репрессированного мужа своей младшей сестры Симы – журналиста и поэта Владимира Нарбута… – Наташенька, это все, что ты хотела мне сказать? – ласково спросила подругу Лия. Она решила прекратить этот «вечер воспоминаний о балете» и отправиться на свои нары, к которым уже начинала привыкать. Девушка не ответила. Она схватила руку Рахили и крепко вцепилась в нее. Лия почувствовала, что пальцы балерины снова начали леденеть и дрожать. «Ну все, сейчас начнется старая песня…» – подумала она. И не ошиблась. – Лия Лазаревна, мне страшно, страшно… Он так похож на него… С виду кажется добрым, ласковым, а что у него на душе, никто не знает… Никто! – нервным шепотом запричитала Наташа. – Так. Расскажи, наконец, толком. Кто на кого похож, кого ты боишься? – придав своему голосу спокойствие и из последних сил стараясь сохранить хладнокровие, спросила подругу Рахиль. – Агроном этот… Вы же сами говорили, что он на него похож… Бородка такая же, глаза… – Я говорила, что Семен Иванович похож на товарища Калинина. Да не только я, многие так считают. Почему тебя это так волнует? – Потому что он ужасный – гадкий, мстительный! – Агроном? – удивилась Лия. – Он тоже кажется мне таким, потому что похож на него… На этого старого, мерзкого, подлого… Он всю жизнь мне сломал, всю!... – перешла на крик Наташа. Испугавшись, что сумасшедшая девушка сейчас произнесет вслух имя всенародно любимого государственного деятеля, Рахиль схватила руками голову балерины и прижала ее лицо к своей груди. Так хоть лежавшие на нарах женщины – а многие из них еще не спали – не услышат, какую чушь несет эта несчастная. 89 – Я никогда больше не увижу маму и папу! Я никогда уже не выйду на сцену, никогда не станцую Суок! Никогда! Он сломал меня, сломал… Меня выбросили на помойку! Как ненужную куклу! Он чудовище, страшное чудовище! Эти полные горечи слова прорывались сквозь рыдания, которыми захлебывалась Наташа. Лия даже не пыталась успокоить ее. Лишь одна мысль билась у нее в голове: «Господи, только бы никто этого не услышал, только бы никто не услышал…» Через несколько минут рыдания девушки стихли. Еще какое-то время она так и сидела, уткнувшись лицом в грудь Рахили, потом подняла голову, выпрямилась и тихим, щемяще печальным голосом сказала: – Простите меня, пожалуйста… Я не даю вам спать… – Ну что ты, Наташенька, что ты… – еле шевеля губами, вымолвила потрясенная Лия. Она уже забыла про сон. Рахиль хотела лишь одного – хоть как-то помочь этому слабому, беззащитному человечку, который в этом огромном скопище людей, волею судьбы объединенных в одно – лагерное – сообщество, доверился только ей. – Ты ведь не договорила? – спросила она девушку. – Расскажи все, что хотела сказать. Поверь, тебе будет легче. Иначе ты сойдешь с ума. – Иногда мне кажется, что я уже схожу с ума… – Ну, если тебе так кажется, это значит, ты пока нормальная. Сумасшедшие не понимают, что теряют рассудок, – пыталась подбодрить подругу Рахиль. – Ничего не бойся, рассказывай. И Наташа рассказала ей все. Мечта ее детства сбылась – она окончила Московское хореографическое училище при Большом театре. Еще студенткой девушка танцевала на главной сцене страны, и, получив диплом, была принята в балетную труппу обожаемого театра. И пусть она не 90 исполняла пока ведущих партий в спектаклях, счастью ее не было предела – она танцевала на одной сцене с Мариной Семеновой, Ниной Подгорецкой, Анастасией Абрамовой, Алексеем Ермолаевым, Александром Чекрыгиным, Асафом Мессерером. Наставницей Наташи была неподражаемая Суламифь Мессерер, которая говорила, что у ее ученицы замечательные данные и большое будущее. Суламифь Михайловна начала разучивать с юной балериной партию Мирель де Пуатье, и Наташа уже представляла себе, как она под звуки «Марсельезы» мечется по сцене с трехцветным знаменем – символом французской революции – в одном из самых любимых зрителями спектакле – «Пламя Парижа». Ее увидит сам товарищ Сталин, который тоже очень любит этот балет. Он приходил на него уже несколько раз. Но больше всего на свете Наташа мечтала о партии Суок. В последнем акте «Трех толстяков» была одна сцена, которую балетные называли «сон гвардейца». Верному толстякам гвардейцу снился сон, в котором он видел, как несколько кукол, как две капли воды похожих на Суок, танцуют под волшебную музыку Оранского. Одной из кукол была Наташа. Выходя на сцену с огромным голубым бантом на голове и в нежно-голубой пачке – такой же, как на исполнительнице главной партии Ольге Лепешинской, девушка мечтала увидеть себя в роли настоящей, а не «снившейся» Суок… После одного из спектаклей, когда Наташа шла в грим-уборную, чтобы переодеться, она столкнулась в коридоре с товарищем Калининым. Девушка посторонилась, уступая дорогу столь важному гостю. Но Михаил Иванович остановился перед балериной и мягким, вкрадчивым голосом произнес: «Вы самая красивая из всех кукол, которых я видел…» Не ожидавшая подобного комплимента Наташа зарделась и, сделав легкое плие, поблагодарила всесоюзного старосту вежливым 91 «спасибо». «Давайте зайдем в кабинет, поговорим о ваших планах, о вашем будущем…» – с доброй улыбкой на лице, подталкивая девушку к одной из дверей, говорил начинающей балерине один из главных руководителей страны. Что было потом, когда тяжелая дверь закрылась за ними, Наташа вспоминала как страшный сон, который хочется, но никак не получается забыть. Стоило девушке закрыть глаза, как в памяти оживали цепкие, ухватистые руки, которые мертвой хваткой сдавили ей талию, колючие, жесткие усы и борода, противно щекочущие шею и плечи, тянущиеся к ее губам похотливые старческие губы, на которых играла омерзительная улыбка. Осознав, какие «планы» в отношении нее строит частый и уважаемый гость театра, Наташа начала сопротивляться. Кричать, звать на помощь она не решилась. Собрав все свои силы, девушка оттолкнула старика. Не ожидавший такого яростного отпора Калинин едва удержался на ногах. С его лица слетели очки с круглыми, в тонкой оправе стеклами. Всесоюзный староста сверкнул на балерину колючим, злобным взглядом. Этот взгляд больше всего не давал Наташе покоя… – Он тебя …обесчестил? – тихо спросила Лия. – Нет… Я убежала. Переоделась и поехала домой. – А что было потом? Наташа некоторое время молчала. Она сидела не двигаясь, словно каменная скульптура. – Потом все кончилось, – наконец промолвила балерина. – Все. Дома у девушки началась истерика – сказались последствия перенесенного стресса. Она ничего не рассказала ни маме, ни тем более отцу, ни приглашенному на дом доктору – другу их семьи. Врач посоветовал дать девочке успокоительное и уложить в постель. 92 Утром мама нашла дочку мечущейся в бреду, с высокой температурой и выступившей по всему телу сыпью. Наташу увезли сначала в инфекционную больницу, потом, не обнаружив у нее никакой заразы, перевели в психиатрическую, где ее несколько недель накачивали какими-то лекарствами, толку от которых не было. В театр она больше не пошла. Ни о какой сцене не могло быть и речи. А затем на ее семью обрушилась новая, еще более страшная беда – арестовали отца. Потом пришли за мамой, через неделю после маминого ареста – за ней… – А знаете, Лия Лазаревна, партию Суок я все равно бы не станцевала, – вдруг сказала Наташа. – Даже если бы ничего этого не случилось – ни со мной, ни с моими родителями. Даже если бы я осталась работать в театре… – Почему? – удивилась Рахиль, а про себя подумала, что у девочки все-таки не все в порядке с головой. – А потому, что балет сняли с репертуара. Не дают теперь в Большом «Трех толстяков», – нервно засмеялась Наташа. Глава четвертая КАМЫШОВЫЙ АД «Сегодня десятое ноября… Десятое… Я здесь ровно два месяца. Всего два из шестидесяти… – Рахиль всхлипнула, но подавила подступающие к горлу рыдания. – Господи, этому не будет конца…» Сжавшись в комочек на крепко сбитом камышовом матрасе, она постаралась поплотнее завернуться в стеганую телогрейку, которую «зечкам» выдали с наступлением холодов. К телогрейке прилагалась и соответствующая «обувь» – такие же стеганые бахилы на плетеной 93 веревочной подошве. В начале ноября этот «наряд» еще сносно защищал заключенных и от пронизывающего степного ветра, и от первых заморозков. Но что будет потом, когда ударят настоящие морозы? Об этом они боялись даже думать… Поправив под головой скрученный валиком платок, который по ночам служил ей подушкой, и пряча руку под телогрейку, Рахиль случайно провела ладонью по щеке. От этого прикосновения женщина вздрогнула – ей показалось, что она дотронулась до лица куском грубой наждачной бумаги. «Господи! – снова взмолилась Лия. – Неужели это мои руки?! Да что там руки! Мне тридцать один год, а я похожа на пятидесятилетнюю старуху!» Как-то она попросила у одной из заключенных кусочек невесть откуда взявшегося у той зеркала и ужаснулась, увидев в нем свое отражение: на нее смотрела некрасивая старая тетка с ввалившимися глазами и всклоченными, плохо промытыми волосами. Больше она в зеркало не смотрелась. Откуда-то с нижнего яруса нар доносились приглушенные рыдания. «Кажется, Вера плачет… Или Антонина? А, может, Тамара? Нет, всетаки Вера», – гадала Рахиль. «Боже мой, до чего ж мы дожили… – мелькнула в ее голове мысль. – Если бы раньше при мне кто-нибудь заплакал, я бы тут же кинулась утешать человека, даже совершенно незнакомого. А сейчас? Наверняка кто-то тоже не спит и слышит, как всхлипывает Вера, но ведь никто – никто! – не подойдет к ней, не пожалеет… И не потому, что все мы такие черствые. Просто жалостью тут никому не поможешь… И все это знают». Сама Рахиль не могла заснуть не потому, что ей мешали рыдания Веры. Стоны и плач в бараке были делом обычным. Просто сегодня в 94 ее беспросветной лагерной жизни произошли события, которые ей хотелось обдумать. Во-первых, она наконец-то встретила Женю. Согнувшись в три погибели, Рахиль вместе с другими заключенными жала на озере камыш. Стараясь не обращать внимания на ноющую боль в спине, она с трудом срезала твердые трубчатые стебли растения, которые шли на набивку матрасов и отопление бараков. Разговаривать ни с кем не хотелось. Да и не разговоришься особо, когда рядом маячат вооруженные охранники и оглушительно тявкают свирепые, полуголодные собаки. Рахиль выпрямилась, чтобы положить охапку срезанного камыша в кучу, и тут же услышала: – Лия, ты что ли? Голос показался ей знакомым, но заключенную, которой он принадлежал, она не узнала. – Не узнаешь? Это же я, Женя. Мы с тобой на «саманке» работали! Помнишь? – Же… Женя?.. – едва выдавила из себя Рахиль, рассматривая стоявшую перед ней крайне истощенную, бледную, будто обескровленную женщину. Лишь блеснувшие в серо-голубых глазах искорки напомнили ей стойкую, неунывающую Евгению, с которой она познакомилась в первый день своего пребывания в лагере. – Ну? Вспомнила? – снова спросила бывшая актриса и надрывно закашлялась. Рахиль не ответила. Ее горло сдавил болезненный спазм, от которого она наверняка бы задохнулась, если бы захотела произнести хоть слово. Но все слова застряли где-то в гортани. Вспомнила ли она Женю? Да она никогда ее и не забывала. Могла ли Рахиль забыть человека, который протянул ей руку помощи в самый 95 первый день ее пребывания в лагере? Но как же изменилась подруга… – Женя, Женечка, куда же ты пропала? – наконец, выговорила Лия. – Я не видела тебя ни в бараке, ни в поле… – Болела я, Лийка, сильно болела, – снова закашлявшись, ответила Женя. – Воспаление легких у меня было, еле выкарабкалась. «Выкарабкалась? Это называется выкарабкалась?» – ужаснулась про себя Рахиль, а вслух произнесла: – Вот и хорошо. Значит, опять будем вместе? – Я лежала в больнице, но уже сегодня вернулась в наш барак. Кстати, не одна, – сказала Женя и, обернувшись к работающей рядом с ней заключенной, крикнула: – Валентина! Женщина подняла голову, потом встала во весь рост и кивнула Рахили. Несмотря на то, что на землю опустились серые сумерки, Лия мгновенно узнала подругу Евгении. Это была та самая дерзкая брюнетка, с которой она ехала в одном эшелоне первую половину пути – до Челябинска. После пересыльной тюрьмы они оказались в разных составах, а может, в разных вагонах, и больше не встречались. Как ни странно, но женщина почти не изменилась с того момента, когда Лия видела ее в последний раз. «Она меня, конечно, не узнает», – с горечью подумала Рахиль, вспомнив, каким она увидела свое отражение в зеркале. – А мы ведь с вами знакомы, – улыбнулась Валентина. – Одним этапом на эту каторгу добирались. Рахиль вздрогнула. Брюнетка не изменилась не только внешне… – Значит, вы и есть Лия? Мне Евгения о вас говорила. Вы и правда жена товарища Гайдара? – неожиданно поинтересовалась Валентина. 96 Рахиль приготовилась, было, сказать, что Аркадий Петрович – ее первый муж, а здесь она как жена расстрелянного троцкиста Израиля Разина, но на женщин прикрикнул наблюдающий за контингентом охранник: – Эй, тетки! Хватит болтать! Берем камыш и двигаем назад! С охапками камыша, строем они возвращались в лагерь. Лия шагала между Валей и Женей. Всю дорогу они делились новостями. Рахиль узнала, что новая подруга Евгении – Валентина Александровна – по специальности врач. Несмотря на то, что в лагере существовал запрет на работу по профессии, Вале повезло – ее определили в лагерную больницу медсестрой. – Если бы не она, – сказала Евгения, – мне бы точно не выкарабкаться. Лагерный врач на мне сразу крест поставил. – Да уж, острая двусторонняя пневмония – это не шуточки, – подтвердила Валентина. – Я больше месяца кровью кашляла, температура зашкаливала… Валя меня кормила, мыла, на горшок, как маленькую, сажала, а главное – таблетки для меня воровала. На этом и попалась… – Господи! – ужаснулась Рахиль. – И чем все кончилось? – Слава Богу, обошлось! Я живучая! Как видишь, снова в строю! – с неподдельным оптимизмом отрапортовала Женя. – Ну, и я теперь вместе с вами. Начальство проявило снисхождение, и меня наказали не слишком строго – присвоили категорию «ТФ», – в тон ей добавила Валентина. – Вот теперь тружусь как все нормальные люди! «А они не случайно нашли друг друга», – с искренней теплотой подумала Лия. Переложив с одной руки на другую тяжелую охапку стеблей камыша, она обратилась к Валентине: – А почему лекарство надо было воровать? Разве больным оно не положено? 97 – Не были бы у меня руки заняты, я бы показала тебе, что тут кому положено, – со злостью ответила женщина. – Наивная ты, Лийка, – поддержала докторшу Женя. – Нас тут знаешь сколько? – Сколько? – машинально переспросила Рахиль. – В каждом бараке – по три сотни. А бараков сколько, знаешь? Лия отрицательно покачала головой. За связкой камыша Женя не могла видеть этот жест, но и не дожидаясь ответа, она сказала: – Шестнадцать! Ну-ка умножь шестнадцать на триста! Сколько получится? А сколько в каждом бараке больных, знаешь? Чуть ли не половина! Так сколько на всех надо лекарств? Рахиль молчала. Она пыталась в уме произвести математические подсчеты, но цифры получались такие, что в них невозможно было поверить. – Больничка здесь маленькая, всего на пятьдесят коек, – серьезно, без свойственного ей сарказма сказала Валентина. – Лекарств не хватает. Люди мрут, как мухи. Я за два месяца нагляделась… Какое-то время они молчали. – А я ведь товарища Гайдара очень хорошо знаю, лично, – сменила вдруг тему Валентина. От неожиданности Рахиль чуть не выронила камыш. – Правда? – переспросила она, не сразу сообразив, как отреагировать на признание доктора. «Аркадий, конечно, бабник, но Валентина, кажется, не в его вкусе. Да и старше она его…» – подавив в себе легкий укол ревности, подумала Лия. – Я ведь по специальности психиатр, – сказала Валя. – Аркадий Петрович два года назад лечился в нашей больнице. Лия чуть было не спросила, от чего, но вовремя спохватилась – она прекрасно знала, от какой болезни мог лечиться в психбольнице Гайдар. 98 – Пил он, конечно, давно и здорово. Сам говорил… – продолжала Валентина. – Но и желание вылечиться у него было огромное. На все был готов ради этого. У нас его, по сути, как подопытного кролика использовали. – Как это? – удивилась Рахиль. – Ну, не то чтобы над ним какие-то опыты ставили… Просто наш главврач предложил Аркадию Петровичу полечиться гравиданом, и он согласился. – А что это за штука такая? Расскажи, может, и нам когда-нибудь пригодится, – полюбопытствовала Женя. – А что? Может, и пригодится. Кстати, тебе бы этот препарат здесь очень пригодился, – серьезно ответила Валентина и продолжила: – Вообще, гравиданотерапия – это абсолютно новая методика гормонального лечения, которую разработал доктор Замков. – Никогда о таком не слышала, – снова перебила врача Евгения. – Здоровая, значит, была вот и не слышала, – ответила ей Валентина. – А вот заболела бы ты воспалением легких в Москве или у себя в Саратове, а не в этом гадюшнике, то, возможно, и услышала бы и о Замкове, и о гравидане. Потому что этот препарат применяется, прежде всего, при лечении пневмонии и других инфекционных и воспалительных заболеваний – например, малярии, тифа. И в хирургии он используется, и в урологии, и в лечении сердечнососудистых заболеваний… – Ну, села на своего конька… Можно покороче, а то уже скоро в лагерь придем, – вновь перебила Валентину Женя. – Начни отсюда: пришел к вам товарищ Гайдар лечиться от пьянства… Рахиль слегка покоробила бесцеремонность подруги. Все-таки она говорила о ее муже, пусть даже бывшем. Впрочем, от правды никуда не денешься… 99 – Еще за несколько лет до того, как пришел к нам товарищ Гайдар лечиться от пьянства, сидел в какой-то деревеньке под Клином талантливый доктор Алексей Андреевич Замков. Кстати, родной муж не менее талантливого скульптора Веры Игнатьевны Мухиной. Ну, это так, к слову… – рассказывала Валентина. – Так вот. Замков этот был уверен, что в лечении человеческого организма необходимо использовать его собственные химические составные части, можно сказать, его собственные соки, и изготовил препарат, который вырабатывался из мочи беременных женщин. Он решил испытать его на себе, и когда сделал это, обнаружил, что препарат, который он назвал гравиданом, оказывает сильное влияние на психику человека. Не буду вдаваться в медицинские подробности, скажу только, что Замков решил посмотреть, как это лекарство будет действовать на страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, и предложил товарищу Гайдару пройти курс лечения. Теперь все понятно? – Этот препарат опробовали только на нем? – тихо, так, что Валентина еле ее услышала, спросила Рахиль, когда колонна заключенных уже подошла к воротам лагеря. – Ну, что ты! Нет, конечно. У нас было много пациентов. Но Аркадий Петрович был лучшим из них – самым терпеливым и послушным. После ужина, перед тем, как отправиться спать, все трое решили еще немного пообщаться и уселись на скамейку возле печки. Рахили очень хотелось продолжить беседу о Гайдаре, но она не решалась ее начать – мало ли у подруг других тем для разговора. Неожиданно ее выручила Евгения, которая спросила у Валентины: – Так что с этим гравиданом? Он действительно помогает вылечиться от пьянства? 100 – Не знаю. Трудно сказать. Наверное, как и все препараты – одним помогает, другим – нет, – ответила докторша. – Но не все даже курс лечения до конца проходят. – Почему? – в один голос спросили Лия и Женя. – Потому что лечение очень тяжелое – уколы болезненные, многие их не переносят. Да и терпения не у всех хватает. – А Гайдар? – не выдержала Рахиль. – Аркадий Петрович молодец – все вытерпел. Говорил, раз пришел лечиться, значит, буду лечиться, – сказала Валентина и, повернувшись к Рахили, добавила: – А ведь его в больнице другая женщина навещала. Тебя я там ни разу не видела. – Что тут удивительного? – пожала плечами Лия. – Я тогда жила с Разиным, а Гайдар – с Аней Трофимовой. Она к нему и приходила. – Ох, уж она его и обхаживала! – засмеялась Валя. – Как-то захожу к нему в палату – проверить, как он там после инъекции, а он от боли морщится, бок исколотый потирает, а сам смеется: «Все прекрасно, доктор! Смотрите, что мне Нюруська принесла». Я посмотрела, а у него на тумбочке целая гора раков вареных, теплых еще. Представляешь? Лия промолчала. – Валюш, ну вот ты с ним часто общалась, разговаривала, – вновь проявила любопытство Женя, – скажи, что он за человек? У Лийки я не спрашиваю, у нее, как у бывшей жены, мнение может быть предвзятым. А ты что думаешь? Валентина задумалась. Через некоторое время она сказала: – В общем Аркадий Петрович произвел на меня впечатление человека хорошего – честного, доброго. То, что пил много, так это, скорее, его беда, а не вина. 101 …Давно уже перестала плакать Вера, в бараке было тихо. Намаявшихся за день заключенных сморил сон, а Рахиль все еще ворочалась на нарах – целый клубок беспокойных мыслей будоражил ее мозг, не давая заснуть. Значит, в сентябре тридцать шестого Аркадий лежал в психбольнице, где лечился гравиданом… Препарат ему, конечно, не помог. В этом она убедилась позднее. Интересно, что имела в виду Валентина, говоря о том, что она, Лия, ни разу не пришла к нему в больницу? Осуждала ее или просто так сказала? А зачем бы ей к нему идти, если его навещала «Нюруська»? У Гайдара тогда была своя жизнь, у нее – своя, с Разиным. Она вспомнила тот сентябрь тридцать шестого года. Замечательное было время. У нее – интересная работа на киностудии, у Израиля – в газете. Жили они прекрасно, кажется, и не поругались ни разу. Только почему-то черты его лица начинают стираться из памяти. А ведь еще и полутора лет не прошло… Здесь, в лагере, она все чаще и чаще вспоминает Аркадия. Почему? Потому что он жив, он там, на свободе, потому что она надеется на его помощь? Или потому, что любила его когда-то крепко? А может, и сейчас еще любит? «Уснешь ты, наконец, или нет? Спи давай – завтра ведь не встанешь!» – мысленно отругала себя Рахиль. В голову тут же просочилась ехидненькая мыслишка о том, что «не встать» здесь никто не позволит. Ну, разве что на самом деле не встанешь… Тогда тебя вынесут на носилках санитары. Нет, этого допустить нельзя. Надо жить, надо обязательно выжить. Хотя бы ради Тимура. «Немедленно спать!» – снова приказала себе Рахиль. 102 Последнее, что ей вспомнилось перед тем, как она, наконец, забылась тревожным сном, были слова Валентины, сказанные тогда, когда они уже собрались идти каждая к своим нарам: – Да, Лия, все забываю тебе сказать… Помнишь двух женщин, которые с тобой в одном вагоне ехали? Не знаю, как их звали… Одна повыше и похудее, другая – чуть ниже и немного покруглее. Так вот – та, что повыше, в нашей больнице лежала. – А что с ней, – спросила Лия. – Летальный исход. Померла она, от чего – не знаю, – ответила Валя. «Жалко Лидию Николаевну», – подумала, проваливаясь в сон, Рахиль. В конце ноября ударили настоящие морозы. Днем, когда заключенных уводили на работу, в бараке оставались дежурные, чтобы подбрасывать в печку камыш. За топливом женщины ходили все на то же озеро, теперь уже покрытое прочной ледяной коркой. Казалось, почерневшие от мороза стебли растут прямо изо льда. Окоченевшими руками, скользя по ледяной поверхности озера, Рахиль срезала камыш и с жалостью поглядывала на работающую рядом Женю – подруга захлебывалась мучительным кашлем, приступы которого случались у нее несколько раз на дню. «Не долечилась она тогда, – сказала как-то Валентина. – Надо бы ей опять в больницу». Рахиль тоже так думала, но Евгения отмахнулась от них обеих: «Ничего, пройдет…» Но кашель не прошел, а только усилился, его приступы случались все чаще. Внезапно Женя, не переставая надрывно кашлять, повалилась на лед. Лия и еще несколько женщин испуганно вскрикнули. Кто-то позвал охранника. Молодой казах, плохо говоривший по-русски, посмотрел на скорчившуюся на льду тетку, которая уже не кашляла, а как-то странно, навзрыд хрипела, и приказал: 103 – Давай поднимай, иди больница! Все строится! Лия и Сара с трудом подняли почти бесчувственную Евгению и, держа ее под руки, встали в строй. Когда колонна заключенных в сопровождении охранников двинулась в сторону лагеря, Рахиль, оглянувшись, посмотрела на то место, где только что корчилась ее подруга, и содрогнулась – на гладкой зеленовато-серой поверхности льда выделялись маленькие красные пятнышки. «Все. Это конец. Больше ей не выкарабкаться», – помимо воли врезалась в сознание мысль. От этой мысли сердце Рахили сжалось. …Вместе с неразговорчивой Сарой, с лица которой никогда не исчезало выражение скорби, Лия складывала возле печки стебли камыша. Просохнув, они быстрее разгорались. Прогорал камыш быстро. Конечно, единственная на весь барак печка не могла обогреть довольно большое помещение, но опасения, что зимой они превратятся из «баб заключенных» в настоящих «снежных баб», слава Богу, не оправдались. – Да не бойтесь вы! – еще несколько дней назад успокаивала женщин никогда не унывающая Евгения. – Стены толстые, ветром не продует. Печку затопим, согреемся, потом сами весь барак обогреем. От человека ведь тоже тепло идет, как от батареи. Нас тут почти три сотни, и у каждой – тридцать шесть и шесть, а у кого и побольше. Считайте, на барак почти триста батарей. «Правда, чуть тепленьких», – подумала тогда Рахиль. Вспомнив Женю, она еле сдержала слезы. Что-то подсказывало ей, что она никогда больше не увидит подругу. Евгения с первого дня пребывания в лагере стала для нее самым дорогим, самым близким человеком. Лия даже представить себе не могла, насколько бы 104 осложнилась ее жизнь, если бы судьба не свела ее с саратовской артисткой. Слишком прямолинейную, острую на язык Валентину Рахиль даже немного побаивалась. Настораживал ее сарказм, ее язвительные высказывания в адрес государственных лиц. Причем, колкости свои Валентина произносила громко, ни от кого не таясь, не опасаясь, что ее могут услышать. Рахиль не раз замечала, как в такие моменты некоторые заключенные смотрят на врача кто косо, а кто – испуганно. Как ей самой относиться к сарказму Валентины, Лия пока не знала, но подругой своей – второй после Жени – продолжала ее считать. Ни с кем из других женщин она так и не сблизилась. Наташа не в счет. Девушка для Рахили была скорее подопечной, чем подругой. – Скоро все за ней отправимся, – «разговорилась» вдруг молчавшая до сих пор Сара. Лия догадалась, что женщина тоже вспоминала Женю. – Не в бараке, так в поле замерзнем. Морозы тут, говорят, лютые бывают, градусов сорок, а то и больше. У меня сегодня башмаки ко льду примерзали. Что ж дальше-то будет? – вздыхая, продолжала причитать Сара. Рахиль не ответила. Еще днем, на озере, она думала о том же. Стеганые бахилы, которые Сара назвала башмаками, совершенно не грели. Да и телогрейка совсем не защищала ни от холода, ни от ветра. «Надо что-нибудь из домашней одежды разорвать на портянки. Наматывать их на ноги, а сверху надевать бахилы. Только бы налезли…» – подумала Лия. Не успела она решить, какую из вещей – любимый коричневый жакет или вязаную кофту пожертвовать для утепления «башмаков», как входная дверь распахнулась, и вместе со струей холодного воздуха в барак вошел молодой, с военной выправкой мужчина в высоких 105 кожаных сапогах, теплом бушлате и добротной зимней шапке из овчины. Рахиль сразу его узнала – это был начальник лагеря Сергей Васильевич Баринов. Однажды он уже заходил в их барак. Лия хорошо помнила тот день. Десятки женщин тогда бросились к нему, со слезами на глазах умоляя самое большое лагерное начальство разрешить им послать своим родным хоть одну весточку о себе. – Не положено… Приказ НКВД… Без права переписки… – отбивался от заключенных Баринов. Потом он протянул плачущим женщинам несколько листков бумаги и сказал: – Можете подать прошения о пересмотре ваших дел. Пишите… Женщины вмиг расхватали листочки. Хватило не всем – написать заявление в Прокуратуру СССР, товарищам Калинину, Ежову, Буденному, Ворошилову или самому товарищу Сталину хотела чуть ли не каждая. – Ничего, ничего, в следующий раз принесу больше бумаги, – пообещал Баринов. – Думаете, поможет? Руководство страны нас пожалеет и отпустит? Может, и мужей наших вернут? – как обычно громко, чтобы слышали все, а главное – сам начальник лагеря, спросила Валентина. На какое-то время в бараке установилась тишина, даже плач прекратился. У Лии замерло сердце. «Ну все, – подумала она, – подруге не поздоровится…» Сергей Васильевич молча посмотрел Валентине прямо в глаза, также молча повернулся к двери и, не попрощавшись с женщинами, вышел из барака. Никаких репрессий в отношении дерзкой заключенной не последовало. 106 На этот раз бумагу для прошений начальник лагеря не принес. Баринов держал в руке лишь один стандартный лист с отпечатанным на машинке текстом. Рахили, которая стояла недалеко от двери, удалось даже разглядеть под машинописными строчками круглые синие печати. От какого-то предчувствия – она не могла понять, плохого или хорошего – у нее екнуло сердце. «Видно, документ какой-то важный, – подумала Лия. – Сейчас, наверное, зачитывать будет». Она посмотрела Баринову в лицо и заметила, что только положение начальника лагеря заставляет Сергея Васильевича контролировать свои эмоции. Судя по блеску в его глазах, скорее, положительные… Поймав взгляд Рахили, Баринов опустил вниз руку, в которой он держал документ, и, продолжая сохранять выдержку, сказал: – В связи с наступлением холодов завтра утром вам будет выдана полагающаяся заключенным зимняя одежда, а именно: бушлаты, валенки, зимние рукавицы… «Не может быть, не ради этого он сюда пришел, – думала Лия. – Валенки, бушлаты – это, конечно, хорошо, но есть еще что-то, более важное, то, что лагерное начальство оставило напоследок…» – Ну, а теперь еще одна новость, очень для нас приятная. Рахиль не ослышалась – Баринов так и сказал: «Для нас». Несмотря на то, что начальник лагеря строго соблюдал дистанцию между собой и заключенными, никаких зверств по отношению к несчастным он не допускал. Вот на лицах доброй половины его подчиненных, уверенных в том, что у нас просто так не сажают, читались ненависть и презрение к ним – близким родственницам разоблаченных врагов советского народа. Трудно сказать, сомневался ли в виновности вверенного ему для перевоспитания контингента сам Баринов, но заключенные нередко ловили на его лице выражение плохо скрываемого сочувствия. 107 Лия вспомнила, как по прибытии в лагерь, в пищеблоке, она случайно услышала разговор двух женщин. Одна из них – видно, жена репрессированного военного – оказалась уроженкой Тверской, а теперь Калининской, области, где и проживала с супругом до ареста. – Ты фамилию начальника лагеря слышала? – спросила жительница Калинина свою подругу. Та назвала имя и фамилию Сергея Васильевича и поинтересовалась: – А что? – Да знаю я одного Баринова… Начальником Калининского областного управления НКВД работал. Интересно – это тот самый или нет? – А если тот, то что? Хорошо или плохо? – Да кто ж его знает… У нас в Калинине поговаривали, что нашего Баринова с должности сняли. Вроде, письмо он какое-то не такое в Москву написал, сомневался, тех ли сажают. Что с ним потом было – неизвестно. За такое письмо могли и расстрелять… А может, его сюда, в эту глушь, сослали? – Тоже не сладко… – вздохнула подруга жительницы Калинина. – Все лучше, чем расстрел, – возразила женщина. Потом Рахиль случайно узнала, что Сергей Васильевич действительно прибыл в Казахстан из Калининской области. Баринов оказался «тем самым». К счастью для заключенных. …Начальник лагеря развернул напечатанный на машинке документ. Женщины замерли в тревожном ожидании. Баринов прочитал несколько сухих, казенных фраз, из которых никто ничего не понял, потом, махнув рукой, свернул документ в трубочку и неторопливо, отчетливо, чтобы смысл каждого произнесенного им слова был хорошо понятен взволнованным женщинам, сказал: – Согласно приказу по Государственному управлению лагерей НКВД СССР исправительно-трудовой лагерь «Р-17», в котором вы все 108 находитесь, переводится со спецрежима на общелагерный. Это означает, что заключенные, осужденные как члены семей изменников Родины, не являются больше спецконтингентом. – Нас отпустят домой?! – истерично закричала одна из женщин. – Нет-нет… Пока нет. Вы не так поняли… – на мгновение растерялся Баринов и, тут же взяв себя в руки, четким, хорошо поставленным командирским голосом продолжил разъяснять содержание гулаговского документа: – Это значит, что режим в лагере будет мягче. А главное – вам будет разрешена переписка с родными. Вы сможете сообщить им о своем местопребывании, раз в месяц получать из дома письма… Последние слова начальника лагеря потонули в рыданиях обезумивших от услышанных новостей женщин. Пальцы никак не могли удержать карандаш. То ли потому, что за последние полгода, которые Рахиль провела в Бутырской тюрьме и здесь, в этом лагере, имеющем, оказывается, конкретный почтовый адрес: «Казахстан, Акмолинск, пункт 26», ее руки отвыкли от таких мелочей, как канцелярские принадлежности, то ли от охватившего ее волнения. Все это время она ломала голову над тем, как бы связаться с матерью, с Тимуром, с Аркадием. Но ничего путного на ум не приходило. Попытки других заключенных, раздобывших где-то клочок бумаги, передать написанное на нем послание через конвоиров или «вольняшек» жестко пресекались. И вот теперь перед ней лежит не клочок, а самый настоящий чистый лист, в руке она держит аккуратно заточенный карандаш, но ни одной фразы на бумаге пока не появилось. Рука не слушалась, мысли в голове разбредались. 109 Наконец, собравшись с силами, Рахиль вывела на белом листке два первых слова: «Дорогой сыночек». По щекам градом покатились слезы. Она едва успела отвернуть лицо от бумаги – не хватало еще, чтобы родные увидели на письме пятна и догадались об их происхождении. Выплакавшись, Лия задумалась. Что сообщить маме и сыну о себе, о своей жизни в лагере? Написать о том, как под палящим солнцем месила ногами глину для самана, как стертыми в кровь руками рыла арыки, как, корчась от боли в спине, копала ямы под посадку малины и яблонь, как озябшими пальцами резала упругие стебли озерного камыша? Или о том, как, засыпая под стоны и плач других заключенных, страдая от разлуки со своими родными, самыми дорогими ей людьми, видела по ночам беспокойные сны? Наконец, она приняла решение, снова взяла карандаш, придвинула поближе бумажный листок и, то и дело смахивая в сторону набегающие слезы, написала: «Дорогой сыночек, дорогая мамочка! Простите, что так долго не давала о себе ничего знать, не имела возможности. Теперь мы с вами будем переписываться. Ужасно по вам скучаю. Как вы там поживаете? Тимурчик, напиши, как у тебя дела в школе. Мама, как твое здоровье? За меня не переживайте, я живу нормально. Работаю на свежем воздухе, как простая колхозница. Мы облагораживаем казахскую землю, сажаем сады. Природа здесь очень красивая. Неподалеку очень большое, заросшее камышом озеро, где мы часто бываем. Из наших окон по вечерам виден необыкновенно красивый закат. Морозы тут бывают сильные, но нам выдали теплую одежду, так что я не замерзаю. Тимурчик, передай привет папе и напиши, как у него дела. Напечатали, наконец, его «Судьбу барабанщика» или нет? 110 До свидания, мои дорогие. Крепко вас целую и очень люблю. С нетерпением буду ждать от вас письма. Ваша Лия». «Интересно, как тут работает почта? Сколько дней идут письма от Акмолинска до Москвы и от Москвы до Акмолинска? Надеюсь, не к составу для «зеков» прицепляют почтовые вагоны…» – размышляла Рахиль, шагая в колонне заключенных, которая возвращалась в лагерь после работы в яблоневом саду. Сегодня они занимались делом несложным и даже приятным: подгребать снег к стволам посаженных осенью молодых яблонек – это вам не глину месить и не арыки копать. Погода, слава Богу, выдалась замечательная. Мороз стоял не сильный – градусов пятнадцать, не больше. Ветер, который, казалось, никогда не прекращается в этой степи, неожиданно стих. В синем небе светило холодное, но очень яркое солнце. Снег под валенками приятно похрустывал и блестел, как будто его посыпали переливающимися блестками. На лицах большинства женщин выступил нежный румянец. Если бы не одинаковые бушлаты с нашитыми на них номерами, можно было бы подумать, что в саду работают не заключенные исправительнотрудового лагеря, а обычные труженики сельского хозяйства, которые самозабвенно защищают молодые деревца от сильных морозов и степных грызунов. Рахиль посмотрела на работающую рядом с ней Наташу и порадовалась за девушку – ее бледные, почти как этот снег, щечки слегка порозовели. Последнее время подопечная Лии вызывала у нее тревогу. Конечно, все они тут померкли и огрубели, казались старше своих лет, но Наташа даже на фоне других заключенных выглядела очень плохо. 111 От былой красоты не осталось и следа. И не только потому, что и без того худенькая балерина от лагерного режима похудела еще сильнее и походила на обтянутый бледной кожей скелет. Такой была и Женя перед тем, как ее отправили в больницу. Но в Евгении чувствовалась жизнь, ее взгляд не потух даже тогда, когда она прощалась с Лией и Сарой у дверей лечебницы. В глазах Наташи жизни не было. Девушка замкнулась, ни с кем не разговаривала. Разве что односложно и нехотя отвечала на вопросы Рахили, когда та пыталась ее расшевелить. Ни с кем из других заключенных Наташа так и не сблизилась, хотя в их бараке проживало несколько ее ровесниц. «Неладное что-то с девочкой творится. Это я тебе как врач говорю, – сказала как-то наблюдавшая за балериной Валентина. – Я сначала подумала, что это вяло текущая шизофрения, но потом пригляделась к ней получше и поняла, что никакой патологии тут нет. Гложет ее чтото, покоя не дает. Вот она и ушла в себя, замкнулась. Ей бы выговориться, снять с себя этот груз, но она, видно, не решается…» «Да выговорилась уже, – с горечью подумала Лия. – Знаю я, что ее гложет. Но можно ли ей верить…» Рахиль до сих пор не могла понять, правду ли рассказала Наташа о своей роковой встрече с товарищем Калининым в коридоре Большого театра или придумала эту историю. С одной стороны, девушка все-таки казалась ей не совсем здоровой. Об этом говорило и ее странное поведение при общении с агрономом Семеном Ивановичем. С другой стороны, Лия помнила о распространяющихся по столице слухах о далеко не отеческих отношениях между престарелым всесоюзным старостой и совсем юными балеринками. Там, в Москве, она относилась к этим слухам как к грязным сплетням, распространяемым завистниками. Все знали о том, что товарищ Калинин, будучи председателем Президиума Верховного Совета СССР, уделял Большому театру особое внимание. Личное шефство важного государственного деятеля 112 над главным театром страны приносило немало пользы как артистам, так и самому театру. Большой освободили от многих налогов, государство оплачивало за него таможенные пошлины, обеим труппам – оперной и балетной – регулярно повышали зарплату, для артистов строили кооперативное жилье, за их здоровьем следило лечебно-санитарное управление Кремля… «Может, и есть, конечно, в этих слухах доля правды, – думала тогда, в Москве, Лия, – дыма без огня не бывает. Однако личная жизнь товарища Калинина никого касаться не должна. Говорят, с супругой своей он давно не живет. Кто ж запретит ему встречаться с актрисами, если они отвечают ему взаимностью? Ведь он к этому никого не принуждает…» После неожиданного откровения Наташи Лия, правда, вспомнила одну нелицеприятную историю, о которой шепталась вся Москва. Где-то год или два назад пропала совсем юная балерина Большого, которую долго не могли найти, а потом изуродованное тело девушки обнаружили в подмосковном лесу. Многие москвичи тогда поговаривали, что без всесоюзного старосты тут не обошлось. Но как можно было в это поверить, ведь официально товарищу Калинину никто никаких обвинений не предъявлял… – Снежок надо хорошенько приминать, тогда мышки к стволам не подберутся, – раздался где-то неподалеку дребезжащий голос агронома. – Они ведь, окаянные, прямо сквозь сугроб лезут, чтобы кору поглодать. А мы снег поплотнее утрамбуем, вот грызуны и не пролезут. Рахиль выпрямилась и посмотрела на Наташу – как на этот раз девушка отреагирует на Семена Ивановича. Балерина даже не повернула в сторону агронома головы, но ее худенькое тельце 113 сжалось и будто окаменело. Однако это состояние длилось недолго. Уже через несколько секунд девушка принялась яростно работать лопатой. «Слава Богу, обошлось», – подумала Рахиль. – Мышки кору обгрызают, а зайчики молоденькие веточки обкусывают, – уже с другой стороны дребезжал агроном. – Мы с вами потом колючек насобираем да и натыкаем их в сугроб вокруг стволиков. Вот зайчата и убегут не солоно хлебавши. – Им тоже есть хочется… – пожалел зверушек кто-то из женщин. – Хочется… Конечно, хочется. Всем есть хочется, – согласился Семен Иванович и тут же развел руками: – Но что же делать? Если яблоньки из-за зайцев или мышей погибнут, нам с вами не поздоровится. В данном случае, человек важнее зверя. Даже такого симпатичного, как зайчик. Ну и потом – ели же они что-то, когда этого сада здесь не было? А? Агроном отправился дальше. Женщины продолжали подгребать к деревцам рыхлый снег и утрамбовывать его вокруг стволов. Рахиль по-прежнему трудилась рядом с Наташей и думала о том, как бы ей разговорить девушку, вывести ее из того угнетенного состояния, в котором она находилась последнее время. – Ты письмо в Москву отправила? – не придумав ничего лучшего, спросила она у балерины. – Мне некому писать, – тихим, бесцветным голосом ответила Наташа. «Вот дура, нашла что спросить… – ругала себя Лия. – Знала ведь, что у нее родители арестованы». Через минуту она снова обратилась к девушке: – Ну, а бабушки, дедушки, родственники какие-нибудь, подруги, наконец, у тебя есть? – Мне некому писать, – тем же тоном повторила Наташа. Рахиль решила больше не доставать бывшую балерину вопросами и подумать лучше о чем-нибудь своем, но в голову вдруг пришла 114 неожиданная мысль: если мать Наташи тоже арестована как член семьи изменника Родины, то вполне возможно, что и она отбывает наказание где-нибудь в этих местах. Возможно, даже в этом же лагере, где содержатся тысячи женщин. Лия уже встречала здесь арестанток из одной семьи. Это были родные сестры или матери с дочерьми. – Она тоже тут… – сказала вдруг Наташа. Лия опешила: «Ей что – передались мои мысли?» Но, повернувшись к девушке, чтобы продолжить разговор, невольно вздрогнула: Наташа смотрела перед собой пустым, отрешенным от действительности, устремленным в никуда взглядом. «Все-таки с головой у нее не все в порядке…», – так ничего и не сказав, вздохнула Рахиль. Когда колонна подошла к воротам лагеря, на землю уже опускались сумерки. Неожиданно первые ряды женщин, словно наткнувшись на какое-то препятствие, остановились. Строй заключенных рассыпался. – А ну встали в шеренги! Нечего тут смотреть! Трактора никогда не видели?! – раздался громкий окрик одного из конвоиров. Как по команде затявкали собаки, привыкшие поддерживать ор охранников устрашающим лаем. – Пошли! Пошли! Не останавливаться! – перекрикивая собачий лай, приказывал конвоир. Женщины, на ходу восстанавливая шеренги, двинулись дальше. Рахиль заметила, что идущие в первых рядах заключенные, все как одна, повернули головы вправо. Не успела она подумать, что же такое они там рассматривают, как ее пятерка приблизилась к объекту, вызвавшему всеобщий интерес. Сначала она увидела трактор. Это был мощный «Сталинец» на гусеничном ходу. Такие махины несколько лет назад по образцу 115 американских «Катерпиларов» начал выпускать Челябинский тракторный завод. Когда Рахиль работала в Ивне, в местной МТС подобной техники еще не было. Там колхозные поля обрабатывали маленькие колесные тракторы. Но главное отличие заключалось не в этом. К «Сталинцу» была прицеплена огромная, похожая на железнодорожный вагон будка. Стояла будка на таких же огромных, под стать ей, деревянных полозьях. Трактор, по всей видимости, выполнял функции паровоза, волоча по снежной степи будку-вагон. Выхлопная труба «Сталинца» не заканчивалась над капотом. Она врезалась в переднюю стенку будки, пронизывала «вагон» насквозь и выходила на улицу через его заднюю стенку. «Система отопления…» – догадалась Рахиль. «А вот и «пассажиры», – с горечью подумала она, когда их колонна обходила группу скученных возле странного поезда женщин. Заключенных, доставленных в лагерь из Акмолинска зимним видом транспорта, оказалось человек семьдесят, не меньше. Зрелище они представляли жалкое и странное. Лишь некоторые из женщин, которых, видно, забрали в начале зимы, были одеты в более или менее теплую, приличную одежду. На одной из них Лия успела даже заметить дорогое пальто с воротником из чернобурки. Кое-кто из горемык был облачен в потрепанные солдатские шинели или старые, видавшие виды телогрейки. Но значительная часть контингента, задержанного до наступления морозов, оказалась одетой явно не по сезону. Арестантки натянули на себя всю одежду, которая у них была – жакеты, кофты, жилетки. Некоторые, за отсутствием шапок и платков, обмотали головы полотенцами. Но вряд ли такой «наряд» мог защитить их от зимней стужи. Рахиль скользнула взглядом по лицам вновь прибывших и ужаснулась. Все они имели одинаковый сиреневато-серый оттенок, 116 который накладывали на них сильный холод и сгущающиеся сумерки. Одинаковым показалось Лии и выражение, застывшее на каждом из этих лиц. Оно соединяло в себе целую гамму чувств, которые только может испытывать человек в самые тягостные моменты его жизни: отчаянье, отрешенность, безысходность, страх. Назвать это выражение каким-то одним словом Рахиль не могла. Не было в русском языке такого слова. Почти все заключенные держали в руках чемоданчики, сумки или корзинки. Одна из них прижимала к груди какой-то продолговатый сверток. Сначала Рахили показалось, что женщина, за неимением какого-либо баула, держит свои вещи, свернув их кулем. Но поравнявшись с ней, Лия чуть не закричала от ужаса – из «свертка» доносился жалобный детский плач. «Господи, за что?.. За что?..» – причитала идущая с ней в одном ряду Сара. То, что в лагере имеются детские ясли, в которых содержатся не достигшие трехлетнего возраста малыши, прибывшие сюда вместе с арестованными матерями или родившиеся здесь, Рахиль знала. Но она никогда не задумывалась над тем, как попадали сюда ни в чем не повинные крошки. И только сейчас, услышав этот плач, она представила себе весь тот ужас, который выпал на долю несчастных матерей и их детей, ехавших в этот бедлам зимой в «зековских» товарных вагонах! Последнее, что запомнилось пораженной жутким зрелищем Рахили, было лицо одной из заключенных, с которой она случайно встретилась взглядом. Женщина стояла в конце группы жавшихся к обочине арестанток. Лия успела заметить, что одета она была в добротное, хорошо сидевшее на ней пальто. Из-под съехавшего на затылок платка выбивались неопрятные, спутавшиеся пряди то ли седых, то ли очень светлых 117 волос, которые не смогли испортить красоты и благородства ее лица, на мгновение показавшегося Рахили знакомым. – На вот, почитай! – сказала Валентина, протягивая ей свернутую трубочкой «Правду». С тех пор, как контингент перевели со спецрежима на общелагерный, заключенные имели возможность читать центральные газеты. Мало того, заместитель начальника лагеря по воспитательной работе периодически проводил с ними политинформации, во время которых, ссылаясь на публикации в тех же газетах, рассказывал о гнусных выпадах против Советского Союза правительств отдельных, враждебных СССР государств, а главное – о достижениях советских тружеников в промышленной и сельскохозяйственной областях. Слушавшие замполита заключенные должны были осознать степень вины своих мужей, братьев или отцов, оказавшихся в стане врагов социалистической Родины и справедливо за это наказанных. А еще они, заключенные, обязаны были понять, что только добросовестным трудом можно хоть частично искупить вину своих родственников и свою собственную перед государством, партией и народом. – Газета-то старая, – сказала Лия, разворачивая «Правду». – От восьмого декабря. У нас по ней уже была политинформация. – Политинформация-то была. Только кое-что замполит не заметил. Вот, читай сама, – настаивала Валентина, ткнув пальцем в небольшую заметку, размещенную среди официальных сообщений. Информация занимала так мало места на странице, что лагерное начальство, скорее всего, не сочло нужным обсуждать ее с заключенными. «Тов. Ежов Н. И. освобожден, согласно его просьбе, от обязанностей наркома внутренних дел с оставлением его народным комиссаром 118 водного транспорта», – вслух прочитала Рахиль, с трудом разбирая в плохо освещенном бараке мелкий газетный шрифт. – Освобожден… По его просьбе… – растерянно повторила она слова из текста. – Что это значит, Валя? – Не догадываешься? – ухмыльнулась подруга. – Скоро раздавят гниду, вот увидишь. Отольются недомерку наши слезы. – Но товарищ Ежов остается на посту наркома водного транспорта… – растерянно возразила Рахиль. – Лийка, ты совсем дура?! – завелась Валентина. – Да что такое нарком водного транспорта по сравнению с наркомом НКВД! Еще весной, когда эту гадину по совместительству «водником» назначили, я почувствовала, что это неспроста. Все! Задний ход они дают! Скоро и из водного транспорта сволочь попрут, и пойдет он вслед за нашими мужьями! Вот увидишь! Рахиль лежала неподвижно, в полном оцепенении, отрешенно глядя перед собой. Она не могла пошевелиться, руки и ноги внезапно перестали ее слушаться. Все, что говорила Валентина, не укладывалось в голове. Как же так? Больше двух лет товарища Ежова называли сталинским наркомом, любимцем народа. Его портреты печатались в газетах, на демонстрациях их носили рядом с портретами товарища Сталина. Дети учили наизусть написанные казахским акыном стихи о «зоркоглазом и умном наркоме» Ежове. Их напечатала «Пионерская правда». Имя поэта вылетело у Рахили из головы, а вот строчки из его стихотворения она помнила хорошо: «Великого Ленина мудрое слово растило для битвы героя Ежова…» А как же «Стальные Ежовы рукавицы»? Во всей стране не найти человека, который не видел бы плакат художника Ефимова, где 119 изображен сталинский нарком, крепко сжимающий горло многоголовой змеи, символизирующей троцкистско-бухаринских шпионов, диверсантов и вредителей. Лия попыталась вспомнить, что говорила о Ежове Галя Плеско, которая работала с женой Николая Ивановича Евгенией в одной редакции. Вроде, она о нем хорошо отзывалась. «Конечно, мужичек он не видный – не то что мой Сашка или твой Гайдар, – разоткровенничалась как-то Галина. – Да и образования у него никакого нет. Но разве в этом дело? Когда говорить начнет или бумагу какую писать, ни за что не поверишь, что он даже школу не окончил. Но главное, Николай Иванович – замечательный организатор и исполнитель. Он умеет дело поставить…» Разговор этот был, кажется, в начале 1937-го. Еще до того, как нарком с большим рвением «поставил дело» по разоблачению врагов и изменников Родины на поток. Потом Плеско, правда, перестала восхищаться талантами супруга своей коллеги и начальницы. Рахили даже показалось, что Галина его боится. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Вся Москва жила в страхе, ожидая новых разоблачений… И вот теперь, получается, что «рукавиц Ежова» больше бояться не надо. Впрочем, они перешли к его приемнику – бывшему первому заместителю, а теперь – наркому НКВД товарищу Берии. Как-то он ими распорядится? «А ведь первым замом Ежова Лаврентий Берия был назначен не так давно, – размышляла Рахиль. – Кажется, в августе, во время нашего этапа в Акмолинск. Может, и права Валентина – не случайны все эти перестановки в верхах». Потом она подумала о том, что, возможно, ослабление лагерного режима как-то связано с назначением Берии заместителем Ежова. 120 Внезапно по телу Рахили прокатилась горячая волна, оцепенение прошло, ее сердце бешено забилось. В голове один за другим возникали вопросы: «А что если это только начало? Что если наши дела пересмотрят, нас признают невиновными и отпустят? Может, Ежов переусердствовал в своей борьбе с врагами народа, и новый нарком начнет исправлять допущенные ошибки?» Неожиданно в памяти отчетливо возникла картина, которую до этого момента Рахиль вспоминала как-то расплывчато, смутно, частями, а не как единое целое. Бутырская тюрьма. Две надзирательницы в форме сотрудников НКВД ведут ее по длинному коридору на допрос. С одной стороны коридора мелькают забранные решетками окна, с другой – расположенные через равные промежутки одинаковые крепкие двери. В полной тишине гулко разносятся шаги трех женщин. Вдруг из-за закрытой двери раздается страшный, нечеловеческий крик, заглушающий эти шаги. Крик переходит в душераздирающий вой, который стихает по мере удаления женщин от двери, из-за которой он доносится. Рахиль охватывает ужас, который усиливается оттого, что она не смогла даже понять, кто же кричал – мужчина или женщина. И вот перед ней открывается точно такая же дверь. Она входит в кабинет – просторный, с высокими сводчатыми потолками и большими зарешеченными окнами. За столом сидит молодой следователь с холодными светлыми глазами на абсолютно бесстрастном лице. Его руки лежат на столешнице поверх каких-то бумаг. Взгляд Рахили невольно задерживается на пальцах следователя – тонких, длинных, как у музыканта, с аккуратно подстриженными ногтями. 121 «Неужели человек, у которого такие пальцы, может кого-то бить, причинять боль себе подобному?» – подумала Рахиль и тут же услышала голос следователя: – Вам уже известно, что ваш муж, Разин Израиль Михайлович, задержанный по обвинению в участии в контрреволюционной организации, приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение третьего февраля этого года. Вам известно также, что вина изменника и вредителя Разина доказана, сам он сознался в преступной деятельности, направленной против нашего социалистического государства. От вас требуется поставить свою подпись на документе, подтверждающем вину вашего мужа. Рахиль молчала. Она не знала, как ей поступить. Неожиданно в холодных, непроницаемых глазах следователя мелькнул живой огонек. Он встал, вышел из-за стола, медленно подошел к окну и, повернувшись к ней спиной, отчетливо произнес: – Лия Лазаревна, вы все равно ничего уже не измените. Подпишите бумаги. Поймите, от этого зависит срок вашего наказания. И она подписала все, что от нее хотели. …Рахиль снова бросило в жар. Почувствовав, как по телу начал струится пот, она откинула полу служившего ей одеялом бушлата, но облегчения не ощутила. Плохо слушающейся рукой Лия расстегнула верхние пуговицы кофты и провела ладонью по груди. Рука сделалась мокрой от горячего, липкого пота, которым покрылось ее тело. «Изя, Изечка, дорогой мой, любимый, прости меня, прости… – заливаясь слезами, мысленно обращалась она к несчастному Разину. – Я никогда не верила, что ты виновен, никогда… Но что я могла сделать?! Тебя уже не вернуть, а у меня Тимур, мама… Прости меня, родной… Я всегда тебя буду помнить, всегда…» Рахиль вдруг осознала, что плачет громко, навзрыд, и ее рыдания слышат другие женщины – те, кому тоже не дают покоя терзающие 122 душу мысли и переживания. Она повернулась на бок и уткнулась лицом в колючий матрас. Еще какое-то время из глаз ее лились слезы. Потом они кончились. Лия натянула до шеи бушлат и, все еще продолжая всхлипывать, уснула. Во сне она видела Израиля – живого и здорового. Он стоял на песчаном берегу Москвы, у самой воды – в том месте, где они любили гулять по вечерам, спустившись к реке с Рочдельской улицы. На этой улице они прожили несколько счастливых лет, за исключением того времени, когда она вынуждена была уехать из столицы в Ивню. Лия протянула к мужу руки, он, улыбающийся и веселый, сделал шаг ей навстречу, но внезапно остановился и замер на месте. С лица его исчезла улыбка, оно исказилось, словно от сильной боли, и начало медленно растворяться в выползающем из воды густом тумане… На следующий день Рахиль получила письмо из дома. Она держала в руках исписанный знакомыми почерками листок, но никак не могла прочитать ни одного предложения – мешали застилающие глаза слезы. Наконец, ей удалось разобрать несколько слов, написанных Тимуром: «Здравствуй, дорогая мамочка. Ну, вот мы и дождались твоего письма. Ты пишешь, что у тебя все нормально. У нас тоже все нормально. Я живу с бабушкой, хожу в школу. Учусь нормально, как всегда…» «Как всегда…» – вытирая слезы, улыбнулась Рахиль. Эта фраза означала, что отметки сын получает самые разные – от троек до пятерок. Раньше она отругала бы его за низкие оценки – знала, что мальчик у нее способный, но не отличается особым прилежанием. Если бы захотел, мог бы стать отличником. Но сейчас успеваемость сына не имела никакого значения. Главное – он дома, со своими родными, а не в приюте для детей, чьи родители репрессированы. 123 После строчек, не совсем аккуратно написанных рукой Тимура, сквозь слезы Лия разглядела несколько строк, которые ровным красивым почерком написала мама. Не трудно было догадаться, сколько сил пришлось приложить женщине, чтобы почерк не выдал ее волнения. Зато это сделали несколько маленьких расплывшихся на чернилах пятнышек. Мама писала, что любит ее, ждет и надеется на скорую встречу. Потом снова шел текст, написанный Тимуром: «Мамочка, ты спрашивала, как дела у папы. У него тоже все нормально. «Судьбу барабанщика» начали печатать в «Пионерской правде» и обещали напечатать в журнале «Пионер», но почему-то не стали. В «Пионерке» тоже вышло только начало, а продолжения нет. Почему, я не знаю, и у папы спросить не могу, потому что в Москве его нет, он сейчас в Ялте…» Сначала Рахиль прямо по сердцу полоснуло известие о Ялте. Она поняла, что Гайдар взял путевку в Дом творчества писателей в Крыму. Горло, как от накинутой удавки, сжала обида. Она здесь, в этом аду, замерзает от ветра и холода, голодает, работает, не разгибая спины, а он наслаждается крымским солнцем, пусть даже в декабре и не полетнему теплым, да еще наверняка с какой-нибудь девицей! Потом обида прошла, вернее, ее вытеснило другое чувство. Рахиль еще раз прочитала последние строчки, написанные Тимуром. Сообщение о том, что «Судьбу барабанщика» перестали печатать, могло означать только одно: Аркадий оказался в опале. – Наташа, ешь, суп сегодня вкусный. Ешь, пока теплый, а то совсем сил не останется, – уговаривала Рахиль свою подопечную, которая молча водила ложкой по дну алюминиевой миски. 124 Она не лукавила – лагерная баланда, которую Лия называла супом, действительно показалась ей вкусной. В подсоленной воде вместе с рваными листьями капусты и плохо очищенным, крупно порезанным, сладковатым на вкус картофелем плавали зерна разварившейся крупы и – о чудо! – кусочки то ли ливера, то ли каких-то сухожилий, по вкусу вполне напоминающих мясо. Девушка никак не реагировала на уговоры. Она, будто не слыша слов Рахили, продолжала сидеть, тупо уставившись в миску. В конце концов, Лия решила оставить балерину в покое и принялась наслаждаться обедом, пока суп окончательно не остыл. Поев, она положила ложку на стол и посмотрела на Наташу. Перед девушкой по-прежнему стояла полная миска супа, к которому она так и не притронулась. Но теперь взор балерины был направлен не на плошку с едой. Наташа смотрела прямо перед собой, и вовсе не таким отсутствующим взглядом, к которому уже успела привыкнуть Рахиль. По выражению ее лица, по появившимся на бледной коже розовым пятнам, по тому, как напряглось ее худенькое тело, Лия поняла, что девушка чем-то сильно взволнована. «Что же такое она там увидела?» – удивилась Рахиль и проследила за взглядом балерины. Что или кого так внимательно рассматривала Наташа, Лия понять не смогла. Ее взору предстала обычная, хорошо знакомая картина – несколько длинных, параллельно стоящих столов, за которыми с двух сторон сидят заключенные. Многие едят, не сняв бушлаты, хотя в столовой относительно тепло. – Она тоже здесь! Смотрите, смотрите, я же говорила, что она здесь, – показывая рукой на одну из поднявшихся из-за стола женщин, – вдруг закричала Наташа. Рахиль проследила за жестом девушки и обомлела. Благородная осанка, красивый овал лица, иссине-черные, разделенные на прямой пробор волосы, выразительные глаза, небольшая ямочка на 125 подбородке были ей хорошо знакомы. Она узнала заключенную, на которую показывала балерина. – Суламифь Михайловна, Суламифь Михайловна! Это вы? Суламифь Михайловна! – протискиваясь между столами, как заведенная, повторяла Наташа. Добравшись, наконец, до женщины, которая привлекла ее внимание, девушка остановилась. На ее лице появилась растерянность. Женщина тоже смотрела на балерину с недоумением, смешанным с неподдельным интересом. – Успокойся, Наташенька, – обнимая девушку за плечи, сказала подоспевшая Рахиль. – Это не Суламифь Михайловна. Это совсем другой человек… Здравствуйте, Рахиль Михайловна. Извините нас… Последние слова были адресованы женщине, на лице которой все еще читалось недоумение. – Здравствуйте, – спокойно сказала она и обратилась к Наташе: – Деточка, вы, наверное, спутали меня с сестрой? Говорят, мы с ней похожи, хотя я старше на целых шесть лет. – Значит, вы не Суламифь Михайловна… – растерянно лепетала Наташа, по лицу которой трудно было понять, обрадовала или расстроила ее эта ошибка. – Я вас видела издалека… И еще я подумала, что вы здесь постарели, поэтому так выглядите… Рахили стало неловко за допущенную девушкой, очевидно, из-за сильного волнения, бестактность, и, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, она сказала: – Ну, теперь ты видишь, что это – не Суламифь Михайловна, а ее не менее знаменитая сестра – известная артистка кино Рахиль Михайловна Мессерер-Плисецкая, которую все знают как Ра Мессерер. – Ну, я давно уже не актриса, лет десять не снимаюсь, – улыбнулась Мессерер. – Но все равно приятно, что кто-то еще помнит, узнает. 126 – Я хорошо вас помню, видела почти все фильмы с вашим участием, – слегка слукавила Лия. Скорее всего, Рахиль не узнала бы сейчас действительно популярную в прошлом актрису немого кино. Прошедшие десять лет и лагерная жизнь наложили свой отпечаток на внешность ее знаменитой когда-то тезки. К тому же, она впервые видела Ра Мессерер без грима. Но в «Союздетфильме» хранилось несколько фотографий актрисы, которые Лия часто рассматривала. Черты ее лица врезались в память. От старых сотрудников киностудии Лия знала, что кинематографу Рахиль Михайловна предпочла семью. Муж актрисы, Михаил Плисецкий, в молодости сам занимался производством первых советских фильмов, но потом перешел на хозяйственную работу, в начале тридцатых организовывал добычу угля в Арктике. Его жена с двумя маленькими детьми была рядом с ним. – Наташа балерина, она танцевала в Большом, а ваша сестра была ее наставницей, – сказала Рахиль и представилась: – Лия Лазаревна Соломянская, работала в «Союздетфильме». – Постойте, – снова обратилась к Мессерер Наташа, – так это вашу дочку я видела у нас в театре? Она к Суламифи Михайловне приходила… – Да, это моя старшая, Маечка. Ей недавно тринадцать исполнилось. – А кем она хочет стать – балериной или артисткой? – не останавливалась Наташа. – Маечка выбрала балет, и вся наша семья это одобряет. – А она хотела бы станцевать Суок? – Почему именно Суок? – удивилась Мессерер. – Впрочем, может быть и станцует. А вообще, я больше люблю классическую музыку. Вот лягу вечером на нары, глаза закрою и представляю, как моя доченька танцует в «Лебедином озере», «В спящей красавице» или в 127 «Щелкунчике», а я сижу в ложе или в первых рядах Большого театра и аплодирую, аплодирую ей вместе со всем залом… Рахиль Михайловна замолчала. В ее печальных темных глазах мелькнул слабый, мимолетный огонек – огонек надежды, который помогал ей переносить обрушившиеся на нее страдания. – А с кем ваша дочка сейчас? – не унималась разговорившаяся вдруг Наташа. – Маечка и ее братик, Алик, живут сейчас у Миты… у Суламифи Михайловны, – ответила девушке Мессерер. Ее глаза снова стали грустными и оттого еще более выразительными. – Значит, у вас двое детей… – констатировала Наташа. – Нет, у меня их трое. Азарику в июле исполнился годик. Он здесь, со мной. Рахиль сразу вспомнила пищащий «кулек», который она несколько дней назад видела в руках у прибывшей в лагерь заключенной, и содрогнулась от мысли, что и Рахиль Михайловна ехала сюда с крошечным сынишкой в насквозь продуваемом ветрами товарном вагоне. – Я бы хотела, чтобы и оба наших сына посвятили свою жизнь балету, – опережая вопрос Наташи, сказала Мессерер. – Да так оно и будет! Я уверена, что мы с Михаилом Эммануиловичем сможем гордиться своими детьми! Эта вера придает мне силы. В глазах женщины снова мелькнул уже знакомый Рахили огонек. – Ваш муж… Он… – Лия не сразу нашлась, как ей сформулировать вопрос о судьбе Михаила Плисецкого и, не придумав ничего лучшего, спросила: – Он сейчас где? – Где – не знаю. Мне удалось узнать только, что дали ему десять лет без права переписки, – ответила бывшая актриса и неожиданно разоткровенничалась: 128 – Представляете, Лия, эти ненормальные следователи из НКВД настаивали на том, чтобы я подписала в протоколе, что мой муж – враг народа, изменник Родины, участник какого-то заговора против товарища Сталина! – И что? Вы подписали? – с замиранием сердца спросила Рахиль, хотя уже знала наверняка, каким будет ответ. – Да вы что! – возмутилась Мессерер. – Отец моих детей не может быть врагом народа! В разгар зимы работы в лагере было немного. Перед заключенными стояла одна задача – выжить. Сделать это оказалось не просто. Чтобы единственная на весь барак печурка хоть как-то его обогревала, в нее постоянно нужно было подбрасывать камыш. Кроме того, озерную траву заготавливали и для отопления домов, где жили вольнонаемные, а также хозяйственных построек, столовых, больницы, детских яслей. Топлива требовалось много. Заготавливали его на несколько дней вперед. Староста каждого из бараков – а ею назначался кто-то из заключенных – разбивала женщин на бригады человек по пятьдесят, и они по очереди, строем ходили на озеро за камышом. Его жали серпами, связывали в снопы и таскали в лагерь. На этот раз была очередь бригады, в которой числилась Рахиль. Рядом с ней ловко управлялась с серпом Валентина. Женщины работали молча. Мороз стоял такой, что не только разговаривать, дышать было трудно – казалось, что легким не хватает воздуха. «Градусов сорок, не меньше, – подумала Лия, – да еще этот ужасный ветер… В Москве никогда такого не было…» Такие жуткие морозы на ее памяти случались только в Архангельске, да и то не часто. Ветры, правда, дули почти постоянно – тоже 129 колючие, пронизывающие насквозь. Но там, в старинном русском городе, вытянувшемся вдоль побережья Северной Двины, она, казалось, и не замечала ни холодных ветров, ни сильных морозов. Потому что там она была дома. И она была счастлива. Рахиль боялась заплакать. Если заплачешь, слезы на морозе застынут, скуют ресницы холодной ледяной коркой. Но стоило ей вспомнить что-нибудь хорошее из своей прошлой, долагерной жизни, как предательская влага подступала к глазам. А вспоминать хотелось только хорошее – это придавало сил. И все-таки на таком злом холоде плакать нельзя, надо крепиться. Лия попыталась представить себе, будто ее сбивает с ног не вьюжный, кружащий поземку ветер казахской степи, а прерывистый вихрь моряны, несущийся с просторов Белого моря. Она не на льду заросшего озера в лагере под Акмолинском, а в Архангельске, возле своего дома – на углу улицы Выучейского и набережной Ленина. Возвращается с радиостанции, где работает корреспондентом. И надето на ней ее любимое черное пальто с меховым воротником, а не этот тяжелый бушлат, сшитый в здешней мастерской руками заключенных, по причине болезни или старости оказавшихся не пригодными к работе по категории «ТФ». А на ногах у нее… А на ногах у нее тоже валенки, правда, поменьше и поскладнее. Демисезонная обувь давно убрана в шкаф – до весны. Без валенок зимой нельзя ни в северном Казахстане, ни в Архангельске. …Вот сейчас, стряхнув с валенок снег, она войдет в знакомый подъезд, поднимется в теплую квартиру, где уже пахнет вкусным ужином… «Будешь есть или его подождешь?» – крикнет из кухни мама. «Подожду», – ответит она и, усевшись на мягкий диван рядом с двухлетним Тимуром, спросит сына: «Ну, как мы себя сегодня вели?» А потом с работы придет Аркадий. Они сядут ужинать, и муж увлеченно начнет рассказывать ей, что нового у них в редакции 130 «Волны», над чем он сейчас работает, кого на этот раз собирается критиковать за разгильдяйство, тупость, бюрократизм, очковтирательство – все то, что он больше всего ненавидит в людях. «Где-то он сейчас, чем занимается, что пишет…» – вернувшись в действительность, подумала Лия. А еще ей очень хотелось бы узнать, с кем живет ее бывший муж. Гайдар не мог жить один, к быту он был совсем не приспособлен. Стоило ему получить хоть какие-то деньги, как от них тут же ничего не оставалось. Накупит чего-нибудь нужного и – чаще – ненужного, комуто вернет долги, с кем-то покутит в ресторане, раздаст друзьям и знакомым, а то и вовсе не знакомым ему людям, если узнает, что они в чем-то нуждаются, и все – кончились денежки. Внезапно мысли Рахили переключились на Ра Мессерер. «Бедная женщина, – подумала она, – не знает, видно, что означает приговор «Десять лет без права переписки». Нет больше у ее деточек отца. Да и маму свою они не скоро увидят – восемь лет будут долго тянуться. Разве что Азарий…» Вдруг она вспомнила жуткую картину, которую наблюдала некоторое время назад, когда их бригада шла на озеро за камышом. Колонну заключенных обогнал грузовик. Лия успела разглядеть двух находившихся в кабине мужчин – шофера и охранника. На руках у охранника сидел закутанный в какое-то тряпье ребенок. Разобрать, мальчик это или девочка, было невозможно, но уже через секунду Рахиль и все идущие с ней в одном строю женщины знали, что это – девочка, которую зовут Таней. Душераздирающий крик пронесся над шеренгами заключенных, над всем лагерем, над бесконечной казахской степью. – Таня, Танечка, доченька моя! Отдайте, отдайте! – кричала бегущая за грузовиком женщина. Ее волосы растрепались и развевались на ветру, бушлат расстегнулся, ноги путались в длинной серой юбке. 131 – Нет, нет! Танечка, доченька! Нет! – надрывалась несчастная мать, протягивая вперед заледеневшие на морозе руки. Расстояние между нею и грузовиком с каждой секундой увеличивалось, но женщина не останавливалась. Вдруг бедняжка поскользнулась на покрытой ледяной коркой дороге, как-то неуклюже взмахнула руками, по инерции сделала еще несколько шагов и, не удержавшись на ногах, с которых почему-то свалились валенки, рухнула навзничь. У Рахили оборвалось сердце. Кто-то из заключенных вскрикнул. «Все!» – коротко бросила Валентина. Но обезумевшая от горя женщина тут же – откуда только силы взялись! – вскочила на ноги и босиком помчалась за уже скрывающейся из виду полуторкой. Остановил ее один из сопровождающих колонну охранников. Слава Богу, парень оказался не злым. Другой бы застрелил бедолагу или спустил с поводка собаку. – В детский дом отправили, – зло сказала Валентина. – Три года исполнилось – все, прощай мама. «Что же будет с Азариком, когда ему исполнится три года?» – вспомнив эту ужасную историю, подумала Лия. Она даже не могла представить Рахиль Михайловну на месте несчастной заключенной, от которой оторвали дочку. «Вся надежда только на то, что наши дела пересмотрят и нас освободят, – думала Лия, срезая замерзшие стебли камыша. – Вся надежда на товарища Берию. Он должен разобраться, кто в чем виноват…» Внезапно серп замер в ее руке. «А если нет? Если не разберется? Не захочет разбираться… Что тогда?» – пронзила голову мысль. Тогда она ляжет прямо здесь, на такую вот охапку нарезанного камыша, и уснет, чтобы никогда больше не проснуться и не видеть этого 132 кошмара. Но пока есть надежда, надо жить, надо работать, надо стойко переносить все, что уготовила ей судьба. Закоченевшей рукой Рахиль ухватила горсть пожухлых стеблей и с ожесточением взмахнула серпом. Она даже не почувствовала боли, когда острое лезвие вонзилось ей в кисть. В лагерь ее провожала Валентина. Пока женщины шли до больницы, рукавица Рахили и все намотанные на руку тряпки пропитались кровью. – Как же вы так… – осматривая рану, с сочувствием сказала молодая черноглазая женщина, оказавшаяся врачом из вольнонаемных. – Ну, ничего. Рану сейчас обработаем и завяжем. Только освобождение от работы я вам дать не смогу. В таких случаях не положено… Докторша говорила так, как будто оправдывалась перед заключенной. Через несколько минут, обрезав ножницами кончики бинта, она сказала: – Ну, вот и все. Через день приходите на перевязку. Рахиль попрощалась и вышла в коридор, где ее должна была ждать Валентина. Однако подруги на месте не оказалось. Лия взяла со скамейки свой бушлат, который бросила туда перед тем, как войти в кабинет доктора, и, держа его здоровой рукой, начала одеваться. Получалось это с трудом. – Вам помочь? – раздался за спиной приятный женский голос. Рахиль была уверена, что слышала этот голос раньше. Она обернулась. Перед ней стояла медсестра в белом, как у врача, халате. В руке она держала лоток с какими-то склянками. Если бы не нашитый на груди номер, Лия ни за что бы не подумала, что женщина тоже из заключенных. 133 Она была худощавой, но не выглядела изможденной, как другие арестантки. Простой сестринский халат не портил, а даже, казалось, подчеркивал изящество ее стройной фигуры. Правильный овал лица заканчивался слегка выступающим вперед подбородком, что говорило о характере решительном, сильном. Красиво начертанные черные брови и темно-карие, обрамленные густыми, угольного цвета ресницами глаза, резко контрастировали с серебристо-белыми, как степной ковыль, волосами. Лия слегка растерялась – это была та самая заключенная из прибывших в вагоне-теплушке, которая показалась ей знакомой. Теперь у нее не осталось сомнений – она знает эту женщину, только почему-то не может вспомнить, кто она. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Рахили показалось, что медсестра тоже пристально вглядывается в ее лицо и тоже не может ее узнать. – Сестра! Ну где вы там? – послышалось из расположенного напротив них кабинета. Женщина бросила быстрый взгляд на дверь, из-за которой ее позвали, но осталась стоять на месте. – Идите, вас зовут, – сказала Рахиль. – Мне подруга поможет. Медсестра кивнула подошедшей к ним Валентине, попрощалась с обеими и вошла в кабинет, из которого ее звали. – Валь, я хочу тебя кое о чем спросить, – обратилась к подруге Лия, когда они вышли на улицу. – Спрашивай, – разрешила Валя. – Ты видела медсестру, которая со мной в коридоре разговаривала? – Видела. А что? – Ты ее знаешь? – Нет. Когда я работала в больнице, ее там не было. А почему ты спрашиваешь? 134 – Понимаешь, мне кажется, что мы с ней знакомы, встречались где-то раньше, а где – не помню. – Вообще-то, я думала, что ты спросишь меня о другом, – сказала Валентина. В голосе подруги Рахиль уловила легкий упрек. – Я боюсь даже об этом спрашивать, – вздохнула она. Лия поняла, что имела в виду подруга. – Не зря боишься. Ее там нет – я узнавала, пока ты была у врача. – А не может такого быть, что после выписки ее поместили в другой барак? – Наверное, может. Но ее не поместили – ее больше нет, Лия. Нет больше нашей Женечки. Несколько минут они шли молча, слушая, как под ногами трещит на морозе снег. Потом Рахиль спросила: – А где ее похоронили, не знаешь? Где тут вообще хоронят? Она вдруг сообразила, что во время перекличек охранники порой недосчитываются одной, а то и двух-трех заключенных, которых потом, накрытых каким-то старым серым одеялом, уносят из барака на носилках. Так куда же их уносят? Она не видела на территории лагеря кладбища. – Похоронили? – переспросила Валентина. – Кто ж тут зимой хоронит! Видела за больницей сарай? Рахиль молча кивнула. Она догадалась, что сейчас скажет Валя, но не стала останавливать подругу. – Это морг. Там складывают трупы умерших. Штабелями, один на другой, как дрова, – голосом, будто пропитанным жестью, сказала Валентина. – Весной, когда земля оттает, выроют ямы и закопают в общих могилах. Как собак бродячих… «Господи, а кто ж будет рыть эти ямы и складывать туда трупы?!» – с ужасом подумала Рахиль. И оттого, что ответ на этот вопрос был очевиден, ее передернуло. 135 Ночью она почти не спала. Во-первых, в бараке было очень холодно. Хоть дневальные то и дело подбрасывали в печку камыш, температура в помещении едва ли поднималась выше шести-восьми градусов. Да и можно ли было ждать большего, если на улице не меньше минус сорока. Во-вторых, ныла раненая рука. Хорошо еще с утра не надо идти на озеро за топливом – того, что они натасками, хватит на несколько дней, а там, может, мороз ослабнет. Но не только холод и боль в руке мешали Рахили заснуть. Из головы не выходила женщина, с которой она случайно столкнулась в больнице. Скорее всего, медсестрой она работает только здесь, в лагере. Дома у нее наверняка была какая-то другая профессия. Странно все-таки, что никак не удается вспомнить, где, когда, при каких обстоятельствах они встречались. А в том, что они встречались, Лия не сомневалась. Мало того, ей казалось, что она хорошо знает эту женщину. Тем более странно, что не может вспомнить, кто же все-таки она. После скудного завтрака – а в связи с сокращением рабочего времени в зимних условиях питание в лагере стало совсем скудным – арестантки строем направились в барак. У входа в помещение топталась худая серая лошадь, запряженная санями, на которых стояли ассенизаторские бачки – параши. Их ежедневно собирала по баракам специальная бригада из заключенных. Взамен ставились опорожненные. Кобыла, из ноздрей которой валил белый пар, понурив голову, неторопливо жевала снег. Две арестантки вынесли из барака зловонно воняющий бачок и поставили его на свободное место. – Ну все, Княгиня, трогай, поехали дальше, – беря клячу под уздцы, сказала одна из ассенизаторов. 136 Рахиль вздрогнула и обернулась на голос. – Ольга Борисовна, вы?! – воскликнула она, тотчас узнав свою попутчицу по этапу. – Товарищ Соломянская! Лия Лазаревна! Лиечка! – обрадовалась ассенизаторша. – Как хорошо, что я вас встретила! Ну, как вы? Рахиль пожала плечами: – Как все, так и я. – Да уж… – вздохнула Ольга Борисовна. – Я прошение написала в Прокуратуру СССР, а теперь вот думаю: может, лучше было бы товарищу Берии написать? Как вы считаете? – Не знаю, – снова пожала плечами Лия. – Поехали, Оля, холодно, – поторопила ассенизаторшу напарница. – Да, да, сейчас, – засуетилась Ольга Борисовна и, удерживая Лию за рукав бушлата, спросила: – Лиечка, вы подругу мою, Лидию Николаевну, тут нигде не встречали? Нас ведь разлучили в Челябинске. Я в разных бараках спрашивала, но никто не знает. А она ведь наверняка где-то здесь. Может, вы ее видели? – Нет, Олечка, не видела, – впервые обратившись к Ольге Борисовне не по имени и отчеству и стараясь не встретиться с ней взглядом, сказала Лия и пошла в барак. Спасаясь от холода, женщины, кутаясь в бушлаты, не снимая валенок, устраивались на нарах. «Надо поспать, боль, вроде, утихла», – подумала Рахиль, забираясь на свой матрас. Ей казалось, что после бессонной ночи она сразу же уснет. Но сон не шел. В голове одна за другой возникали картины, которые не давали ей забыться. То она видела лицо медсестры, ее волевой подбородок, лучистые темные глаза и волосы цвета белого медицинского халата. То вспоминала неприметный саманный сарай за зданием больницы, на 137 единственном окне которого даже не было решетки. Да и зачем бы она понадобилась? Те, кто находится в этом сарае, все равно не смогут убежать. Потом Лия попыталась вспомнить лицо Лидии Николаевны и удивилась, что черты этой женщины, с которой она больше двух недель бок о бок находилась в одном вагоне, почти стерлись из памяти. Не забылись только ее глаза, всегда влажные и печальные. Затем мысли Рахили переключились на серую лошадь. Она подумала о том, что человек, назвавший клячу Княгиней, был большим шутником. В этой кличке угадывалась насмешка не только над несчастным животным, но и над теми, кто им управлял, да и над всеми арестантками, многие из которых тяжелее карандаша и ручки ничего в руках не держали, а теперь вынуждены выполнять изнурительную, грязную работу. … Дверь в барак открылась, и в облаке белого пара в помещение вошла Женя. Она не была такой изможденной и худой, какой ее увидела Лия после первой выписки из больницы. Сейчас Евгения предстала перед ней совсем в другом обличье – она поправилась, похорошела, на щеках играл здоровый румянец. – Женечка, ты жива? – еле выговорила Рахиль. – Конечно! Говорила же тебе – я живучая! – засмеялась подруга. – А где же ты была столько времени? – Как где? В сарае – там, за больницей. Я тебя видела в окно, только ты ко мне не подошла. Рахиль хотела спросить подругу, что она делала в этом холодном, жутком сарае, куда они даже камыш для обогрева не носят, но не успела. – Лия, проснись, к тебе тут пришли, – откуда-то издалека донесся чейто голос, явно не Женин. Кажется, к ней обращалась Сара, ее соседка по нарам. 138 Рахиль хотела сказать, что она и сама давно уже видит, кто к ней пришел, но язык отказывался поворачиваться. – Лия Лазаревна, извините, что не даем вам спать, но проснитесь, пожалуйста, – раздался уже другой, опять-таки не Женин, но также хорошо знакомый Рахили голос. – Соломянская, давай вставай, ночью выспишься, – настаивал третий голос, который она тоже где-то слышала раньше. Рахиль открыла глаза, села и удивилась – на месте Жени, с которой она только что разговаривала, стояли две совершенно другие женщины. Одной из них оказалась медсестра из больницы, а второй – Лия не могла поверить своим глазам – ее коллега по «Союздетфильму» Кира Андроникова, жена Бориса Пильняка. – А Женя где? – еще не донца проснувшись, спросила Рахиль. – Какая Женя? Когда мы пришли, возле тебя никого не было, – удивилась Кира. Лия, наконец, сообразила, что видела подругу лишь во сне. В груди что-то кольнуло – будто острый кинжал вонзился в сердце, и через образовавшуюся брешь оно начало заполняться жалостью и отчаяньем. Если бы не неожиданные гостьи, Рахиль наверняка бы разрыдалась. Но, сдержав слезы, она обратилась к Кире: – Как вы меня нашли? – Да это Наталия Ильинична меня сюда привела! Мы с ней в одном бараке живем. Она и рассказала мне и про тебя, и про твою руку… – сообщила Андроникова. «Наталия Ильинична… Ну, конечно! – щелкнуло в голове у Рахили. – Сац! Это же Наталия Ильинична Сац! Господи, как же это я раньше ее не узнала?» 139 – Здравствуйте, Лия Лазаревна, – улыбнулась медсестра. – Я ведь вас никак не могла вспомнить. Если бы Вера Николаевна не записала вашу фамилию в журнале приема заключенных, может, так и не сообразила бы, где же я видела эту женщину раньше. Всю голову изломала… – И я тоже, – созналась Рахиль. – Лицо казалось знакомым, но… ваши волосы. Они ведь были темно-каштановыми… – Да, были… Это я в Бутырке поседела, за одну ночь, сразу после ареста. – Что ж вы стоите – садитесь! – вспомнив о гостеприимстве, Лия предложила женщинам место рядом с собой. – Да насидимся еще, не один год сидеть, – горько пошутила Кира, устраиваясь возле Рахили на нарах. С другой стороны на матрасе примостилась Сац. – Ну, давай рассказывай! – повернулась к Лии Андроникова. – До обеда времени много. К обеду гости Рахили должны были вернуться в свой барак. Днем заключенным разрешалось передвигаться по лагерю без конвоя, но в столовую следовало ходить строем. – Что рассказывать? – пожала плечами Рахиль. – Что я могу сказать такого, чего не знаете вы? – Ну, что там твой Гайдар пишет? Ты ведь получаешь от него письма? – настаивала Кира. – Пока я только одно письмо получила – от мамы и Тимура. У них, слава Богу, все нормально. А Аркадий еще ничего не написал. Да что он может сообщить нового… – погрустнела Лия. – Ничего, ничего… – утешила ее Наталия Ильинична. – Он обязательно напишет. Надеюсь, он там, в Москве, хлопочет за вас. Главное, с родными все в порядке, сын дома… 140 – А я своего сыночка, Бореньку, в Грузию отправила, к бабушке. Перед самым арестом. Едва успела… – вздохнула Кира. С Андрониковой Рахиль познакомилась в «Союздетфильме», куда обе они пришли почти одновременно. Лия перевелась из «Мосфильма», а ее коллега – после окончания режиссерского факультета ВГИК, где она училась у самого Эйзенштейна. Вообще-то, настоящая фамилия Киры – Андроникашвили, но в кинематографе ее знали как Андроникову. Кира была необыкновенно хороша собой. Когда-то ее красотой восхищался Маяковский. Родилась она в Грузии, где и по сей день жили ее родные. На киностудии шептались, что отец красавицы до революции был князем, а дочь его, следовательно, должна бы быть княжной, но вслух об этом предпочитали не говорить. Впрочем, арестовали Андроникову вовсе не за княжеское происхождение. Кира была женой репрессированного писателя Бориса Пильняка. Личность Пильняка всегда вызывала у Рахили искренний интерес. Выходец из поволжских немцев, этот привлекательный блондин с умными светлыми глазами и высоким лбом принадлежал к более старшему, чем Гайдар, поколению советских писателей. Когда-то – еще до того, как Рахиль с Аркадием переехали из Архангельска в Москву – Пильняк руководил Всероссийским союзом писателей, но лет десять назад, после публикации за границей скандальной повести «Красное дерево», был с этой должности снят. Его больше, чем кого-либо, критиковали за идеологические ошибки и даже приписывали ему «белую сердцевину». Тем не менее, Пильняк оставался одним из самых популярных и издаваемых в стране писателей. До самого ареста. Это случилось в октябре 1937-го. Вскоре на работу не вышла Кира… 141 Гайдар Бориса Пильняка, честно говоря, недолюбливал, часто соглашался с критикой в его адрес. Он больше уважал Федина, Слонимского, Семенова, восхищался Пастернаком. Но когда в Москве кто-то из знакомых подсунул ему запрещенную «Повесть непогашенной луны» – книга лежала на прилавках дня два, не больше, потом ее спешно сняли с продажи – Аркадий места себе не находил. Герой повести – командарм Гаврилов – умирает во время несложной операции по удалению язвы. В больнице его навещает некий «негорбящийся человек», который, судя по сюжету, причастен к трагической смерти военачальника… – А ведь Пильняк прав, Ралька! – возмущался Аркадий. – Убили они Фрунзе, точно убили. Я догадывался, я знал! Зачем, только, Ралька, зачем?! Когда Рахиль попыталась, было, возразить: мол, Пильняк сам пишет в предисловии, что к Фрунзе эта повесть никакого отношения не имеет, – Гайдар вспылил еще сильнее: – Да дураку понятно, что имеет! Только Михаила Васильевича похоронили, как и повесть вышла. Гаврилов – это и есть Фрунзе. А «негорбящийся человек»… Сама понимаешь, о ком речь… Рахиль бросила в топку очередную порцию камыша. Огонь радостно начал «пожирать» высохшие в тепле стебли. Несколько снопов растения, сложенных поленницей, лежали рядом с печкой. «Насколько их хватит? – с грустью гадала Лия. – На день? На два? А там опять на озеро, по морозу… Господи, скорей бы весна…» Сегодня была ее очередь ночного дежурства. Второй дневальной оказалась Сара, которая сосредоточенно и как всегда молча ломала длинные стебли, чтобы их легче было засунуть в печку. Сейчас 142 неразговорчивость Сары Лию вполне устраивала – у нее из головы не выходила встреча с Андрониковой и Сац, и ей хотелось об этом подумать. Особенно ее взволновал рассказ Наталии Ильиничны о пребывании в Сиблаге. Сац арестовали почти сразу после того, как репрессировали ее мужа – известного государственного деятеля Израиля Яковлевича Вейцера. Это случилось чуть ли не на год раньше, чем забрали Рахиль. Тогда, осенью 1937-го, Акмолинского лагеря еще не было. Первые партии заключенных начали поступать сюда лишь в январе 1938-го. А до этого арестованные по статье «Член семьи изменника Родины» отбывали наказания в смешанных лагерях – вместе с уголовниками. Наталия Ильинична оказалась в Сибирском исправительно-трудовом лагере. – По сравнению с этим лагерем Сиблаг просто курорт! – сделала свой вывод Сац. – Не может быть! Там же уголовники – насильники, грабители, убийцы! – изумилась Рахиль. – Это так, уж поверьте мне, Лиечка, – настаивала Наталия Ильинична. – Там и питание получше, и режим помягче. Когда меня сюда привезли, я ужаснулась: это же просто каторга средневековая! И порядок тут такой, что хуже, кажется, и не придумаешь… «Интересно, что бы она сказала, если бы прибыла сюда месяца два назад, когда даже переписка запрещалась, – вздохнула про себя Рахиль. – Да еще если бы глину ногами потоптала, саманные кирпичи поворочала, землю покопала… Все-таки медсестрой работать куда легче. Кстати, почему Наталию Ильиничну направили в больницу? Разве у нее есть медицинское образование?» Сац, словно прочитав ее мысли, сама ответила на этот вопрос: – Хорошо, что я в свое время выучилась на сестру милосердия. Муж часто болел, и мне приходилось самой за ним ухаживать. В моем деле 143 было указано, что я фельдшерские курсы окончила, вот меня и направили в больницу. – Наталия Ильинична, вы про самодеятельность расскажите, про «Бесприданницу», – попросила Кира. – «Бесприданницу»? – удивилась Рахиль. – Да, Лиечка. В Сиблаге мне удалось создать самодеятельный театр. Мы поставили «Бесприданницу» и ездили с ней на гастроли, – сказала Сац. – Театр, гастроли… – не верилось Рахили. – Вы шутите, Наталия Ильинична? – Ну почему же шучу? Все так и было: я собрала подходящих… Сац на секунду замялась. Видно, произнести слово «актеров» по отношению к уголовникам она не сумела. – …Собрала тех, кто мог бы исполнить роли, – продолжила она. – Ларису решила сыграть сама. Мы репетировали, шили костюмы, делали декорации. Примитивные, конечно, но вполне подходящие. Лагерное начальство шло навстречу – выделяло нужные материалы, освобождало заключенных от работы на время репетиций. А когда спектакль состоялся, мы ездили с ним по всему Сиблагу, по всем его отделениям. А их там немало. – Неужели уголовники могли играть в пьесе Островского? – продолжала удивляться Рахиль. – Представьте себе, смогли. Огудалову-мать у нас женщина одна играла – молоденькая совсем, но такая яркая, запоминающаяся. Сидела за убийство – мужа и любовницу его топором зарубила... – А вам не страшно было с уголовниками? – заинтересовалась Кира. – Честно сказать, иногда страшновато… Все-таки чувствуешь, что рядом с тобой – бандиты и убийцы. Но, представьте себе, они меня уважали, слушались, и ничего плохого мне никто никогда не сделал. Наталия Ильинична замолчала. 144 – А потом меня перевели в этот лагерь, – с явным сожалением сказала она после небольшой паузы. – Наталия Ильинична и здесь хотела какой-нибудь кружок организовать, но я ей сразу сказала, что ничего не получится – условия не те, – вздохнула Кира. – Верно, – согласилась Сац. – Когда я узнала, что оставшийся срок буду отбывать среди людей своего круга, конечно, обрадовалась, и действительно думала, что сумею создать тут что-то вроде самодеятельного театра. Но быстро поняла, что напрасно надеялась. И дело не только в жестком режиме. Народ здесь совершенно неподъемный – никто и слышать не хочет ни о какой самодеятельности. Хотя, вроде бы, творческих людей много, артистов, художников… Кстати, вот вы, например… Обе работали ассистентами режиссера, Лия занималась сценариями, а Кирочка еще и снималась. Так как насчет театра? Что скажете? А, Кирочка? Лия? Рахиль и Кира молчали. На их лицах ничего, кроме удивления от столь неожиданного предложения, Наталия Ильинична прочитать не смогла. …Огонь в печи прогорал. Лия подняла с пола небольшую охапку наломанных Сарой стеблей и сунула в топку. Ее напарница спала, сидя на сложенной из самана скамейке. Даже во сне с лица этой немолодой уже женщины не сходило выражение скорби – как будто она только что пришла с похорон. «Вот предложи ей Наталия Ильинична сыграть в спектакле – что она скажет? – усмехнулась про себя Рахиль. – Да и другим тут тоже не до самодеятельности…» Потом она вспомнила Наташу – у той вообще лицо безжизненное, застывшее. Как бы она отреагировала, если бы ей предложили станцевать тут, скажем, Суок? Впрочем, однажды 145 девушка ой как оживилась – когда ошибочно приняла Ра Мессерер за ее знаменитую сестру. Но это было всего лишь раз… «Наталия Ильинична удивляется, почему в уголовниках жизни больше, чем в нас, – продолжала размышлять Рахиль. – Что же тут непонятного? Воры и убийцы знают, за что сидят. У них одна задача – скрасить свое пребывание в лагере. Театр – так театр. Почему бы не сыграть? Время пролетит быстрее и веселее. А мы здесь за что? В чем наша вина? Никто ничего не понимает, поэтому нам и не до самодеятельности…» – Еще наломать? – прервала ее мысли Сара. Лия окинула взглядом кучку лежавших перед топкой стеблей и ответила: – Не надо, хватит пока. Спи. Сара снова закрыла глаза. «Буду экономить, чтобы на дольше хватило…» – решила Рахиль и снова вернулась мыслями к Сац. «Сколько же в ней энергии, силы. Даже здесь не унывает», – подумала она и вспомнила слова, которые, уходя из барака Рахили, словно молитву, произнесла Наталия Ильинична: «Мой папа всегда мне говорил, что в жизни могут встретиться очень большие трудности. Надо уметь их преодолевать, быть стойкой, мужественной. Главное – никогда не хныкать!» «Конечно, он прав, ее папа, – вздохнула Лия. – Но уж очень трудно не хныкать, когда к тебе относятся хуже, чем к убийцам…» Глава пятая ГРАНД ЖЕТЕ 146 Весна наконец-то наступила. В начале марта еще стояли морозы. По ночам температура понижалась градусов до двадцати, а то и больше, но днем, когда солнце поднималось над бескрайней белой степью, становилось так тепло, что в валенках и бушлатах заключенным делалось жарко. К середине месяца снег начал стремительно таять. На снежном покрывале появились серо-желтые островки проплешин, на которых топорщилась прошлогодняя трава. С каждым весенним днем эти островки делались все больше и больше. Вокруг них образовались потоки воды, которые устремились к озеру и вскоре затопили заросли камыша на всем их протяжении. Контингенту поменяли зимнюю одежду на демисезонную: вместо бушлатов и валенок выдали телогрейки и стеганые бахилы, в которых арестантки шлепали по распутице. Сушить обувь было негде – единственной на весь барак печки не хватало даже на тех, кто, стоя в ледяной каше, добывал топливо. Впрочем, к концу марта поступило распоряжение «отопительный сезон» завершить. …Забравшись прямо в мокрых бахилах на матрас, дрожащими от волнения руками Лия распечатывала конверт. По обратному адресу она поняла, что писали ей мама и сын. Это было уже четвертое письмо, которое она получила от них. От Гайдара никакого послания пока не было. Правда, каждый раз Тимур передавал ей приветы от отца и сообщал о его делах. Вытащив исписанный рукой сына листок бумаги, Лия обнаружила, что в конверте есть что-то еще. Она нащупала тоненькую прямоугольную картонку и извлекла ее наружу. Картонка оказалась фотографией. На снимке были изображены двое – Аркадий и Тимур. Фотограф сделал погрудный портрет отца и сына, сконцентрировав внимание на их лицах. И как бы ни скучала Рахиль по мальчику, первым ей бросилось в глаза лицо Аркадия. 147 За год – а они не виделись с марта тридцать восьмого – Гайдар, вроде бы, и не изменился: тот же высокий лоб, так же зачесаны назад светло-русые волосы, те же пухлые губы. Другим – непривычным, едва узнаваемым – показался ей взгляд, которым Аркадий смотрел на нее через объектив камеры. Обычно мягкий, живой и добрый на всех знакомых Рахили фотографиях на этом снимке он был потухшим и безрадостным. Она перевела взор на сына. Тимур, повзрослевший за несколько месяцев, которые они не виделись, сидел вполоборота, плотно прижавшись к отцу. Левой рукой мальчик обнимал Аркадия за шею. На лице сына Лия не уловила и подобия улыбки. Его взгляд был не подетски серьезным и печальным. Отец и сын понимали, куда будет отправлен снимок. Рахиль прижала фотографию к груди и дала волю слезам. «Господи, придет ли когда-нибудь время, когда я увижу их живьем…» – подумала она и, убрав фото в конверт, сквозь застилавшую глаза пелену начала читать написанные Тимуром строчки. Поведав о своих успехах в учебе и здоровье бабушки, сын сообщал о делах отца. Напечатанный в «Пионерской правде» и журнале «Красная новь» рассказ Гайдара «Телеграмма» издавался отдельной книгой под новым названием: «Чук и Гек». «Рассказ интересный, мне понравился, – писал Тимур, – хотя рассчитан он на маленьких. «Судьбу барабанщика» тоже печатают…» «Слава Богу…» – облегченно вздохнула Рахиль, прочитав последнюю фразу. Приостановка печати литературного произведения говорила только об одном – над автором сгущаются тучи. Могло случиться так, что Аркадию не помогла бы никакая «Телеграмма», даже самая замечательная. Помощь пришла оттуда, откуда Гайдар ее вовсе не ждал: в числе других советских писателей его наградили орденом «Знак Почета». Об 148 этом с гордостью за отца написал Тимур. Награда, конечно, не самая высокая, но не в этом дело – главное, опала с Аркадия была снята. «Папа сейчас лечится в больнице, в Сокольниках», – прочитала она дальше. «Ну, понятно, – мелькнула в голове мысль. – Понятно, от чего он лечится в Сокольниках…» «После выписки они с тетей Дорой поедут в Ялту, отдыхать», – продолжал сын. «В Ялту… С тетей Дорой…» – перечитала Рахиль. Обида разлилась по всему ее телу, ядовитой змеей в сердце вползла ревность. «Значит, с тетей Дорой… В Ялту…», – вслух повторила она. В душе Рахили словно что-то лопнуло, словно тысячи натянутых струн – ее нервов – оборвались одновременно. Она лихорадочно схватила конверт, достала из него фотографию и нервными пальцами вцепилась в нее с двух сторон. Оставалось сделать только одно движение – быстрое и резкое, и она оторвет от Аркадия Тимура. Сына оставит себе, а его… Его она выбросит, вычеркнет из своей жизни навсегда. Неожиданно пальцы Рахили замерли, будто окостенели. Ее взор был устремлен на руку мальчика, которой он обхватывал шею Аркадия. Если разорвать снимок пополам, кисть Тимура с напряженно согнутыми пальцами останется лежать на плече отца. «Что это я? С ума сошла? – остановила она себя. – Совсем голову потеряла…» Ей пришлось собрать все силы, которые у нее еще остались, чтобы привести в порядок разбушевавшиеся эмоции. Рахиль поднесла фотографию к губам, поцеловала до боли родное лицо сына и убрала снимок в конверт. Хотела снова перечитать письмо, но передумала, решила не взвинчивать и без того взбудораженные нервы и положила листок туда же. 149 Она легла на холодный матрас и укрылась с головой бушлатом. Ее ноги в мокрых бахилах ныли от леденящего холода. Внутри нее расплывалась леденящая душу пустота. Сколько времени она пролежала, не чувствуя ничего, кроме этой холодной пустоты, Лия не знала – может, пять минут, может, час. Постепенно к ней вернулась способность мыслить и реально оценивать ситуацию. «Так, главное – не заболеть», – сказала она себе и, сняв промокшие бахилы, принялась яростно растирать бесчувственные от холода ноги. Когда от кончиков пальцев вверх по телу начало подниматься долгожданное тепло, Лия вновь устроилась на матрасе, укрывшись бушлатом. Ее мысли снова вернулись к Гайдару. «Как-то с самого начала у нас все пошло не так, как должно бы быть… – подумала она. – А ведь, казалось, любили друг друга крепко». Во всяком случае, она его очень любила. В декабре двадцать пятого они расписались в пермском загсе, а в конце марта Рахиль сказала ему, что ждет ребенка. Аркадий, конечно, обрадовался, долго кружил ее по комнате на руках, а в апреле взял да и укатил со своим арзамасским дружком Колькой Кондратьевым в Туркестан на целых два месяца. Новых впечатлений ему, видите ли, захотелось. Конечно, она обиделась, уехала к родителям в Архангельск, где зимой родила Тимура. А потом, когда после скандала из-за какого-то фельетона, Гайдар, хлопнув дверью, ушел из «Пермской звезды», разве он поехал к жене и сыну? Нет! Отправился в Свердловск вместе с этой бессовестной певичкой – Любкой Азановой, с которой поселился в одной квартире. И даже покинув Урал и расставшись со своей новой пассией, целых полтора года он жил в Москве, опять же без нее и без Тимура. 150 Рахиль была счастлива, когда Гайдар появился, наконец, в Архангельске. Она простила ему и долгое отсутствие, и увлечение певичкой из Перми, и других женщин, которые у него наверняка были, но о которых она не знала и не хотела ничего знать. Простила, потому что любила. И потому, что чувствовала, что он, несмотря ни на что, тоже любит ее. Ее и сына. Сначала все у них было хорошо. Они оба много работали: она – на радио, он – в газете. Гайдар часто мотался по командировкам. То бродил по северным лесам, собирая материалы о труде лесорубов, то с артелью плотогонов ходил по Северной Двине. Случалось, крепко выпивал с работягами, объясняя это тем, что иначе их не разговоришь. Рахиль, конечно, дулась на мужа, но все же прощала ему эти «срывы» – так Аркадий сам называл свои запои. Со временем «срывы» участились. Пришлось обращаться к врачам. Гайдар не одну неделю лечился в Архангельской психиатрической больнице, но и после лечения продержался недолго. В феврале тридцатого они перебрались в Москву. Столица не изменила мужа – «срывы» периодически повторялись, отравляя Рахили жизнь. А потом она встретила Разина. «Вот видишь – сама ушла от Аркадия к Израилю, а теперь изводишь себя ревностью, – упреком прозвучал где-то в глубине души ее внутренний голос. – Прекрасно знаешь, как он страдал, как долго не мог пережить ваш разрыв. Умчался из Москвы на край света – в Хабаровск. Ему понадобился почти год, чтобы прийти в себя…» «Да, ушла… Но разве я виновата, что мое терпение лопнуло? Сколько можно было выносить эти бесконечные пьянки!» – возразила она «голосу». «Лучше признайся, что променяла его на спокойную, благополучную жизнь с Израилем. Тогда ведь ты и предположить не 151 могла, какая беда случится с новым мужем… – не соглашался «голос». – В конце концов, тебя ведь арестовали, как жену Разина». «Господи, как все запутано!» – подумала Лия и приказала себе: «Выброси из головы дурацкие мысли! Ты же знаешь Гайдара. С кем бы Аркадий ни спал, он сделает все возможное, чтобы помочь тебе, матери своего сына». Степь изнывала от зноя. Больше месяца на сухую, раскаленную солнцем землю не упало ни капли дождя. Еще кое-где выделялись на пожелтевшей траве неяркие пятна отцветающих растений, но видно было, что скоро померкнут, сольются с высохшей травой и они. Наступил август. Ладонью с загрубевшими на ней мозолями Рахиль вытерла струящийся по почерневшей на солнце коже липкий пот и согнала докучливых, облепивших лицо мошек. Прошел год с того дня, как ее в черном «зековском» фургоне привезли из Бутырской тюрьмы на железнодорожный вокзал и запихнули в переоборудованный для перевозки заключенных товарный вагон. В этом вагоне, корчась на жестких деревянных нарах, она провела целый месяц и еще одну неделю. В лагерь их этап прибыл в сентябре, и заключенным не довелось тогда испытать на себе весь ужас арестантского труда под палящим летним солнцем Казахстана. Рахили казалось, что даже зимой, в сорокаградусные морозы, было легче. Конечно, срезая на замерзшем озере стебли камыша, которым отапливался лагерь, весь контингент подвергался опасности умереть от холода, но тогда заключенных не заставляли работать ежедневно по десять часов в сутки. Перед ними стояла одна задача – выжить. С наступлением весны работы в лагере возобновились на всех фронтах. Одни бригады арестанток направлялись на стройплощадки, 152 где складывались из саманных кирпичей новые бараки и хозяйственные постройки. Другие занимались сельскохозяйственными работами на полях и в садах. Кое-кому пришлось осваивать профессию стригаля – перед началом пастбищного сезона требовалось остричь числящуюся за лагерем отару овец, из шерсти которых валялись валенки. Барак, где жила Рахиль, был закреплен за садово-огородническим производством. Едва сошел снег, заключенные начали возделывать землю под посадку картофеля и овощей. Потом они сеяли на этой земле семена сельскохозяйственных культур; изнывая от жары и укусов насекомых, которые тучами кружились над их потными телами, пололи траву вокруг пробившихся на грядках ростков; согнувшись, стоя босыми ногами в жидкой грязи, с помощью мотыг и лопат направляли из арыков воду для полива; не разгибая спины, собирали с полей ранний картофель, огурцы, помидоры, лук; кусая от напряжения сухие, обветренные губы, таскали к телегам тяжелые ящики и корзины с выращенным и собранным их руками урожаем. И все это – под безжалостно палящим солнцем Казахстана. Как ей удавалось остаться живой в этом адском пекле, Рахиль и сама не понимала. Наверное, помогали письма из дома – пусть редкие, не слишком длинные, но дающие надежду. Надежду на то, что придет время, и она снова увидит дорогих ее сердцу людей. Придавала сил и вера в справедливость – пусть призрачная, эфемерная, но она была для арестанток той каплей влаги, которая, попадая на пересохшие губы, не давала умереть. Они продолжали надеяться на то, что их дела будут пересмотрены и их отпустят домой. Подпитывалась эта вера и сообщениями, которые они время от времени получали из центральных советских газет. – Ну, что я говорила? Арестовали гниду! – торжествовала Валентина, когда до заключенных дошла информация об аресте наркома водного 153 транспорта Ежова. – Все! Его песенка спета – последует за нашими мужьями! – А с нами-то что будет? – не удержалась от вопроса обычно молчаливая Сара. – А что с нами будет? Будем свой срок отбывать. У меня было восемь, осталось семь с половиной. И ты свою пятерку досидишь, – отрезала Валентина. – У меня тоже восемь… – заплакала Сара. – Ну, восемь так восемь… – Нет, нет! Не может быть! – вклинилась в их диалог Екатерина. – Ежов обманывал товарища Сталина и все руководство! Он сам оказался предателем и нарочно арестовывал честных людей, чтобы навредить нашей стране. Товарищ Берия должен во всем разобраться! – Наивная ты, Катя, – укорила женщину Валентина. – Неужели ты думаешь, что руководство страны не знает, что у него под боком творится? А если и не знает, то грош цена такому руководству. На этом разговор прекратился. Никто из заключенных не собирался поддерживать крамолу. Рахиль тогда не знала, что и думать. В глубине души она была согласна с Валей. В конце концов, руководители партии и члены правительства ежедневно общались между собой. Могли ли они не знать, чем занимается каждый из них? В это верилось с трудом. С другой стороны, ей, как и остальным арестанткам, очень хотелось верить в то, что справедливость все-таки восторжествует и Лаврентий Берия действительно даст или уже дал команду пересмотреть их дела. Этот разговор состоялся в апреле, когда степь только просыпалась от зимней спячки и преображалась под лучами весеннего солнца. Сначала на буром ковре, сотканном из прошлогодних трав, начали 154 растекаться лиловые пятна распускающейся сон-травы, потом его прошили острые зеленые ростки злаков и осок, среди которых вдруг вспыхнули, заиграли золотом огоньки горицвета и гусиного лука. Через месяц зеленый, расцвеченный яркими красками ковер покрылся серебристо-белой дымкой – над степным многотравьем заколосился ковыль. В июне, когда цветные краски поблекли, когда степной ковыль сбросил свои седые перья, когда утомленные беспощадно жгучим солнцем и изнурительной работой на полях и стройках заключенные уже начали терять надежду на то, что о них, кроме родных и близких, помнит кто-то еще, бараки облетело новое известие: несколько арестанток покинули лагерь. Весть эта всколыхнула женщин, возродила в них угасающую уже надежду на освобождение. Вот оно! Началось! Дождались, наконец-то. Кто-то уже на свободе, скоро дойдет очередь и до остальных. А пока надо работать, работать и работать, всеми силами доказывая, что они не враги своему народу. Работать и ждать. Рахиль тоже работала и ждала. Ждала, несмотря на язвительные усмешки Валентины, несмотря на то, что уезжали из лагеря лишь единицы, а их, мечтающих о свободе, здесь было несколько тысяч. Она выпрямилась, с трудом разогнув ноющую от усталости спину, снова вытерла вспотевшее, облепленное мошкарой лицо и посмотрела вдаль. До самого горизонта простиралась соломенножелтая, выгоревшая на солнце степь. Между степью и полем, на котором работали заключенные, была натянута толстая металлическая проволока. Для арестанток эта проволока означала границу между лагерной территорией и бескрайними просторами уходящей за горизонт свободной земли – запретную черту, переступать которую запрещалось под страхом смерти. 155 Рядом с Лией, вооружившись мотыгой, ковыряла землю Наташа. Девушка, которую Рахиль, как могла, старалась опекать, выглядела совсем плохо. Она по-прежнему ни с кем не разговаривала, не отвечала ни на какие вопросы, порой отказывалась и от без того скудной пищи. Валентина пыталась хоть как-то помочь несчастной, но балерина не пошла на контакт с психиатром. – У нее глубокая, затянувшаяся депрессия. Необходимо стационарное лечение, но кто ж тут положит ее в больницу, – сказала Лии подруга. Увидев, что Рахиль стоит, Наташа тоже оторвалась от работы и, положив мотыгу на землю, выпрямилась. Лия бросила взгляд в сторону охранников. Их поблизости было двое: добродушный деревенский парень Федор и загоревший почти до угольного цвета молодой казах, имени которого она не знала. На плече у каждого висела винтовка. Казах, который удерживал на поводке злобно оскаленного пса, стоял к ним спиной, Федор сделал вид, что не замечает отлынивающих от работы арестанток. Рахиль посмотрела на парня с благодарностью. Заметив послабление со стороны охраны, еще несколько женщин решили передохнуть и прекратили работу. Их примеру последовали остальные арестантки. Такого поворота событий не ожидал даже беззлобный Федор. Если его благодушие по отношению к заключенным заметит старший по званию, парню не поздоровится. – Эй, эй, чего встали, а ну работать! – спохватился «вохровец». – Работать, работать! – повернулся к арестанткам казах, на лице которого Рахиль тоже не заметила ничего злобного. Парень просто нес свою службу. Женщины – кто молча, а кто – со стонами и оханьем – сгорбились над грядами. Только Наташа продолжала стоять, не шелохнувшись, устремив взор в одну точку. 156 – Давай работать, работать! Нельзя стоять! – продолжал отдавать команды казах. Девушка не шевелилась. – Эй, чего встала! Неприятностей захотела? – услышала Рахиль строгий голос Федора. Она подняла голову, посмотрела на свою подопечную и, проследив за взглядом балерины, поняла, куда так напряженно смотрит Наташа: между рядами грядок в их сторону шел агроном. Лии показалось, что за прошедший год Семен Иванович сильно постарел: на его голове прибавилось седых волос, а на лице – морщин. Да и сам он весь как-то съежился, сгорбился будто от тяжелой ноши. «Старику, видно, здесь тоже не сладко», – подумала Рахиль и снова посмотрела на Наташу. Девушка продолжала стоять как вкопанная. Федор, плюнув от злости, направился в ее сторону. Казах остался на месте и наблюдал за происходящим, загородившись рукой от солнца, которое слепило ему глаза. Его собака сидела рядом и, оскалившись, тоже уставилась на Наташу. Семен Иванович приближался к тому месту, где, замерев, словно статуя, стояла балерина. Когда расстояние между ними сократилось до нескольких шагов, Наташа вдруг встрепенулась, тихо вскрикнула и, взмахнув руками, словно взлетающая птица крыльями, резко развернулась, оттолкнулась от земли и помчалась в противоположную от агронома сторону – туда, где толстая металлическая проволока разделяла мир на две не равные части. В одной из них – меньшей – находились заключенные, в другой – несоизмеримо большей – все, чего они были лишены и на что не имели никаких прав: свобода, счастье, любовь, дом, семья, любимая работа… – Куда! Стой, дура! – орал кинувшийся за девушкой Федор, на ходу срывая с плеча винтовку. – Стой! Стрелять буду! 157 – Тухта! Тухта! – кричал казах, забывший от неожиданности русский язык. Но Наташа неслась вперед, словно ветер. «Откуда только силы взялись?» – промелькнула в голове у Лии мысль, неуместности которой она сама удивилась. Балерина за считанные секунды подлетела к проволочной границе, натянутой между степью и полем – между жизнью и смертью. Все дальнейшее произошло одновременно и быстро – в один короткий миг. Наташа грациозно, словно в прыжке гранд жете на балетной сцене, взлетела над проволокой. Федор нажал на спусковой курок. Собака, сорвавшись с места, бросилась вслед за арестанткой. Женщины, наблюдавшие за этой сценой, закричали. Затем на мгновение наступила тишина, которая тут же прервалась криками, плачем, собачьим лаем. – Я не хотел… Зачем она, зачем? – озираясь по сторонам, будто оправдывался перед заключенными Федор. В его испуганных глазах читались растерянность и удивление. Видимо, стрелок военизированной охраны впервые убил человека. Арестантки проявили свои чувства по отношению к случившемуся поразному. Одни стояли на месте, замерев в оцепенении. Другие истерично кричали, заглушая собачий лай. Третьи кинулись к проволоке – посмотреть, что с Наташей. Лия была в их числе. – Тухта! Тухта! Стоять! – скомандовал опомнившийся первым казах. Его громкий окрик остановил тех, кто уже успел добежать до ограждения. Охранник поднял над головой винтовку и угрожающе потряс ею в воздухе. Женщины замерли на месте. Казах перелез через проволоку, подошел к распластавшемуся на земле телу и оттащил от него собаку, которая яростно трепала полу серого арестантского халата. 158 Подошел к ограждению и встал рядом с Рахилью и Семен Иванович. Агроном обвел непонимающим взглядом охранников и стоящих перед проволокой заключенных и только после этого перевел взор на Наташу. Балерина лежала лицом вниз. На ее спине, между лопатками, виднелось небольшое круглое пятно, края которого были темными и рваными. Одна ее нога была вытянута – словно застыла в стремительном полете, другая, согнувшись в колене, приняла такое положение, как будто Наташа собиралась выполнить какое-то па в балетном танце. Тонкие, покрытые бронзовым загаром руки девушки были согнуты в локтях почти под прямым углом и устремлены вверх. Казалось, она хотела взлететь над колышущейся золотыми волнами степью. А может – исполнить последний в своей жизни танец. Сломанная, истерзанная кукла Суок, не подлежащая ремонту. Надежды на скорое освобождение таяли с каждым днем. Давно уже остались позади изнуряющая летняя жара с тучами назойливых насекомых, пронизывающие осенние ветры, которые с невероятной быстротой гоняли по небу тяжелые, словно налитые свинцом облака. И вот уже снова мела по степи снежная поземка, а мороз сковал ледяным панцирем густые заросли озерного камыша, за стеблями которого, как и год назад, строем ходили бригады заключенных. Километр туда, километр обратно. По сорокаградусному морозу. Иначе нельзя – весь лагерь замерзнет насмерть. Вернувшись из очередного похода за топливом, Рахиль куталась в бушлат и изо всех сил шевелила в валенках пальцами ног, но согреться никак не удавалось. «Сейчас бы тазик с горячей водой и чашечку крепкого, дымящегося, сладкого чаю…» – подумала она и тут 159 же отругала себя: «Зачем мечтать о несбыточном? Не нужно лишний раз будоражить нервы!» Лия собирала все свои силы, чтобы хоть как-то поддерживать в равновесии нервную систему, но получалось это плохо. Каждый раз, когда к бараку вместе со знакомыми уже охранниками подходил кто-то из офицеров ВОХР, у нее, впрочем, как и у всех заключенных, начинало бешено колотиться сердце, нервы напрягались до крайности, до озноба. Началось это в конце лета, когда из их барака «с вещами» увели первую арестантку. Они выстроились для утренней поверки. – Лаврентьева! – выкрикнул один из охранников и обвел взглядом шеренги заключенных. – Я! – отозвалась женщина. – Выйти из строя! – гаркнул «вохровец». Стоявший неподалеку молоденький офицер ВОХР бросил на землю недокуренную сигарету, подошел к охраннику, что-то быстро шепнул ему на ухо и спокойным, вежливым голосом обратился к выступившей вперед арестантке: – Товарищ Лаврентьева, вернитесь в барак, соберите свои вещи и выходите на улицу. Я вас тут подожду. Женщина даже не шевельнулась. На ее лице отразилась целая гамма чувств: растерянность, недоумение, испуг, ощущение нереальности происходящего. Казалось, ее ноги намертво приросли к земле. Из оцепенения заключенную вывел охранник, начавший поверку численного состава. После переклички взволнованные этим событием арестантки строем двинулись на завтрак. – Оглянись! – сказала Рахили шагающая рядом с ней Валентина. Лия, не сбавляя шаг, оглянулась. 160 В противоположную от них сторону шли трое: женщина по фамилии Лаврентьева, имени которой Лия не знала, и два конвоира – рядовой и офицер военизированной охраны. Рядовой нес чемодан заключенной. «А ведь она больше не арестантка», – подумала Рахиль. В тот день разразилась гроза. Сильные, еще по-летнему теплые ливни трое суток поливали высохшую землю, напоив ее досыта. Когда дожди прекратились, заключенных поразила неожиданно преобразившаяся степь: напитавшись долгожданной влагой, она дала жизнь новым росткам, которые яростно пробивались сквозь сухую, увядающую траву. От обновленной степи повеяло надеждой. Но ее преображение оказалось обманчивым – не успели молодые, зеленые побеги подрасти, как их пригнули к земле холодные ветры, сковали холода. Лишь через две недели после освобождения первой арестантки перед строем заключенных вновь появился офицер ВОХР. Женщины замерли в тревожном ожидании – кого из них вызовут из строя на этот раз. Когда прозвучала фамилия Исаевич, немолодая уже арестантка с бесцветным, изможденным лицом потеряла сознание. Прихода офицера заключенные ждали так, как умирающий от жажды путник ждет в пустыне глоток воды. Но глоток этот доставался лишь одной из них – единственной из нескольких сотен. И все-таки они не теряли надежды. За всю осень из барака Рахили увели «с вещами» человек десятьдвенадцать, не больше. Сначала она считала количество освобожденных, потом, сбившись со счета, нашла это дело ненужным – и без всякой арифметики было видно, что, если освобождение пойдет такими темпами, большинство заключенных успеет отбыть свой срок до конца. Но каждый раз, когда к бараку подходил офицер, сердце ее начинало тревожно биться. 161 С середины лета до середины зимы в душе Рахили одновременно жили два совершенно противоположных, постоянно сменяющих друг друга чувства – надежда и отчаяние. Если сердце заполнялось отчаянием, то жизнь для нее теряла всякий смысл. Месяцы, проведенные в этом лагере, казались годами. Как пережить оставшуюся – большую часть заключения, она себе даже не представляла. Когда верх одерживала надежда, Лия позволяла себе мечтать о свободе, о доме. Она представляла себе Москву, встречу с родными, свою жизнь без этого лагеря, этого барака, этих жестких нар и колючего камышового матраса. В такие минуты Рахили казалось, что судьба обязательно приготовит ей подарок к какому-нибудь важному в ее жизни событию. В конце ноября она почти убедила себя в том, что долгожданную свободу ей вернут ко дню рождения Тимура. А это значит, что новый, 1940-й год, она встретит вместе с сыном. Именно в этот день – 8 декабря – в барак вошел офицер с двумя рядовыми охранниками. Лия чуть было не кинулась собирать чемодан – это за ней! Старший по званию «вохровец», поморщившись от ударившей ему в нос невыносимой вони, которую сами арестантки уже перестали замечать, что-то сказал подошедшей к нему старосте. Женщина кивнула и пошла между рядами нар в сторону Рахили. Когда староста поравнялась с нарами, на которых она сидела, Лия перестала дышать. Вот сейчас главная в бараке арестантка скажет ей, чтобы она подошла к офицеру. Она сползет с нар – только бы не упасть в обморок! – и подойдет к двери, у которой топчутся «вохровцы», спокойно, не теряя чувства собственного достоинства, поздоровается с ними. Офицер скажет: «Здравствуйте. Соломянская Рахиль Лазаревна?» Она… 162 Староста поравнялась с нарами Рахили и, даже не посмотрев в ее сторону, пошла дальше. Лия повалилась на матрас. Все ее тело охватила страшная, невыносимая боль. Эта боль была не физической, а какой-то другой, непонятной, и от этого еще более жуткой. Отчаяние убивало в ней надежду. Не умереть, не сдаться, вновь обрести надежду помогла весточка из дома. Тимур писал, что в Москве холодно, больше двадцати мороза. «Разве это холодно!», – улыбнулась Рахиль. Сын поздравлял ее с наступающим Новым годом, как всегда, передавал привет от отца. Про «тетю Дору» в этом письме не было ни слова, и Лия попробовала убедить себя в том, что у Аркадия была несерьезная интрижка с какой-нибудь девицей, которую он, может быть, давно уже бросил. «Впрочем, скорее всего, бросила его она», – горько усмехнулась Рахиль, прочитав в письме сына о том, что отец снова лежал в Сокольниках. «Папа собирается писать новую книгу, – продолжал сын. – Называться она будет «Дункан и его команда». Там говорится о пионерах, которые помогают семьям военных, которые служат в армии или погибли на войне…» «…Или остались без отцов, которые сидят в лагерях и тюрьмах. Или расстреляны как изменники Родины…» – подумала Рахиль. Она была уверена в том, что именно такие семьи в первую очередь имел в виду Аркадий. Впрочем, Советский Союз воевал с финнами. На этой войне тоже гибли люди. Пальцы ног, отогреваясь, начали нестерпимо ныть. «Ладно, раз чувствую боль, значит, пока жива, – горько усмехнулась Лия. – Что-то будет дальше…» 163 Ее вторая лагерная зима была в самом разгаре. Как ее пережить, Рахиль не знала. А тут еще Валя, самый близкий ей в этом бараке человек, сказала, что собирается попросить у лагерного начальства разрешения вернуться к работе по специальности. Валентина заходила в больницу, где работала Сац, и узнала от Наталии Ильиничны, что в новое отделение лагеря – Спасское набирают медсестер. А отделение это находится далеко – в нескольких километрах от их бараков. Значит, с подругой она, скорее всего, видеться не сможет. Внезапно по телу Рахили прокатилась тревожная волна холода. Если для заключенных не хватает мест, если приходится строить новые бараки, открывать новые отделения, это может говорить только об одном: большинство из них свой срок будет отбывать до конца. Это значит, что в этом аду ей предстоит прожить еще три с половиной года. Рахиль вытерла нахлынувшие на глаза слезы. Ей вдруг вспомнилась Наташа. Вот для кого закончились адские муки. Один стремительный прыжок – и все! Не придется больше умирать от жары в окружении надоедливой мошкары, работая в саду или в поле, дрожать от холода, срезая камыш на льду замерзшего озера, ворочаться ночами на жестких нарах, тоскуя о доме, о родных и близких… «Может, для нее это и к лучшему», – сказала в тот злополучный день Валентина. Лия тогда осудила подругу – жизнь, какой бы она ни была, все-таки лучше, чем смерть. Впрочем, иногда она и сама в этом сомневалась. Так было и сегодня, когда не слушающимися от жуткого холода руками она резала камыш. Слезы, которые текли из ее глаз, замерзали на щеках, не успевая докатиться до ледяной глади озера. Немного согревшись, Рахиль забылась в тревожном сне. Ей снилась Наташа. Балерина порхала над канареечно-желтой травой, которая 164 колыхалась на ветру, отчего степь казалась похожей на волнующееся золотое море. На девушке была надета балетная пачка цвета прозрачно-синего неба, простирающегося над бескрайними степными далями. Такого же цвета бант крепился на ее черных, блестящих на солнце волосах. Наташа смотрела на Рахиль и улыбалась. Вдруг она взмахнула руками и взлетела над отливающей золотом степью. Девушка поднялась так высоко, что у Лии перехватило дыхание. Она поняла – это вовсе не прыжок, грациозно выполненный балериной. Это – полет, неудержимый и бесконечный, прервать который не удастся никому. Вдруг Рахиль почувствовала, что она тоже поднимается вверх, все выше и выше, к синему безоблачному небу. «Я и не знала, что умею летать! – удивляется она. – Как это здорово!» Неописуемая радость переполнила ее сердце – как легко, оказывается, можно парить над всей этой безбрежной степью, над озером, над шуршащими зарослями камыша. Она посмотрела вниз и увидела под собой сверкающую на солнце водную гладь. Кто-то из арестанток сказал, что озеро, к которому они ходят за камышом, называется Жаланаш. От казаха-охранника заключенные узнали, что в переводе с его родного языка это означает «не плачь». «Странный какой-то перевод, – подумала тогда Рахиль. – Казах, наверное, пошутил». «Правильный, правильный перевод!» – думала она сейчас, паря над водоемом. «Жаланаш» – шептали перекатывающиеся по водной глади волны. «Жаланаш» – слышалось в шуршании озерного камыша. «Жаланаш» – пел ей проносящийся над озером степной ветер… – Лия, тебя тут спрашивают, – услышала она голос Сары и проснулась. 165 Открывать глаза не хотелось. Зачем только Сара разбудила ее! Господи, хотя бы еще несколько мгновений, пусть даже во сне, почувствовать эту сладость свободы! – Лия, проснись, – снова донесся до Рахили как всегда бесстрастный голос соседки по нарам. Она прогнала остатки сна и села. Кто, интересно, ее спрашивает? Может, Наталия Ильинична? Или Кира? Рахиль спустилась на пол и через промежутки между нарами отыскала глазами входную дверь, но ни Сац, ни Андрониковой возле нее не увидела. Перед входом переминались с ноги на ногу два «вохровца». Один из них нетерпеливо задрал рукав тулупа, посмотрел на часы и обвел взглядом ряды нар. «Это они меня спрашивают? Зачем? Что им от меня надо? – крутились у нее в голове вопросы. – И почему на меня все так смотрят?» Эта мысль была последней перед тем, как ее мозг, не выдержав пытки невыносимым для человеческого разума напряжением, отключился, и она рухнула на земляной пол. «Посидите здесь», – указывая на стул, вежливо сказал Рахили один из сопровождающих ее конвоиров – офицер ВОХР. Поставив на чисто вымытый деревянный пол ее чемодан, он, постучавшись, открыл дверь кабинета, расположенного напротив входа в приемную, и вошел внутрь. В небольшой продолговатой комнате, куда привел Лию охранник, кроме нескольких одинаковых стульев, расставленных вдоль стен, почти ничего не было. У входной двери на простенькой тумбочке стоял вычищенный до блеска бачок с питьевой водой. С другой стороны в углу топилась точно такая же, как в бараках, печка из 166 самодельного кирпича, возле которой лежала вязанка дров и стояло ведро с углем. На стенах были развешены агитационные плакаты, призывающие заключенных искупать свою вину перед Родиной честным трудом. Рядом с печкой устроился молодой казах – охранник, который, по всей видимости, выполнял еще и обязанности истопника. Два стула занимали одетые в зимнюю казенную одежду женщины. Рядом с каждой из них стояли чемоданы. В противоположном от печки углу, возле еще одного стула, лежала большая черная сумка. Рахиль кивнула женщинам, села напротив них на один из приставленных к стене стульев, рядом с которым конвоир поставил ее чемодан, и огляделась. «Начальник лагеря Баринов Сергей Васильевич», – прочитала она на табличке, прибитой к двери кабинета. Не прошло и минуты, как сопровождающий Рахиль офицер вышел и снова обратился к ней: – Подождите немного, вас вызовут. Попрощавшись, он вышел на улицу, где его поджидал второй конвоир. В полной тишине прошло несколько минут. Внезапно дверь в приемную распахнулась, и в нее вошла облаченная в лагерный бушлат женщина, за которой маячил вооруженный охранник. Ни чемодана, ни сумки ни у кого из них Рахиль не заметила. Голова арестантки была закутана платком. Ни с кем не поздоровавшись, женщина лихорадочно начала распутывать крепко затянутый узел, наконец, он поддался, и шаль съехала ей на плечи. Рахиль оторопела: в первое мгновение после того, как открылось лицо заключенной, ей показалось, что она видит перед собой Наташу. Но уже через секунду Лии стало ясно – она ошиблась. Во-первых, потому, что женщина выглядела значительно старше не только девушки, но и 167 нее самой, во-вторых, потому, что этого просто не могло быть – балерина погибла на ее глазах почти полгода назад. – Ждите здесь, я доложу, – командирским тоном приказал сопровождающий арестантку конвоир. – Надо подождать, он занят, – подал голос казах, подбрасывающий в топку уголь. – Хорошо, подождем, мы не торопимся, – согласился «вохровец» и уселся на стул рядом с Рахилью. Женщина продолжала стоять возле двери. Лия не могла оторвать от нее глаз. Заключенная все-таки очень сильно напоминала ей Наташу. Такие же черные, собранные в пучок волосы, такая же посадка головы. Но главное, что больше всего поразило Рахиль, – это лихорадочный блеск темных, обрамленных густыми ресницами глаз. Такой блеск она видела в глазах Наташи в моменты ее сильного нервного возбуждения. Через несколько минут дверь кабинета начальника лагеря открылась и из нее вышла женщина в распахнутом бушлате. В одной руке она держала скомканный серый платок, в другой – какие-то листы бумаги, как показалось Рахили, с печатями. На ее бледных щеках выделялись яркие розовые пятна, выдающие сильное волнение. – Подождите пока здесь, – раздался голос появившегося в дверном проеме Баринова. Женщина молча кивнула и села на стул, возле которого стояла черная сумка. – Так, у нас тут еще должна быть товарищ Соломянская Рахиль Лазаревна, – сказал начальник лагеря и посмотрел сначала на Лию потом – на стоявшую у входной двери женщину. – Я Соломянская, – севшим от волнения голосом еле слышно прохрипела Рахиль. Откашлявшись, она повторила снова, уже четче и громче: 168 – Соломянская Рахиль Лазаревна – это я. – Заходите, – сказал Баринов, приглашая ее в свой кабинет. Лия встала и, сделав шаг в сторону начальника лагеря, пошатнулась. Ноги почти не слушались ее. Собрав все свои силы, чтобы не упасть, она подошла к двери. Пропуская Рахиль в кабинет, Баринов повернулся к все еще стоявшей у входа женщине и спросил: – Вы что-то хотели? Я, кажется, больше никого не приглашал. – Да вот, просилась очень к вам, говорит, дело у нее какое-то важное. Мне приказано доставить сюда, – ответил за заключенную конвоир. – Сергей Васильевич, мне очень, очень надо… Я недавно узнала, что дочка у меня тут… Меня перевели из другого отделения… Я сначала даже не знала, что она тоже арестована, потом мне сообщили из Москвы… – сбивчиво объясняла женщина. – Если можно, поселите меня с ней в одном бараке. Умоляю вас! Ковалева ее фамилия, Наташа, Наталья Игоревна… – Хорошо, подождите пока. Я вот закончу с женщинами, а потом вашим делом займусь, посмотрю, чем вам можно помочь, – сказал Баринов и вслед за Рахилью вошел в кабинет. Первым, кого увидела Лия в кабинете начальника лагеря, был товарищ Сталин. Он смотрел прямо на нее с большого висевшего на стене портрета, перед которым стояли составленные буквой «Т» два накрытых зеленым сукном стола. – Проходите, проходите… Присаживайтесь, – предложил ей начальник лагеря, указывая на стул, отодвинутый от стола, служившего нижней перекладиной этой буквы. Сам он устроился за столом, который представлял собой ее верхнюю перекладину, и открыл тоненькую папку с какими-то документами. Рахиль подчинилась. Пока Баринов перелистывал бумаги, она думала о том, что начальник лагеря должен испытывать дискомфорт оттого, что товарищ Сталин постоянно смотрит ему в затылок. 169 Наконец, Баринов открыл нужный документ. – Товарищ Соломянская, – обратился он к Рахили, – у меня для вас очень хорошее известие. Хочу вам сообщить, что из Москвы поступили материалы по вашему делу. Начальник лагеря сделал паузу и посмотрел на Рахиль. Она боялась пошевелиться. Баринов подвинул поближе отпечатанный на машинке документ и начал читать: – Двадцать девятого декабря 1939-го года Особым совещанием при НКВД СССР дело за номером 32255 в отношении Соломянской Рахили Лазаревны, осужденной тем же органом второго августа 1938го года как член семьи изменника Родины за соучастие в контрреволюционных преступлениях Разина Израиля Михайловича, производством прекращено. Вы свободны, Рахиль Лазаревна. Я вас искренне поздравляю. Баринов встал, вышел из-за стола и протянул ей руку. Все еще не в силах выговорить хоть слово, Рахиль тоже встала и ответила на его рукопожатие. – Спасибо, – наконец, выговорила она. – Садитесь, садитесь, – снова пододвигая ей стул, сказал Сергей Васильевич. – Перед тем, как вы отсюда уедете, нужно соблюсти некоторые формальности… После того как Рахиль прочитала и подписала необходимые бумаги и получила от начальника лагеря разъяснения по вопросам ее возвращения в Москву, они стали прощаться. Баринов вновь пожал ей руку и, когда она уже встала со стула, спросил: – Извините, Рахиль Лазаревна, а кем вам приходится товарищ Гайдар? – Он отец моего ребенка, – не вдаваясь ни в какие подробности, коротко ответила Лия. 170 После небольшой паузы она все-таки решила поинтересоваться у начальника лагеря, почему он об этом спрашивает. – Да вот, в деле есть ходатайство от его имени. Думаю, оно сыграло немалую роль в вашем освобождении. «Жа-ла-наш… Жа-ла-наш… Жа-ла-наш…» – отстукивали колеса поезда, но их «уговоры» не помогали: Рахиль плакала, уткнувшись лицом в подушку. С того момента, когда соседки по бараку подняли ее, потерявшую сознание, с холодного земляного пола и кое-как привели в чувство, до того, как она села в этот поезд, следующий по маршруту Караганда – Москва, прошло больше суток. Соседями Лии по купе были те самые женщины, с которыми она встретилась в администрации лагеря перед кабинетом Баринова. Вместе с ними ее привезли на железнодорожный вокзал, где всем четверым выправили билеты до столицы. Оказавшись в одном купе, бывшие арестантки перекинулись несколькими словами и улеглись каждая на свою полку. Место Рахили оказалось наверху. Она лежала, отвернувшись к стене, и тихо плакала. Белая наволочка давно уже промокла от слез, а они все текли и текли. «Поплачь, легче будет…» – советовала ей мама в трудные минуты. Но Рахиль плакала редко. И не потому, что в ее жизни недоставало тяжелых моментов – просто она считала себя женщиной сильной, а сильные люди плакать не должны. Но сейчас Лия воспользовалась маминым советом – она не стала сдерживать слез. И по мере того, как они вытекали из глаз, ее нервы, взбудораженные за прошедшие сутки до крайности, постепенно начинали расслабляться. 171 Наконец, она немного успокоилась, перестала плакать, перевернула на другую сторону мокрую от слез подушку и ясно осознала все, что с ней произошло. Она свободна! Сво-бод-на!!! Этот поезд, совсем не похожий на те, в которых ее полтора года назад везли в Акмолинск, на всех парах мчится в обратную сторону – домой, в Москву, к сыну и маме, к Аркадию, ко всем, кто ее любит и ждет. ЭПИЛОГ Рахиль стояла у окна и смотрела на засыпающую Москву. Редкие прохожие, кутаясь в шарфы и закрывая лица поднятыми воротниками пальто, спешили по домам. По покрытым снегом тротуарам мела поземка. Наступил февраль. Пошла вторая неделя, с тех пор, как она вернулась домой. На вокзале ее встретили мама и Тимур – с какой-то большой станции Лия послала им телеграмму о своем возвращении. Все трое, обнявшись, долго плакали прямо на перроне. Гайдар на вокзал не пришел. – Знаешь, дочка, – вытирая слезы, сказала ей мама, – а ведь он женился, расписался с какой-то девицей из Клина. – Расписался? – удивилась Рахиль. – Но ведь мы с ним не разведены. Мать молча пожала плечами. Немного помолчав, Лия спросила: – Когда? – Давно уж… Через месяц после того, как тебя забрали. Мы просто тебе не писали. – Кто она? – не удержалась от вопроса Рахиль. 172 – Да никто – обычная женщина из простой семьи, – ответила мать, – с ребенком, девочкой. Чуть нашего Тимурчика помладше… – Ее Женя зовут, дочку тети Доры, – сказал Тимур. – Я ее видел. Нормальная девчонка… – Ну что ж… – вздохнула Лия, но уже через секунду, придав голосу как можно больше бодрости, сказала: – Женился так женился. Главное – у меня есть вы. – Главное, что ты дома, дочка, – снова заплакала мама. Всю неделю Тимур не отходил от Рахили ни на шаг. Дома сидел рядом и гладил ее шершавые, покрытые загрубевшими мозолями руки. Вместе с ней ходил в магазины, ездил в районный комитет партии, на киностудию «Союздетфильм», на встречи с друзьями. …Сильный порыв ветра взметнул огромный столб снега и понес его по тротуару. Рахиль вздрогнула. Такие же снежные вихри метались по степи, там, в Казахстане. Она не могла их забыть. «Сегодня снова кто-то резал на озере камыш…» – подумала Лия. Ее сердце пронзила острая боль. В голове замелькали картинки из совсем недавнего прошлого, которое не хотело ее отпускать. Вспомнились глаза Валентины, в которых, когда они прощались, читались одновременно и радость, и печаль. Словно из рассеивающегося тумана выплыли лица всех ее соседок по бараку, провожающих ее взглядами, в которых еще теплилась надежда на освобождение. Разве можно забыть эти лица, эти взгляды, этих женщин? А ведь некоторых из них она даже не знала по именам… Лихорадочным блеском черных глаз мелькнуло в голове лицо так похожей на Наташу женщины. Лия подумала о том, какие страшные слова должен был сказать ей начальник лагеря, после того как проверил списки вверенного ему контингента… «Все, что с тобой было, надо забыть, и как можно быстрее! – убеждала ее при встрече Галя Плеско. – Радуйся, что ты дома». 173 Они долго гуляли по городу, и Рахиль не могла скрыть своего удивления от того, как изменилась Москва за полтора года. Подруги шли по Большой Дорогомиловской, и Лия не узнавала знакомую улицу. – Подожди! – остановила она Галю возле огромного восьмиэтажного дома, который появился во время ее отсутствия. – Тут ведь церковь была! Где же она? – Снесли церквушку! – с гордостью сказала Плеско. – Видишь, как жизнь меняется? Москва строится, люди получают новые квартиры, радуются. Заметив пробежавшую по лицу подруги тень, Галина обняла Лию за плечи и торжественно произнесла: – Я понимаю, Лийка, тебе пришлось не сладко. Конечно, Ежов переусердствовал, перегнул палку, за что ответит по всей строгости закона. Партия и правительство исправляют его ошибки. Тебя ведь освободили, ты теперь дома! – Да, я дома… – тихо сказала Рахиль. Ее освободили, ей вернули партийный билет и восстановили на работе. Даже выдали ордер, по которому она могла получить вещи взамен конфискованных полтора года назад. Но кто вернет Женю, Наташу, Лидию Николаевну, дочку Семена Ивановича? Арестанток, тела которых выносили из бараков санитары? Потом она вспомнила тех, до кого так и не дошла очередь на исправление допущенных бывшим сталинским наркомом ошибок: сегодня они снова резали на озере камыш… От автора: Буду признательна всем, кто сочтет нужным прислать свои отзывы об этой повести. Mail: [email protected]