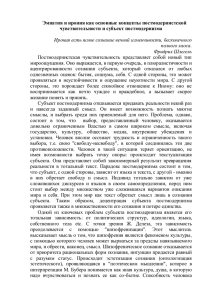Постмодернистская модель социальной истории
реклама

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 1 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 Шлыков В. М., кандидат философских наук, профессор. Бахтин М. В., кандидат философских наук, доцент. Прохоров В. Л., доктор исторических наук, профессор ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ: ПОИСК «НОВОЙ» СОЦИАЛЬНОСТИ Аннотация: В статье анализируются проблемы и особенности модели социальной истории. Ключевые слова: постмодернизм, постмодернистская модель, история, социальная история, герменевтика, парадигма, конфигурации, конструкция, философские новации. Познание минувших времен и познание стран мира – украшение и пища человеческих умов Леонардо да Винчи Цель истории – знание движения человечества Л. Толстой Ни шороха полночных далей. Ни песен, что певала мать, Мы никогда не понимали Того, что стоило понять. Н. Гумилев Термин «постмодернизм» не имеет общепринятого социального значения, он весьма расплывчат, неопределенен, изменчив и часто 2 полемически нагружен. Поэтому ряд исследователей либо не используют это понятие, либо оговаривают его непонятийный статус. Постмодернизм представляет собой сложный, неоднородный социокультурный феномен, который утвердился в западном обществе и стал особенно популярен в 80-е гг. XX века. Постмодернизм хорошо вписывается в антисциентистские традиции философии, представители которой противопоставляли свои взгляды науке, научному мышлению, рационализму вообще. По словам М. Фуко, постмодернизм как раз и объявил «право на восстание против разума». Постмодернизм, по мнению некоторых авторов, возник вследствие глобального социального кризиса современного западного общества, охватившего политику, экономику, культуру, духовную сферу. Например, И. А. Гобозов полагает, что «...истоки философии постмодернизма следует искать в кризисе социума и в иррационалистических философских течениях, особенно в философии Ницше». Постмодернистская эпоха характеризуется им как «...эпоха без идеалов, без моральных принципов и норм, без будущего, без социального прогресса и без социальной ответственности, эпоха без геройства, эпоха равнодушного отношения к чужой боли» [3, с. 312, 325]. Постмодернизм - это индивидуализм и неолиберализм, свобода от всего и вся: в том числе оттрадиционной морали, сексуальных запретов и тону подобное. Это - эпоха гипертрофии средств и атрофии целей (П. Рикер). Другие исследователи дают более мягкую характеристику новой эпохе. Современный американский философ социальной истории А. Мегилл пишет: «Состояние постмодерна» - манифест в классной комнате, населенной консерваторами университетского городка и либералами, членами бисексуального, гомосексуального и лесбийского союзов, несколькими вариантами христианской активности, азиатами, европейцами и афро-американцами и множеством их смешений; людьми, чьи родные языки испанский, китайский, немецкий и английский, не забывая людей, 3 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 чьи вкусы находятся в широком диапазоне музыкальных пристрастий - от панк-культуры до классики» [9, с. 301]. Здесь мы имеем дело с границами, которые невозможно убрать. Возникновение постмодернизма в этом случае связывается с вступлением западного общества в эпоху постиндустриализма, информационной цивилизации и культуры, которые служат социальной онтологией постмодерна. Один из лидеров постмодернизма Ж.-Ф. Лиотар определяет его как недоверие к старому знанию, функционирующему в форме больших (мета) рассказов [8, с. 10]. Речь идет не столько о «недоверии» сколько о критике классического рационализма, фундаментализма, объективизма, истинности, системности, теоретичности. Провозглашается переход к лингвистической парадигме философии, основанной на релятивизме, плюрализме, субъективизме, антитеоретизме. Ведь любое знание, по Лиотару, - это всего лишь языковая игра. Ученый, по Лиотару, - это прежде всего тот, кто «рассказывает истории», которые потом он должен проверить [8, с. 143]. Однако последнее вовсе необязательно. Ведь большинство постмодернистов считают устаревшим вопрос о соответствии научного знания социально-историческим фактам. Научное знание, по их мнению, получает свою легитимность в языковых играх. Традиция постмодерна породила сомнение в возможности общего объяснения хода социальной истории, вызвала недоверие к глобальным историческим концепциям, «...настороженное или даже презрительное отношение к теории вообще и теории истории в частности» [10, с. 73]. Постмодернистская философия науки настаивает на приоритете социальной нестабильности, локальности, случайности, многообразии возможностей, вместо устойчивости, достоверности событий и так далее. 4 тотальности, необходимости, Конструкция (системность, структурность, целостность, теоретичность и тому подобное) понимается как устоявшийся и поэтому устаревший способ философствования. Постмодернизм же - это деконструкция традиционного, рассеивание устоявшегося. Акцент делается на различии, а не на тождестве, на неопределенности, беспорядке, множественности, а не на единстве, на прерывистости, а не на социальном прогрессе. Например, неопределенность - основа мышления одного из «пророков» (Мегилл) постмодерна Ж. Деррида. Именно с точки зрения социальной неопределенности Деррида прочитывает мир. В. А. Канке в связи с этим отмечает: «Особенно грешит околонаучными фантазмами Деррида... Деконструкция, как известно, ничего не щадит, в том числе и соотносительность теории и фактов, от которой после деконструктивного дробления ничего не остается, кроме фикции, едва ли различимых следов от слов и вещей. Научный смысл переводится в бессмысленность» [5, с. 190]. Если, к примеру, Гегель пытался синтезировать, соединять социальные противоположности, то Деррида их разрушает, дробит. Логика в таком случае есть отсутствие логики. Точно также постмодернистская теория - это отсутствие теории. Подводя итоги философского проекта постмодернизма, можно согласиться с Канке, который констатирует следующее: «В кратчайшем обобщении доминанты философского постмодернизма - это агонистика (противоборство - Ш. В.) языковых игр, дисконсенсус (а не консенсус), дискретность (а не непрерывность и прогресс), множественность (а не единство), нестабильность (а не стабильность), локальность (а не пространственная всеобщность), фрагментарность (а не целостность), случайность (а не системность), игра (а не цель), анархия (а не иерархия), рассеивание (а не центрирование), апофатика (негативность - Ш. В.) (а не позитивность), движение на поверхности слов и вещей (а не в глубь их), 5 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 след (а не означаемое и обозначаемое), симулякр (а не образ)..., лабиринт (а не линейность), неопределенность (а не определенность...» [5, с. 121]. Как оценивать философские новации постмодернизма? В нашей и зарубежной литературе есть прямо противоположные мнения. Одни философы высказываются резко отрицательно в адрес постмодернизма, другие, наоборот, приветствуют его и даже восхищаются. «Не берусь судить относительно других областей культуры, - пишет, уже упоминавшийся нами, философ, Гобозов, но - по поводу постмодернистской философии могу сказать, что это шаг назад в философской рефлексии. Сочинения постмодернистов порой бессмысленны и бессодержательны» [3, с. 317]. Некоторые высказывания постмодернистов, например, Делеза, Гватттари и др. он называет «тарабарщиной» [3, с. 316], «бессмыслицей» [3, с.318], казуистикой, эквилибристикой. Как известно, большинство представителей постмодернизма были филологами по образованию. Это обстоятельство сыграло немаловажную роль в том, что лингвистическая составляющая в постмодерне является самой весомой. Слова, знаки, символы, симулякры (виртуальная информационная конструкция, не имеющая референтов), тексты замещают предметы, вещи, социальную реальность, в том числе историческую. Подобные идеи уже встречались в прошлом. Понимание мира как текста можно найти у средневековых авторов. В Средневековье текст считался словом, произнесенным Богом, поэтому он обладал первенством по отношению к социально-исторической реальности и к читателю. Текст и язык предшествуют реальности, поскольку реальность сотворило Слово Божье. Реальность есть репрезентация текста, а не текст есть репрезентация реальности. Следовательно, средневековому сознанию неизвестна практика интерпретации текстов, их индивидуального прочтения. Все изменилось, начиная с картезианства XVII в.: познающий субъект ушел от прежнего прямого контакта с реальностью в самого себя, превратившись в 6 трансцендентальный субъект. Теперь уже социальный субъект не мог слиться с текстом, что требовалось, например, для средневекового читателя. Между субъектом и объектом был возведен эпистемологический барьер. «Картезианство вызвало отчуждение повседневной реальности от познающего субъекта (отчуждение, которое было на самом деле условием возможности современной науки), и точно так же тексты приобрели теперь, вместе со «значением», ауру «ноуменальной» таинственности, какой прежде никогда не обладали... Перед герменевтикой встала задача разъяснить, как, тем или иным образом, мы могли бы вернуть себе понимание значения текста...» [1, с. 137]. Неудивительно, что герменевтика явилась одним из философских истоков постмодернизма, а М. Хайдеггера относят к одному из его «пророков» (Мегилл). Философская герменевтика, как известно, исходила из того, что язык есть дом бытия, что он также является границей сознания. Герменевты XX века любили повторять слова Хайдеггера, что это не мы говорим языком, а язык говорит нами. Неудивительно появление идеи о влиянии, «переносе» структуры языка, на котором мы описываем реальность, на саму социальную реальность. Короче говоря, внешний мир был заменен языком, языковой реальностью, истина - значением. Слова не только отражают социальную действительность, но создают ее. Ф. Р. Анкерсмит в этой связи критически замечает, что «...для Гадамера нет ничего помимо... историй интерпретации, помимо языка интерпретации, в котором, как в капсуле, содержатся эти истории. Мы можем постичь прошлое лишь постольку, поскольку оно сводится к «языку» этих историй интерпретации, тогда как само прошлое (которому эти истории обязаны своим существованием) уже не играет никакой роли в повествовании Гадамера. Вся история, вся ее драма, ее трагедии, триумфы и величие, таким образом, загоняется в тесные рамки того, как она интерпретировалась на протяжении веков на языке историков. Нам остается 7 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 теперь только язык, только язык историков - вот мир, в котором мы действуем, и вне его ничего нет. Очевидным следствием является то, что... мы можем понять прошлое лишь постольку, поскольку оно услужливо принимает облик языка» [1, с. 125]. Западная философия XX века была главным образом философией языка. Язык стал интеллектуальным полем, на котором были начаты и воспроизведены все движения, известные в истории философии. Идея постмодернизма проста - язык детерминирует социальные типы и образ мышления, особенности культуры той или ной эпохи. А мысли индивида контролируются «законами и образцами языка, которые он не осознает». «Р. Барт утверждал, что подавление неотъемлемо от самой фундаментальной из всех репрезентационных систем, являющейся нашим главнейшим средством построения мира и взаимодействия с другим, а именно - от языка. Предикативные структуры и операции языка насаждают атрибуты и идентичности, которые не были выбраны нами самими... язык фашист, заточающий нас в границах собственных терминов: синтаксис предложения подобен приговору в юридическом смысле, заключению, как сказал Ницше, в тюрьму языка» [1, с. 119-120]. Понимание языка постмодернистами опирается на традиции, идущие от Ф. де Соссюра, который считается основоположником структурной лингвистики. Лингвистика, по Соссюру, есть наука, изучающая «жизнь знаков в рамках жизни общества», а язык трактуется как система знаков, выражающих понятия [14, с. 54]. «Жизнь знаков», согласно такому подходу, существует сама по себе, внутри себя. Язык, являясь абстрактной знаковой системой, есть нечто, находящееся вне конкретных индивидов и функционирующий как некий инвариант на бессознательном уровне. Этот инвариант проявляет себя в ряде вариантов языковых конструкций, что, собственно, и есть структура языка, которая рассматривается Соссюром синхронически, «горизонтально», отвлекаясь от истории развития языка. Последнее 8 позволяет выделить элементы структуры и определенную сеть отношений между ними. Языковые элементы и их значения, по Соссюру, зависят от всей системы языка, места данного элемента по отношению к другим. Утверждается примат отношений между элементами, а не самих элементов языка. Например, значение слов конституируется их отношением к другим словам, а не задается обозначаемыми ими объектами, поскольку связь между словом и социальным объектом является произвольной и нельзя указать двух языков, в которых слова и объекты сочетались бы одинаково. Следовательно, язык рассматривается Соссюром не как субстанция, а как форма, что послужило в дальнейшем основанием абсолютизации понятия структуры, фактической подмены им понятия объекта, предмета. Соссюр, конечно, не отрицал того, что элементы языка могут обозначать и обозначают предметы, вещи, но он считал эту связь условной и незначительной, поскольку «если бы язык использовался только для наименования предметов, различные его члены не были бы связаны между собой, они существовали бы по отдельности, как и сами предметы» [13, с. 186]. Языковый знак почти не «задевает» предметы, не «зацепляет» окружающий человека мир, поскольку он (языковый знак), по мнению Соссюра, связан в первую очередь не с предметами, а с их понятиями. Мир таков, какова структура языка, которым описывается мир. Проблема социальной истины есть проблема значения слов, понятий, способа, формы описания. Понятия конструируют социальную реальность в той же степени, в какой они ее выражают. Отсюда недалеко до вывода, что язык не репрезентирует реальность, что он не есть «окно» во внешний мир. Наоборот, язык является чем-то вроде «лингвистической тюрьмы», решетки-структуры которой ограничивают, определяют наш доступ к нему. Постмодернистская эпистема, по сути, приходит к подобному выводу, когда утверждает, что языковые выражения не могут быть 9 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 соотнесены с внешним миром, а только с другими языковыми выражениями, поскольку социальная реальность находится за пределами языка. Более того, язык в постмодернизме трактуется как главный смыслообразующий фактор, определяющий мышление и поведение людей. Если Соссюр признавал наличие в тексте означающего и означаемого, то Деррида полностью отрицал наличие внетекстуальной реальности. Теперь посмотрим, как постмодернистские идеи отразились в философии истории и в исторической науке. В историографии постмодернизм отчетливо проявился в 90-е гг. XX в. В постмодернистской философии истории речь идет в основном о специфике исторического текста как особого лингвистического явления. К историческому тексту стали применять литературоведческие критерии. «При написании истории язык предлагает историку уже готовые конструкции, куда тот «вписывает» исторические события. Таким образом, деятельность историка сродни литературной. Порядок, который историк приписывает событиям, и их интерпретация являются чем-то сродни литературному сюжету» [10, с. 98]. В 1973 г. появилась работа X. Уайта «Метаистория» с характерным подзаголовком: «Историческое воображение в Европе XIX века». Хотя сам автор и относит ее к структуралистскому этапу развития западной гуманитарной мысли, ее поворот в сторону постмодернизма очевиден. Уайт исследовал то, как логически и лингвистически были выстроены социальные концепции некоторых историков XIX века. Им была разработана так называемая тропологическая теория истории, которую иногда называют также «эстетическим историзмом» или литаратуризацией истории [9, с .55]. Уайт приходит к выводу, что история есть специфический вид литературы, «операция по созданию фикции». Вымысел является имманентным свойством исторических текстов, считает Уайт, работу историка он характеризует как «вербальный артефакт, нарративный 10 прозаический дискурс, содержание которого настолько же изобретено или выдумано, насколько обнаружено или открыто» [10, с.87]. Историческое произведение, согласно Уайту, является соединением определенного набора исследовательских и нарративных операций. Первый тип операций отвечает на вопрос: почему событие произошло так, а не иначе. Вторая операция - это социальное описание, рассказ о событиях, интеллектуальный акт организации фактического материала. И вот тут, по Уайту, начинает действовать набор представлений и предпочтений исследователя, главным образом литературно-исторического жанра. Объяснение - основной механизм, который становится связующей нитью повествования. Объяснения реализуются через использование фабулы (романтическая, сатирическая, комическая и трагическая) и системы тропов - основных стилистических форм организации текста, таких, как метафора, метонимия, синекдоха и ирония. Последние решающим образом влияли на результаты работы историков. Историографический стиль подчиняется тропологической модели, выбор которой обусловлен индивидуальной языковой практикой историка. Когда выбор осуществлен, воображение готово к составлению нарратива. Историческое понимание может быть только тропологическим, считает Уайт. Историк выбирает определенные тропы, а потом уже идут теоретические понятия. Нарратив, по Уайту, есть инструмент для обозначения социального смысла того мира, в котором мы живем, он придает целостность и непрерывность историческому повествованию. В нарративе важны не сами события, а то, что люди говорят о них, сущность событий. Короче, нарратив - это возможность «производства» смысла, осмысления событий. Как оценивать влияние философии истории Уайта и постмодернизма в целом на историческую науку? Надо сказать, что мнения и здесь разделились. 11 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 Например, В. Н. Кравцов считает, что Уайт создал новую теорию историографического анализа, нового историографического языка [6, с. 272]. Что же касается исторической науки, то, по мнению того же автора, «...интеллектуальная «агрессия» постмодернизма была направлена, прежде всего, против тех оснований «научности», которые вызывали критику и в самой профессиональной историографии: отношение к источникам, противоречия между объяснением и пониманием исторического текста, несовершенство профессионального языка и так далее. Постмодернизм придал этой неудовлетворенности старыми основаниями научности новое качество и усилил критическое воздействие на профессиональную историческую науку» [7, с. 196]. Однако один из крупнейших современных философов истории Ф.Р.Анкерсмит считает, что ценность теорий, подобных теории Уайта, незначительна, «поскольку они были не более чем кодификацией уникального опыта чтения». Именно в новых прочтениях историков прошлого и надо усматривать оригинальность и силу «Метаистории»; введение и заключение к этой книге Уайта содержат лишь кодификацию этих результатов. И представленные там теории были бы совершенно неубедительными, если бы не эти новые прочтения. Хорошие интерпретации не являются побочным продуктом хорошей герменевтики, однако хорошая герменевтика является просто побочным продуктом хороших интерпретаций» Анкерсмит призывает «проститься» с герменевтикой, деконструктивизмом, семиотикой, тропологией и так далее и основываться на понятии исторического опыта. [1, с. 161-162]. «Должны быть отброшены, - пишет он, - только те теории, которые предписывают историку, какой должен интерпретировать тексты прошлого. Теоретик истории не должен вмешиваться в деятельность историка, но должен принимать такой, какова она есть, и ограничиваться размышлением о ней» [1, с. 140]. Вместо этого теоретики конструировали «абстрактные и 12 претенциозные миражи», указывающие историкам, как они должны читать свои тексты [1, с 140]. Здесь нет возможности рассматривать социальную интерпретацию Анкерсмитом так называемого «возвышенного» исторического опыта», но сам призыв одного из лидеров, близких к рассматриваемым течениям философско-исторической деконструктивизм, мысли, сдать герменевтику, в семиотику «лавку и древностей» тому подобное симптоматичен. Более того, Анкерсмит даже называет герменевтику «бесцельным нелепостями» сомнамбулизмом», [1, с. 245], а Совет деконструктивизм же известного - «дерзкими современного постмодерниста Р. Рорти заменить Декарта и Канта Гадамером и Деррида советом заменить Дьявола Вельзевулом» [1, с.139]. Необходимо отметить, что X. Уайт, X. Келлнер, Г. Иггерс, Ю. Топольски и другие известные мыслители полагают, что перенос акцентов на проблему исторического опыта является фундаментальной точкой зрения для будущего истории, ее социальных аспектов и философии истории. Л. П. Репина, в свою очередь, критикует постмодернизм за то, что он подверг сомнению: «...1) само понятие об исторической реальности, а с ним и собственную идентичность историка, его профессиональный суверенитет (стерев казавшуюся нерушимой грань между историей и литературой); 2) критерии достоверности источника (размыв границу между фактом и вымыслом) и, наконец, 3) веру в возможности исторического познания и стремление к объективной истине...» [12, с. 26]. В коллективной работе отечественных исследователей дается, как нам кажется, более взвешенная оценка влияния постмодернизма на социально-историческое познание. Постмодернистский вызов истории, говорится в ней «...был направлен против концепций исторической 13 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 реальности и объекта исторического познания, которые выступают в новом толковании не как нечто внешнее для познающего субъекта, а как то, что конструируется языком и дискурсивной (речевой) практикой. Язык рассматривается не как простое средство отражения и коммуникации, а как главный смыслообразующий фактор, детерминирующий мышление и поведение. Проблематизируются само понятие и предполагаемая специфика исторического нарратива как формы адекватной реконструкции прошлого. Подчеркивается исторического креативный, повествования, искусственный выстраивающего характер неравномерно сохранившиеся, отрывочные и нередко произвольно отобранные сведения источников в последовательный временной ряд. По-новому ставится вопрос не только о возможной глубине исторического понимания, но и о критериях социальной объективности и способах контроля исследователем собственной творческой деятельности. От историка требуется пристальнее вчитываться в тексты, использовать новые средства для раскрытия истинного содержания прямых высказываний, и расшифровывать смысл на первый взгляд едва различимых изменений в языке источника, анализировать правила и способы прочтения исторического текста аудиторией, которой он предназначался, и прочее» [11, с. 245]. Итак, как было отмечено, постмодернизм предпочитает различие тождеству, утверждая тем самым плюрализм социально-исторических описаний. «Не преемственность и эволюция, не сопоставимость и трансформация, но прерывность и неповторимая инаковость каждого из исследуемых феноменов все чаще заполняют интеллектуальное поле историка» [2, с. 155]. Под влиянием таких установок некоторые историки стали мыслить прошлое как нечто прерывное и фрагментарное, его осмысление отождествляется, прежде всего, с анализом социальных различий и разграничений. Например, американские историки-медиевисты в таком случае не рассматривают средние века как закономерный предшественник 14 будущего европейского мира, не ищут того, что вело к этому результату. Наоборот, как было сказано, они ищут различия, отбрасывают идеи преемственности и прогресса в развитии общества [17]. Такие же тенденции есть во Франции (Ж. Ле Гофф, Ж.-К. Шмит и другие). «Нетрудно заметить, пишет Ю. Л. Бессмертный, - что исторический анализ понимается здесь по-иному, чем во французской истории 25-30-летней давности. Под таким анализом подразумевается теперь не столько изучение последовательных изменений, пережитых феноменами прошлого, сколько понимание своеобразия каждого из них в отдельности, так же как и наполнение нашей сегодняшней памяти об этих феноменах. Речь идет о наполнении, основывающемся конечно же на тщательнейшем изучении исторических памятников и предполагающем напряженнейший диалог с ними. Но конечная цель этого диалога с историческими памятниками - не столько реконструкция реальных пертурбаций прошлого (то есть воспроизведение того, «как это было на самом деле») сколько наше собственное осмысление этих пертурбаций и отдельных их составных элементов, то есть наше смыслополагание» [2, с. 154]. Историк, говорят постмодернисты, имеет дело не с социальной реальностью, а с текстами, не являющимися чем-то вроде прозрачных стекол, через которые ясно видна эта реальность. Единственно мыслимой реальностью является сам текст, его написание, чтение, интерпретация. Историк-исследователь своей деятельностью (концепцией, языком и тому подобное) формирует историческую реальность. Классическая же позитивистско-натуралистическая модель познания исходила из первичности социального объекта и максимальной элиминации субъекта. Подобные идеи могут оказывать серьезное влияние на исследовательскую деятельность людей, имеющих дело с текстами, документами и тому подобное. Например, историки часто ставят задачу выявить авторский смысл какого-либо письменного источника. А как это сделать, если полагать, что смысл задается в большей степени формальной 15 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 структурой языка, чем намерением автора? Получается, что «свой», личный смысл автор текста передать не может. Происходит то, что было названо Бартом «смертью автора». Но «смерть автора» предполагает также и «смерть читателя», поскольку он тоже не свободен в смысловой деятельности, находясь в плену «языковой тюрьмы». Между тем реальная практика того же историка свидетельствует, что: - во-первых, историческую науку по-прежнему интересуют «авторские мысли», без понимания и реконструкции которых она перестала бы быть историей; - во-вторых, исторические тексты, вопреки крайним заявлениям постмодернистов, все же репрезентируют социальную реальность, отражают события и явления, лежащие за пределами текста (например, в цифровых показателях торговли, переписи населения и тому подобное, связь между текстом и реальностью очевидна, пусть и не всегда точна); - в-третьих, исторические тексты помещаются историками в историческое время, в его контекст, а не в контекст других текстов, как делают деконструктивисты. Дж. Тош по поводу объявления разного рода «смертей» иронично замечает: «С таким же успехом можно говорить и о смерти текстуальной критики в ее традиционном смысле, поскольку толкователи текстов обладают не большей свободой действий, чем их авторы. Объективный исторический метод, находящийся вне текста, просто невозможен, существует лишь интерпретационная точка отсчета, сформированная из лингвистических ресурсов, доступных толкователю. Историк... теряет свое привилегированное положение» [16, с. 170]. Он становится обычным «читателем» текстов и не должен претендовать на то, что его прочтение имеет какое-либо отношение к достоверности, к реальности, поскольку «вне текста не существует ничего» (Ж. Деррида). И каждый может вкладывать в него собственный смысл, участвуя в дискурсе и в 16 деконструкции «поверхностных» смыслов, выявляя скрытые, недосказанные. Ясно, что такие выводы целиком принять нельзя. По нашему мнению, их можно с полным правом назвать «лингвистическим берклианством» XX в. Большинство историков относятся к ним или резко отрицательно или, по меньшей мере, настороженно. По образному выражению Л. Стоуна, тексты предстали залом из зеркал, отражающих только друг друга, а места «правде» тут не нашлось. Слова - «игрушки человека» и они не могут играть между собой. Замкнутость на текстовой реальности, невозможность выбраться из нее приводит к тому, что постмодернизм «практически совершенно игнорирует широкие подспудные течения исторической причинности, поскольку они не просматриваются явно в текстах» [15, с. 166-167]. Причинную связь между событиями в таком случае подменяют «дискурсивными» связями социально-историческое между объяснение текстами, вследствие объявляется чего химерой. Постмодернистская история рисуется как бессвязная последовательность социальных ситуаций, периодов, миров и тому подобное. В итоге историки не открывают прошлое, они его выдумывают, а история есть то, что пишут историки. С этой точки зрения, нет никакой разницы между фактом и вымыслом, истиной и заблуждением. Получается, что исторические тексты разных эпох равны. Нельзя говорить, что поздний текст более адекватно воспроизводит реальность, чем предыдущий. Это - разные способы концептуализации прошлого. «С точки зрения постмодернистов, тексты древнегреческих историков вполне стоят текстов, написанных историками XX в. Они отличаются тем, как они написаны. В них по-разному представляется реальность. Они не ближе и не дальше по отношению к истине. Ведь истина исторического исследования не отделена от языковой репрезентапции. Как все жанры литературы по-своему хороши и должны существовать в культурной памяти 17 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №1, 2009 человечества, так и различные жанры историко-описания образуют целостный образ истории» [4, с. 321-322]. Вместе с тем нельзя не отметить, что так называемый лингвистический «поворот» дал возможность начаться (пусть частично) эпистемологическому «повороту» в исторической науке, который позволил историкам обратить внимание на самих себя, на рефлексию своей языковой и познавательной деятельности. Чуть ли не впервые осуществлен переход к эмпирическому исследованию самого исторического разума, к тому, как думают историки, какое влияние оказывает язык на работу историка. Природа социально-исторического исследования вновь оказалась в центре внимания. Именно в этом мы видим значение всевозможных «поворотов» и их революционизирующего влияния на гносеологию социально- гуманитарных наук. Постмодернисты обратили внимание историков на то, что тексты есть не только хранители информации, «окно в прошлое», но то, что они (источники) были созданы в определенных системах социальных значений и притом редко однозначных, бесспорных. Прошлое, его порядок, согласно постмодерну (и не только ему) создают сами историки. Постмодернистская парадигма заставила многих историков перенести акцент на анализ так называемой «периферии дискурса», связанный с толкованием неочевидных смыслов, неосознанных мотивов и тому подобное. Расширялось понятие исторического источника, то есть в него включались «вещи», которые «говорят», но не являются текстом (сны, болезни и тому подобное). Можно сказать, что в некоторой степени постмодернизм подтолкнул историков сравнивать события из разных временных слоев, изучать то, что не произошло, а могло бы произойти, не говоря уже о том, что экспликация литературных условностей, заложенных в социально-историческом повествовании сыграла особенно важную роль в осознании исторического труда как формы литературного творчества с 18 присущими ему риторическими приемами и правилами, которые задают дискурсивную стратегию текста. «С приходом в историю понятия «деконструкции» изменяется не только и не столько методология исследовательской работы, сколько образ мышления историка. Сама деконструкция направлена на выявление внутренней противоречивости текста, обнаружение в нем скрытых и незамеченных не только неискушенным читателем, но и самим автором «спящих» остаточных смыслов. Эти остаточные смыслы достались нам в наследие от речевых неосознаваемых практик стереотипов, прошлого, которые закрепленных тоже, в свою в языке очередь, бессознательно и независимо от автора текста трансформируются под воздействием языковых клише его эпохи» [10, с. 98] Можно сказать, что под прямым воздействием деконструктивизма возникли женская и тендерная история, а также их теоретические обоснования, феминизм и постфеминизм с самого начала своего развития шли по пути деконструкции «традиционных» мужских дискурсивных практик. Итак, постмодернизм отрицает идею истории, ее социальных аспектов как единого движения от одной стадии к другой, отрицает идеи социального прогресса, свободы, демократии, классовой борьбы, ставит под сомнение любые генерализирующие схемы, попытки увязать историческое повествование в стройную концепцию. Постмодернизм смешивает историю как науку с литературой. Однако: 1) история - это прежде всего социальное исследование, а литература - рассказ; 2) история требует социальной аргументации, литература в ней не нуждается; 3) цель истории - социально познавательная истинности), литературы - эстетическая; 19 (достижение УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 4) №1, 2009 конфигурация социально-исторических произведений определяется логикой исследовательских процедур, а именно проблемой, гипотезой, аргументацией и так далее. Конфигурация литературных трудов задается жанрами поэтики. Опыт, конечно, полностью нельзя свести к дискурсу, к речевой практике, а невозможность прямого восприятия социальной реальности не означает полного произвола историка в ее «конструировании». Конечно, крайности постмодернизма, вроде заявлений о том, что вне текста не существует ничего, принять нельзя. Но нельзя также отвергать целиком некоторые его идеи и новые тенденции. Литература: 1. Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. - M.: Изд-во «Европа», 2007. 2. Бессмертный Ю. Л. Тенденции переосмысления прошлого в современной зарубежной историографии // Вопросы истории. 2000. № 9. 3. Гобозов И. А. Социальная философия: учебник для вузов / Гобозов И. А. - М.: Академический проект, 2007. 4. Губин В. Д., Стрелков В. И. Власть истории: Очерки по истории философии истории. М.: Российск. гос.гуманит. ун-т, 2007. 5. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. - М.: Логос, 2000. 6. Кравцов В. Н. Метаистория: Историческое воображение в Европе девятнадцатого века/X. Уайт//Образы историографии. М.: РГГУ. 2000. 7. Кравцов В. Н. Трансформация оснований профессионализма исторического знания в современном историографическом процессе / / Образы историографии. М.: РГГУ. 2000. 20 8. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. - М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 9. Мегилл А. Историческая эпистемология: Научная монография (перевод Кукарцевой М., Катаева В., Тимонина В.). М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 10.Методологические проблемы истории. - Мн.: ТетраСистемс, 2006. 11.Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова M. Ю. История исторического знания. - M.: Дрофа, 2004. 12.Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. 1996. 13.Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 1990. 14.Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М„ 1977. 15.Стоун Л. Будущее истории /ДНЕББ. 1994. Вып. 4. 16.Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. M., 2000. 17.Freedman P. and Spiegel G. Medievalisms Old and New: The Rediscovery of Alteritj in North. American Medieval Studies. -AHR,Vol. 103,1998,№3. 21