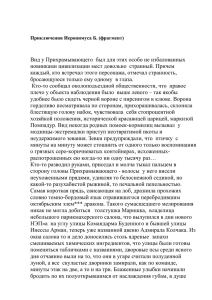"Легче Воздуха" (Скачать
реклама
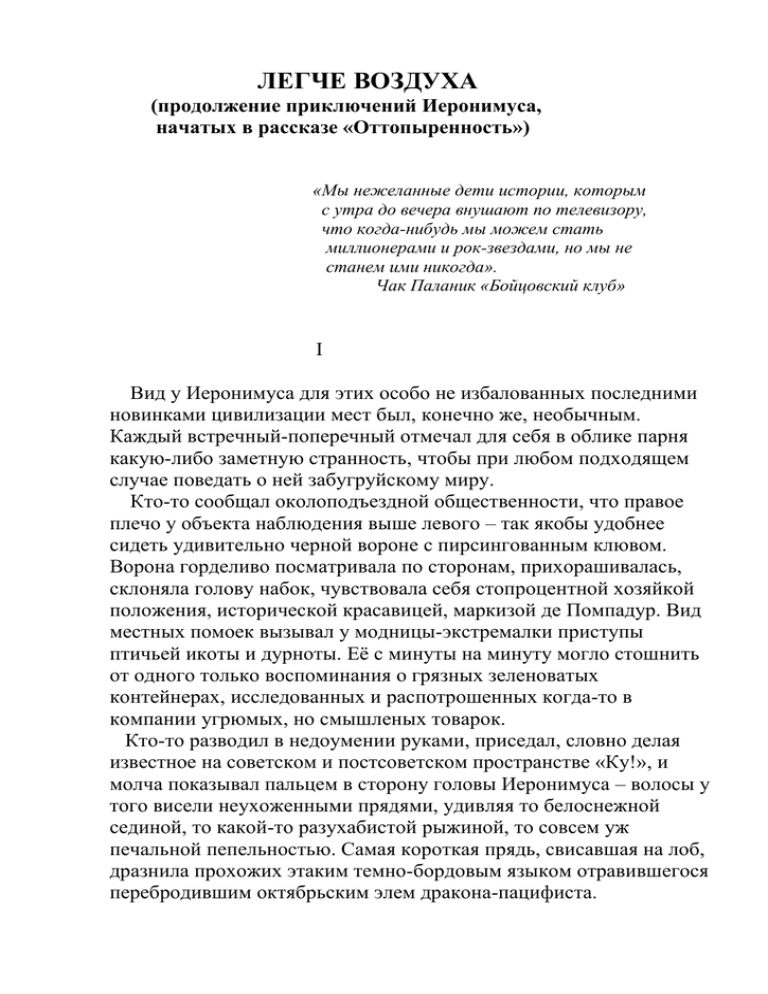
ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА (продолжение приключений Иеронимуса, начатых в рассказе «Оттопыренность») «Мы нежеланные дети истории, которым с утра до вечера внушают по телевизору, что когда-нибудь мы можем стать миллионерами и рок-звездами, но мы не станем ими никогда». Чак Паланик «Бойцовский клуб» I Вид у Иеронимуса для этих особо не избалованных последними новинками цивилизации мест был, конечно же, необычным. Каждый встречный-поперечный отмечал для себя в облике парня какую-либо заметную странность, чтобы при любом подходящем случае поведать о ней забугруйскому миру. Кто-то сообщал околоподъездной общественности, что правое плечо у объекта наблюдения выше левого – так якобы удобнее сидеть удивительно черной вороне с пирсингованным клювом. Ворона горделиво посматривала по сторонам, прихорашивалась, склоняла голову набок, чувствовала себя стопроцентной хозяйкой положения, исторической красавицей, маркизой де Помпадур. Вид местных помоек вызывал у модницы-экстремалки приступы птичьей икоты и дурноты. Её с минуты на минуту могло стошнить от одного только воспоминания о грязных зеленоватых контейнерах, исследованных и распотрошенных когда-то в компании угрюмых, но смышленых товарок. Кто-то разводил в недоумении руками, приседал, словно делая известное на советском и постсоветском пространстве «Ку!», и молча показывал пальцем в сторону головы Иеронимуса – волосы у того висели неухоженными прядями, удивляя то белоснежной сединой, то какой-то разухабистой рыжиной, то совсем уж печальной пепельностью. Самая короткая прядь, свисавшая на лоб, дразнила прохожих этаким темно-бордовым языком отравившегося перебродившим октябрьским элем дракона-пацифиста. Этот фантастический по вкусовым качествам напиток упомянут здесь, естественно, ради красного словца. Ибо местные, крепко выпивающие и не всегда закусывающие элементы, ни о каком эле и слыхом не слыхивали. Та мутноватая субстанция, которую они поглощали денно и нощно по случаю общенародных радостей и сугубо местечковых горестей, имела сказочную способность бродить не только в октябре. Субстанция увлекалась вредоносным бродяжничеством, т.е. брожением, круглый год. Драконами же аборигенов вряд ли можно было удивить – в городе месяц-другой назад появился первый китайский ресторан под названием «Аппетитный Дракон». На вывеске заведения пыжилось нечто, напоминающее расплющенную гусеницами танка маму-жабу, которую начинающие студенты-биологи проверяли на эластичность кожи. На самом деле, таким образом всемогущая японская Якудза под маской почитаемой в китайской Поднебесной зубасто-когтистой рептилии просачивалась на плохо охраняемую российским законом территорию города Забугруйска. Аналога сумасшедшего мелирования, которое красовалось на голове Иеронимуса благодаря стараниям подруги его Елизаветы, никак не могла добиться толстушка Маришка, владелица небольшого парикмахерского салона, что вылупился в дни нового нэпа на углу улицы имени Командарма Буденного и бывшей улицы имени Инессы Арманд – теперь уже названной местными муниципальными знаменитостями Авеню Адмирала Колчака. Из окна салона Маришки то и дело доносились столь ядреные запахи смешиваемых в разных пропорциях химических ингредиентов, что городские улицы были готовы начать бесплатно меняться табличками с названиями, дворовые псы среди ясного дня отчаянно выли на то самое, что они в реактивном угаре считали полуденной луной, а все скуластые смуглые дворники, как по команде, замирали минуты на две, а то и на три. Блаженные улыбки бродили по их полуоткрытым от наслаждения губам, в душе звучала музыка прохладной воды брошенных ради заработка на чужбине родных арыков, а ноздри пытались поймать несуществующий аромат жирного вкусного плова. Иеронимус и не догадывался о том, какие взрывные эмоции он вызывает у населения небольшого городка, до сих пор не знавшего прелести точечной застройки и рытья котлованов под коммерческие подземные автостоянки. Невдомек ему было и то, что парикмахерша Маришка, уже после его исчезновения из этих мест, полгода ходила в чудном кудрявом парике по его милости, в результате отчаянной попытки повторить тот самый сумасшедший темно-бордовый колор «а ля язык-оф-дрэгон» на своих совершенно бесцветных от природы волосах. Не догадывался он и о том, что тринадцать обычных в меру упитанных мудрых городских ворон пали жертвой экспериментов сына мэра города. Парень пытался проковырять в клювах несчастных пленниц дырочки для кольца от старой дачной шторы и ненароком сворачивал им головы. Старая шинель, в которой Иеронимус расхаживал по улицам, вызывала злобную зависть трушных, т.е. подлинных, панков, которые в прочих географических точках страны уже благополучно повымирали из-за своей абсолютной невостребованности общественной системой. И без них хватало бесноватых, шизанутых фриков, эпатирующих внешне спокойных, но внутренне уже сильно напрягающихся на клоунов всех рангов и мастей граждан. Панков в Забугруйске было видимо-невидимо. Из других мест мощным магнитом, уже не пригодных для панковского компактного проживания, их тянули сюда отменные ништяки, полное отсутствие стоматологов и совершенно наплевательское отношение местной полиции к проявлениям разномастной неформальности. Пару раз «гребешки» с улицы имени Командарма Буденного договаривались с «гребешками» с авеню имени Адмирала Колчака всей силой своих тщедушных тел навалиться на Иеронимуса, придушить его (но не до смерти) да раздеть – спереть заветную шинель и носить по очереди, обслюнявленным чернильным карандашом отмечая заветные дни поочередного ношения шедеврального изделия из сукна в календаре. Причем за давно прошедший 1963 год. Между тем, во дворах, мозгах и кошельках обычных жителей во всю хозяйничал 2013 год, впрочем, как и в бесчисленных клеточках остального мира. Все, что могло случиться плохого, уже случилось. Однако, по выработанной веками народной привычке, аборигены ждали худшего. Иеронимус же не ждал ничего. II Какие такие дороги привели его в Забугруйск, Иеронимус и сам толком не понимал. «Жизнь дала трещину!» - так звучала последняя произнесенная им в столице, фраза. Один-одиношенек стоял он на пороге своей квартиры. Брошенный всеми, включая верную когда-то сваренным им макаронам и идее освобождения подмосковного рогатого скота Елизавету. Забыв свою былую «готичность», Лизон повадилась ходить к звонарю Петру на новенькую колокольню – обучалась колокольному звону и художественному свисту на глиняной свистульке в виде задорного петушка. Друг Андрей, художник, сам добровольно сдался психиатрам. Вышел к ним с поднятыми вверх руками, как когда-то из руин разбомбленных союзной авиацией городов выходили навстречу освободителям запуганные мирные жители. ... - Знаешь, Ерема, - так Андрей называл Иеронимуса еще со времен совместного сидения на горшках в яслях, - попал я вчера под такой дождь, такое дождилово! Стена опупительная водяная с неба на меня как присядет! А я в костюме, фик-фок на один бок. Чапаю. В башмаках-лебедях рассекаю. И ни фига – не вымок! Прикинь. Сухой иду. Дождь льет на меня, а я, Ерема, сухой. Как шишка. - Почему шишка? – образ друга в виде еловой шишки с раскрытыми чешуйками больно кольнул мозг. – Шишка-то при чем? - А хрен ее знает. К слову. Шишка, которую белки скоммуниздили у дуры-елки. Она знаешь какая? - Какая? – коричневый сахар преступно медленно таял в остатках чая на дне кружки с портретом бессмертного Че, Команданте Всея Вселенная. Художник ничего не ответил. То ли забыл, о чем говорил, то ли просто в начинавшей нехорошо гудеть голове случилось короткое замыкание. Он уставился на свое отражение в медном, с любовью начищенном Иеронимусом еще дореволюционном паянномперепаянном чайнике. Вытянул губы трубочкой, причмокнул и подкрутил несуществующие усы. Кончиками строго к небу, антеннками, как у Сальвадора Дали, выпучившего глаза от чрезмерной живости собственного ума, жаркого даже для испанца. - Сухой под дождем топал. Вот те крест, Ерема. Пришел в мастерскую, а там все картины потекли. Разноцветными ручьями. Стоят и плачут. Холсты мокрые. Пол мокрый. А ведь крышу никто не отменял. На месте крыша была. Я слазил, проверил. На следующий день после чаепития, проведя всю ночь в беседах о душе с подвыпившим стариком Рембрандтом, Андрей и сдался психовозке. Глядя на худющую фигуру друга с поднятыми руками, идущего прямиком в объятья двоих веселых здоровенных санитаров, Иеронимус мысленно повесил ему на грудь автомат – чтоб Андрюха Тощее Брюхо не выглядел уж таким беспомощным и покорным перед лицом беспощадной к больным российской медицины. Чтоб стояло за ним призрачное лихое партизанское прошлое, если не в Карпатах с батькой Ковпаком, так хотя бы в горах Югославии, среди славных солдат многоликого маршала Иосифа Броз Тито. Расстройство Иеронимуса шло по восходящей, получалось настоящее «крещендо», от пиано до форте и фортиссимо, когда уже хочется орать во все горло и биться головой о бетонную стену от нахлынувшего вдруг, неожиданно и предательски мощно, чувства одиночества. Эмоциональное звуковое восхождение складывалось из колокольного ликбеза Лизон + плачущих картин Андрея и зловещей психовозки + хулиганства Оззи Осборна, этого чертова Князя Тьмы, страдающего алкоголизмом, алексией и вяло-текущей британо-американской дурью. Последнее и было той самой последней каплей, переполнившей чашу толерантности и полного согласия Иеронимуса с его собственной, не всегда понятной окружающим, жизнью. С экрана кинотеатра подозрительно бойкий Томми Ли с упоением рассказывал, как по пьяни Оззи наложил здоровенную кучу на пол, а потом размазывал собственное дерьмо по стенам. «Я до такого уровня еще не дошел!» – верещал явно подвыпивший барабанщик группы «Motley Crue», а набившаяся в маленький зал публика буквально покатывалась от хохота. Девчонка, сидевшая рядом с Иеронимусом, громко икала... То ли выпитая «Кока-Кола» лезла у нее из ушей, то ли она просто так веселилась. «Это высший пилотаж!» - резюмировал Томми Ли при всеобщем ликовании собравшихся чистеньких нью-хипстеров. «Боже, храни нашего Оззи Осборна!» - сказал сам себе Иеронимус и двинулся к выходу, наступая без разбора на чьи-то худые ноги в джинсах-дудочках. «Ты куда, брат, это же рок-нролл!» - завопил один из обладателей конечностей-прутиков, пытаясь схватить Иеронимуса за руку и посадить себе на колени. Иеронимус молча опрокинул на голову дистрофичного оззифана ведерко попкорна и под матерные рулады пострадавшего пулей вылетел из кинотеатра. Чтобы отправиться куда глаза глядят, вернее, куда глаза глядели в тот прохладный весенний вечер. Получилось, что двинул он по какому-то наитию в город Забугруйск, о котором в жизни ничего не слышал. Иеронимус даже не подозревал о существовании такого населенного пункта на карте Родины. Ворона прибилась к нему уже в дороге, странным образом нарисовавшись в пустом вагоне ночной электрички с порезанными безымянными дикарями кожаными сиденьями. Птица была явно не бесхозной, как подумалось Иеронимусу вначале, - предыдущий хозяин вставил ей в клюв с ювелирной точностью кольцо из серебра 925 пробы. Она долго летала по всему вагону, но молча, без обычных картавых воплей. Выбирала место для посадки. Видимо, серозеленое сукно иеронимусовой шинельки напомнило ей поля первой мировой войны... И, усевшись на плечо притулившемуся у давно немытого окна и убегающему от себя в полудреме Иеронимусу, дружески клюнула его в ухо. III - Звать-то тебя как? – сердобольная буфетчица на вокзале, с опаской поглядывая на дремавшую на плече нового хозяина ворону с колечком в клюве, пододвинула Иеронимусу стакан с жидкостью, гордо именуемой в написанном от руки меню «чаем». - Иеронимус, - Иеронимус отхлебнул теплую жидкость и понял, что все рельсы далекого прошлого СССР сошлись именно в этом месте. Вот-вот в вокзальный буфет должен был войти Дядя Степамилиционер в белой гимнастерке, взять под козырек и увести потерявшегося в пространстве мальчонку в уюную Комнату матери и ребенка. - Иероним? Босх, что ли? – почему-то разочарованно протянула буфетчица, явно теряя интерес и к вороне, и к темно-бордовой пряди, свисавшей на лоб собеседника. - Босх... – вздохнул Иеронимус, - кто же еще! Если Иероним. То, что любой Иероним обязательно должен быть Босхом, в этой затерянной во Вселенной местности знали все. Начиная с трехлетнего карапуза Феди Чекрыжкина и заканчивая королем местных бомжей, бывшим капитаном бесповоротно дальнего плавания Кондратием Никоноровичем Сиделко. Босхомания, удивительным образом пустившая корни в не оченьто плодородную забугруйскую почву, вылезала отовсюду – где-то белым непорочным цветком обычного вьюнка, где-то колючей репейной головой. В местной пивнушке с интернациональным названием «Яма» кто-то робкой ученической рукой разрисовал невеселые казенные стены персонажами из всемирно известного триптиха «Сад наслаждений», одарив их лицами и задами городских знаменитостей. На голых задах некоторых личностей местные шутники-музыканты любили писать ноты популярных в народе хитов вроде «Лаванды», «Шарманки» и «Все для тебя». Один из девяти проживающих в Забугруйске клавишников, находясь в состоянии безоговорочного бурного подпития, изобразил на вышеуказанной части тела городского прокурора припев известной в узких демократических кругах песни «Я свободен». Вид искаженных неумелостью рисовальщиков якобы босхианских фигур требовал от посетителей заведения постоянного повышения градуса и благоприятно сказывался на благосостоянии рябого лицом хозяина «Ямы», в прошлом штатного милицейского маньяка по кличке Фрагментатор. «Яму» с успехом переименовали в «Яма-ха» или «Яма-ху» пролетавшие через эту местность на своих стальных конях столичные байкеры, изнывающие в поисках экзотических приключений, пресытившиеся постоянным болтанием на Смотровой площадке, что на московских Воробьевых горах и каждодневным, ставшим уже ритуальным, поеданием свиных рулек. Провинциальные барышни, ослепленные сиянием хромированных деталей, миганием украшающих байки лампочек, оглушенные громоподобной музыкой и плененные тайнами множественных татуировок на отнюдь не всегда мускулистых телах нынешних байкеров, шли на все, по «полной программе». «Полная программа» включала легкий ужин-заманушку в «Ямеху», не очень долгий, экономный полет по ночной автостраде под заморские лихие ритмы, и затем, неизбежно – амортизацию разомлевших от внезапного романтизма теплых тушек красавиц в каком-нибудь укромном месте. В городе давно уже ходили слухи, что время от времени в забугруйском роддоме появлялись на свет беспечные младенцы, на нежных попках которых спустя сутки после рождения проявлялись, словно тату, эмблемы мотоклубов или же эмблемы компаний, выпускающих мотоциклы. В последнее время чрезмерное разнообразие таких символов озадачивало несведущих в байкерских делах медиков. Работники же отделов гражданского состояния, не моргнув глазом, вписывали в свидетельства о рождении диковинные имена. Иваны, Василии, Кириллы уступали место Харлеям, Голдвингам, Триумфам, Венчерам (уменьшительно-ласкательно – Харлеюшки, Харики, Голдушки, Голдеюшки, Венчики-Бубенчики). Среди девчачьих имен самыми популярными считались Явы, Ямахи, Хонды и Судзуки (уменьшительно-ласкательно – Ямочки, Хаханьки, Ямашеньки, Хондулечки, Хондульки, Хондуленции. У Судзук вопрос ласкательно-уменьшительных имен как бы завис в воздухе – ни одна мамаша не смогла подобрать благозвучного словосочетания, отражающего всю нежность и красоту выполненных «по полной программе» крошек. Вот почему нареченные этим басурманским именем девочки росли рыхлыми, хмурыми, прыщавыми и необщительными). Среди особо одаренных малышек нет-нет да встречались Паннонии. На ступеньках местного храма строго с 8 до 11 часов утра сидел с протянутой рукой единственный в городе Урал по фамилии Маковский, уже пожилой джентльмен, в одиночестве воспитывающий внука своего, тоже единственного в своем роде. Все руки-ноги-голова в соответствующем человеческим стандартам количестве были у ребенка в наличие, третьего глаза на лбу никто не видел, хвоста или копыт акушеры при рождении не обнаружили. Уникальность данному ребенку придавало его имя. Звали бэйбика БэЭмВэ... IV Цыган заприметил Иеронимуса еще тем самым утром, когда тот, злой и невыспавшийся, появился в привокзальном буфете и имел ознакомительную беседу с сердобольной теткой со старомодной кружевной финтифлюшкой-короной на убитых пергидролью волосах. Слышал цыган и их короткий разговор. «Отлично, Иеронимус, значит. То, что доктор Фауст прописал! Иеронимус!» - отметил про себя не то мадьярский, не то румынский, не то молдавский, не то индийский представитель вечно гонимого и бродячего племени. Он был даже бароном - не опереточным, а стопроцентно натуральным. С золотой серьгой в дивно волосатом ухе. С целым забором золотых коронок во рту, прикрытом сверху черными усами. Чернее не бывает. Усы неровно спускались к стоматологическому богатству, и рот становился похож на пещеру, украшенную спутанными корнями растущих над нею деревьев. Цыган, разумеется, воровал – никаких сомнений в этом тривиальном факте даже возникнуть не могло. Однако лишал он людей законно нажитого имущества весьма оригинально – сначала умыкал, например, набор столовых вилок и ножей времен императора Николая-Мученика, но всего через каких-нибудь 24 часа возвращал взятое со всяческими извинениями и даже театральным расшаркиванием. - Мне чужого не надо, - откровенничал Цыган с Марфой Семиушкиной, старой своей приятельницей, помогавшей ему переписывать из старинных, никому не нужных, фолиантов, найденных на городской свалке, всякие заковыристые алхимические формулы, - чужое возьму, а потом верну. Легенду разрушать не желаю, хотя сегодня всякий чудак подобным разрушительством занимается. Да, все цыгане всегда что-нибудь заимствовали или при гадании изымали. Я эту оскорбительную в наши дни легенду поддерживать должен, поскольку барон, иначе образ цыгана... – здесь он выдерживал эффектную паузу по системе Станиславского и несколько смущал любезную гражданку Семиушкину многозначительной выпученностью своих честнейших карих глаз, - иначе образ цыгана в представлении населения померкнет и лишится доли своей мифологичности. Вот если бы вы не съели в трудное для Отечества время всех своих орловских рысаков, я бы их всех обязательно увел! Ведь коня увести - значит спеть гимн свободе! Коней периодически впадающий в пафос Цыган действительно ни у кого не крал – их просто здесь не было – а вот семью добропорядочных медведей из кочующего по стране цирка как-то умыкнул. Хотя, говорят, у медведей семей не бывает. Папаша медведь все время после рождения детеныша бродит неподалеку от берлоги, желая наследника своего сожрать. Мамаша-медведица бдит, отрезая кровопийце все подступы к родному дому. Цыган таких зоологических тонкостей не знал, и принял разновозрастную компанию за основную ячейку медвежьего общества. А мы -примем условия игры воображения и оттопыренности и утвердим косолапую троицу в качестве, определенном Цыганом. Стало быть, семья, the family. Цыган быстро установил телепатическую связь с косолапым главой компании, разделил его тревоги и чаяния, понял и в полной мере оценил тоску по не тронутым топором дровосека лесам с кедровыми шишками и буреломами. Тайно вывел темной ночью медвежье семейство из плохо охраняемого вольера и погрузил в свой грузовик года так 41-го выпуска, в истинный такой фронтовой драндулет. Дружно двинули они на восток, в поисках следов былого медвежьего счастья, ориентируясь по не научившимся за тысячелетия халтурить звездам. По дороге ловили рыбу, собирали ягоды, избегали встреч с людьми. Если же такого контакта было не миновать, медведи Цыгана бросались плашмя на дно кузова, притворяясь мертвыми, а Цыган заботливо прикрывал их бурые тела брезентом. - Чтой-то у тебя, мужик, в кузове болтается? – бывало, спрашивал у Цыгана особо бдительный лесник, кивая в сторону явно скрывающего какую-то государственную тайну брезента. - Да коза у меня там и семеро козлят. Сдохли все от какого-то гриппа. Не то свиного, не то птичьего. Кто этих коз нынче поймет! - Не, этих коз никто не поймет! - соглашался лесник, манерно, оттопырив мизинец, двумя пальцами доставая ароматную сигарету из услужливо приоткрытой перед ним красной пачки «Мальборо», ну, ты ехай, а то зараза, сам знаешь... - Заразу знаю, - соглашался Цыган, с ужасом наблюдая, как изпод брезента медленно начинает выдвигаться задняя бурая лапа медведя-отца. Затекла от долгого лежания и перестала подчиняться медвежьей воле. - Бензинчику плесни и того, мужик, поджигай козу-то. - Уж плесну, товарищ. Бензина не пожалею! «Странная какая-то коза у мужика... Была. Не козья нога, а прямо медвежья лапища, тудыть ее разтудыть. Вот что вирус заморский с нашей расейской скотиной делает, - думал особо бдительный лесник, глядя вслед уносящемуся с дивным тарахтеньем грузовичку Цыгана, - ишь ты, пылит-то как! Фраер козий!» Цыган добрался со своей косолапой командой аж до Амурского края. За время путешествия медвежонок подрос, раздался в плечах. Иногда, испытывая психологически неизбежную ностальгию по безопасным цирковым временем, требовал велосипед... - Что ж, простимся! – торжественно произнес Цыган у здорового камня-валуна, на котором одичавший турист написал белой краской «Люди, здесь был Коля!» - Я вас на волю привел, обживайтесь, соседям не хамите, чужую рыбу не жрите, баб человеческих, если увидите, не думайте пугать. А то они вас сами напугают, бабы у нас ничего не боятся, кроме войны... Медведи слушали своего спасителя плохо, уставившись в одну, удаленную на приличное расстояние от камня-валуна, точку. Цыган точно вычислил направление взгляда – далековато, конечно, но кое-что разглядеть все-таки можно было. Внимание зверей сконцентрировалось на группе аккуратно одетых и одинаково подстриженных людей, с почтением внимающим речам одного коренастого мужчины небольшого роста. Мужчина говорил так, словно отливал каждое слово свое в бронзе. Над его головой пафосно кружили не то орлы, не то ястребы. «Стерхи, залетные или командировочные», - протелепатировал медведь-папа и отчего-то нервно зевнул. К мужчине небольшого роста два здоровенных амбала подвели или, скорее, подтащили тигра на поводке. - Царская охота, что ли? – размышлял Цыган, наблюдая, как главный по-отечески потрепал тигра по загривку, но голову засовывать ему в пасть не стал. Окружение подобострастно смеялось, преданно заглядывая начальнику в глаза. – Обычно кабанов привязывают, чтоб удобнее стрелять было... А здесь целый тигр! - Мы бы пошли уже, - протелепатировал медведь-отец, - с местными знакомиться. А то вдруг нас тоже ... по загривку... И опять на поводок к барину. - Спасибо тебе, барон, за все, - подсоединилась к каналу коммуникации и дешифрации медведица, дама, уравновешенная во всех отношениях. - Велосипед пришли, - телепатнул свое, сокровенное, медвежонок, но получил подзатыльник от отца. - Мы теперь звери вольные, нам велосипеды ни к чему! - Ну, братцы, бывайте! Привык я к вам, - пара слез предательски скатилась по заросшим буйной щетиной цыганским щекам и повисла на самых кончиках усов. – Берегите себя! ... Человек небольшого роста позировал ретивым фотографам, держа вялого тигра на поводке. Над его уже не очень кудрявой головой, как заведенные, кружили ангажированные стерхи. - Этот охотник еще себя покажет, - бурчал под нос Цыган, подпрыгивая на ухабах и периодически носом утыкаясь в руль. – Не простой дядька, ох, не простой. К простым даже обкуренных тигров на поводке не подводят... Что за человек распоряжался судьбой занесенного в «Красную книгу» зверя, Цыган тогда не узнал. Медведи же были поставлены в курс имен и должностей участников истории в тот же день, не отходя от заветного камня. - Ничего себе, ёксель-моксель! – прокомментировал сообщение замученного круговыми полетами стерха папа-медведь. - Соблюдай, косолапый, политкорректность в выражениях, передернув мощными плечами, отреагировала на супружеский «ёксель» уравновешенная мама-медведица. - Может, написать ему письмо, и он мне велосипед пришлет? – встрял в телепатическую беседу взрослых неугомонный медвежонок, затаивший обиду на Цыгана из-за отказа подогнать ему хотя бы трехколёсное транспортное средство. И в очередной раз огреб от родителей звонкий увесистый подзатыльник. V Три дня Цыган ходил за Иеронимусом. Приглядывался, принюхивался, скользил тенью, сканировал, цеплялся на астрале, беззастенчиво заглядывая в прошлое и неизменно натыкаясь там на здоровенную еловую шишку, раздербаненную белками. - Подходит мне этот парень, Марфа, подходит. Во-первых, пришлый, во-вторых, не такой авитаминозный и малахольный, как местные, - делился Цыган своими мыслями с Марфой, наблюдая как слабоумные мотыльки отчаянно бились о стекло старинной керосиновой лампы. Их молеподобные трупики смотрелись в полумраке Марфиной комнаты аккуратными кучками чьего-то героического пепла. Мотылькам так полагалось Природой -- тупо врезаться в стекло, пытаясь прорваться сквозь непреодолимую для их тщедушности преграду. - Мерку снимать будем? – Марфа хлопнула себя по щеке, прерывая победную песню вампирствующего комара, - всё, как положено? - Не торопись, - Цыган сверкнул глазами, подыграв этому ослепительному блеску вспышкой золота во рту, - сей многоцветный тип должен окончательно созреть. Дойти в своих душевных терзаниях до крайности, иначе на мой план не согласится. А мой план, Марфа, ты же знаешь, мой план гениален! Иеронимус действительно мучился: хотелось и домой, и не домой, и к друзьям, и не к друзьям, Хотелось побриться наголо и хотелось выкрасить еще пару прядей в ядовитый зеленый цвет. Хотелось пойти к военкому, записаться в контрактники и очутиться в БТРе где-нибудь в Сербии и хотелось выйти с огромным, нарисованном на упаковочном картоне, пацификом на Красную площадь. Хотелось выучить наизусть всего «Заратустру» и матерные русские сказки под редакцией Афанасьева и хотелось вообще забыть все буквы, правила умножения и деления. Хотелось вынуть МОЗГ и долго чистить его не зубной щеткой, а здоровенной, сапожной. Пару раз он звонил Лизон, но та лишь свистела в трубку в свою свистульку-петушка и издевательски позвякивала валдайским колокольчиком. Видать, совсем переклинило готессу. Андрюху накачивали аминазином. Героя, похожего на МакМёрфи из зачитанной друзьями до дыр книги Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», из художника не получилось. Индейцы, способные вдохновить его на подвиги по пробуждению сознания у вроде бы безнадежных больных, в наших психлечебницах давно уже перевелись. «А ведь из нас ничего путного так и не получилось, - приходил к неутешительному глобальному выводу Иеронимус, сидя на раскладушке на кухне приютившего его Урала Маковского, - ни из кого. Из никого и не выйдет ничего. Один раз споткнулись во времени да и слетели с концами с трассы. “ Куда ты, брат, это же рок-н-ролл!” Высунул нос за двери познания, и сквозняк сыграл злую шутку – двери захлопнулись. Нос – там, ты – здесь. А здесь уже все не то, а совсем другое. И для дур-девок революция -- это веселая прогулка с приключениями, заканчивающимися оргазмом в койке. Вот мы долго кричали, что мы не кирпичики в стене, не винтики, не шпунтики. Да кирпичи мы натуральные. И винтики. И шпунтики. Жрать захочешь -- в домкрат превратишься, не то, что в ржавый гвоздь!» За стеной запищал бэйбик БэЭмВэ – создавалось впечатления, что кто-то изо всех сил жал на автомобильный клаксон. Урал Маковский, укачивая проснувшегося внука, фальшиво басил: Не ложися спать у стенки, Станут грязными коленки, Придет байкер, твой папашка, Сварит правильную кашку... «Придет байкер, твой отец, и устроит всем п...ц!» - Иеронимус с садистским удовольствием исковеркал надоевшую за несколько дней жизни на крохотной кухне однообразную колыбельную Урала. Хотя бы, для смены темы, про мамашу бэйбика что-нибудь срифмовал. В данном контексте строгое слово «мать» идеально рифмовалось с любимым русским народом словом «б...», изящно замененным мастерами разговорного жанра на безобидное, кулинарно-общепитовское «блин». Душевные приливы и отливы Иеронимуса Цыган чувствовал за несколько километров – психологический пеленгатор работал у барона отменно, будучи один раз и навсегда настроенным одним благородным стареющим знатоком жизни и особенностей серого вещества самого Вольфа Мессинга, убежавшего и от Гитлера, и от Сталина, но не от собственной судьбы. «Можно устроиться официантом и плевать или мочиться в суп, заказанный в ресторане буржуями, как в “Бойцовском клубе”, или воровать откачанный у гламурных шлюх жир, варить из него якобы элитное мыло и впаривать тем же шлюхам по заоблачным ценам. Или захватить самолет с органическими удобрениями и сбросить их на Белый дом и на резиденцию английской королевы. А ДалайЛаму не трогать, классный мужик. Литература диктует массу способов не окочуриться на стадии превращения в винтик или кирпич, - внутренний голос Иеронимуса пеленговался бароном все хуже и хуже. Парень, видимо, засыпал, - Еще один кирпич в стене. Another brick in the wall. Хорошо, что не... prick... А то было бы очень бо...». VI Сон Иеронимуса на кухне Урала Маковского - Эвакуация, эвакуация! – вокруг завалившегося на правую сторону бревенчатого дома ходила запомнившаяся Иеронимуса со дня его приезда в Забугруйск жалостливая тетка, привокзальная буфетчица. Одета она была не в белый застиранный и лопающийся на необъятной груди халат, а в серый зэковский ватник. На голове вместо кружевной архаичной наколки красовалась шапка-ушанка с красной пятиконечной звездой в положенном по уставу месте. Впереди себя тетка с видимым отвращением несла огромный жестяной ящик с надписью «Пирожки». Ящик удерживался на весу благодаря толстенному брезентовому ремню, переброшенному буфетчицей через плечо. - Эвакуация! Эвакуация! Елизавета, Андрюха, Оззи Осборн и сам Иеронимус сидели в холодном доме с выбитыми окнами за непомерно длинным столом, сколоченным из шершавых досок. Под потолком то вспыхивала, то гасла тусклая лампочка, а по полу туда-сюда, сама по себе, перекатывалась промерзшая, сморщенная по-старушечьи картошка. Андрюха почему-то решил, что с минуты на минуту к ним должны нагрянуть немцы. И не просто граждане Германии, а самые что ни на есть фашисты, эсэсовцы. Якобы он уже видел через ничем не защищенное окно, как на бреющим полете возле дома летали зеленоглазые валькирии с Рихардом Вагнером во главе. Композитор дул в золоченную трубу, а валькирии, уходя в рискованное пике над капустной грядкой, умудрялись наматывать на распахнутую настежь калитку чьи-то кишки. Все, как положено по нордическому эпосу. Нааминозиненный художник был на сто процентов уверен, что следом за такими изощренными шутками мифологических дев явятся черные, как кукушки, эсэсовцы. - Они нас будут пытать, - уныло бубнила Елизавета, - они не посмотрят на то, что мы были когда-то готами... - Тебя они будут не просто пытать, они тебя будут насиловать, с плохо объяснимой детской радостью заявил Андрей, - эсэсовская групповуха. - Мама! – Лизон зарыдала в голос, напугав непоседливую замерзшую картошку до такой степени, что клубни лихорадочно заметались из угла в угол. Образ ее бравого отца, участкового Кондратьича, в рамки сна катастрофически не укладывался. Оттого и не прозвучало знаменитое елизаветино «Папаня!» - Эвакуация! Пирожки горячие! Эвакуация! – продолжала блажить на улице буфетчица, разжившаяся где-то голубым флагом Организации Объединенных Наций. - Нам надо срочно съесть как можно больше спичечных головок, - быстро, словно его подключили к невидимому источнику словоохотливости, забормотал Андрей, - мы отравимся и умрем. Пытать и насиловать будет некого! - А если они некрофилы? – продолжала плакать эрудированная Елизавета, начав, правда, озираться в поисках спасительных для ее чести коробков. Оззи Осборн, перестав выковыривать глазки у пойманной на полу картошки, принялся выворачивать все имеющиеся у него карманы. И на столе быстро вырастала высоченная гора спичечного богатства. Откуда только что бралось! Недра оззиковских штанов, джинсовой жилетки и рубашки были неиссякаемы. - Вы ешьте, я это жрать не буду, - Prince of Darkness тяжело вздохнул и придвинул коробки поближе к Лизон, видимо, серьезно вникнув во всю незавидность положения официально незамужней девушки, - мне, что ешь эту гадость, что не ешь. За свою жизнь я столько всего похлеще вашей fucking серы употребил, а ведь жив до сих пор. Так что пускай эти fucking гитлеры пытают меня и насилуют. Меня уже ничем не возьмешь... Андрюха живо потрошил маленькие коробки, дрожащими грязными пальцами ломал серные головки и запихивал в рот. Но проглотить их никак не мог: хрипел, сопел, закатывал глаза под потолок, судорожно кивал в сторону дореволюционного медного чайника, безболезненно переместившегося из московской квартиры Иеронимуса в его забугруйский сон. - Какие спичечные головки?!! – Иеронимус с ужасом смотрел как Елизавета, зеленея, начинает сползать с табуретки. – Вы что, совсем охренели? - Эвакуация! Граждане! Пирожки горячие! Эвакуация! - Однажды тащил я fucking ботинок за шнурок по ступеням, пустился в воспоминания далекой молодости Оззи, - словно fucking щенка за собой вел. За окном адски громыхнуло, кто-то со всей дури дунул в трубу Иерихонского масштаба, заржали кони и надсадно заскрипела калитка. Лицо Андрюхи сделалось белее самого белого мела. Глядя на него, Осборн фальшиво затянул было «АWhiter Shade of Pale», нетленный по сто раз перепетый умехами и неумехами хит очень интеллигентной заграничной группы «Procol Нarum». - Эсэсовцы, - выдохнула несчастная Елизавета и мешком свалилась на пол, усеянный прорастающими от передавшегося им человеческого ужаса картофелинами. - Валькирии! – дико орал Андрюха, вскочив с колченогого стула и размахивая руками, будто бы отгонял от себя назойливых осенних мух. – Вагнер! Ерема! Сам! В бархатном берете! С трубой! Трубит Рихард наш! Трубит батюшка! Оззи сгреб со стола спичечные головки, не съеденные Елизаветой, упавшей в натуральный обморок. И, забыв все сказанное ранее, принялся их грызть, выплевывать, и опять грызть. - Не надо fucking Вагнера! Fucking Вагнера не надо! Сдохну, fuck you all, наконец, но не сдамся! - Эвакуация!Fucking пирожки! Эвакуация!.. - Парень, а, парень! – Урал Маковский тряс мычавшего и отбивавшего от него Иеронимуса, - Там тебя какой-то утомленный солнцем мужик спрашивает. - Fucking Вагнера не пускать!!! – не открывая глаз, страстно желая досмотреть свой фантастический сон, который Маковский так вероломно пытался прервать на самом интересном месте, вопил почти Босх . – Оззи, твою мать, не блюй спичками на картошку! Цыган, бесшумно вошедший на кухню, где лежал на раскладушке Иеронимус, взял с подоконника кружку с водой и медленно-медленно начал выливать ее содержимое на горящий в сонной лихорадке лоб героя. - Убью, сука! – сон мячиком отскочил от Иеронимуса и, долетев до газовой плиты, рассыпался над конфорками на тысячи невидимых разноцветных лоскутов. - Не убьешь! – Цыган широченной улыбкой явил убогому кухонному миру Урала Маковского сияние золотых коронок. – Хочешь знать, наматывали ли валькирии кишки эсэсовцев на калитку или нет? Могу сказать точно – не намотали. Немцы взяли чуть левее и уехали по другой дороге. Их труба вашего... как это...fucking Вагнера вспугнула. «Вот так я, сонный, и попал в сети ФСБ, - все еще находясь в горизонтальном положении, думал Иеронимус, стирая со лба ладонью пролитую Цыганом воду, - нейропрограммирование, экстрасенсорика, секретные лаборатории в подвалах Лубянки, о которых рассказывал побывавший там как-то раз прадед, Иеронимус Первый... Эта сволочь лазает по астралу, считывает мысли. Добрались-таки!» - Разговор есть, Иеронимус, кхе-кхе, Босх. Здесь будем разговаривать или ко мне пойдем? «Ко мне – значит, в его кабинет. Лампа прямо в рожу, вколют чего-нибудь... Сон в руку. Пытать будут!» - Иеронимус от волнения никак не мог попасть ногой в штанину. - Попрыгай, попрыгай, - добродушно комментировал его прыжки Цыган, наслаждаясь смятением своей, можно сказать, жертвы. Может, мозг-то свой и протрясешь. Эсэсовцы, говоришь? Фу ты, чушь какая! Эвакуация? – он рухнул в припадке гомерического хохота на старенькую раскладушку. Раскладушка тихонько пискнула, пульнула парой ржавых пружин и подогнула алюминиевые ножки... И обрушилась вместе с хохочущим Цыганом на пол. Улетавшая по своим делам на часок-другой пирсингованная ворона истерично каркала во всё воронье горло, вцепившись лапами в край то открывающейся, то закрывающейся форточки. Бэйбик БэЭмВэ принялся орать младенческим басом во всю силу маленьких легких, криком своим обещая в скором времени возрождение былой славы Федора Шаляпина и его друзейбурлаков с Волги. Урал Маковский постоял минуту-другую, глядя на всеобщий беспредел, да и потрусил в длиннющий коридор холостяцкой квартиры, где пылился здоровенный монстр, именем которого Маковский и был когда-то назван. «Урал», как и положено мотоциклу с истинно мужским русским характером, завелся с полоборота, переплюнув своим доисторическим рыком и банду не в меру распоясавшихся валькирий, и гениального, но антисемита, Рихарда Вагнера со взятой напрокат Иерихонской трубой. VII Цыган обошел вокруг Иеронимуса три раза – один раз по часовой стрелке, два раза против. Похлопал по спине. - Без крыльев ангелов не бывает, - начал он, хитро посматривая на нахохлившегося по-вороньи и ничего не понимающего обладателя замечательной шинели. - А я никогда ангелом и не был. Руки уберите. Хватит меня щупать. - Даже конструктивного намека на эти небесные причиндалы нет. Цыгана, брат, не обманешь. Вот лопатки у тебя выпирают. Факт. Одно плечо выше другого, обычное дело для безнадзорного школяра. Цыган ловко сплюнул. Беспардонно так, прямо на тщательно вымытый часа два назад хозяйственной Марфой Семиушкиной пол. - Извини, что плюю. В присутствии самого Босха. В Индии научился. Жевать и плевать. Плевать и жевать... - Врете вы всё. Не были вы ни в какой Индии. Еще скажите, что померли от лихорадки в болотах Сингапура, а потом спокойненько воскресли и дернули на своих двоих в Россию, - Иеронимус внимательно изучал обстановку комнаты, в которую его почти насильно привел этот странный золотозубый тип. Вязаная крючком белая скатерть на столе вызывала милые сердцу воспоминания о бабушкиных многочисленных клубках ниток, спицах и крючках всех размеров и очках в проволочной оправе, плотно сидевших на греческом бабушкином носу. Вспомнился еще огромный абажур из матового молочного стекла, украшенного по краям зелеными тоненькими трубочками. Маленький Иеронимус любил забираться на стул, дотягиваться до стеклянных висюлек и перебирать их, слушая тихий жалобный звон. - С болотами Сингапура пока незнаком, - Цыган сокрушенно развел руками, - чего не было, того не было, врать не буду. Но ты на меня, Босх, не сердись. Я тебя сразу заприметил, как только ты в нашей богом забытой дыре объявился. С вороной на плече. - Испугали вы ворону мою. Она теперь бомжевать будет, с местными воровками. Да и сдохнет.А говорите вы, дядя, как по писанному. Будто роль выучили и шпарите. Так нормальные мужики в вашем возрасте не разговаривают. Дверь комнаты почему-то совсем не обращала внимания на Иеронимуса, не посылала ему никаких тайных сигналов: дескать, сделай пару шагов в мою сторону, опрокинь стул, сбрось с тумбочки горшок в геранью и рви отсюда когти, чувак! Пока тебя не охмурил этот подозрительно грамотный гражданин (а есть ли у него вообще паспорт?). Пока не отравила, не опоила какимнибудь колдовским зельем его верная подруга Марфа. Вот я, вся твоя, Иеронимус, ДВЕРЬ НАРАСПАШКУ! - Ага, я, по-твоему, должен только блины выпекать... Блин да блин и чью-то маму обижать. Понимаю, - Цыган помолчал, вспоминая, как отец каждый раз заставлял его мыть рот дегтярным мылом, если сын, забывшись, ненароком матюкался на путающегося под ногами кота. Потом подошел к двери, прислушался, ловя приглушенное дыхание подслушивающей их разговор Семиушкиной. - Ну вот что, Иеронимус. Хочешь ангелом поработать? На выгодных условиях? При слове «поработать» во рту Иеронимуса собралась слюна, которую он с трудом проглотил. При слове «поработать» перед глазами Иеронимуса муравьями поползли почти голые египтяне, прущие изо всех сил здоровенные каменные глыбы во славу Бога Ра и действующего на тот момент на берегах Нила фараона. При слове «раб...от...а»... - Только не это, - выдохнул Иеронимус, уже собравшийся со дня на день отправиться восстанавливать ауру из Забугруйска к загадочной горе Белухе, которая не всех подпускала к себе. Гора имела обыкновение отталкивать любопытствующих путешественников, насылая на них всяких экзотические напасти. Частенько в виде укуса специально натренированного энцефалитного клеща. Жалобный тон Иеронимуса согрел душу Цыгана, который безошибочно определил час своего идеологического триумфа и уже чувствовал себя трансильванским вампиром в расцвете сил. Захотелось пошуршать складками полагавшегося по статусу черного плаща, щелкнуть каблуками и... Барон внезапно вспомнил о недавно сделанном ошеломляющем открытии в огороде Марфы: чеснок нового урожая вырос недочесноком. Он только внешне внушал доверие как наизлейший враг традиционной весеннееосенней простуды и расплодившихся вампиров и вампирш всех мастей. Многие из которых позорили своих орденоносных предков совершенно дилетантским подходом к прокусываю яремных вен. Так вот, чеснок нового урожая утратил восемьдесят процентов антипростудных и антивампирских качеств. Из-за глобального потепления, грозившего уменьшить лихих рысаков до размеров обычных дворовых кошек, а всех людей под одну гребенку подогнать по росту под великого полководца Александра Македонского: 140 сантиметров с кепкой. - Ну, как? На выгодных условиях? – посерьезневший Цыган возвращал Иеронимуса с небес на землю. – Поработать? - Так не Новый же Год, дядя, и не Кремлевская елка! Может, лучше зайчиком или, что мне еще ближе, Бабой-Ягой? – и парень, наконец, сделал два заветных шага в направлении равнодушной к его приключениям двери. - Не торопись. Колючки свои притупи. Сиди спокойно и слушай. А ты, Марфа, - нарочито громко и раздельно произнес Цыган в сторону притаившейся за притолокой подруги, - а ты, женщина, не пыхти так громко, а принеси-ка нам с ангелом крепкого чаю с вафлями. - Человек ты не местный, – через паузу продолжало свою грамотную речь это истинное Смутного Времени, - откуда пришел, куда отправился – всем плевать. Появился – исчез. Правильно? Пролетал ангел, улетел ангел... - Я же еще согласие своё... - Считай, что уже дал ты свое драгоценное согласие, по глазам вижу. Денег у тебя нет. А я дело предлагаю, верное. Подзаработаешь сам, на клеща энцефалитного, дашь подзаработать и мне. И разойдемся по-дружески, без ножа в спину. Иеронимус старательно соображал. Даже лоб для быстроты соображения нахмурил. Если честно, ему было мучительно больно: до какого позора дожил, докатился до ангела. Фантастический пройдоха с цыганской внешностью предлагает ему, всегда изображавшему в детском саду и в команде КВН чертей и мечтавшему сыграть когда-нибудь в собственной экранизации «Мастера и Маргариты» самого профессора Воланда, переквалифицироваться в бесполое существо с крылышками. В комнату степенно вошла Марфа, торжественно, на вытянутых руках, неся электрический самовар. - Мерку снимать будем? – деловито произнесла она, по девичьи стрельнув глазами в сторону симпатичного, хотя и худого, собеседника Цыгана. - Да что ты со своими мерками пристала?! – неожиданно для себя самого по-змеиному зашипел Цыган, наливаясь от внезапной злости удивительной багровостью. – Мы что, его в гроб класть собираемся? Из всей злобной тирады барона уловив только слово «гроб», Иеронимус рванул-таки к двери. Опрокинув стул, сбив с тумбочки вечной символ мещанского благополучия – горшок с цветущей геранью. И точно убежал бы наш Босх, пускай не за тридевять земель, а лишь до горы Белухи, если бы цыганский прожектер мастерски не подставил ему подножку. - Одна тебе, Босх, дорога – в ангелы, - торжественно произнес барон, через несколько секунд помогая незадачливому беглецу подняться с пола, - падаешь ты классически, может, летать теперь научишься! Задумка Цыгана была в целом довольно мрачноватой, даже, по ощущениям нормального среднестатистического человека, траурной. Но при успешной, как принято говорить в наши, насквозь материальные дни, реализации, то есть при правильном воплощении в жизнь, она здорово пополнила бы казну барона. Химические опыты, проводимые им строго по формулам из старинных фолиантов, ни материального, ни душевного удовлетворения не приносили. Хотелось золота, много золота. Чистого. Идеального. А получалось нечто желтовато-коричневатое, дурно пахнущее, не желающее застывать слитками или замереть навечно в виде монет для внутреннего пользования с орлиным профилем самого Цыгана. - Ты только представь, дурья башка, сколько раз в день люди произносят слово «ангел» и все производные от него. Ангельское личико, ангелоподобное... сахарку еще подбросить? Ангельское терпение... Сливочные вафли сам делал. У меня вафельница есть. Бывает, в привокзальный буфет продаю... Недорого. Иеронимус пил чай вприкуску и поеживался – то ли сквозняк его донимал, то ли нервишки совсем расшалились. Ныло ушибленное при падении колено. На душе было не по-субботнему тоскливо: он понимал, что вырваться из волосатых не по-человечьи сильных лап Цыгана ему поможет лишь случай. Когда и где такое освобождение произойдет, интуиция ему еще не телеграфировала. - А теперь подумай, сколько людей хотело бы увидеть настоящего ангела? Не в кино, не в пьяном бреду... - В пьяном угаре обычно чертики мерещатся, - небрежно бросил Иеронимус, - или бесенята. По рукавам ползают. Их стряхивать надо. Цыган посмотрел на своего пленника с нескрываемым интересом. - Сам стряхивал или рассказал кто? - Всякое случалось, - Иеронимус пожал плечами. За открытым окном при полном безветрии подозрительно зашевелились кусты шиповника. - Смотри-ка, шинелька на нем та самая, - хриплым шепотом вещал из колючих зарослей один из выслеживающих Иеронимуса панков. - Пуговички-то блестят как! Зубным порошком, небось, гада такая, чистит, - сипел другой «гребешок», неосмотрительно высовываясь из растительного убежища и чуть ли не влезая в Марфину комнату. - А чтой-то он в чужой комнате в шинельку свою кутается? Барон молча взял дымящийся самовар, снял крышку и хладнокровно выплеснул кипяток в окно. Громко матерясь и поскуливая, панки испарились, оставив о себе на пятиминутную память запах копченой салаки и самого дешевого забугруйского пива, имевшего обыкновение выдавать при наливе в кружку подозрительно зеленоватую пену. - Продолжаем разговор. Стенографируй, Марфа, для истории, скомандовал барон своей подруге, которая и так уже по старой профессиональной привычке фиксировала беседу пока еще не единомышленников, но уже почти союзников, выписывая на отменной финской бумаге стенографические крючки и загогулины, смахивающие на магические знаки. - Задумался я: а ведь многие перед смертью жаждут увидеть Ангела. Принесшего утешение или, скажем, прощение. Или приглашение проследовать туда, где уже ждут родственники и знакомые. - Круто! – Иеронимус кивнул. Сливочные вафли, загодя приготовленные Цыганом, оказывали удивительно расслабляющее действие. Затея смуглого бизнесмена-алхимика выглядела почти привлекательной. Оставалось преодолеть какие-то полпроцента сомнений. – Это вы круто загнули. Готично. Годно. На Марфу будущий ангел старался не смотреть. Чуть подрагивающий у нее на макушке жалкий пучок волос казался намертво прикрепленным к черепу толстенными шпильками и смахивал на кукиш. Неприязнь к остроносенькой, составленной как бы из одних углов и резкостей, стенографистке Семиушкиной с каждой секундой усиливалась. Перебросилась с одного объекта на другой – с Цыгана на обладательницу жиденького пучка. «Жертва кубизма», - так Иеронимус мысленно окрестил Марфу, добровольную, как он понимал, соучастницу цыганской авантюры. - Мы открываем контору, частную, без особой засветки сам знаешь в каких органах. «Ангел на час», «Озабоченный ангел», «Ангел с приветом» - вариантов названий масса. И – работаем! Получаем заявки от родственников тех, кто ... э-э-э... дышит на ладан. И в нужное время оказываем им ангельскую услугу. Естественно, за... Происходившее в небольшой комнате на первом этаже обычной хрущобы окончательно убеждало Иеронимуса в том, что он – вне реальности, он спит. Все и всё – во власти сновидения, длинногопредлинного, как поезд «Красная Стрела», летающий из Москвы в Питер и обратно. Через час-другой он, Босх, благополучно проснется в своей московской квартире, откроет старенький холодильник и увидит там неизменную миску с макаронами, сваренными по привычке на неделю вперед. А Елизавета наколдует чудесный кофе, и они вместе выкурят пару самокруток из отменной сушеной петрушки. Под звуки нового сингла старой группы «Judas Priest»... - Вот ты и станешь ангелом по вызову. Решено давно. Когда тебя еще в нашем городишке не было. Одежка казенная, за мой счет, крылья тоже. Марфа перекрасит твой хаер, или как там у вас, в золотистые тона. Ангелы трехцветными не бывают, а бордовой краской им пользоваться строжайше запрещено. Семьдесят процентов от гонорара мне, как автору и главному идейному вдохновителю. Двадцать процентов, так и быть, тебе, если изображать будешь убедительно. Продержимся пару месяцев, может, и повышу ставку, как пойдет. Ну, а десять процентов за содействие проекту и за моральный ущерб от возни с тобой Марфе-посаднице. «Жертве худшего ученика Пикассо», - добавил от себя Иеронимус. Если это был все-таки сон, решил он, то можно и порезвиться. Сновидение рано или поздно закончится, а с ним оборвется и всё веселье. Безобидно. Безответственно. Опять же – готично. Лизон понравилось бы, не подсади её коварный звонарь Петька на глиняные свистульки. - Мерки снимать? – бодрым голосом спросила в очередной раз Семиушкина, с облегчением отбрасывая в сторону пачку испещренной таинственными значками-букашками финской бумаги. - Снимай! – громыхнул Цыган, сверкнул золотой своей пастью, присел, потом резко выпрямился и пустился в неистовый цыганский пляс, то и дело восклицая: «Эх, ромалы, до чего же я умен! Всем женщинам табора куплю шали и шелковые юбки, а мужчинам – фетровые шляпы и вирджинского табаку!» Но, как мы помним, табора у этого барона не было. VIII Цыган и сам толком не понимал, что за зловредный маховик он начал раскручивать своей фантазией, что за пружины сжимал своей идеей явить умирающим горожанам Ангела во всей его небесной красе. В белом, струящемся одеянии, с небольшими, но впечатляющими своей белоснежностью и шелковистостью крыльями. И с золотистыми волосами – усилия Марфы по вытравливанию вызывающей бордовости знаменитой пряди, свисающей на лоб Иеронимуса, увенчались ошеломляющим успехом. Придуманный обывателями стандарт ангельской внешности победил все авангардистские изыски окончательно и бесповоротно! Конечно, автор программы «Ангел на час» мог бы сверить свое представление о крылатом посланнике небес с тем, как вышеупомянутый Messenger изображался, скажем, на полотнах великих мастеров прошлого, хотя бы того же Возрождения. Но в Забугруйске кроме «Ямы-Хи» с ходульно опоганенным триптихом Босха, никаких культурных центров вроде музеев, или не дай Бог, галереи какого-нибудь искусства, не было. Любой неосмотрительно раскручиваемый маховик рано или поздно приходит в неистовство. Любая сжимаемая пружина рано или поздно распрямляется и сильно ударяет в лоб того, кто пытался укротить ее пружинную стальную волю и желание... Но это пока так, рассуждения вслух, за чашкой даже не чая с бергамотом, а крутого кипятка. Что чувствовал Иеронимус, от отчаяния подписавший контракт со своим смуглолицым искусителем? Как он готовился к той роли, которую навязал ему неудавшийся алхимик и пока еще не состоявшийся конокрад? Иеронимус сидел, закрыв глаза, в пустой, очарованной собственной гулкостью, комнате в заброшенном доме на самой окраине Забугруйска. Его стул стоял идеально (в магическом смысле слова) – в самом центре помещения, в точно рассчитанном Цыганом лунном квадрате. Мысленно Иеронимус сдвигал потолок комнаты, а заодно и всю крышу дома, в сторону и вытягивал обшарпанные стены до самого неба, уже наверху замыкая их в одной точке, сводя в некое подобие купола. Образовывалось огромное пространство для росписи. Невиданные масштабы могли бы окончательно свести с ума Микеланджело или Рафаэля. Мастера сцепились бы не на жизнь, а на смерть за право украсить смоделированный иеронимусовским воображением купол Мадоннами с печальными младенцами, мускулистыми Творцами мира и геенной огненной чуть ли не в предполагаемую ими натуральную величину. На каком-то непредсказуемом этапе мыслительных строительных манипуляций будущего Ангела стены перестали слушаться и застыли, поднявшись всего на три четверти той высоты, которая предполагалась неумелым зодчим. Мысли путались. Придуманная Иеронимусом система заключения себя любимого, под своды безымянного храма, летела в тартарары. Он видел сидящие вдоль стен фигуры в длинных одеяниях, с надвинутыми на лица капюшонами, и отчетливо слышал звуки капающей воды. Рядом с молчаливыми фигурами вырисовывался наполовину наполненный грязной жидкостью тазик утильного вида, с выщербленной эмалью. Иеронимус быстро сообразил, что мозг заблокировали воспоминания о кадрах из фильма «Сердце Ангела» (1), который они с Лизон смотрели раз двадцать, не меньше. Да, его подруга обожала Микки Рурка, еще не измордованного до неузнаваемости жизнью и не испорченного знакомством с русской моделькой. Сам Иеронимус, внимательно наблюдая все эти разы за приключениями свихнувшегося красавчика-сыщика, пытался постичь основы вудуизма. На всякий случай. Фигуры анонимных персонажей фильма противоречили задуманной Цыганом позитивной роли Вестника Небес, несущего еще не успокоившимся душам прощение и просветление. Осознав это и преисполнившись чувством важности предстоящей миссии, Иеронимус тихонько запел, покачиваясь на стуле, стоящем в лунном квадрате: На плече у меня сидит ангел, У меня в руке – меч златой, Позволь мне пройтись по твоему саду, Я посею в нем семена любви... (2) Конечно, вокальных «завитушек», которые выводил золотоволосый в ту соловьиную пору Роберт Плант, не получалось – медведи не просто наступили на ухо Почти Босху, они сплясали на этой части его тела разухабистую и неповторимую кадриль. Но, как многие лишенные музыкального слуха люди, Иеронимус обожал петь. Причем во все горло, не слыша собственной фальши и по-детски радуясь якобы чисто взятым нотам. Однако произнесенные волшебные строки песни неувядаемых «Цеппелинов» все-таки возымели магическое действие: фигуры у обшарпанных стен выглядели теперь не столь мерзко, их балахоны стали переливаться попеременно то красноватым, то серебристым светом, а цветовое пятно за уже царственно выпрямленными спинами увеличивалось. Вот оно заняло всю стену, превратив ее в подобие огромной плиты из чистого мрамора. Тазик с водой превратился в мини-единорога с наманикюренными копытцами... Но что могло бы случиться дальше, никто никогда не узнает – Иеронимус пошло и банально не удержался на своем троне в центре лунного квадрата. Увлекшись пением, зачарованный издаваемыми им звуками, он привстал и... чуть-чуть, на какой-то позорный сантиметр, сдвинул стул. Квадрат превратился в трапецию. Все созданное мучительным мыслительным процессом исчезло. Бесшумно. По-шпионски. Со злости Иеронимус сначала ударил себя по левой щеке. Потом, немного подумав, влепил себе самому пощечину по правой. Наотмашь. Сильно и бескомпромиссно. Какие старцы? Какие уходящие в серебристую высь, мать твою, мраморные своды? Когда на дворе XXI век? Когда страна... Где же страна? Уже в полной жопе или еще нет? Вот в чем вопрос. Иеронимус старался не вмешиваться в политику, а тем более не собирался измерять глубину анального отверстия чудовищного монстра отечественного недокапитализма, в которое въезжал на полной скорости потрепанный временем экс-большевистский бронепоезд, опрометчиво сойдя с запасного пути. Конечно, благодаря генетической памяти и пассионарной бабушке по материнской линии, Ангел по Вызову чтил Испанскую Республику 1936 года и революционера-перекати-поле Че Гевару. Но ни разу (заметьте – ни разу!) не пел хором с надувшимися пива молодыми московскими интеллектуалами душевную кубинскую песню о славном команданте, ибо отказывал им в искренности чувств. Aqui se queda la clara La entranable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara (3) «Сегодня они поют о тебе, роняя в пиво пьяную слезу. А завтра, если сами не расстреляют тебя, то обязательно окунут с головой в дерьмо в отхожем месте! Как только поменяется ветер, как только Пилат вымоет антибактериальным мылом руки», -- так частенько говорил Иеронимус изображению Гевары, висевшему с бабушкиных времен в тяжелой деревянной раме на стене московской квартиры. Неугомонного, чертовски харизматичного доктора сфотографировали во время выступления на трибуне ООН. Плакат был напечатан на качественной зеленой бумаге. Руки и лицо аргентинца, сторонника перманентной революции, получились чарующего цвета буйной весенней зелени. IX Первый выход в свет в роли Ангела получился отвратительно скомканным. Никакого возвышающего душу впечатления Иеронимус не получил. Скорее, наоборот. Цыгану позвонили примерно около полуночи, в знаменитый переход апрельских суток на 1 мая. Трубка буквально вибрировала от эмоций со стороны звонившего или звонившей – кто страдал на другом конце провода сам основной мастер по ангельским делам разобрать не мог. До него доносился до глухой, временами квакающий бас, то переходящий в дельфиний ультразвук дамский визг. - По коням! – выслушав басово-визгливые причитания, заорал Цыган, хлопая себя кнутом по новеньким хромовым сапогам. – По коням, Босхи и Ангелы! Авеню Инессы Арманд, не к ночи баловница будет помянута, дом 99, кэвэ 66! Иеронимус подхватил чемоданчик с ангельской амуницией и компактно сложенными новенькими крыльями, еще пахнущими крахмалом. Проходя мимо огромного кривоватого зеркала в прихожей Марфы, окинул себя придирчивым взглядом – с волосами, перекрашенными в ненавистный ему блондинистый цвет, выглядел Иеронимус, герой сваренных впрок макарон, как-то серединка на половинку. Процентов на сорок девять он сдвинулся было в сторону модного в определенных кругах гейства, но до пятидесяти процентов все-таки не дотянул. Но и от традиционно ориентированного чувачка из-за внешности своей измененной он как бы уже удалился. «Увидела бы меня Елизавета или Кондратьич, со смеху бы перекинулись, козлятами стали бы, -- невесело подумал Иеронимус и незаметно для Цыгана плюнул в собственное изображение в зеркале. – Мещанская похабель!» За каких-то пять минут бодро дотарахтели на грузовичке до нужного дома. На этом первый вызов Ангела и закончился. Их опередили необычайно быстро узнавшие о беде в квартире № 66 служители культа – две монашки и статный, с военной выправкой священник. Одним лишь разворотом мощного плеча батюшка чуть не размазал Ангела-Иеронимуса по стене подъезда. - Посторонись, Златовласка, - зычно протрубил священник и затопал вверх по лестнице. - Ничего не поделаешь, Иероним, Смерть -- это тоже бизнес. А, значит, и конкуренция. Кто смел, тот и съел, - развел руками старающийся не показывать своего разочарования Цыган, - будем бомбить на опережение. Бывало, что они с Цыганом не успевали прибыть по указанному адресу в срок – застревали в неминуемых даже в таком заштатном городишке, как Забугруйск, пробках, или заботливо объезжали разлегшихся в центре улицы страдающих сезонным вагабундизмом коров или стаю злобных, всех на одну морду, собак. - Не дождался вас наш сердечный, - обычно, не поднимая заплаканных глаз от пола, бормотала старуха или молодуха (где как), - все спрашивал: “ А Андел-то где, что же Андел не идет?” В таких случаях Иепонимусу искренне хотелось взрыднуть: чрезвычайно буйное воображение рисовало безрадостную картину тоскующего по нему, по Анделу, умирающего человека. Старуха (или молодуха) быстро переводила взгляд с пола на дрожащего от скрытых переживаний Иеронимуса с ненужным уже чемоданчиком в руке. - Ты, что ли, сынок, Ангелом будешь? Ишь, голова-то какая пшеничная! Не плачь, сынок, не расстраивайся. Выпей лучше водочки. Помянем нашего сердечного! - Сопьешься, Босх, - бубнил Цыган, через час-другой запихивая почти бесчувственное тело своего сентиментального сотрудника в кабину грузовичка. Иеронимус никак не мог удержаться в горизонтальном положении и норовил упасть лицом точнехонько на клаксон. – Ну и трепетный работничек мне попался! Раза три неизвестные в одинаковых черных куртках, в натянутых по самые брови черных вязаных шапочках поджидали Иеронимуса в подъездах, куда он входил в поисках нужной квартиры, и избивали. Нанесение побоев носило чисто предупредительный характер. Отбирали всю наличность, часы. Один раз утащили чемодан с униформой и крыльями, ввергнув Цыгана в пучину непредвиденных расходов по изготовлению новой ангельской атрибутики. Пару недель спустя Иеронимус увидел ставшие для него почти родными крылья и свой шелковый балахон, украденные то ли народными мстителями, то ли скучающими хулиганами, на неказистой проститутке. В столь экзотическом виде девица поджидала невзыскательных клиентов на шоссе при выезде из города. Донимали Цыгана звонками и местные шутники-пранки, быстро прознавшие про обеспечивающую население ангелами контору и ревевшие в трубку голосами всех знаменитостей и почетных граждан Забугруйска. Если суммировать все пранковские звонки и ложные вызовы, поступавшие в фирму Цыгана, получалось, что в городе в одночасье осиротело чуть ли не все начальство, начиная с Енота-Полоскуна, дородного директора баннопрачечного комбината имени Выведения Пятен Оппозиции, и заканчивая Параксиньей Мийзазулиной, шефиней еще функционировавшего мыловаренного завода, на котором, правда, изготавливали кроме мыла еще и дымовые шашки самого широкого применения. Цыган интуитивно чуял пранков на расстоянии. Но действовал против них спокойно, без фанатизма, считая их не террористами или бандформированиями, а просто заигравшимися в детские игры совершеннолетними недоумками. Окончательно его вывел из себя расшалившийся пранк, передразнивший Вождя Мирового Пролетариата. Псевдовождь требовал Ангела к своей якобы умирающей Наденьке. - Чума на оба ваши дома! – возопил, невольно призывая в свидетели беспредела Уильяма Шекспира, уставший от издевательских звонков Цыган и, вспомнив приемы сглаза и порчи, наслал на ничего не подозревающих о силе цыганской магии шалунов катастрофическую прыщавость во всех доступных и не доступных на теле местах. У того самого, кто, казалось бы, безнаказанно изображал картавость Владимира Ильича, на лбу революционно заалел огромный прыщ, размером и живучестью поражая видавших всякое на своем веку забугруйских косметологов и венерологов. Х Иеронимус шел по темному коридору, переодевшись в рабочий костюм на странно стерильной, пахнувшей больничной хлоркой, кухне заказчиков. -Маман наша, того, кажется. Скоро. Того. Желает лицезреть перед тем, как того, этого, Ангела. Вас нам очень рекомендовали свои люди. Обычно на таких стенах, вдоль которых шел золотоволосый Ангел, жильцы любили вешать на здоровенных гвоздях велосипеды, или велосипедные колеса, или же алюминиевые ванночки. Если верить, разумеется, старым кинофильмам эпохи строительства социализма. Коридор был удивительно длинным, но без всяких технических излишеств на стенах – полезная площадь пропадала зря. Комната, в которую провожатый довольно грубо втолкнул Иеронимуса, была полной противоположностью коридору – огромной и светлой. Даже чересчур. На полу, у окна, валялись сорванные неизвестно кем в припадке великого гнева шторы. Черные, бархатные, с вышитыми гладью разноцветными колибри, навсегда застывшими на стебельках заморских цветов. «Мечта Елизаветы», - мысленно отметил Ангел, вспомнив, как подруга его стояла в магазине у роскошного рулона именно вот такого вот бархата и мяла в руке красную пятитысячную. Тогда Елизавета еще неосмотрительно громко предложила ограбить находившийся поблизости банк, чтобы купить «занавесочки». Пятеро особо бдительных граждан моментально схватились за мобильники – звонить в полицию. Дневной свет, словно во имя отмщения за недели, а, может, и месяцы невозможности пробиться сквозь толщу черной ткани, наполнял помещение до самых краев, проникая даже за широкие дубовые плинтусы, в убежища ставших уже реликтовых рыжих тараканов. Иеронимус осторожно звякнул маленьким колокольчиком, обозначая тем самым свое появление. - Ангел? – хриплым голосом заядлой курильщицы спросила лежащая на кружевной подушке с веселенькими синими васильками взлохмаченная женская голова. Впечатление отдельного существования головы создавало натянутое до подбородка одеяло в таком же, как и наволочка на подушке, кружевном пододеяльнике. Но расшитом не васильками, а легкомысленными ромашками. - Какой, однако, молоденький Ангел! – голова прокашлялась и зажмурилась. – Ах, какое сияние исходит от вас, мой мальчик! Что и говорить, Иеронимус был великолепен. Он стоял спиной к окну, к буйно врывающимся в комнату лучам весеннего солнца, которые, казалось, безболезненно проходили сквозь него, заряжали собой каждый волосок его золотистой шевелюры. - Дзинь! – прозвонил еще раз маленький колокольчик. Иеронимус осторожно приблизился к постели умирающей женщины. (Умирающей ли?) Он знал все, что последует за его приближением – она протянет к Ангелу руку со счастливой улыбкой на устах и, не успев дотронуться до прикрывающего руку шелка, испустит дух... Из-под одеяла молниеносно выскочила смуглая рука, с пальцами, унизанными старинными перстнями. И будто бы начертила в воздухе звезду. - Ух, какой симпатичный ангелочек! – хохотнула голова. Обычный сценарий неотвратимо рушился: подобных реплик Иеронимус еще не слышал. – Совершеннолетний? «Умирающая» живо откинула одеяло и встала с кровати. На Ангела озорными глазами вполне здорового человека смотрела женщина вне возраста, с явными признаками силиконовой фальшивой телесности. Одета она была в ярчайший красный халат в извивающихся золотых драконах. - Как я их! А, Ангел? Симпатяга! – с этими словами дама схватила-таки Иеронимуса за руку. – Закурить есть? Хотя что это я! Ангелы не курят! Не жрут и не... – она опять захохотала, но на этот раз не так громко: за дверью комнаты чувствовалось какое-то движение. - Эти сволочата только и ждут, чтобы я сдохла, - женщина опять нырнула под одеяло, - сам знаешь, денежки и все такое прочее... А сколько мужиков у меня было, Ангел! Сколько мужиков! И все наркоманы и пьяницы, алкашиальфонсы, музыканты. Я богатая. Ангел, сказочно богатая, уже не телка, но чем потрясти - еще у меня есть. К чему прижаться. Воровка я, - и она заговорщически подмигнула не знающему, как ему поступить дальше, гореактеру. – Воровала всё и всегда. А, главное, везде. Ангел, ты мне нравишься. Наркоман? Алкаш? Альфонс? Музыкант? Рука в перстнях вцепилась клещами в ляжку Иеронимуса. - Давай на Мальдивы? А? Хочешь во Флориду? Майами? У меня там... - Господин Ангел, Вы скоро? – приторным голосом заговорило задверье, и некто трижды царапнул дверь. – Она же была почти уже того. Неужели еше не того? Глаза женщины, которая и не собиралась переходить в категорию «того», потемнели от гнева. Ее ногти продолжали терзать ногу Иепонимуса, который сейчас искренне жалел, что вовремя не взял у Цыгана уроки прохождения сквозь стену. Вырвался бы из ведьмячьих когтей этой психопатки – поминайте, леди, как звали вашего Ангела. - Слушай, парень, они все равно отсюда меня не выпустят, им нужно мое завещание, понимаешь, за-ве-ща-ни-е. Оно у меня здесь. Под подушкой. Вынеси его отсюда. Я же специально тебя вызвала. Никого другого они не впустили бы. А, Ангел? - Мадам, - начал Иеронимус, хотя Цыган строжайше запретил ему разговаривать с клиентами, - Значит, Вы всё знали... Мадам опять хрипло хохотнула, прикрыв, правда, рот ладонью. - Надо было, чтобы ко мне прорвался кто-нибудь нейтральный. Ни в ангелов, ни в демонов не верю. Ты – мое спасение. Оружие моей мести этим шакалам. Возьми завещание, спрячь в рукаве своего сексуального балахончика и беги отсюда. Им ничего не достанется. Хочешь, забирай все себе, Ангел. Что тебе здесь делать, что тебе здесь гнить? Флорида, пальмы, кубиночки. Или такие мамочки, как я. Поехал бы с такой мамочкой? Завещание на предъявителя... Кстати, неплохое название для женского романа. Так и передай Дарье Донцовой... «Завещание на предъявителя»! Хаха-ха! «Если я пробуду здесь еще минуты три, свихнусь окончательно», подумал Иеронимус, а вслух сказал: - Нет. Мадам, я не наркоман, не алкаш, не альфонс, не музыкант. Иеронимус я! - Босх, значит, - грустно произнесла женщина, сникнув и уткнувшись носом в кружевной пододеяльник. – Н-да, Босхи от Родины не отрекаются, даже если она уже превратилась в мусорный полигон. - Ангел?! – голос за дверью звучал уже угрожающе. – Если она еще не сдохла, придуши жабу подушкой! Женщина сунула в руки Иеронимуса свернутый трубочкой листок с завещанием. - Прочь, прочь, отсюда! Но по коридору не беги. Степенно иди, по-ангельски, чтобы не заподозрили чего, - прошептала она и вдруг во весь голос закричала, - О, я видела его! Видела! Ангел здесь! Со мной!!! Иеронимус с трудом протиснулся в дверь, сквозь толпу застрявших в проеме многочисленных родственников обманщицы, и, убыстряя шаг, пошел по длинному коридору. Мимо него, на крик женщины и вопли жаждавших ее смерти, неслись во всю прыть опоздавшие к тому, что казалось всем финалом. Включая вертлявого мулата на роликах. На Ангела, движущегося против основного течения, никто не обращал внимания. - Умираю! – кричала все громче и громче, входя в раж, Великая Обманщица, - Ангел! Лети! Улетай вдаль, вдаль, беспечный ангел! Оглушающим артиллерийским залпом грянул ее фирменный, хрипловатый хохот. Гомерический, заглушавший проклятия, повизгивания и матерные рулады обманутых. Видимо, родственники поняли, что их ловко провели – отправляться на тот свет владелица вилл на Мальдивах и в Майами не собиралась. Завещание исчезло. Иеронимус допускал, что озверевшие наследники могли наброситься на разыгравшую их мадам и придушить ее кружевной подушкой с васильками... Ангела-то она уже видела. Он долго сидел в городском парке под старым раскидистым деревом, прозванным «Гаргантюа» жившим четверть века назад в Забугруйске последним библиотекарем. Переваривал события догоравшего дня, соображая, что еще такого героического ему надо совершить, чтобы весь город объявил круглосуточную охоту на золотоволосого Ангела. Судя по разворачивающимся вокруг его персоны событиям, контракт с Цыганом мог закончиться очень даже скоро. Иеронимус достал завещание мадам и, не читая ни строчки, порвал его на мелкие кусочки, сложил в небольшое углубление в земле, и поджег. А ведь мог бы, как верный пес, притащить действительно «золотой» документ на предъявителя Цыгану, обеспечить ему безбедную жизнь на несколько десятилетий вперед в шезлонге у большого бассейна, в окружении беспринципных кубиночек в ярких лоскутах бикини. И сам бы получил долгожданную свободу – вернулся бы в убитую идеей всеобщей плитолизации столицу, к Елизавете своей, которая наверняка уже сменила увлечение колокольным звоном на художественную ковку садовых оград... К вышедшему из застенков психбольницы Андрюхе. Втроем, в полнолуние, они лежали бы где-нибудь в Царицынском парке и занимались бы... разгоном случайных облаков на иссиня черном, абсолютно летнем ночном небе.(4) Мимо дерева по имени «Гаргантюа» и сидевшем под ним Иеронимусом пронеслись пожарные машины, пугая тревожным воем сирен пока еще безобидную детвору и нежившихся в придорожной пыли по-городскому вальяжных кур. Горел тот самый дом, в котором днем, в лучах волшебного солнечного света, Иеронимус получил от Мадам Курильщицы завещание. Пылала та самая квартира. Никому из многочисленных жильцов этой ловушки с длиннющим коридором, расползшихся по всем этажам, спастись не удалось. На следующее утро на дымящихся, еще не успевших остыть развалинах, пробив толстый слой пыли и пепла, битого стекла, острых драконьих зубов, выросли и расцвели васильки и ромашки. Иеронимус, узнав о случившемся, почему-то подумал: «А не бросил ли вертлявый мулат на роликах в гомерически хохотавшую тетушку коктейль Молотова?» ХI В этой квартире что-то было явно не так, как положено для помещения, в котором кто-то купил билет в одну сторону, за черту. Уж больно яркими выглядели обои на недавно отремонтированных стенах. Вошедший в приоткрытую дверь со своим чемоданчиком в руке Иеронимус отчетливо слышал веселое бульканье супа в кастрюльке на электрической плите. Он жадно втянул носом вкусный запах. Марфа Семиушкина отлично, до зеркального блеска, отмывала и натирала полы, но отчаянно плохо готовила – перловка со свиной тушенкой вызывала в желудке Ангела-контрактника устойчивое чувство вселенской паники. - Кто живой есть? – тихо спросил Иеронимус, снимая в чистенькой прихожей кроссовки. – Ангела вызывали? Ответом ему было всё то же аппетитное бульканье супа, урчание собственного желудка, в очередной раз восставшего против Марфиной стряпни. И еще один странный звук послышался в ответ на вопрос вошедшего без спроса работника крыльев и последнего утешения - тихийтихий перезвон. То ли хрустальных рюмочек, то ли тех самых зеленых трубочек на знаменитой бабушкиной молочно-матовой люстре. Иеронимус пошел на этот звук, отлично понимая, что тот, кто так звенит, гостя, пускай и незваного, не обидит. В светлой детской с голубыми и розовыми стенами в кроватке лежал симпатичный упитанный карапуз, над головенкой которого неспешно вращалась каруселька с четырьмя разноцветными коняшками. - Я, кажется, ошибся, - начал было Иеронимус, на цыпочках собираясь выйти из детской. - Да чего уж там, - бодро вступил в ментальный контакт карапуз и широко улыбнулся, показывая розовые, чуть припухшие в ожидании натиска прорезывающихся зубов, десна. – Проходи, раз зашел. Мать у подружки. Суп на плите. Фазер при галстуке. Планктонит на фирме. - Как это ты так? – Иеронимус подошел к кроватке и с любопытством стал разглядывать разговорчивое, пахнущее детским кремом существо. - Это ты как... – малыш выдул ртом огромный пузырь, - зубы, заразы, режутся. Уж в который раз это прохожу, а все адаптироваться не могу. За время общения с Цыганом Иеронимус привык ко всему. К телепатирующим медведям и стерхам, к бесцеремонному вторжению работодателя в свои сны, к считыванию мыслей и командованию появлением или исчезновением отвратительных красных прыщей. Мысленно разговаривающий с ним младенец органично вписывался в картину легкого или тяжелого помешательства (смотря с какой стороны смотреть). Или же такое бессловесное понимание свидетельствовало о торжественном восхождении Иеронимуса по ступеням лестницы эволюции. - А что ты с чемоданом? – продолжал ребенок, помолчав секунду-другую, с видимым удовольствием приводя в негодность недавно надетый заботливой мамой чистый памперс, - переезжаешь куда или трубы починяешь? Иеронимус не выдержал. Нервы подвели. И он срывающимся голосом, путаясь в эпизодах, рассказал все как есть, начистоту. Можно сказать, исповедовался под звон чудесной карусельки, глядя на не испещренное морщинами и печатями грехов и пороков светящиеся невинностью и чистотой личико младенца. Карапуз выдул еще пару пузырей, покряхтел и выдал: - Мерзким делом ты занимаешься, bro, очень несимпатичным. И Цыган твой – форменный упырь. Брось и уйди, ты порвал бы эту нить, что ли... Обманывать больных и обреченных... - Я же им душу облегчаю, - оправдывался Иеронимус, - знаешь, сколько благодарностей! - Облегчать душу надо безвозмездно. А вам платят. И вы берете. - Ну, платят. Если не получается, все по-честному, берем только аванс. Все остальное считается творческой неудачей. - Дурак ты, на букву «м», - карапуз срыгнул молочной смесью, - вытри, что ли меня, ангел бестолковый. Перекормила меня мать-курица. Салфеткой вытри... С зайчиком. Короче, уходи от Цыгана своего, темный он. - А контракт? - А ты что, контракт кровью подписывал? - Чернилами. Обычной гелиевой ручкой. - Красной? - Зеленой. - Я и говорю: дурак. Свободен ты. Карму иди реставрировать, чакры чистить. Младенец опять замолчал. Думал, видно, о незавидной судьбе уже испорченного подгузника. - А ты-то сам откуда? – не выдержал Иеронимус. – Первый раз такого встречаю. - Заброшен в самый глубокий тыл. Для выполнения спецзадания, для улучшения породы. Мельчает ваш брат. Пошлеет. Тупеет. Планктон, едридМадрид. - А то, что назад едва ли попадешь, ты в курсе? - Ага, нам так и сказали в этот раз. Типа – “баста, карапузики!” Миссия выполнима, но с концами, - младенец выдул еще один слюнявый пузырь, нравилось ему это занятие. – Это видишь ли, accident of birth, как поет один британский дядька – пулеметчик-летчик и книжный червь (5). А вот у вас все больше горланят о драконах, мечах-кладенцах , троллях с эльфами и разведенных мостах или сожженных, одна хрень. Правда, иногда ваши соловьи, с виду разбойники, принимаются дербанить жизнь, хоть штаны снимай и голой задницей садись на ежа. Споры с Фатумом, врешь, не возьмешь и прочее дыр-дыр-дыр, а сами соловьи – такие же кирпичи в той же стене, что и ты. Или с Фатумом у них все в порядке: винокуренные заводики или свечные, яхты, недвижимость всякая, или золотишко в банках. Последняя тирада младенца резанула слух Иеронимуса. Намек был понят им сразу. Русский рок, он, правда, терпеть не мог, считая его осетриной не то что второй, а третьей свежести, но позволять обижать отечественный продукт вот так, запросто, какому-то засланному из космоса мутантузасранцу, было западло. - Да что ты в нашей жизни понимаешь? – закричал, не помня себя от возмущения, Иеронимус, - да ты знаешь! - Я-то знаю, расти, моя борода, расти (6),- младенец опять срыгнул, но не стал ни о чем просить не на шутку разбушевавшегося Босха, -- слово первично, музыка вторична, мессидж и все такое. Безысходка бесповоротная, у вас и картошка теперь вниз ботвой растет. Но, чую, мать-курица возвращается. Суп выкипает. Пора тебе. И дай мне честное слово, что еще один раз поработаешь на Цыгана своего и завяжешь с этим мутным занятием. Будь мужчиной по жизни, Иеронимус, а не ангелом по вызову. Загремел, поднимаясь, пересчитывая этажи, лифт. Иеронимус не успел толком попрощаться с ехидным космическим младенцем. Пулей вылетел из квартиры. Замешкайся он еще на пару секунд, сидеть ему со своим чемоданчиком в местном отделении полиции за попытку незаконного проникновения в чужое жилище и похищения аппетитного ребенка двух месяцев от роду. Долгожданного и беззащитного. Благодаря же ангельской расторопности, ситуация складывалась очень даже полифоническая. Он успел подняться на две ступеньки вверх, и за спиной раздались вздохи и охи той, кого карапуз совсем не по-сыновьи называл «матерью-курицей». -Ой, я же замок не защелкнула! – чуть ли не в голос начала прочитать молодая женщина, увидев приоткрытую дверь квартиры. – А у меня же там сынуля родненький! Супчик на плите! Мамин жемчуг на зеркале! Воспитанный и полный сочувствия к волнениям женщины, Иеронимус дал задний ход – спустился по ступеням к уже знакомой ему двери и галантно произнес: - Мадам, я могу Вам чем-нибудь помочь? Два серых глаза с точками черных зрачков глаза пытливо уставились на Ангела и принялись буравить его строгим взглядом. - А что Вы... заходили? К нам? - Как же можно, мадам! Чужой дом – чужая крепость. Я вот поднимался... - А почему пешком? Ведь лифт есть. Вам на какой этаж надо? – матькурица схватила Иеронимуса за полу старенькой джинсовой куртки. «Мастерский захват», - подумал сотрудник уникального агентства и мысленно отругал себя за излишнюю воспитанность. Шел бы себе по лестнице, и шел. А то «мадам, я вас продам, за фунт конфет, которых нет». Тем временем в глубине квартиры взял неимоверно высокую ноту младенецмутант. «Отпусти Ангела, курица, - отчетливо слышалось в отчаянном вопле недавнего собеседника, - отпусти его на последнее задание. Он обещал! Суп твой несоленый сейчас выкипит!» - Я спортсмен, мадам, - спокойно принялся объяснять молодой женщине Иеронимус, - и одолеть каких-то семь этажей без лифта не составляет для меня особого труда. На девятом этаже меня ждут, сударыня, не дождутся. «А может, уже и не ждут, - подумал он про себя, сообразив, что потратил на беседу с немилосердным убийцей памперсов непростительно много времени. – Наверно, помер мой клиент, так и не дождавшись ангельского свечения». - Сыночка мой кричит! – отпуская полу куртки, запричитала мать-курица, становясь похожей на персонаж послевоенной кинокомедии из жизни сугубо положительных советских колхозниц и колхозников. - Небось, весь памперс загрузил! - Детям полезно кричать, -- голосом инспектора районного отдела народного образования начал Иеронимус, -- легкие лучше развиваются. С другой стороны, пупок может развязаться или грыжа пупочная выскочит. Или, того хуже, паховая. - Грыжа?! – взвизгнула в неподдельном испуге молодая мать и подобно молнии метнулась в квартиру. Дверь, за которой крохотный паршивец продолжал упражняться в извлечении супер-высоких нот, с грохотом захлопнулась. Последнее, что смог уловить уже теряющий волну настройки на засекреченного пришельца Иеронимус, была выдающаяся по артистизму, но оборвавшаяся рулада: «Мать-вашу-ку...!» Коронная «рица» и была обрублена грубым хлопком двери. И в этот момент Иеронимус увидел, что стоит на ступеньках лестницы в одних носках. Кроссовки остались в прихожей квартиры, где уже спасали остатки супчика и мыли грязную попку выдающемуся специалисту Межгалактической Разведывательной Службы. ХII На девятом этаже, за дверью, обитой где-то году так в 1999-м темнозеленым дерматином, Иеронимуса все еще ждали. Маленький, патологически худенький внук умирающего, заказавший по телефону Ангела для дедушки, был устрашающе очкаст и непомерно косолап. -Мы, собственно, все атеисты. Знаете ли, атеистическая семья. Поголовно. Предки – абсолютные большевики. Преданнейшие делу Партии. Сами колокольни взрывали, Но мы в курсе, в курсе, энциклопедии имеются... Чаю хотите? – внук шмыгнул носом, тут же забыл про чай и потащил на ходу переодевающегося в шелковый балахон Иеронимуса в кабинет, где на министерского вида кожаном диване готовился к перемещению в Вечность дед-профессор. - Ну, Самаил там у вас... - Он падший, не наш, - рубанул Иеронимус. - Спуглигуил, - запинаясь, произнес очкарик и выжидательно посмотрел на гостя. «Проверяет, экзаменует, - догадался Иеронимус, - доцент какой-нибудь». - Есть такой, весной командует. Вашему семейству, если учитывать большевистское прошлое, больше подошел бы КОММИССОРОС... - А Вы не он? - Я – Иеронимус! На лице умного внука мудрого деда отражалась яростная борьба мыслей, схватка веры и неверия. Ангел по вызову даже слышал, как очкарик-косолап в уме переворачивает страницу за страницей толстенной «Энциклопедии Ангелов», пытаясь найти его имя. - Я - новенький. Новее не бывает. Меня пока толком еще никуда не распределили. Решают, куда направить: к только что родившимся или к тем, кто уже свое отслужил. Мне бы минуты 3 на настройку... - Конечно, конечно, - засуетился внук, - Вы уж извините, что я чаю предложил. Вы же не пьете, пищу не употребляете. - Не употребляем, - вздохнул Иеронимус, и в тот же миг в животе у него предательски запищало от голода. Косолап покраснел и сделал вид, что ничего не слышал. - Вот здесь настраивайтесь, а дедуля за ширмой, на диване. На ширме замерли гордые испанки, поднося кружевные веера к отчетливо выписанным квадратным подбородкам. Испанок было четыре штуки. Четыре по-мужски квадратных нордических подбородка портили все впечатление от роскошных сеньор. «Трансвеститы», - решил для себя Иеронимус, открывая чемоданчик и доставая казенные крылья, с перьев которых за последнее время оторвалось рекордное количество аккуратно пришитых Марфой страз. Думали, что хватит навечно. Оказалось – на два месяца работы в авральном режиме. Из-за ширмы доносилось прерывистое дыхание деда-атеиста. В дверь то и дело просовывал голову нетерпеливый очкастый внук. - Ну что? Джиронимус? Ну что, готов? « С чего он взял, что мне понравится придуманное им Джиронимус? Хотя звучит благородно». - Я Вас в справочнике по ангелам не нашел, - в очередной раз заверещал внучок, заглядывая в кабинет. На этот раз Иеронимус разглядел необычную лопоухость ученого заказчика. - Стажеров в справочниках нет, - отрезал он. Крылья сегодня почему-то казались ему маловаты. Непривычно оттягивали тело назад. А шелковистый балахон, наоборот, вроде бы увеличился на пару размеров. - Какой Вы красивый... при исполнении! – восхищенно пискнул косолаполопоухий доцент. – Дедуле Вы понравитесь! С этими словами заботливый внук отодвинул ширму с испанкамитрансвеститами в сторону так резко, что у них дрогнули квадратные нордические подбородки, а в руках, прикрытых мантильями, щелкнули, не сговариваясь, кастаньеты. Две черных глаза впились в то место на теле Иеронимуса, где у обычных людей отсчитывает сантиметры жизни сердце. Не найдя ненадежный механизм слева, взгляд умирающего переместился вправо. - Правосторонний Ангел, - громко произнес лежащий на кожаном диване человек с седыми редкими волосами, сквозь которые просвечивал скальп нежно-розового цвета. Иеронимусу страшно захотелось дотронуться до подетски незащищенного темечка старика так, чтобы под пальцами можно было ощутить неровный пульс уходящей жизни. - Правосторонний Ангел! – еще громче воскликнул старик, срываясь на фальцет. – Я был уверен, что у вас нет сердца. И дал себе зарок, что пока не увижу одного из вас вот так, перед собой, не отключусь навеки вечные. - Деда, - прошептала говорящая голова в дверном проеме, - деда, фонендоскоп принести? - Засунь себе этот инструмент в задницу, докторишка, - озорно ответил умирающий и закашлялся. Кашлял долго и мучительно, пугая Иеронимуса громкими всхлипами в глубине изнуренного болезнью организма. - Никогда не верил в ваше существование, - прошелестел наконец откашлявшийся дед, - да и сейчас не верю. Ведь жулик ты, жулик? – и он захохотал, погрозил Иеронимусу высохшим пальцем и бессильно откинулся на подушки в несвежих наволочках. Закашлялся опять и неожиданно, рывком вытащил из-под себя мятую, буквально жеваную от постоянного елозания по кожаной обивке серую простыню. – Внук, он – жулик! Ты выписал мне жулика! Их нет... - Ангел я, профессор. Иеронимус. Ангел Вашей последней минуты пребывания среди земных реалий. Работаю круглосуточно, полную неделю без выходных. Иеронимус давно требовал у Цыгана прибавки к его жалким процентам – за вредность. Тихих клиентов, умиротворенных появлением крылатого золотоволосого существа, было раз-два и обчелся. Чаще попадались буйные: кто-то при виде входящего в комнату и шуршащего шелком балахона Ангела начинал вырывать из вен трубки и трубочки, задыхаться, опрокидывать стаканы с водой, пузырьки с лекарствами. Пытались вскочить и бежать с выпученными от страха глазами, бились в истерике в железных объятьях не меньше их самих напуганных родственников и повисали у них на руках безжизненными куклами. Иеронимус понимал, что в самый последний момент они, если были в сознании, горько раскаивались в своем желании увидеть посланца Неба. Скорее всего, бедолаги просто не верили, что такое возможно. Появление же Иеронимуса, излучающего технически продуманное Цыганом сияние, подводило итог их земному пребыванию. Окончательный. «Еще пара агоний на моих глазах, - думал бессонными ночами Иеронимус, получив очередной отказ Цыгана повысить ставку, - и я сам подставлю задницу под аминазин. Сам войду в ворота больницы уже со спущенными штанами». - Внук! – продолжал вопить ученый муж, возбудившийся от одной только мысли об ангельском жульничестве. - Час мой близок! Чую я! Чую! Требую разоблачения! – на пол упали все тощие подушки, и голова профессора, напоминающее идеальной формой страусиное яйцо, металось по жесткому диванному валику. - Иеронимус я, Ангел, - не сдавался образцовый работник ангельскоцыганской фирмы, оглядываясь на дверь в поисках поддержки от внукадоцента. Тот перегородил выход из комнаты прикроватной старинной тумбочкой и своим собственным телом, застыв в позе Витрувианского человека Леонардо да Винчи. Откуда только что взялось! - Не обижай дедушку! – грозно прошипело теперь уже ставшее многоруким и многоногим лопоухое существо. Дед тем временем продолжал потрясать в воздухе то одним, то другим скрюченным артрозом пальцем, заходился в приступах чудовищного кашля, откидывался на диванный валик, хрипел, опять приподнимался. - Не поверю, пока не полетишь! Всё доказывается опытным путем! Полетим вместе! Возьмешь меня с собой! – в грудной клетке старика шторм в шесть баллов сменился штормом в девять баллов. Иеронимус почувствовал, что пропал. А ведь космический младенец предупреждал – мерзким делом занимаются они с Цыганом. Вот и расплата. Девятый этаж. Внизу никаких перин. Никаких пожарных с натянутым брезентом. - Ангелы летают! Словно рой пчел между ульем и цветами... Летим, Иеро... - Иеронимус, дедуля! – прокричал в экстазе лже-Витрувианский человек, еле удерживая равновесие на хромоногой тумбочке. – Это будет твой лучший эксперимент! Старикашка, собрав последние силы, вскочил с дивана, с легкостью перепрыгнул через скомканную огромную простыню, схватил Иеронимуса за руку и потащил к окну.Древняя, плохо закрепленная рама с готовностью распахнулась. Иеронимус не понял, как они оказались со стариком на подоконнике. - Дедуля! Вот оно! Свершится! Они есть! Они летают! – бесновался у них за спиной спрыгнувший со страшным грохотом с тумбочки свихнувшийся, видимо, еще в утробе матери внук. – Не прогадали, дед! Не зря потратились! - Я прыгать... не буду! – через силу выдавил из себя позеленевший от ужаса Иеронимус. Бутафорские крылья терлись о края оконной рамы, издавая жалобный звук и теряя стразу за стразой. Сваровски оскандалился. Его продукция не выдерживала испытания экстримом. - Я всегда мечтал быть легче воздуха! – старик повернул к теряющему сознание Иеронимусу счастливое лицо. – Спасибо тебе, Ангел! Ты подарил мне целый мир, легче воздуха! Последнее, что видел Иеронимус, падая из окна в обнимку с уже бездыханным профессором, был открытый от изумления пирсингованный клюв спешившей ему на помощь вороны... ЭПИЛОГ Шла кошка по лесной дорожке. Несла кошка в зубах шишку. Направлялась рыжая в гости к белке. - Для кошек ты отлично разбираешься в шишках, - отхлебнув вкусного хвойного чая из половинки скорлупы грецкого ореха, сказала белочка. - Что есть, то есть, - важно ответила кошка.- Талант! Или он есть, или его нет. А если он есть, то уж точно в карман не спрячешь! Иеронимус с величайшим трудом разлепил отекшие веки. Кошка отскочила в одну сторону, белка – в другую. Сквозь туман, плотной стеной обступивший парня, стали медленно пробиваться очертания незнакомых ему предметов: угол русской печки, например. Размытые красные пятна фокусировались в яркие праздничные ягоды на ветках калины, торчащие из целой батареи пустых пивных бутылок. - Мама, где я? – еле слышным голосом произнес страдалец, несмотря на поистине промышленный гул в голове сообразив, что никто пока не даровал ему свет. И на покой и готические витражи рассчитывать тоже не приходилось. - В Тверской губернии ты, паря, - прямо над ухом рявкнул кто-то мощным басом. – Лечу я тебя, значицца, от множества переломов и увечий, в принципе не совместимых с обычной жизнью. Из поредевшего за несколько минут тумана вырисовывался безнадежно старый, но так же безнадежно колоритный дед-лесовик: крупный нос а-ля граф Лев Николаевич Толстой, гордость русской и мировой литературы на века. Глубоко посаженные глаза, некогда ясного синего цвета, свидетельствовали о склонности к успешному ведению боевых действий. Если не с грозным врагом в сером походном сюртуке и треуголке, то с собственной супругой. Цепкий не замутненный глаукомой взгляд выдавал в лесовике натуру, глубоко копающую шахты Истины и обиженно сопящую от очевидности невозможного решения нравственных проблем современного общества. - Тебя, паря, ко мне Цыган еще в начале июня привез.. Сложил тебя в чемодан да и притащил. “Слышал, дед, - говорит, - что ты и мертвого воскресишь своими травками и пиявками.” “Воскресю, - отвечаю, - отчего ж не воскресить, ежели человек хороший!” “Вот этот, - говорит Цыган твой и на тебя показывает, - хороший, только дурак. Полетать решил, да не ту траекторию выбрал.” Обещал через месяц тебя забрать. Приехал, не обманул, с бабой своей, на крыску похожей, а ты еще вроде бы как не в себе был. Погрузился ты в тяжелое молчание без всплытия на поверхность. Пару раз аспид твой смуглолицый пальцем тебя тронул, купюры мне кое-какие отслюнявил да и уехал на чудной такой машине, сверкающей, широкой, заморской. Думаю, бросил он тебя, паря. Списал со счетов, разуверившись в силе моих деревенских эликсиров. На печи, за ситцевой занавеской, что-то зашуршало. Или кто-то зашуршал. Превозмогая нечеловеческую ломоту в костях, Иеронимус попытался подняться на покрытом колючим мехом топчане, чтобы лучше рассмотреть, кто же там возится. Их было двое – одна его, иеронимусова, ворона, подросшая, заматеревшая, уже с двумя колечками в клюве. Но к одному, новому, был прикреплен амулет «Лев тамплиеров». Второе создание здорово смахивало на птицу, увиденную как-то Иеронимусом в «Энциклопедии сверхъестественных существ». Дед, похожий на графа Толстого, заставил его снова улечься и заботливо укрыл грубым солдатским одеялом. Упаковал. - С того самого света тебя возвернул. Так что... Я тебе теперь заместо новой мамки. Вроде родил тебя во второй раз, - «граф» подмигнул Иеронимусу и неожиданно широко улыбнулся, продемонстрировав своему пациенту совершенно беззубый, не по-графски, рот. – А у меня на печи твоя ворона и этот... как его... Фоникс или Феликс. Сам пришел. То есть упал камнем на крыльцо, видать, метил в кучу горящих листьев, да сослепу промахнулся. Старый больно. Надоевший самому себе с неизбежным воскрешением через равные промежутки времени Феникс издавал непонятный глухой звук и с остервенением принимался выдергивать одно перо за другим. Появляющиеся при этом проплешины его нисколько не интересовали. Шея истончалась на глазах, а пух все летел и летел в разные стороны. - Ненавижу опарышей, которые будут копошиться в моем истлевшем за одно мгновение теле, - мысленно делился Феникс своей болью с притихшим на топчане Иеронимусом, - а потом, кряхтя, демонстрировать этому паскудному миру процесс воскрешения. Снова и снова. Не жениться, не покосячить. Охренеть, между нами, крылатыми, говоря, охренеть можно, до чего же это монотонно. Ты же летал? Значит, врубаешься. И все это под закольцованное на целых 500 лет «Болеро» Равеля... За окном тихо шел снег. Вернее, не шел – кто-то очень спокойный, неподвластный припадкам гнева и ревности, спускал сверху снежинки на тонких ниточках. Тверская губерния утопала в сугробах. Мурлыкал «графский» кот, давно, как и хозяин, потерявший все зубы, и в час обеда подолгу застывавший над полной миской, словно гипнотизируя взглядом жестковатую еду. Пирсингованная ворона деловито пыталась приладить на место выдернутые Фениксом перья. Мыши в подполе, как обычно, разрабатывали безнадежный блицкриг. Иеронимус все глубже и глубже уходил в пахнущий эвкалиптом и мятой целительный сон. Мелькал безумный атеист-профессор, в момент падения из окна превращающийся в голубя. Тело профессора рядом с лежавшим на асфальте изломанным Иеронимусом почему-то не нашли. Лишь внук таинственно исчезнувшего последнего клиента фирмы «Ангел по вызову» идиотически улыбался и на все расспросы полицейских и самого Цыгана твердил, как заведенный, одно и то же: - Дедуля мой мог быть легче воздуха! Этот туман во сне наслаивался на другой, иного цвета. Из желтоватого, пахнущего уже никотином облака высунулась голова дамы, сунувшей Иеронимусу Завещание на предъявителя. - Мальчик мой, любовь ты моя неразделенная, - кокетничала голова, и на щеке ее красиво распускался, как это бывает в программах ВВС про дикую природу, василек. – А Цыган твой сам из Падших. ДАНТАНИАНОМ его на самом деле зовут. Герцог, между прочим, а не барон какой-нибудь. И мысли он читает... Ах, Иеронимус, если бы не пожар, плавали бы мы с тобой в бассейне в Майами! А дальше... Шли по широкой заснеженной дороге четверо: смывший золотистую краску с волос Иеронимус, Елизавета в своем будто бы и не сгоревшем в костре розовом бальном платье, Андрюха в больничном халате и Оззи Осборн, с ног до головы замотанный в несусветные шерстяные платки и махровые полотенца. Как пленный немец под Москвой. На плече у Князя Тьмы сидел, синея от ядреного тверского мороза, серьезно облысевший Феникс. Лизавета то и дело падала в снег, широко раскидывая руки. Поднималась, оставляя смешной отпечаток, забегала вперед и опять падала в снег. - Нас так много! Смотрите, сколько нас! – смеясь, кричала она Иеронимусу и показывала на целый десяток отпечатков-растопырок. – И мы все такие глупые! Мы все такие дураки! Андрюха молча улыбался, подставляя лучам холодного зимнего солнца заросшее рыжей щетиной лицо. - Fucking Russia! – выругался по привычке Оззик, случайно оглянувшись назад. – За нами какой-то чел несется, сломя fucking башку! Увиденный им человек был одет не в шубу, не в дубленку, а в черный, богато расшитый, камзол. Он с трудом преодолевал безымянные сугробы. Елизавета, прищурившись для верности, долго разглядывала бедолагу, которому неизвестная сила никак не позволяла сократить расстояния между ним и компанией Иеронимуса. - Да это, как его, Соль... Саль... Ери. Парик потерял. - Ну да, Антонио, кто же еще. Обычное дело для этих мест, часто тут бегает, - поддакнул Андрюха, извлекая из кармана халата новенькую банку рижских шпрот и подсовывая ее точно под клюв Фениксу в надежде, что тот перестанет кукситься и достойно исполнит роль консервного ножа. - Значит, среди нас есть fucking Моцарт! – задумчиво произнес Оззи, отбирая консервы у Андрюхи и легко вскрывая их длинным острым ногтем правого мизинца... И все, не сговариваясь, почему-то посмотрели на Иеронимуса. (продолжение приключений возможно) 2013-2014 гг. Примечания: 1.Речь идет о фильме «Сердце Ангела» («Angel Heart»)режиссера Алана Паркера, 1987 год. В главных ролях: Микки Рурк, Роберт де Ниро, Лиза Боне и др. 2. Цитата из песни «Houses of the Holy» группы «Led Zeppelin», альбом «Physical Graffity», 1975 год. 3. Самая популярная песня о Че Геваре. Особенно проникновенно звучит в исполнении Натали Кордоне. 4. Отсылка к кадрам фильма «Король Рыбак» режиссера Терри Гиллиама. Два главных героя: Джек (Джефф Бриджес) и Пэрри (Робин Уильямс) лежат ночью на травке в Центральном Парке г. Нью-Йорка и разгоняют облака. Вместе с ними этим благородным делом занимается деревянный Буратино. 5. Речь идет о сольном альбоме Брюса Дикинсона «Accident of Birth», 1997 год. 6. Отсылка к песне Бориса Гребенщикова «Расти, борода».