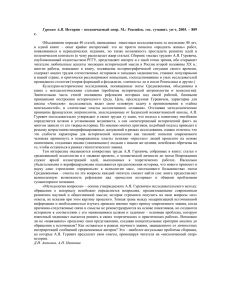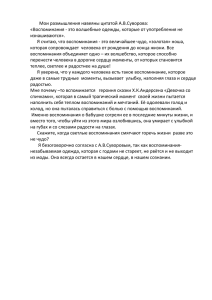Шеуджен Э.А. Воспоминания историка или
реклама
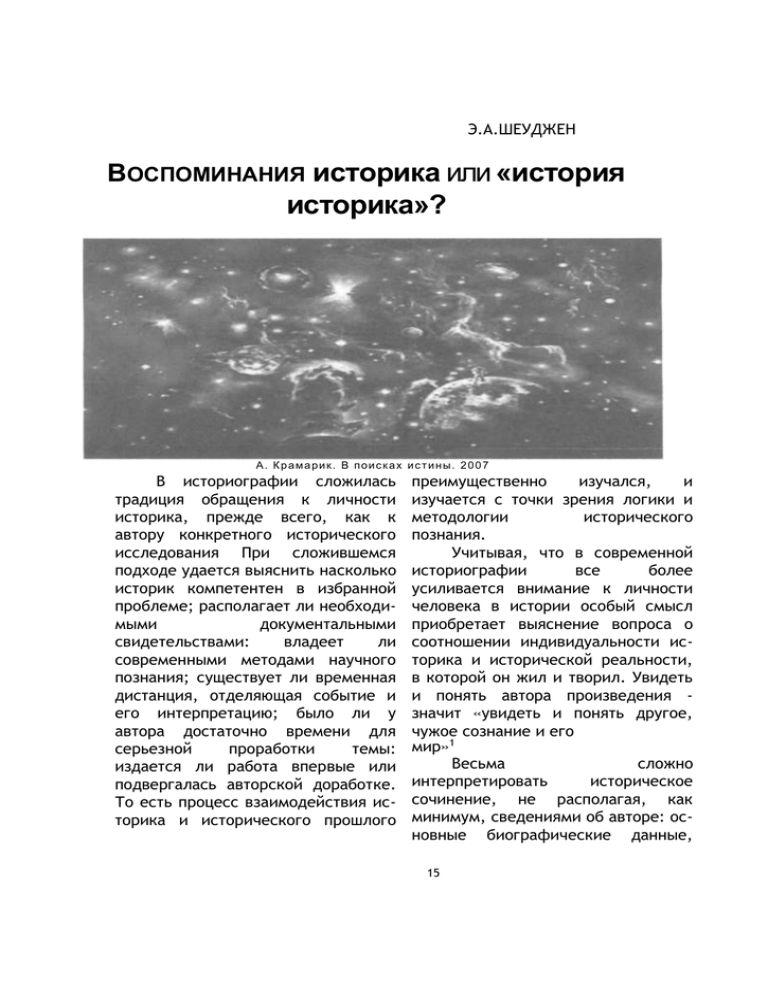
Э.А.ШЕУДЖЕН ВОСПОМИНАНИЯ историка или «история историка»? А. Крамарик. В поисках истины. 2007 В историографии сложилась традиция обращения к личности историка, прежде всего, как к автору конкретного исторического исследования При сложившемся подходе удается выяснить насколько историк компетентен в избранной проблеме; располагает ли необходимыми документальными свидетельствами: владеет ли современными методами научного познания; существует ли временная дистанция, отделяющая событие и его интерпретацию; было ли у автора достаточно времени для серьезной проработки темы: издается ли работа впервые или подвергалась авторской доработке. То есть процесс взаимодействия историка и исторического прошлого преимущественно изучался, и изучается с точки зрения логики и методологии исторического познания. Учитывая, что в современной историографии все более усиливается внимание к личности человека в истории особый смысл приобретает выяснение вопроса о соотношении индивидуальности историка и исторической реальности, в которой он жил и творил. Увидеть и понять автора произведения значит «увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир»1 Весьма сложно интерпретировать историческое сочинение, не располагая, как минимум, сведениями об авторе: основные биографические данные, 15 уровень образования, научная специализация, сферы практической деятельности и т.п. Для историографа важно понять, с кем он имеет дело с профессиональным историком, имеющим публикации, сложившуюся научную репутацию, определенное «имя» в исторической науке или дилетантом, мечтающем о геростратовой славе. Полученные сведения позволяют гораздо в большей степени представить масштаб личности автора, его органическую связь с созданным им произведением. Именно при такой постановке вопроса возможно только осознать, насколько личность историка проявляет себя в реальном историческом времени под воздействием предмета своей профессиональной деятельности. Как правило, историк, несмотря на «кабинетность» своего труда «вписан» в среду обитания. При этом, имеются в виду не только общая социальная и политическая ситуация, но и культурная, интеллектуальная жизнь профессионального сообщества, к которому принадлежат историки разных поколений, способностей и убеждений. Исходя из этих обстоятельств, особое значение приобретают воспоминания историков, повествующие о событиях научной жизни, в которых автор принимал непосредственное участие или которые известны ему от очевидцев. В них на первый план выступают личностные оценки, нередко соединяющие важные, исторически значимые события с «мелочами» повседневной жизни. Такой своеобразный симбиоз, причудливое сочетание стремления проникнуть в глубины исторического познания и человеческого бытия, способен позитивно повлиять на уровень историографического анализа, более обстоятельно определить место и позиции автора в реальном историческом времени и исследовательском пространстве. В данной статье предметом внимания стали воспоминания двух известных историков XX в., принадлежащих к разным национальным школам 2 А.Дж.Тойнби и А.Я. Гуревича . Сегодня по разному определяется их место и роль в упрочении позиций «новой истории», но бесспорным остается, что во многом именно благодаря им произошел принципиально значимый поворот в сознании российских историков, оказавшихся в сложных условиях теоретико-методологического кризиса. Изучение биографий и особенно биографий историков не простое дело. Едва ли случайно представители школы Анналов в свое время отвернулись от биографического жанра, считая, что биография «выпадает из общей нормы», становится явлением 3 совершенно уникальным» . Первый вопрос, на который важно получить ответ - причина написания воспоминаний. Историку, как никому другому известно, как сложен этот вид повествования, как непросто бывает преодолеть собственные предубеждения, как часто публикация воспоминаний порождает буквально «девятый вал» недоброжелательной критики «обиженных» невниманием или излишним вниманием людей по 16 другому «видевших» то или иное событие. Быть может, именно поэтому авторы воспоминаний считают обязательным объяснить причины, побудившие приступить к непростому делу написания «саги». Толчком для принятия решения, как многое в сознании историка, становится неумолимо идущее время, осознание того, что «далее откладывать нельзя»4. Но истинная причина, на мой взгляд, лежит гораздо глубже. В самой профессии историка заложен опыт писания «биографии» народов и государств и вполне правомерно возникает потребность понять себя, написать свою «историю», осознать свое место «ремесленника» в мастерской Истории. В то же время, как справедливо отмечает А. Тойнби, историку нужно «больше времени», чем необходимо поэтам и математикам, для создания значимых трудов5. И далеко не каждому выпадает столько времени и жизненных перипетий, сколько выпало А. Тойнби, да и А. Гуревичу. Обращаясь вновь и вновь к этому вопросу, А. Тойнби видит награду судьбы в том, что ему было «даровано» время, более чем шесть десятилетий, позволившее выполнить больше, чем было намечено в первоначальной программе. Писание истории - это труд, в котором «время является обязательным условием успеха»6. Свое «право» на создание воспоминаний А. Гуревич также связывает со временем. На протяжении пятидесяти лет он был свидетелем и участником историографического процесса и, что еще более значимо, на его памяти произошла «резкая смена парадигм, смена основных задач, принципов, методологических установок и результатов, получаемых в историческом познании»7, кардинально изменивших облик исторической науки. Для А. Тойнби основным мотивом для размышлений стали главные политические события XX в., в первую очередь мировые войны. Именно на горьком опыте войн ему удалось осознать, какая страстная ненависть существует между народами, добавляющая «столько жестокости к ужасам войны»8. В его сознании массовую резню на Крите (1897г.) затмила депортация армян (1915 г.), а депортация армян «померкла перед геноцидом в отношении евреев и славян, геноцидом, который совершат нацисты...»9. А. Гуревич обращает внимание на принципиальное отличие европейской и российской мемуарной литературы. Зарубежные историки, как правило, пишут о благоприятной научной и общественной среде, в которой проходило их профессиональное формирование. Создается впечатление, что авторам мемуаров не приходилось преодолевать никаких особых трудностей. Диаметрально противоположная картина предстает в воспоминаниях А. Гуревича. Не только его жизнь, но и жизнь его современников это бесконечное на грани выживания преодоление трудностей, когда кругом «рвется шрапнель». Читая их воспоминания, открывая для себя мир этих неординарных личностей, умеющих подчинять себе сложные жизненные 17 обстоятельства, невольно ис- пытываешь сожаление, об утрате этого невосполнимого пласта историографических источников. В последнее столетие из жизни ушли многие интересные историки, так и не оставившие записей личного характера. Благодаря их воспоминаниям, было бы возможно расширить сложившиеся в историографии представления о влиянии на психологическое состояние и творческую активность историков «разрывов» научных традиций, интеллектуальной изоляции, идеологического прессинга, репрессий и тому подобных явлений. Прошлое российской исторической науки в лицах, поступках, переживаниях, по-прежнему, мало известно, в то время как именно воспоминания способны дать представление о внутренних отношениях в профессиональных сообществах историков. Прожив долгую жизнь в своей профессии, добившись научного признания, авторы воспоминаний не могут не возвращаться памятью к началу этого многотрудного пути. Сравнение этих описаний заставляет задуматься о многом, но в первую очередь о путях, какими английские и российские молодые люди приходили в профессию. А. Тойнби стал «продуктом» так называемой классической модели гуманитарного образования. Его основу составляло изучение древнегреческой и римской классики. Причем уровень проникновения в античную культуру был таков, что студенты способны были не только читать в подлиннике тексты, но писать доклады и даже поэтические сочинения на древних языках. Особое впечатление производят рассуждения А. Тойнби о «втором» греческом образовании. В течение двенадцати лет, начиная с десяти и включая выпускной экзамен в Оксфорде, он упорно изучал древнегреческий язык и античную историю, тем не менее, для завершения образования, счел необходимым пешком исходить «вдоль и поперек» изученный по книгам Греко-Римский мир. Именно год «бродяжничества» стал для него «венцом и завершением» интенсивного греческого образования, позволил не только прикоснуться к «немым» реликтам античности, но и познакомиться, более того понять, «живых греков», что и стало для него «вторым греческим образованием» В этом плане воспоминания А. Гуревича открывают другую «модель» подготовки профессионального историка. В 1944 г. он становиться студентом исторического факультета Московского университета и к своему счастью, «чтобы пройти школу», избирает кафедру истории Средних веков, где работали крупные ученые «имевшие целью постижение истины», доведение своих глубоких и всесторонних знаний до студентов. Очень важным для профессионального формирования А. Гуревич считает то, что ему посчастливилось учиться у преподавателей, получивших образование и воспитание еще в начале века, впитавших в себя ту систему ценностей, которая в дальнейшем уже не культивировалась в нашей стране. Студенты получали не только знания, навыки научной работы, но 18 и имели возможность общаться с людьми иного психологического склада, «с носителями иной 11 культурной традиции» . В связи с этими замечаниями, хотелось бы внести некоторые ремарки, основанные на собственном опыте, приобретенном в стенах Ростовского университета. При общей политической ориентации исторического образования, вне всякого сомнения, наименее подверженными идеологическому влиянию были кафедры античной и средневековой истории. Именно в этих «оазисах» удавалось выживать «старой» профессуре, вокруг которой сосредотачивалась молодежь, стремившаяся к «чистой» научной работе, мало думавшая о карьере, в отличие от студентов специализировавшихся по истории партии или «актуальным» проблемам советской истории. Для формирования историка очень важна среда «обитания». Для А.Гуревича «вторым» образованием стала так называемая «арбатская цивилизация». В ее орбиту входил большой читальный зал Пашкового дома, университет, консерватория, многочисленные букинистические магазины: это был свой, особый мир, формировавший молодежь, вопреки официальной воспитательной работе12. Подобные сюжеты дают представление о том, насколько значима культурная среда, в которой происходит формирование гуманитария. Впрочем, это замечание может быть отнесено к специалистам любого направления, стремящихся развивать не только профессиональные навыки, но и интеллект. Как бы не расходились описанные авторами воспоминаний системы исторического образования, и одна и другая были способны подготовить студентов к серьезной, результативной научной деятельности, вселить уверенность в позитивной значимости своего профессионального труда. Воспоминания, как А. Тойнби, так и А. Гуревича, не автобиографии, это в первую очередь «современные истории» развития исторической науки, хотя некоторые события личной жизни тесно переплетаются с профессиональной деятельностью. Особенно трагичной и сложной эта картина выглядит в воспоминаниях А. Гуревича. На переломах XX в. историческое сообщество нашей страны прошло через этнические чистки, идеологические проработки, публичные «покаяния», предательство коллег и учеников. Суровая среда порождала способность «вписываться» в действительность, вынуждала прибегать к дежурным выступлениям, «вызывающим тошноту», безропотно уступать более энергичным коллегам, уходя на периферию научной жизни13. В результате немало историков старшего поколения подверглись «зловещей радиации страха», довлеющей над сознанием на протяжении всей жизни. «Страх ужасен своей иррациональностью - с болью замечает А. Гуревич. Поселившись в душе человека, он нередко остается в ней навсегда»14 . Вполне правомерно центральное место в воспоминаниях занимает картина жизни и деятельности сообщества историков. Обращаясь к историографическим исследованиям, далеко не всегда 19 удается понять, как складываются и распадаются научные школы и направления, почему нередко ученики оказываются в непримиримой оппозиции к учителям. В этом смысле обращение к воспоминаниям бесценно: благодаря им, возникает «другая» не официальная картина жизни научных коллективов, более живая и страстная, переполненная внутренним напряжением, своеобразным переплетением традиции и новации, подражательностью и состязательностью. Воспоминания А. Тойнби и А. Гуревича очень «плотно» населены людьми: это преподаватели, оказавшие влияние на их профессиональное и интеллектуальное формирование, коллеги по совместной работе, единомышленники и противники, разделяющие другие взгляды. В воспоминания А. Тойнби вошли и яркие характеристики государственных и политических деятелей, с которыми ему давилось встречаться. В частности, участвуя в Парижской мирной конференции (1946 г), он был удивлен необыкновенной выдержкой В.М. Молотова. Какие бы ужасные вещи о нем или даже ему самому не говорили, а переводчики русские белоэмигранты со «смаком передавали этот град брани», Молотов неизменно оставался невозмутим, на его высоком лбу не было ни единой морщины «хотя известно было, что он пережил много тяжелого, что подорвало бы нервную систему любого заурядного человека»15 .В результате неожиданное заключение: «Самообладание Молотова вызвало бы зависть и восхищение стоика, эпикурейца и буддиста»16. И еще, А. Тойнби не был бы историком, если бы из этого частного наблюдения не сделал бы широкого общения. «Слабость русского стиля дипломатии в том, пишет он, - что они переигрывают. Делая ставку, как это вообще присуще русским, на достижение полной победы, причем не только в существенном, но и в мелочах, они часто упускают возможность достижения важной цели, которой они, пожалуй, могли добиться, если бы не провоцировали в другой стороне желания проявить упрямство, не уступающее упрямству русских»17. Несмотря на субъективность, авторы воспоминаний признают научный авторитет своих учителей «добросовестных» и «вдумчивых», «масштаб» многих ученых, одержимо занимающихся историческими исследованиями. В качестве примера хотела бы привести сюжет, описанный А. Гуревичем. Будучи еще студентом, он был буквально потрясен объемом подсчетов, проведенных Е.А. Косминским (членомкорреспондентом Академии наук, впоследствии академиком), исследовавшим аграрную историю средневековой Англии. В то время историки медиевисты, производили свои подсчеты примерно так, как в Средние века: кроме бухгалтерских счетов не было ничего - ни арифмометров, ни каких-нибудь хитроумных устройств, вроде счетных машин или компьютеров. «Трудно представить себе, - пишет А.Я. Гуревич, - какие огромные затраты времени, энергии, здоровья понадобились Косминскому и 20 другим исследователям аграрной истории, чтобы собрать этот необъятный цифровой материал и разместить его, сохраняя смысл и меру в исследовании»18. Этот пример еще раз подтверждает, что характерной особенностью научной деятельности, как и любой деятельности в духовной сфере, более того, непременным условием успеха является, как это ни высокопарно прозвучит, любовь к делу. Конечно, среди историков есть люди, по самым различным мотивам избравшие этот род деятельности. В последнее время усилился приток в науку людей, заметно отличающихся по своему психологическому складу от ученых прошлого и лучшей части современных ученых. Но среди выдающихся ученых по-прежнему преобладают те, для которых ведущим мотивом является любовь к науке, которые именно в ней видят смысл жизни. Далеко не все отзывы о современниках в воспоминаниях лестные. Быть может именно по этому, возникают написанные крупными мазками портреты «живых» людей XX в.: увлеченных оригинальных мыслителей, ироничных к себе и окружающему миру, в то же время не чуждых человеческих слабостей и заблуждений. Обращаясь к воспоминаниям нельзя не отметить, что в них заложена сокрушительная возможность низведения «великих» с возведенного для них пьедестала. Тем более, если автор откровенно заявляет, что не будет «придерживаться принципа и никогда его не придерживался - о мертвых или хорошо, или никак»19. Причем речь идет не только и не столько о критике научных позиций и взглядов. В воспоминаниях давно «забронзовевшие» известные люди «обрастают» множеством мелких бытовых деталей: здесь и недобрые отношения в семье, и пагубное влияние «недостойного» окружения, и комические привычки, и анекдотичные ситуации. Более того, в воспоминаниях А. Гуревича немало безапелляционных характеристик типа - «личность тираническая, крайне пристрастная». Невольно возникает вопрос об этической составляющей воспоминаний. В частности, может ли ученик, признающий, что его становление произошло благодаря конкретным преподавателям, «сделавших» его, через десятки лет, с позиции своего научного, педагогического и житейского опыта писать об «однобокости» и даже «недостаточности» преподавания? На мой взгляд, в этом есть не только некая неблагодарность, но и недостаточный учет диалектики развития, как исторического знания, так и методики университетского преподавания. Особенно тягостное впечатление производят воспоминания А.Гуревича о годах работы в Калининском педагогическом институте. Здесь все, начиная от директора и кончая студентами, «гоголевские персонажи». К тому же, делается безапелляционный вывод, что «он был очень типичен для институтов во многих областных центрах - имел уровень ниже среднего»20. На эту оценочную характеристику можно было бы не обращать внимания, если бы до 21 настоящего времени в выска- зываниях «столичных» ученых не проявлялись менторские интонации относительно «периферийных» историков, многие из которых по уровню подготовки и отношению к профессии занимают весьма достойное место. Кстати, в воспоминаниях нет ни слова, о том, пытался ли автор, молодой кандидат наук, шестнадцать лет проработавший в этом институте, изменить ситуацию или, воспринимая свою работу как «ссылку», лишь отбывал «целую вечность» отмеренный срок. Думаю, что это именно тот случай, когда и «один в поле воин». Конечно, оспаривать воспоминания неблагодарное дело, но создается впечатление, что проблема антисемитизма заметно довлеет над сознанием автора. Он вновь и вновь к ней обращается, объясняя многие события своей жизни. Однако остается непонятным, как в такой среде нетерпимости и преследования, удавалось евреям публиковать научные труды, защищать диссертации, работать в ведущих вузах и академических институтах. В том числе и самому А.Гуревичу! Да и сам автор приходит к выводу, что, несмотря на сложности, связанные с национальностью, все им написанное было опубликовано и «даже без особых задержек, а те, кто «выгоняли», имели неприятности» и не разу не добились своего»21. Тем не менее, эти сюжеты приводят к мысли, что темой историографического исследования может быть национальный состав историков России, круг исследовательских интересов, взаимодействие историков по линии «центр - периферия». Быть может потому, что многие «национальные» историки занимаются разработкой «местной» проблематики, среди «элитарной» части историков страны, имеющей больше возможностей для участия в научных проектах, в пользовании командировками для работы в архивах, в библиотеках, для участия в работе научных конференций и т.п., нередко проявляется пренебрежительное отношение к полученным «периферийными» историками исследовательским результатам. В значительной степени, именно подобное положение, так и не позволяет создать целостной истории Российского многонационального государства, что важно не только с научной, но и консолидирующей народы позиции. К проблемам преподавания обращается и А. Тойнби. В течение пяти лет он заведовал кафедрой истории и культуры Византии и новогреческого периода в Лондонском университете, но на этом его педагогическая карьера закончилась. Самым серьезным недостатком преподавательской работы он считал ее цикличность: из года в год «конвейер» приносит новую группу учеников и преподаватель должен учить их одному и тому же. «Конечно, заключает он свои рассуждения, встречаются в среде педагогов и преподаватели от Бога, и они могут полстолетия оставаться преподавателями, не теряя ни связи со студентами, ни чувства нового»22. Проанализировав свои ощущения, А. Тойнби избрал другую сферу деятельности: более тридцати трех лет в Королевском 22 проработал институте международных отношений в Лондоне (Четем Хаус). Особенно ценны пласты воспоминаний, отражающие отношение историков к собственному исследовательскому опыту А. Тойнби определяющее значение придавал разработке программы исследовательской деятельности. Более тридцати лет он параллельно работал над «Обзорами международной жизни» и десятитомным исследованием «Постижение истории», считая, что со всех точек зрения это самое счастливое сочетание занятий. «Ибо целью моей было расширение моего горизонта и области деятельности до предела моих возможностей»23. Сдав в печать последнюю из намеченных работ и исчерпав тем самым программу, которой следовал на протяжении более чем полстолетия, он испытал не радость, а мучительное чувство: «...я с болью гляжу на лежащий перед моими глазами чистый лист бумаги, где нет уже неоконченных пунктов, которые все эти годы были своеобразным стимулом в моем движении вперед»24. Вне всякого сомнения, научная деятельность требует четкой организации повседневной жизни, рационального использования времени, настойчивости и терпения в достижении поставленной цели. Даже такие на первый взгляд мелочи, как картотека сведений, библиография, четкие деловые ежедневные планы имеют значительный эффект при решении научных проблем. В частности, А. Гуревич подробно описывает принципы и приемы многолетней работы с текстами норвежских саг, поиск новых подходов к их 25 интерпретации . На закате лет, прожив долгую творческую жизнь, А. Тойнби счел возможным дать советы людям занятым интеллектуальным трудом. Приведу лишь исходные тезисы, вокруг которых он строит, основанные на собственном опыте рассуждения. Первый совет: «Сначала найдите время обдумать вашу тему и проблему в целом». Второй совет: - «Как только почувствуете, что мозг созрел для действия, действуйте быстро». Третий совет: - «Пишите регулярно, день за днем, выбрав для себя то время суток, когда вам лучше всего пишется». Четвертый совет: - «Не теряйте случайно выпавшие вам свободные минуты». Пятый совет: «Всегда смотрите вперед. Устремляйте свой взор вперед, словно мотогонщик, стремящийся за горизонт, который мчится ему навстречу»26 Несомненный интерес представляет проблема выбора «своей» исследовательской «вотчины». Наиболее распространенным способом работы историка в новейшее время стало сосредоточение внимания на истории одной страны одного периода. Став специалистом по истории Англии, Франции или России, он остается, верен этому выбору до конца творческого пути. Преимущества подобной практики очевидны: за годы научной деятельности удается достаточно глубоко освоить избранную проблематику, стать признанным авторитетом в «своей» области. В то же время подобный подход не может не ограничивать кругозор. 23 Именно эти обстоятельства побуждали А. Гуревича не ограничиваться пределами одной страны и «пытаться мыслить более глобально»27 . В воспоминаниях обнаруживается и такая особенность историографии как «состязательность». Воспоминания буквально пронизаны обращением к трудам других историков. Особенно у А. Гуревича явственно проявляется желание «переписать», «обновить», «оспорить»: проблематику, привлеченные источники, методы анализа, выводы. История переписывается постоянно. При этом механизм «переписывания истории», механизм движения историографии всегда современен (какова современность, такова и история) и представляет собой сложную систему, находящуюся в состоянии неустойчивого равновесия составляющих ее факторов. Тем более, что во второй половине XX в. происходили революционные процессы, кардинально менявшие представление о предмете исторической науки. Именно А. Гуревич оказался в числе немногих историков, попытавшихся освоить новые идеи и сделать их достоянием российского сообщества историков. Подобные замечания приводят к вопросу: всегда ли благоприятна для ученых и развития науки верность научной традиции? Думаю, что нужно особое нравственнокритическое отношение к накопленному предшествующими поколениями опыту. Речь вдет не о том, что бы все идеи и труды прошлого хранить в антикварной лавке, как «остатки» старины, а о благодарном, но в то же время критическом подходе, позволяющем преодолевая ошибки и заблуждения, продолжать сооружение здания Истории. Важно остановиться еще на одной проблеме. Определим её как «кривая» творческой активности ученого. Этот вопрос интересовал многих исследователей. Обращение к воспоминаниям ученых позволяет выявить ряд интересных закономерностей. Взлет творчества в молодые годы объясняется смелостью, к сожалению, уменьшающейся с годами и критической проницательностью, которая, напротив, продолжает с возрастом возрастать. Поэтому тот род научной работы, который обусловлен независимостью суждений, с возрастом, как правило, отступает на задний план, уступая место работе, зависящей в большей степени от накопленного опыта. Еще более явственно это проявляется в гуманитарных науках, особенно в истории, так как для занятий результативной научной деятельностью нужна более длительная подготовительная фаза: гуманитарию требуется не только больший объем знаний, значительный исследовательский, но и жизненный опыт. И хотя такая точка зрения доминирует в истории науки, она отнюдь не представляется универсальной: творческая активность авторов воспоминаний сохранялась в течение многих десятилетий. Так, А. Гуревич подчеркивает значимость «критического самосознания», 24 позволяющего отчетливо осознавать, что под действием неумолимого закона старения обнаруживается перевес консервативных сторон мышления над продуктивными. Более того, высказанные в трудах истины и то, что «ты принимаешь за истины» со временем устаревают28. Подводя краткий итог, следует отметить, что проблем, поставленных А. Тойнби и А. Гуревичем, гораздо больше, чем удалось затронуть в рамках данной статьи, которую можно рассматривать лишь как приглашение к чтению воспоминаний выдающихся историков, труды которых стали своего рода рубежами в современной историографии, личностными факторами развития исторической науки. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Бахтин М.М. Эстетика словестного творчества. М, 1986. С. 306. 2. Тойнби А. Дж. Пережитое. Мои встречи. М., 2003; Гуревич А.Я.История историка. М, 2004. 3. Ревель Ж. Биография как историографическая проблема. М., 2002. С. 15,17. 4. Гуревич А.Я. Указ соч. С. 7. 5. Тойнби А.Дж. Указ. соч. С. 101. 6. Там же. С. 118. 7. Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 9. 8. Тойнби А. Указ. соч. С 39 - 40. 9. Там же. С. 40. 10. Там же. С. 23 - 25.. 11. Гуревич А.Я. Указ.соч. С. 15. 12. Там же. С. 73 - 74. 13. Там же. С. 32. 14. Там же. С.41. 15. Тойнби А. Указ.соч. С.55 16. Там же. 17. Там же. С. 56 18. Гуревич А. Указ.соч. С. 17. 19. Там же. С. 19. 20. Там же. С. 56. 21. Там же. С. 161. 22. Тойнби А. Указ.соч. С 69. 23. Там же. С 107 24. Там же. С 109. 25. Гуревич А. Указ.соч. С.68 - 69. 26. Тойнби А. Указ соч.С.97-101. 27. Гуревич А. Указ.соч. С. 65. 28. Там же. С. 30. 25