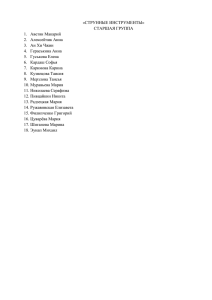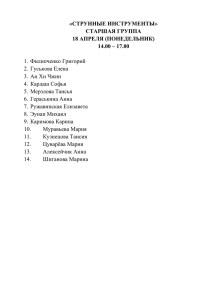бабочка не долетит до середины реки
advertisement
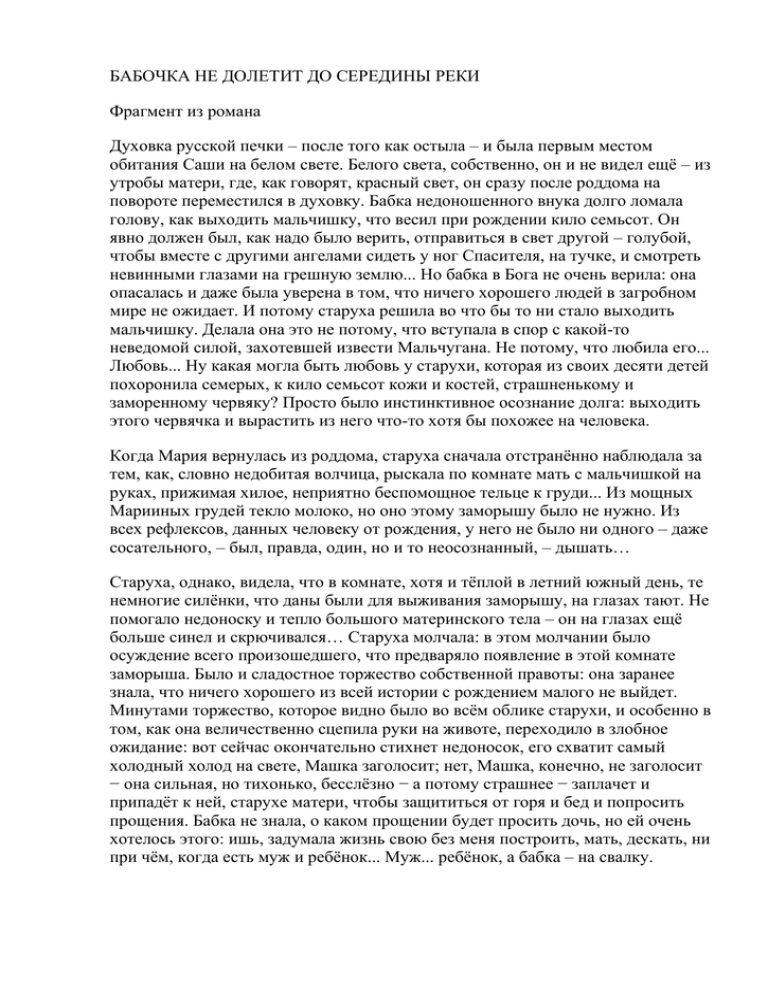
БАБОЧКА НЕ ДОЛЕТИТ ДО СЕРЕДИНЫ РЕКИ Фрагмент из романа Духовка русской печки – после того как остыла – и была первым местом обитания Саши на белом свете. Белого света, собственно, он и не видел ещё – из утробы матери, где, как говорят, красный свет, он сразу после роддома на повороте переместился в духовку. Бабка недоношенного внука долго ломала голову, как выходить мальчишку, что весил при рождении кило семьсот. Он явно должен был, как надо было верить, отправиться в свет другой – голубой, чтобы вместе с другими ангелами сидеть у ног Спасителя, на тучке, и смотреть невинными глазами на грешную землю... Но бабка в Бога не очень верила: она опасалась и даже была уверена в том, что ничего хорошего людей в загробном мире не ожидает. И потому старуха решила во что бы то ни стало выходить мальчишку. Делала она это не потому, что вступала в спор с какой-то неведомой силой, захотевшей извести Мальчугана. Не потому, что любила его... Любовь... Ну какая могла быть любовь у старухи, которая из своих десяти детей похоронила семерых, к кило семьсот кожи и костей, страшненькому и заморенному червяку? Просто было инстинктивное осознание долга: выходить этого червячка и вырастить из него что-то хотя бы похожее на человека. Когда Мария вернулась из роддома, старуха сначала отстранённо наблюдала за тем, как, словно недобитая волчица, рыскала по комнате мать с мальчишкой на руках, прижимая хилое, неприятно беспомощное тельце к груди... Из мощных Марииных грудей текло молоко, но оно этому заморышу было не нужно. Из всех рефлексов, данных человеку от рождения, у него не было ни одного – даже сосательного, – был, правда, один, но и то неосознанный, – дышать… Старуха, однако, видела, что в комнате, хотя и тёплой в летний южный день, те немногие силёнки, что даны были для выживания заморышу, на глазах тают. Не помогало недоноску и тепло большого материнского тела – он на глазах ещё больше синел и скрючивался… Старуха молчала: в этом молчании было осуждение всего произошедшего, что предваряло появление в этой комнате заморыша. Было и сладостное торжество собственной правоты: она заранее знала, что ничего хорошего из всей истории с рождением малого не выйдет. Минутами торжество, которое видно было во всём облике старухи, и особенно в том, как она величественно сцепила руки на животе, переходило в злобное ожидание: вот сейчас окончательно стихнет недоносок, его схватит самый холодный холод на свете, Машка заголосит; нет, Машка, конечно, не заголосит − она сильная, но тихонько, бесслёзно − а потому страшнее − заплачет и припадёт к ней, старухе матери, чтобы защититься от горя и бед и попросить прощения. Бабка не знала, о каком прощении будет просить дочь, но ей очень хотелось этого: ишь, задумала жизнь свою без меня построить, мать, дескать, ни при чём, когда есть муж и ребёнок... Муж... ребёнок, а бабка – на свалку. Старуха поудобнее, насколько это возможно, уселась на табуретку, её глаза вперились куда-то вдаль, где её сладострастное воображение всё отчетливее рисовало и рисовало картину расплаты блудной дочери... Но здесь раздался тоненький писк – громче пищит не только крыса, но и большая мышь... Писк оборвался. Почему-то понятно стало, что писк этот больше не повторится... Пищал же заморыш. Это и вывело старуху из грёз. Она встала, подошла к протопленной печи, на которой незадолго до этого готовила обед, открыла створки духовки, подержала там секунду-другую руку, сжимая и разжимая пальцы. Мария отупело смотрела на, казалось, уже навсегда замолчавшего мальчика, на непонятные, но уверенные движения матери. – Где-то у нас была вата, – пробурчала старуха, достав из шкафа большой рулон серой ваты, которая шла обычно на изготовление одеял. Бабка протерла тряпкой духовку, постелила простынку, положила вату... Решительно двинулась к дочери. Молча взяла из её рук недоноска и двинулась к печи. Мария страшно закричала, мощной рукой схватила старуху за шкирку и прошептала тихо с угрозой: – Отдай сына. С ума сошла, мать?! Отдай. Хочешь сожрать его, как меня, как мою жизнь... Старуха было заголосила, но через секунду поняла, что обычное средство эту дуру сейчас не проберёт. Она грозно сдвинула брови и решительно, с вызовом протянула недоноска дочери: – На, возьми, через час он у тебя подохнет от холода... Его только и можно выходить, если держать в остывшей духовке. Дура! – А-а-а... В духовке, – тупо соображала Мария, дико поглядывая то на сына, то на печь, то на мать. Она с трудом связывала в своем сознании эти три предмета. Но остатком своего некогда ясного ума она поняла, что старуха права: другого выхода нет... В духовку... В духовку! Сильные руки Марии безвольно протянули мальчика старухе. Мария смотрела на старуху, как на палача, когда та завернула мальчика в вату и такой необычный кокон положила в духовку. Марии захотелось спать... С того момента – радостного лишь в первые секунды, когда она оказалась с сыном за стенами родильного дома, – только чувство страха было в этом большом теле. Там, в роддоме, за мальчиком ухаживали, подогревали грелками. Здесь должна была наступить смерть мальчика... Но теперь, теперь угроза смерти притупилась, старуха взяла заботу о нём на себя... Мария рухнула в кровать, отвернулась к стене и тихо-тихо заплакала... Вот как всё в жизни бывает – не как представляешь... Думала, родишь лишь через два месяца, а всё произошло раньше. Думала, выйдешь из роддома с крепышом, который будет улыбаться, махать ручками и сосать грудь, а на руках оказалось почти бездыханное тельце. Она, правда, знала, что отец не будет встречать их с цветами – какие уж цветы в их жизни! да и какой отец! – сама его отпустила... Но думала, что сразу сообщит мужу – да, всё же для неё он муж – о рождении сына, а теперь засомневалась: выживет ли... А самое главное, не было никакого чувства пресловутого материнского счастья – было ощущение пустоты и в душе, и в том месте, где помещался прежде ребёнок, в утробе матери. И постепенно, но неостановимо эту пустоту заполнял страх, доселе незнаемый: а вдруг мальчик умрёт... Не было любви к этому мальчику: любишь то, к чему привыкаешь, привязываешься... Был данный какой-то внешней силой животный страх... Мария засыпала. Во сне она забывала о страхе, ребёночке – возвращалась лёгкость, радость. Но стоило только проснуться, как тут же снова оживал в том месте, где прежде шевелился ребёночек, страх... И у Марии не было сил с ним бороться. Усталость всех, коротких, но таких длинных двадцати семи лет, в которые уместилось, казалось, несколько жизней... усталость вечного – с младенчества – ожидания счастья, которое никак не приходило, усталость от усталости сломили ее силы бороться со страхом. От страха было одно спасение: спать, спать... Болели груди, соски набухли и, казалось, сейчас лопнут, но она спала. Только сон останавливал страх, который отныне навсегда поселился в ее душе. Она ещё не знала, какова природа этого страха, да и не сумела бы узнать, если бы захотела, но знала одно: с этим чувством страха ей жить до конца своих дней и даже дольше... А сейчас можно было отдохнуть – до того момента, когда нужно будет проснуться, может быть, навсегда. Старуха молча вздыхала, глядя на Машку. Сама она не знала, что такое усталость, плохое самочувствие, а тем более настроение... Самый раз, ей казалось, пока она возится с недоноском, Марии прополоть огород, наносить воды и сделать множество других дел. Слава Богу, думала не верящая в Бога старуха, что Мария не умерла – без неё бы бабке плохо пришлось. Кто бы её кормил? – пенсия у нее двести десять рублей; кем бы она командовала? – кроме Машки этого никто бы не потерпел; кого бы она любила? – эта грозная баба уже никого не любила с тех пор, как повесился её старший сын, кроме Марии. В Марии – если признаться – и был смысл её жизни. Больше всего старуха и боялась, что Мария умрёт − особенно, когда у дочери начались преждевременные роды. В душе она, родившая десятерых (сейчас ей выгодно было забыть, что семерых из них уже нет), презирала дочь: не смогла доносить! Подумаешь, будучи беременной, перестроила из времянки дом! Ей казалось, что она делала и не такие дела, когда ожидала пополнения семейства – а беременной она была почти всегда, пока не превратилась в старуху. Но в то же время Машку ей было жаль: всё-таки она оказалась младшенькой из всех выживших. Утешало её, правда, во всём этом деле, что Машка родила, так и не уйдя в декрет. Кому нужны эти копейки, что платили за декретный отпуск. Мариина работа на консервном заводе ценна была тем, что можно было домой притащить бараньи рёбрышки или свиные ножки, а то и кусок мяса. (Маша принесла с завода груз и в тот день, когда её увезли в роддом.) Старуха не без раздражения смотрела на Марию, которая – днём! – спала уже четвёртый час. Жалость, что первоначально притупила все другие чувства (а их от долгой жизни осталось немного: страх перед жизнью, перед тем, что завтра не станет куска хлеба, а послезавтра − крыши над головой), улетучилась... Сама старуха не знала, что такое отдых, праздность: самым кошмарным преступлением считалось в доме не то что прилечь, а присесть днём на заправленную кровать – и это при том, что в жилище можно было насчитать не больше пяти табуреток. Сон должен был восстановить силы для завтрашнего груда. Труд был главной заповедью старухи, только слышавшей про Маркса, но исповедовавшей «стихийный марксизм». Вот и сейчас своими маленькими, но крепкими руками она быстро перепеленала мальчонку и положила в духовку. К этому мальчишке она ещё не привыкла − потому ни один мускул её спокойного, властного лица не дернулся хотя бы в подобие улыбки. «Машка рехнётся, если он сдохнет... Она такая дурная у меня. А он сдохнет! Окажусь в старости без подмоги, с дурой на руках... Надо выходить его», – машинально обдумывала женщина, которая привыкла всё просчитывать наперёд. Это не означало, что у старухи не стало или никогда вообще не было сердца. Но на сердце в своей долгой жизни она положиться не могла, спасти могла только голова. Старуха легко принесла два полных ведра воды – поставила варить отруби для свиней, а заодно и обед. Уже давно никакие события – даже не мирового, а местного масштаба − никак не отражались на её аппетите. Вот и сейчас, не дожидаясь всех, старуха присела поесть – ела она жадно, но эта жадность не была физиологически отталкивающей, так как видно было, что приобретена с годами, а не дана с рождения. Старухе в голову, конечно, никогда бы не пришло, что еда может быть способом праздного времяпрепровождения − её нога никогда не переступала порог ресторана, о них только читала в романах да видела их в кино, но если бы ей предложили сходить в ресторан (разумеется, бесплатно, сама бы она и копейки не выложила из своего кармана), старуха была бы обескуражена и даже оскорблена: неужели у неё нет дел и она не знает, чем заняться. Вот и теперь, быстро поев, старуха помешала ложкой в кастрюле с супом, мельком взглянула на заморыша, прикрыла одеялом Марию, подмела пол, вытерла пыль, починила сияющий белизной, но порвавшийся лифчик, который, как и вся одежда в этом доме, был сшит ею же самой. Приглядевшись со стороны, можно было подумать, что ни на минуту не прекращающееся действо старухи имело своей целью одно – заколдовать пятачок своей земли от рока, что изначально преследует на земле человека... По крайней мере, старухе удавалось заколдовать себя и раз за разом забывать своё прошлое – со смертями, разлуками, обидами, притеснениями, былыми радостями и надеждами, от которых не остаются даже боль, даже воспоминания... Это забытьё давало возможность жить дальше – начать сто первую жизнь после сотой казни. Если бы она не отучила себя навсегда вспоминать о своём первом муже – она уже и не помнила, каков он, любила ли его, но помнила, что был кто-то, с кем она думала долго-долго вместе жить; если бы она не заставила себя десятилетиями не вспоминать о своих двойняшках, что сгорели в погребе; если бы она не уверила себя в том, что её собственной вины нет в решении любимого сына Яши – добрейшего человека, что видели на земле, – повеситься; если бы эта совсем не дурная от рождения бабка не отучила себя думать ни о чём, кроме как о куске хлеба, вообще, если бы она не подчинилась сегодняшнему дню во имя завтрашнего, она давно бы разбила свою голову о камни, что устилали землю среднеазиатского домика, в котором жила – и не удивлялась теперь тому – старуха. Но она жила... И жить ей предстояло ещё долго... Мария не хотела просыпаться – она не знала, зачем и чем ей дальше жить. Позади были двадцать семь годов, которых, казалось, и не было. Вчера еще была девчонкой, потом сразу стала кормилицей всей не своей, но прожорливой семьи, состоящей сплошь из сестёр да прижитых ими деток – со старухой в придачу. Потом этот человек, которого встретила она, потом ожидание родов... А потом – потом... Потом – телеграмма отцу: дескать, сын родился. Ответа на ту телеграмму так и нет, как будто ничего и не было. «А что же было? Что? – спрашивала себя Мария. – Была любовь?.. А что это такое? Наверное, была. По крайней мере, так это называется у людей. Было счастье – так бывает, когда на душе хорошо, спокойно и беззаботно». Потом она стала привыкать к тому, что не одна на свете, а с кем-то, кто рядом. Не нужно было даже физического присутствия − потому легко отпустила мужа на работу в лесное хозяйство. Сама не поехала: боялась за будущего ребёночка. А получилось, что страх за будущего ребёночка, инстинкт матери, притупил инстинкт бабы, которая упустила мужика... Как же жить теперь – одной? Нет, не одной – с ребёночком... Как? Для чего?.. Всё крутились-крутились эти мысли в сознании Марии, когда она позволяла себе на секунду проснуться. Но выхода из тупика она не находила – и потому засыпала снова и снова. Проснуться можно было, если бы знать зачем... И потому Мария, словно в смерть, входила в мягкое, безвоздушное пространство сна. Сон напоминал мягкую, хорошо взбитую перину, в которую сладостно провалиться... Ещё секунду до этого ей явственно казалось, что она несёт в гору огромный мешок, набитый камнями... Она с трудом добиралась до макушки горы, высыпала камни, но они скатывались к подножию − приходилось снова их собирать и тащить в мешке... Но словно ещё какой-то другой, как будто второй сон – более глубокий и вплотную приближённый к смерти, в котором было все легко и радостно, – освобождал от мешка с камнями... Нет. Просыпаться не стоит... Но когда уже могло показаться, что Мария не проснётся никогда и что жизненные силы покинули это большое растерзанное тело, за работу взялась другая, высшая сила... (Одни её называют Природой, другие – Христом или Антихристом, третьи – Аллахом, четвёртые – ещё черт знает как... Как бы ни именовали люди эту силу, они пытались так обозначить отрешенность, отдалённость и независимость этой силы от человека.) Так эта Сила вдруг собрала по кусочкам разбитую душу и разбитое сердце Марии, наполнив их смыслом, без которого вдруг эта женщина жить больше не смогла. Неизъяснимый, но простой смысл заключался в том, чтобы стать просто матерью заморыша, что лежал сейчас в духовке. Надо жить. Надо... для этого мальчика. Всё стало понятно Марии. *** И она открыла глаза... Вокруг была всё та же – для человека постороннего убогая, но для Марии – знакомая и родная обстановка своего дома. Мария посмотрела на земляной пол во времянке – дощатый так и не настелили, не хватило денег. Увидела железные кровати, шкаф, купленный по случаю, швейную ножную машинку... Надо было вставать – чтобы работать, жить... Но где же мальчик? Мария заволновалась, но здесь вспомнила, что он – в духовке. Подошла к печи, вытащила мальчонку... Он проснулся, но у него не хватало сил – либо желания – открыть глаза. В лице ни кровинки, никаких пресловутых младенческих пухлых щёчек, никакой ангельской улыбки... Только усталость, уже накопившаяся от трудной жизни. Мария глядела на сына и думала, как же они будут жить – такие надломленные и усталые?... Но всё же будут! Да, будут... И трудно было понять, чего хотела природа, задумывая этого человечка? Чтобы он умер и не жил? Либо чтобы всё же жил? В чём была некая закономерность – в том, чтобы убить это тельце или, наоборот, дать ему жить? А может, и вообще нет в жизни людской никаких законов, нет смысла, провидения? Может, всё происходит неведомо как – без всякого намёка на некий смысл всего происходящего? А люди уже в утешение себе вывели закономерности человеческой жизни и додумали за неё смысл... Ведь страшно представить, что от своего рождения и до своей смерти ты на самом деле никакой высшей силе да и вообще никому не нужен... Так сладостно думать, что этому мальчонке дарована жизнь не случайно, а в качестве дара, своего рода поощрения; что он кому-то нужен, что это, может быть, залог особой расположенности Бога – или ещё там кого – к этому хилому подобию человеческого тельца, познавшему от жизни только одно – усталость. Мария не могла думать точно так... Она только – бывшая ворошиловка и атеистка по убеждению и воспитанию – бубнила: «Господи! Сделай так, чтобы он жил. И я жила, покуда нужна ему». Так она потом повторяла не раз. И кто знает, может быть, ей и удалось достучаться до Бога – известно одно: когда через два десятка лет сын действительно смог обходиться без матери, Бог – или ещё кто-то – забрал, как было уговорено, Мариину жизнь. На самом деле, ни Мария, ни её жизнь, ни её смерть ни Богу, никому другому были не нужны. Ах, как сладостно думать, что всё в жизни происходит не случайно. Как сладостно... За все дни после родов Мария первый раз спокойно – без содрогания – смотрела на сына. Нет, её и сейчас ни на секунду не оставлял въевшийся в нутро страх – сколько протянет малёк... Но сейчас она позволила себе помечтать: а вдруг мальчик выживет... Как он будет жить? Даже Мария понимала, что жизнь мало что сулила её мальчику – полунемцуполурусскому, воспитанному матерью-одиночкой, которой до конца дней своих надо будет ишачить, воровать. (Да! Воровать – иначе не проживёшь.) Заброшенному на край света – в жалкий среднеазиатский городишко, где было определено жить немецким переселенцам. Оглядываясь на грязь, низость, скудость и пустоту окружающей жизни, когда всем тем людям, кого она знала, приходилось заботиться только о том, как дожить до завтра, Мария вдруг подумала: «А может, и не нужно ему жить. Зачем? Может, лучше умереть... По крайней мере, не изведав земного ада, он попадёт в рай? И будет там за всех за нас грешных...» Но долго так думать Мария не могла. Она привыкала полагать, что здесь, на земле, с сыном, если очень сильно стараться, вложить много сил и души в это хилое тельце, то что-нибудь получится. Может быть, если не она, то хотя бы её сын будет счастлив? Может, он полюбит жизнь, а жизнь – его... Так... рано – двадцати семи лет от роду – закончилась своя, обособленная от других жизнь Марии. Жить теперь надо было ради жизни. Так новая жизнь воздвиглась на другой, на корнях жизни чужой. И не было в этом ничего необычного. Так идёт от века... Но и житейский опыт, идущий тоже от века, подсказывал: да, да! мало что ожидало в мире любого родившегося в этом городке, которого Бог не то что забыл, а о котором Бог даже и не знал, а родившегося недоношенным мальчика ожидало ещё меньше. Впрочем, люди, живущие и в городишке, и в этом крае, а может, и вообще многие люди с советских окраин, мало думали о будущем, да ещё о таком далеком, как лет через пять или десять. Жизнь приучила их ни о чём не загадывать, ни о чём не мечтать: важнее было дожить до завтрашнего и послезавтрашнего дня. Два дня – это было будущее... Надо было их прожить: есть, пить, дышать – это ли не благо. Заботы о том, чтобы есть, пить, дышать, должны были определить и жизнь заморыша... Тем более что мы привыкли полагать, будто всё это, называемое средой, и оказывает первостатейное влияние на формирование человека. Среда и закономерность – вот, по нашему разумению, две главные нити, на которых и ткётся та дерюжка, что называется временем. Дело только в том, в каком месте завязывается узелок, тянущий за собой новую жизнь. Заморыш родился во время, непредсказуемо вздыбившееся (может, потому и он так спешил появиться на свет). Всего три месяца назад уже грузная Мария грохнулась на пол и слезливо заскулила. Плакать Марии в её положении совсем было ни к чему, а уж грохаться на пол – и вовсе: как-никак ребёнка в брюхе таскала... Потому на плач беременной прибежала старуха. «Машка, чего стряслось-то, чего орёшь?..» – грозно спросила она, зная, что за младшей кликушества прежде не замечалось. А здесь и старшая дочь – Верка – выбежала, падкая до всяких событий. Та с порога заголосила, да раз в десять громче Марии: «Ах ты, моя бедная Машенька, родная! Горе-то какое!» Верка обрушилась со всего разбега на беременную, стала её обнимать и целовать. Старшая так зашлась в рыданиях, что Мария забыла о своих слезах и с удивлением уставилась на сестру. «Маша, скажи как сестре, какое горе стряслось?» – произнесла, захлёбываясь в слезах и соплях, Вера, которой поднаскучило рыдать просто так и теперь не терпелось узнать какуюлибо кошмарную новость. – Сталин умер... – ответила тихим голосом Мария. Вера смотрела на Машку как на безумную, которая решила, что жизнь ей больше не мила. Старшая сестра процарапала своими чернющими глазами углы комнаты, посмотрела на потолок, словно желая удостовериться, что он не подслушивает... – Ты с ума сошла, Машенька. Он ведь – Сталин. Он – будет всегда, – произнесла растерянная женщина, инстинктивно отодвигаясь от несчастной подальше. Страшно было дышать тем же воздухом, каким дышит человек, произнесший нелепые слова о смерти Сталина. Бабка не выдержала. Торжествующе поджав узкие губы, старуха припечатала: – Умер, один... гад. Что ж теперь убиваться! На моём веку их умерло уже немало... Я тоже помню, царя, дура, оплакивала... Теперь дудки! Да только цыц, дуры! Здесь Верка, которая не могла не поверить старухе, заголосила во всю свою немалую мощь: – Ах, да на кого ты нас покинул? Да как же мы, сироты, есть, пить будем! – Тьфу, дура! – пробурчала старуха. – В войну похоронку на мужа получила – меньше ревела! Бабкино ехидство привело Верку в чувство, она со злобой прошипела: – Неправду, мама, говорите! Смотри, смотри оттуда (Верка глазами показала туда, где, полагают, находился рай и ад), дорогой товарищ Сталин, как измывается родная мать над вдовой! – Поплачьте! Поплачьте! Меньше ссать будете! Мало нас Сталин раскулачивал, ссылал и гноил – рыдают теперь... А то порыдали бы во дворе или на улице – показали бы всем свою патриотичность! Может быть, нам разрешили бы перестать отмечаться каждую неделю в милиции... Старуха взяла ведро с помоями и яростно потащила его во двор... За забором она увидела соседку – дуру и доносчицу, та явно ждала кого-то из соседейнемцев. Старуха тут же стёрла с лица досаду, сделав скорбное лицо. Для верности патриотической игры старуха замедлила шаг, но от этого помои расплескались и обдали её ногу. Но матюкнуться нельзя было. Превозмогая злость, она проговорила: «Горе-то какое! Горе!». Соседка цепко следила за немкой, но и её нюх не уловил в старухином горе фальши. Старуха обводила вокруг пальца и не таких... – Машка, перестань реветь. Тебе вредно! – пробурчала старуха, вернувшись в дом и громыхнув пустым помойным ведром об пол. – Ну, вот что, девки! На язык – замок. На людях – только реветь! И ни слова! Сейчас такое начнётся... Каждый дурак командовать... Поняли? Впрочем, старуха могла и не беспокоиться за Марию – вряд ли женщина, ожидающая ребёнка, могла по-настоящему убиваться из-за смерти десяти Сталиных. Это была их смерть, и горе – тех, кто был далеко-далеко и жил совсем другой жизнью... Мария распахнула окно – хотелось продышаться. Воздух – ещё необычно холодный для этих тёплых мест – совсем не напоминал о весне, хотя по календарю наступили первые весенние дни. Женщина вытянула руку в окно и разжала пальцы, пытаясь понять, не потянуло ли в долину тёплым ветром... Нет, не потянуло: становилось всё холоднее и холоднее. Но всё же хотелось погулять по улицам городка... дома не сиделось: не каждый день узнаешь о смерти человека, который казался вечным, и даже не человеком, а чем-то другим, чему женщина и не знала названия. Старуха неприязненно отнеслась к желанию дочери прогуляться – в такие дни, знала она, лучше никуда не соваться и сидеть в своем углу... Но Мария в этот раз её не послушалась... Беременная медленно шла к базарной площади – центру жизни города и после закрытия базара. Так медленно она не умела обычно ходить – всегда надо было всё делать на бегу... Но сейчас хотелось думать, а для этого лучше идти не спеша. Мария думала о смерти Сталина, и ей хотелось поплакать о нём, но она не могла – плакать можно ведь о смерти близкого, смертного... Было страшновато: что будет теперь... Но глубоко в душе шевелилось и неловкое, неуместное и постыдное ожидание чего-то нового, а значит, как ни била судьба, хорошего... Что было хорошего в её жизни? Ничего не могла вспомнить Мария. Пошёл снег – редкий для этих мест в марте, – но и он не мог изменить то сладостное состояние тревоги и надежды, в которое впала Мария. На улицах было пусто: люди продолжали жить своей обычной жизнью, и им было некогда скорбеть... Лишь на площади у столба с репродуктором толкалось с десяток человек. Никто не говорил, слушали голос диктора. Но никто и не плакал: слёз в темноте всё равно никто бы и не увидел. Мария лишь на несколько минут остановилась у столба, но быстро пошла назад, домой – люди ещё не привыкли собираться в толпу, многие полагали даже, что этого и делать нельзя. Мария представляла своего будущего ребёночка – но он казался чем-то выдуманным; она думала о будущем – но ей оно казалось несбыточным... Вот вчерашнее, прошлое наваливалось всей своей тяжестью на молодую женщину... Вот она – маленькая, лет пяти-шести – сидит в подводе и плачет, мать кидает в подводу какие-то вещи, сёстры ревут, а отец растерянно стоит... И ему стыдно перед детьми – особенно перед ней, перед младшей, за то, что он не может защитить свой дом, выгнать из него этих людей, которые командовали, повелевали, указывали. Может быть, отец и не думал о том, как он теперь будет смотреть в глаза детям, как будет воспитывать их, но Маше было очень-очень жалко отца – она ни разу не видела его таким жалким и раздавленным. И тогда она заплакала, заплакала, потому что нельзя на виду у детей – даже во имя самого высшего блага – унижать отца... Это всё равно, что убить его. Маша спрыгнула с телеги и подошла к отцу, она теребила его за штанину, но тот ничего не чувствовал. Этот честный, трудолюбивый немец, который свято верил в то, во что свято верили его отцы и прадеды: труд спасёт родных деток от голода, холода и смерти, вдруг понял, что в этом разом перевернувшемся мире как раз труд и стал причиной тех страданий, что начиналась с этой минуты... С тех пор Мария никогда не видела отца улыбающимся. И когда уже на новом месте, куда приехала раскулаченная семья, отца вдруг не стало, Мария к этому внутренне уже была готова. Отца убили уже тогда, в тот день, когда ворвались и разграбили их дом, тот дом, который он построил своими руками... Мария брела по тёмным, неосвещённым улицам города. Падающие на большой лоб женщины снежинки таяли и стекали струйками по лицу. Но то таял не только снег, то оттаивала и замороженная душа Марии – она плакала... Мария не знала красивых и высоких слов о смерти; о том, как надо умирать – ей вообще казалось, что умирать, особенно другим людям, не надо. Но смерть того, которого все привыкли называть отцом, вдруг напомнила смерть единственного человека, которого она должна была называть отцом. Его убили как собаку, которую отловили и отправили на живодёрню. Никто не знает, где его могила... В животе вдруг толкнулся ребёночек. Мария не знала, какова будет его судьба, но немногое могла предсказать и она – у него не будет деда, никогда! он не узнает о нём ничего, кроме фамилии и имени... Он в этом обделён уже до рождения, ещё в тот день, когда отец пятилетней Машеньки раздавленно смотрел на то, как разоряют его дом... Мария обрадовалась, что дошла до своего нового дома – в темноте ей стало страшно. На секунду она ещё раз удивилась, что вот уже который час, как умер Сталин, а земля ещё не разверзлась. Это успокаивало. Марии стало веселее на душе, но она одёрнула себя как девчонку, вдруг расхохотавшуюся в доме с покойником... Тогда Мария и представить не могла, для сколь многих людей весть о смерти вечно живого связалась с надеждой на новую жизнь. О новой жизни – но только чужой, что зародилась в ней, думала Мария... И вот спустя всего лишь три месяца с того дня Мария глядела на эту новую жизнь, которую и жизнью-то назвать было нельзя. Даже свет, что редко проникал в землянку, мешал заморышу: в духовке, в темноте, ему было спокойнее. И здесь Мария ужаснулась: ведь она родила мальчика, из которого – если ему будет суждено – вырастет мужчина. Бабе трудно жить, а уж мужику куда труднее – это понимала Мария... Бабу ткнут коленкой в зад или живот, изнасилуют, обидят словом плохим – она поплачет-поплачет и отойдёт, а мужик – если он настоящий и если ему придётся подломиться перед грубой и неправедной властью и если он выживет – конченый человек, уже никогда не подымется. Окопы, лагеря, любое коллективное насилие несут не только физическую гибель, но и гибель души. И в этот мир она должна выпустить сына!.. Может, в их роду ещё в деде сломали тягу к свободе – тогда жить легче. А если нет?.. Тогда – сломают позже, но уже вместе с самим человеком. Мария знала ведь: тело и душа ломаются одновременно. Но верилось, что, может быть, всё обойдется. Может, судьба пощадит сына... «Я щажу... Он щадит... Они щадят...» – засыпала снова Мария, бормоча эти слова. А в духовке – под охраной темноты – лежал ребёнок. Он словно летел в невидимом скафандре по миру, и ничто его пока не связывало с этим миром. Он помнил только своё прошлое, недавние муки и страх – страх своего первого изгнания... Там было тепло и легко, там совсем не ощущалось тяжести, что давит теперь на каждый миллиметр тела... Там не было одиночества и ужаса перед бесконечным холодным эфиром... Не было силы, которая время от времени лишала спасительного тёмного тепла и выволакивала в холодный резкий свет...