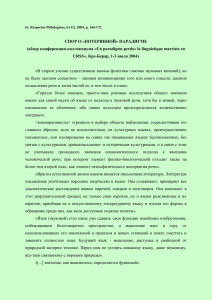опыт сопоставительного методологического анализа
реклама
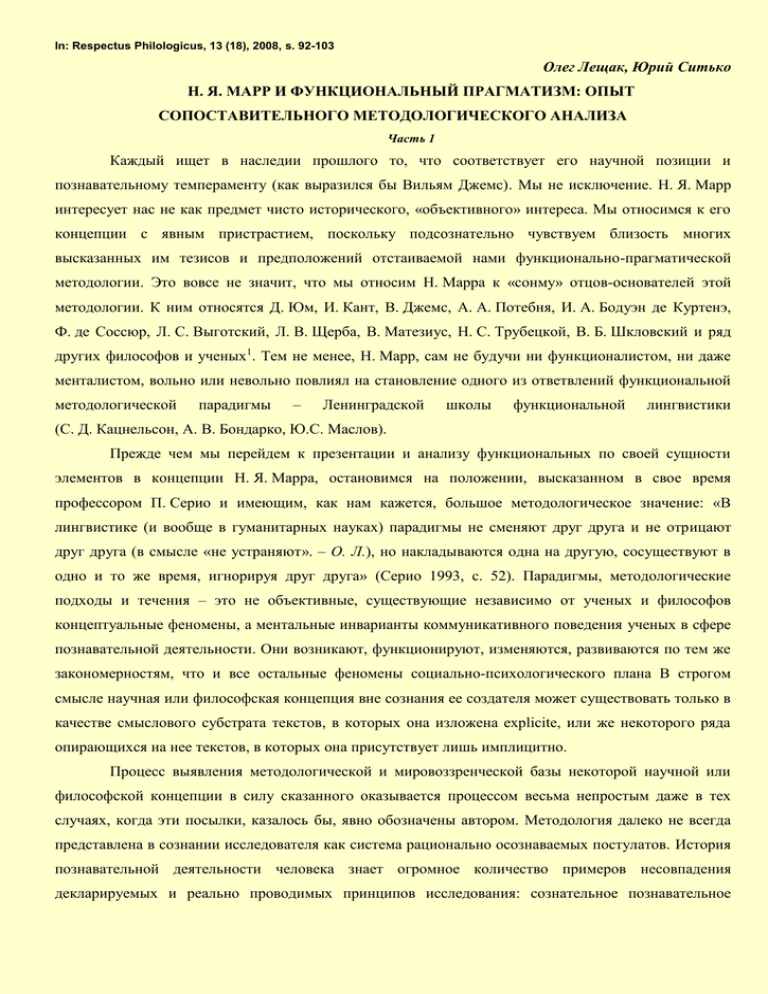
In: Respectus Philologicus, 13 (18), 2008, s. 92-103 Олег Лещак, Юрий Ситько Н. Я. МАРР И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАГМАТИЗМ: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Часть 1 Каждый ищет в наследии прошлого то, что соответствует его научной позиции и познавательному темпераменту (как выразился бы Вильям Джемс). Мы не исключение. Н. Я. Марр интересует нас не как предмет чисто исторического, «объективного» интереса. Мы относимся к его концепции с явным пристрастием, поскольку подсознательно чувствуем близость многих высказанных им тезисов и предположений отстаиваемой нами функционально-прагматической методологии. Это вовсе не значит, что мы относим Н. Марра к «сонму» отцов-основателей этой методологии. К ним относятся Д. Юм, И. Кант, В. Джемс, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Л. С. Выготский, Л. В. Щерба, В. Матезиус, Н. С. Трубецкой, В. Б. Шкловский и ряд других философов и ученых1. Тем не менее, Н. Марр, сам не будучи ни функционалистом, ни даже менталистом, вольно или невольно повлиял на становление одного из ответвлений функциональной методологической парадигмы – Ленинградской школы функциональной лингвистики (С. Д. Кацнельсон, А. В. Бондарко, Ю.С. Маслов). Прежде чем мы перейдем к презентации и анализу функциональных по своей сущности элементов в концепции Н. Я. Марра, остановимся на положении, высказанном в свое время профессором П. Серио и имеющим, как нам кажется, большое методологическое значение: «В лингвистике (и вообще в гуманитарных науках) парадигмы не сменяют друг друга и не отрицают друг друга (в смысле «не устраняют». – О. Л.), но накладываются одна на другую, сосуществуют в одно и то же время, игнорируя друг друга» (Серио 1993, с. 52). Парадигмы, методологические подходы и течения – это не объективные, существующие независимо от ученых и философов концептуальные феномены, а ментальные инварианты коммуникативного поведения ученых в сфере познавательной деятельности. Они возникают, функционируют, изменяются, развиваются по тем же закономерностям, что и все остальные феномены социально-психологического плана В строгом смысле научная или философская концепция вне сознания ее создателя может существовать только в качестве смыслового субстрата текстов, в которых она изложена explicite, или же некоторого ряда опирающихся на нее текстов, в которых она присутствует лишь имплицитно. Процесс выявления методологической и мировоззренческой базы некоторой научной или философской концепции в силу сказанного оказывается процессом весьма непростым даже в тех случаях, когда эти посылки, казалось бы, явно обозначены автором. Методология далеко не всегда представлена в сознании исследователя как система рационально осознаваемых постулатов. История познавательной деятельности человека знает огромное количество примеров несовпадения декларируемых и реально проводимых принципов исследования: сознательное познавательное 2 стремление нередко вступает в конфликт с подсознательными верованиями и установками ученого. Такое положение усугубляется в ситуации, когда на ученого начинает давить общественное мнение, традиция, новаторские тенденции или просто идеология его времени. Так было практически со всеми советскими учеными и философами, которые в силу сложившихся общественно-политических обстоятельств вынуждены были провозглашать «под маркой» марксизма совершенно различные, подчас противоположные концепции. Мы далеки от того, чтобы называть их жертвами режима или цензуры. Все гораздо сложнее. Многие из советских мыслителей, совершенно по-своему осознав суть происходящих в стране перемен, искренне стремились осуществлять свою деятельность в русле этих перемен. В связи с этим они либо приспосабливали свои взгляды к марксизму, либо приспосабливали марксизм к своим взглядам. Риторически и терминологически это выглядело как единый марксистский дискурс. На деле же это была многоголосица позиций, эклектизму которой сегодня приходится только удивляться. Основными критериями оценки исследований в тот периода служило соответствие / несоответствие позициям «марксистской материалистической» науки. Соответственно, исследования, предаваемые анафеме, получали ярлык «немарксистских» и «идеалистических». Мы оставляем в стороне вопрос о том, насколько осознанно Н. Я. Марр «подгонял» свою явно «нематериалистическую», отчасти лейбницианско-гумбольдтовскую, отчасти платонистическую лингвистическую методологию под марксизм. Это неважно. Важнее то, насколько релевантны были для его социоцентристской концепции языка социологические, классовые и экономические постулаты марксизма. Но разобраться в этом можно, только приняв критическую точку зрения на многие распространенные мифы марризма и мифы о марризме. Несомненно к самым известным относятся миф о марксизме и диалектическом материализме Марра. Мы полагаем, что основные постулаты марризма были, с одной стороны, завуалированы под материализм и марксизм, а с другой – были прочитаны по-марксистски, в смысле – по-гегельянски и отчасти по-аристотелевски. Но именно здесь и была допущена главная ошибка и самим Марром (не заметившим или не пожелавшим заметить принципиальной несовместимости своей концепции с концепциями Маркса), и его критиками (не говоря уже о его последователях). Стараясь выразить «новое учение» на марксистском языке Марр подгоняет свою концепцию не только под марксизм, но и под ее материнскую философию - гегельянство: «Яфетидология еще на первых этапах своего развития фактически слагалась на гегелевском положении, не зная тогда этого положения, а придя к нему под напором фактов, изучавшихся ею, именно положения, у Гегеля представляющего следующее высказывание: „чтобы познать явление, нужно выйти за его пределы”» (Марр 2002, с. 51). Насколько это положение может быть названо «гегелевским»? Ведь это элементарное ноуменологическое положение, которое признает всякий, кто признает Этой проблеме была посвящена монография О. Лещака «Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики» (1996) и ряд других работ того же автора. 1 3 инвариантность, системность, всякий, кто признает наличие, помимо физических фактов, некоторого смысла, выходящего за их пределы. Ничего нет странного в том, что Марр называет свой социологический идеализм «диалектическим материализмом» («дело идет о материализме не по вещественности трактуемых предметов, а о материализме по методу – об историческом и диалектическом материализме» (Марр 2002, с. 80)), ведь и сами основоположники марксизма полагали, что их идеал - реалистическая метафизическая концепция - является концепцией материалистической. Один из ведущих советских марксистов Ильенков честно отмечал, что «объективность „идеальной формы” – это увы, не горячечный бред Платона и Гегеля, а совершенно бесспорный, очевидный и даже каждому обывателю знакомый упрямый факт [...] Идеализм – это совершенно трезвая констатация объективности идеальной формы, то есть факта ее независимого от воли и сознания индивидов существования в пространстве человеческой культуры» (Ильенков 1984, с. 57). В определенном смысле Марр оказался в лингвистике более последовательным «диалектическим материалистом», чем сами марксисты, поскольку более последовательно связывал язык с внеязыковой предметной действительностью (с материальной историей – как лейбницианец Гердер, с культурой — как лейбницианец Гумбольдт, с общественной жизнью – как позитивисты Конт и Спенсер или же с территорией – как платонисты-евразийцы). В любом случае Марр не пытался открыть какие-то имманентные законы развития языка вне тенденций развития общественной производительной деятельности, частью (надстройкой) которой он считал язык. Марксисты же постоянно «сползали» с этого, базисного для их концепции, положения в имманентизм и общую абстрактную диалектику всемирного единства. Вспомним абсолютистский системоцентризм Гегеля, посмотрим на абстрактно-обобщающий характер марксизма, игнорирующий частности и исключения и сравним их с марровским подчеркиванием значения материальных памятников истории для лингвистики: «Только обращением к вещам, к памятникам материальной культуры и независимым их изучением была поставлена на место индоевропейская лингвистика, умерены ее притязания» (Марр 2002, с. 26) или «В письмо и в его мертвые традиции был заточен живой, общественно-исторически скроенный организм, многосложно увязанный со всеми нервами повседневной жизни, ее питающим производством и регулирующей общественностью на всем протяжении активного существования человечества» (Марр 2002, с. 34). Что это: теория эманации духа в материю? А может быть вульгарный материализм, феноменализм, позитивизм? Ничуть не бывало. Вещи, материальные памятники для Марра не физикалии, а осмысленные и осмысливаемые артефакты: «Дело в том, что если существует материал, то это продукт известного производства, известных производственных отношений» (Марр 2002, с. 95). По большому счету Марр такой же объективный идеалист, как и значительная часть марксистов, но это не гегелевский имманентный идеализм, а скорее смесь лейбницианства и платонизма (т. е. трансцендентализм). И в том, и в другом случае (Гегель и Лейбниц) язык признается объективной социальной системой, однако в гегельянстве и марксизме допускается 4 гипостазирование «языка вообще» и «общенародного языка» (на синхронном уровне), а также «праязыка» (в истории), в то время как лейбницианскому ответвлению характерен узкий этноцентризм, а платонизму – кастовый социологизм. Второе отличие состоит в понимании отношения материальной и идеальной стороны языка. В то время как гегельянство под видом диалектики конкретного и абстрактного, идеального и материального последовательно проводит идею эманации Духа в материю2, лейбницианская версия, следуя более платонизму, разводит материю и дух, устанавливая между ними функциональные зависимости. О том, что Марр не воспринимал язык как эманировавший в материю звука или графики дух народа, а семантику не выводил непосредственно из материального субстрата, свидетельствует его решительный протест как против отождествления речи (а опосредованно и языка) с письменностью, так и против отождествления языка и речи со звуковой сигнализацией. Ср.: «Гораздо более опасные, просто-таки роковые последствия общего значения имеем для самой науки об языке от подхода к звуковой речи, хотя бы и живой, через письменное ее облачение, ибо таким подходом предопределяется количественно материал» (Марр 2002, с. 29), «она [яфетическая теория] приучает и в звуках ценить в первую очередь не формальное выявление их, а идеологическую значимость, которой подчинена звуковая система, сторона техническая» (Марр 2002, с. 82), «существо речи в содержании ее, а не в форме» (Марр 2002, с. 126), «в языке не звук, а фонема, отработанный человечеством членораздельный звук, сопровождаемый работой мозгового аппарата, раньше влиявшего в тех же целях на руку, звук, направляемый мышлением» ( Марр 2002, с. 158). Здесь речь идет не о материальной стороне исследуемого объекта, сколько о его сингулярности, дискретности, а также о его психосоциальности, что, несомненно, сближает позицию Марра с позицией Бодуэна, Соссюра и других функционалистов. Ср.: «Даже то, что называется „звуком”, насколько оно принадлежит к языку, существует только в психическом мире и может быть понятно только с психологически-социологической точки зрения» (Бодуэн де Куртенэ 1963а, с. 118), «Истина заключается в том, что в семе звук неотделим от остальной ее части, и мы осознаем звук только в той мере, в какой воспринимаем всю сему, то есть вместе со значением» (Соссюр 1990, с. 160), «Возьмем теперь лишенное жизни слово (его звуковую субстанцию): представляет ли оно собой по-прежнему тело, имеющее некую организацию? Никоим образом, ни в коей мере» (Соссюр 1990, с. 162), «Звук, оторванный от мысли, потерял бы все специфические свойства, которые только и сделали его звуком человеческой речи и выделили из всего остального царства звуков, существующих в природе» (Выготский 1982, с. 15). Марр был явным сторонником языковой эволюции от множества к единству, и от акта к факту и системе, а не наоборот, как компаративисты: «[Мы] работаем, бесспорно, двумя все-таки разобщающими нас до непримиримости методами, мы от динамики элементов, археологиУ марксистов эта зависимость перевернута в стиле имманентного реализма: дух (психика) становится эманацией высокоразвитой материи. Идея их диалектического единства при этом сохраняется. В этом проявился эклектический характер классического марксизма, представляющего собой смесь гегельянства и аристотелизма. 2 5 доисторики – от статики сложившихся комплексов» (Марр 2002, с. 94). Самым ярким в этом смысле положением марризма является положение о скрещивании языков и движении от множества языков к их единству, которое Марр противопоставлял идее генеалогического древа как живому воплощению идеи эманации. Единство языка, равно как и единство культуры и экономики, по Марру, – это «дело будущего» (Марр 2002, с. 112), которое когда-то называли коммунизмом, а сегодня именуют глобализацией. То, появятся ли в будущем всемирном глобализированном человеческом социуме новые глобальные пиджины (или даже единый язык) путем скрещивания наиболее распространенных этнических языков, произойдет ли американизация существующих языков3 – это вопрос технический. Факт остается фактом: то, о чем писал Марр в 20-30 годы, сегодня становится предметом реальной политики. Но отметим лишь, что еще ранее, в 1905 году один из непосредственных предшественников Марра А. А. Потебня высказал такое же предположение, но с противоположной его оценкой: «Рассматривая языки, как глубоко различные системы приемов мышления, мы можем ожидать от предполагаемой в будущем замены языков одним общечеловеческим – лишь понижения уровня мысли. Ибо если объективной истины нет, если доступная для человека истина есть только стремление, то сведение различных направлений стремления на одно не есть выигрыш» (Потебня 1993, с. 163). Как бы там ни было, но в своем социоцентризме и страсти к идее скрещивания Марр в конце ХIХ - начале ХХ века был не одинок. Эту же точку зрения в той или иной форме разделяли А. А. Потебня, Г. Шухардт, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, неолингвисты и пражцы. Вспомним идею И. Шмидта о волновом характере языковых изменений, бодуэновский постулат о скрещенном характере всех языков4, идею языковых союзов и языкового сродства Н. С. Трубецкого, теорию языковых ареалов М. Дж. Бартоли etc. Языковое родство, по Марру, – это не генетическое (или генное) наследование, а «социальное схождение», которое «вытекает не из родства крови и не из происхождения из одного источника, а из объединения в хозяйственной жизни и общественности» (Марр 2002, с. 217). Именно это Трубецкой и называл сродством. Пражцы вслед за Потебней, Бодуэном и Соссюром шли еще дальше и признавали онтологическую реальность и самостоятельность не только этно- или социолекта, но и идиолекта социализированного индивида. Идея междиалектных скрещиваний в этническом глоттогенезе при этом обретает вид идеи коммуникативного скрещивания идиолектов в онтогенезе: «Все люди пользуются различными языками в различные моменты жизни; это зависит от различных душевных состояний, от различного времени дня и года, от различных возрастных эпох жизни человека, от воспоминаний о прежнем индивидуальном языке и от новых языковых приобретений. [...] [Язык] создавался и непрерывно создается у каждого говорящего индивида путем смешения и скрещивания множества различных автоматизированных представлений и навыков» (Бодуэн де Куртене 1963б, с. Марр, правда, мечтал о едином языке победившего пролетариата. В этом моменте реализация мечты Марра (равно как и всех остальных марксистов) в силу известных исторических обстоятельств откладывается на неопределенный срок. 4 Сравним два следующих высказывания: «нет и быть не может ни одного чистого, не смешанного языкового целого» (Бодуэн де Куртенэ 1963г, с. 363) и «ныне нет ни одного нескрещенного языка» (Марр 2002, с. 235). 3 6 200). По мнению Бодуэна, язык социальной группы, неважно – диалект или этнический язык – это такая же абстракция, что и языковая семья, группа, тип или язык вообще: «понятие так называемого собирательного, племенного языка (например, языка русского, немецкого, польского, армянского и т. п.) не соответствует никакой объективной реальности» (Бодуэн де Куртенэ 1963в, с. 131). Такого же мнения придерживался и Потебня: «Противоположение реальности народа идеальности человечества есть весьма плохое лекарство от неумеренных претензий национальной идеи, выдающей себя за общечеловеческое» (Потебня 1993, с. 183). Марр, оперируя вслед за Гумбольдтом, Потебней и Бодуэном понятиями этнического языкового мышления, тем не менее не смог преодолеть своего метафизического объективизма и постоянно приписывал реальность мышлению и языку социальной или этнической группы. В непосредственной связи с проблемой этнического филогенеза языка находится стадиальная теория Н. Я. Марра, внешне напоминающая марксистскую теорию эволюции общественно-экономического уклада человечества от первобытно-общинного строя к коммунистическому. Однако связь этих концепций чисто терминологическая. Идея перехода языков из одного грамматического типа в другой принадлежала тем ученым (А. Шлейхеру и Ф. Мюллеру), борьбу с которыми Марр считал делом своей жизни. Именно в стадиальной теории, по нашему мнению, максимально проявилась эклектичность концепции автора «нового учения». Если языки развиваются путем скрещивания огромного количества диалектов, а скрещивание это осуществляется по причинам производственного характера (Марр сам не раз заявлял, что скрещивание – это единственный закон развития языка и других объективных телеологических установок нет), то введение фактора стадиальности оказывается совершенно чуждым общей концепции. Идея стадиальности органично вписывается именно в гегельянский и марксистский системоцентризм, но в монадологии, этно- и социоцентризме она выглядит весьма причудливо. Однако и для этой концепции Марра можно найти если не оправдания, то, по крайней мере, смягчающие аргументы. Одним из них является дистрибуция языковых типов по периодам. Марр разложил языки по периодам в зависимости от сложности грамматической структуры: от наиболее простых (аморфных, моносиллабических) через морфологически усложненные (агглютинативные) к грамматически сложным (флективным). Справедливости ради отметим, что понятия грамматической простоты – сложности Марр рассматривает не примитивно (количественно), а функционально и системно: «Простоту опасно, однако, признавать за первичность, как сложность за позднейшее осложнение. Особую систему или, как раньше называли, расовую семью языков составляют не тот или иной признак в отдельности, но совокупность ряда явлений» (Марр 2002, с. 280). Показательно то, что Марр пытался связать генеалогическую классификацию с типологической. Это еще раз свидетельствует о попытках выйти за пределы устоявшейся концептуальной и терминологической традиции. Методологическая идея здесь, как нам представляется, гораздо более интересна, чем все практические выводы, из нее извлекаемые. Идея смены языкового типа, которую так любят критиковать, смелая, но не фантастичная. Известны не только отдельные переходные языки, но и 7 переходные типы языков. До сих пор спорят о том, делить ли языки на аналитические и синтетические, а уже последние на флективные и агглютинативные, или же выделять аналитизм и синтетизм как разные подтипы флективности. В любом случае смена синтетичности аналитизмом (у германских, романских, болгарского и македонского) оказывается сменой морфологического типа. Лингвисты начинают все чаще отмечать рост аналитических тенденций в современных флективных языках (например, русском), историки же славянских языков иногда отмечают в них агглютинативные атавизмы. Но больший интерес в рассуждениях Марра представляет идея четырех периодов усложнения, если рассмотреть ее без мистификаций, т. е. без выдумывания объективных законов перехода языка из одного типа в другой по заранее намеченному стадиальному плану, а интерпретировать ее как периодизацию возникновения того или иного морфологического типа языка в разные эпохи. С методологической точки зрения стадиальность как идея закономерной смены морфологического типа одним и тем же языком должна быть совершенно чуждой монадологии и социоцентризму. Это гегельянская идея. Либо Марр ее заимствовал из марксизма (гегельянства), либо она просто была по-гегелевски прочитана его учениками и противниками. В любом случае такая транскрипция идеи стадиальности – явно инородный элемент в концепции Марра. Иное дело – прочтение идеи стадиальности как фиксации возникновения какого-либо типа языка в определенный период человеческой истории. Такое понимание вовсе не требует принятия тезиса о том, что некоторый язык Х в ходе естественной эволюции5 закономерно меняет свой грамматический тип. Просто в силу определенных исторических обстоятельств6, сформировавшись в типологическом отношении, некоторый язык Х перестает качественно трансформироваться и развивается далее чисто количественно. Это вовсе не мешает тому, чтобы некий диалект языка Х, скрестившись с диалектом языка Y, характеризующегося иными типологическими чертами, сменил свой тип на тип языка Y, либо породил новый, прежде не существовавший тип. Этим объясняется сосуществование в наше время (даже в пределах одной и той же генеалогической группы) языков, обладающих различными типологическими характеристиками, сформировавшимися в различные эпохи. В декларировании Марром стадиального развития языков содержится глубокое внутреннее противоречие методологического плана. Исповедуя теорию стадиальности, следует определиться: либо языки развиваются по единому всемирному плану эволюции – от стадии к стадии, от прасостояния или праязыка к современному состоянию (и тогда искать чудесную формулу-ключ к разгадке этой тайны), либо языки пребывают в постоянном контактном разноплановом и разнонаправленном взаимодействии, зачастую случайном и непоследовательном (и тогда всякие попытки размотать клубок этих многовековых переплетений следует признать тщетными). Марр Т. е. непрерывного функционирования в качестве коммуникативного средства в определенном социуме на протяжении определенного отрезка времени. 6 Одним из существеннейших факторов такого «торможения» глоттогенеза могло быть культурно-языковое структурирование этноса и возникновение языковой нормы (в частности, литературного языка). 5 8 пытался совместить эти подходы. Нам представляется, что теория стадиальности в методологическом плане есть одно из самых неровных, эклектичных мест в марризме. Несколько иначе обстоит дело с классовой концепцией языка, которая опять-таки в силу терминологической омонимии была прочитана и последователями Марра, и его противниками в чисто марксистском духе. Читаем у Марра: «Но, конечно, я не имею в виду такого, как сейчас, определения класса, когда говорю „класс” [...] Я ищу термин, и никто не может мне его указать. Когда есть организация коллективная, основанная не на крови, то здесь я употреблял термин „класс”, вот в чем дело. Здесь коллектив образовался в процессе производства, но не потому, что была родственная связь. Коллектив собирается, увеличивается, и это независимо от натуральной эндогамии родового строя. Здесь чисто экономические основания, и язык нам сигнализирует. Как быть? Я для краткости хотел назвать социально-экономической или производственной группировкой. Но это чрезвычайно трудно. Если образуется прилагательное, то ведь действительно трудно получается. Я брал термин „класс” и употреблял в ином значении, отчего его не употреблять? Таково действительное положение, а не желание противопоставить мои „классы” классам в их марксистски установленном понимании» (Марр 2002, с. 85). Понятно, что «класс» здесь тождественен понятию социальной группы, объединенной совместной деятельностью, а это далеко не одно и то же, что социальная группа, характеризующаяся местом «в исторически определенной системе общественного производства», отношением к средствам производства, ролью «в общественной организации труда», способом получения и размером «доли общественного богатства, которой они располагают» (ФЭС 1983, с. 260). Совместная производственная деятельность – это гораздо более конкретный и динамичный критерий единения социальной группы, чем категориальные и универсальные абстрактные критерии марксистов. В свете такой трактовки совершенно иначе выглядит вся концепция классового характера языка. Язык просто раскладывается на монады-социолекты, что вполне соответствует лейбницианской методологии. Марксистская критика классовой теории языка Марра была совершенно безосновательной, поскольку будучи критикой внешней в методологическом отношении, не учитывала этого фактора. Критика только тогда имеет смысл, когда критикующий отдает себе отчет в том, что имел в виду критикуемый. С одним можно согласиться без колебаний – в вопросах роли труда (прежде всего в смысле материального производства) в глоттогенезе Марр был последовательным марксистом. Если не учитывать то, что Марр постоянно говорит о палеонтологии языка, т.е. о становлении и эволюции человеческих языков, то теория классовой природы языка, действительно, может поразить своей надуманностью и абсурдностью. Однако учитывая этот фактор, начинаешь осознавать, что в дописьменный и догосударственный период, т.е. в период докодификационного развития культуры роль социального регулятора выполняли именно языки деятельных групп. Именно в том или ином типе общественной деятельности язык становится необходимым фактором социального единства. Быт, наполненный удовлетворением экзистенциальных потребностей, прежде всего физиологических, вовсе не требует выработки членораздельного языка. Марр сам вырос в 9 семье, где отец и мать прожили жизнь, не имея общего языка коммуникации. Это вполне могло повлиять на предпочтение, которое Марр отдавал деятельностному фактору: «Нет ни одного представления, ни одного понятия, как нет ни одного слова, которое вошло бы в осознание на этапах возникновения, сложения и дальнейшего развития речи, не пройдя функции производственной значимости, какое бы, казалось, совершенно отвлеченное и общее первично магическое значение оно ни получало» (Марр 2002, с. 145). Следующий аспект классовой концепции языка связан с феноменами письменности и литературного языка. И в этом аспекте Марр не был одинок. Начиная от младограмматиков и неолингвистов с конца ХIХ века в лингвистике постепенно вырабатывается тенденция к исследованию устной речи и разговорных форм языка. В структурализме и функционализме это уже стало общим местом. Однако мало кто из лингвистов столь последовательно противопоставлял обыденный и литературный языки, как это делал Марр. Разве что можно назвать Бодуэна де Куртенэ, характеризовавшего литературный стандарт как искусственную и абстрактную форму языка в противоположность обыденному идиолекту как форме реальной и естественной. Но не будем забывать, что никто, кроме Марра, не пытался применить оппозиций «письменная vs. устная» речь или «литературный vs. разговорный» язык к истории языка. Идея классового характера языка в марровском звучании в ряде случаев весьма сближается с марксистской идеей классового противостояния угнетателей и угнетаемых. Это самым непосредственным образом связано с феноменом литературно-письменного языка. Однако посмотрим на эту идею с социально-психологической стороны. Достаточно лишь свести воедино некоторые разрозненные некодифицированные постулаты. формы языка Первый: естественным (территориальные и образом социальные развиваются только диалекты). Второй: литературный язык не развивается в обычном смысле этого слова (в лучшем случае, он только целенаправленно реформируется). Третий: литературный (и всякий стандартизированный и кодифицированный) язык служит целям унификации коммуникации, которая нужна прежде всего для организации общественной жизни и управления ею. Четвертый: диглоссия (включая стилистическое двуязычие) – вполне обычное явление; даже в наше время случаи пользования двумя этническими языками – родным диалектом в быту и чужим стандартным в официальных сферах коммуникации – не относятся к редким, что же говорить об эпохах массовых миграций и смен этнокультурных границ, когда количество кодифицированных языков было весьма ограниченным и доступ к ним имели только представители элиты и управляющих каст. Пятый: стандартизованный язык, просторечие и диалекты взаимодействуя и смешиваясь, образуют разнообразные переходные формы, в которых роль субстрата могут выполнять как первый, так и вторые (в случае же этнических и типологических различий это может вести к пиджинизации и креолизации). Шестой: литературный стандарт имеет гораздо больше шансов на подавление и ассимиляцию разговорных форм во всех сферах общественной коммуникации, кроме обыденной. Седьмой: в определенных исторических условиях конфронтация языка официальной сферы и управления и языка бытовой сферы вполне 10 естественно может коррелировать с конфронтацией управляющего и управляемого общественного слоя (называемых Марром «классами»). Собрав воедино все предложенные постулаты и оценив их непредвзято, можно уже с гораздо большей толерантностью и пониманием взглянуть на классовую концепцию Н. Я. Марра. С учетом того, что Марр: а) самым непосредственным образом связывал язык с деятельностью определенных социальных групп («классов»), б) приписывал литературному языку функцию средства управления и в) считал литературный язык искусственным, застывшим в своем развитии феноменом, и принимая во внимание то, что динамизму он отдавал предпочтение перед субстанциализмом, можно без особого труда понять его нападки на литературные языки как на своеобразных «эксплуататоров» в отношении диалектов и просторечий как «эксплуатируемых». Марксистско-ленинский язык эпохи просто «напрашивался» на подобную метафоризацию: «Врагом естественной жизни языков является письменная литература. Литература письменная уничтожает народное творчество в языке. Она сглаживает, примиряет все диалектические расхождения живых наречий, говоров и подговоров. Она вовлекает в этот разрушительный процесс не только свои наречия, но и языки родственные и их наречия, приобщая их к искусственному литературному языку и пуская его формы в обращение среди них, как всем доступные ходячие монеты» (Марр 2002, с. 221). А ведь стандартизация языка ведет не только к унификации коммуникации, но и к унификации и стандартизации мышления. Олитературивание естественных форм сокращает не только количество систем коммуникации, оно ведет к сокращению количества языковых картин мира, а значит сужает мировоззренческий диапазон нынешних коммуникантов и закрывает возможности для альтернативных способов языкового мышления будущим коммуникантам. В учении Марра существует одна, пожалуй, самая загадочная гипотеза, связанная с его этимологическими поисками - познавательная ценность этой гипотезы до сих пор вызывает наибольшие сомнения в научной среде. Речь идет о концепции четырех элементов ROШ SAL, BER, YON, – «палеонтологических» реликтов древних стадий языка. Интересно, что критики этой, можно сказать смело, самой фантастической из всех гипотез Марра, не пытаются увидеть ее ценные стороны. Мы не имеем в виду интерпретацию Т. В. Гамкрелидзе (1996), в которой проводится параллель между четырьмя элементами и структурой расшифрованного генома человека. Ценным нам представляется не столько предложение в качестве первичных именно четырех элементов (число «четыре» не более символично, чем «два», «три», «пять» или «семь» 7), сколько идея синтеза трех нераздельных (нечленораздельных) звукокомплексов, построенных по принципу «согласный – гласный – согласный» или, иначе говоря, по принципу «возрастание звучности – пик – спад звучности», которые, по мысли Марра, должны были предшествовать факту членораздельности. Безотносительно к тому, насколько обоснованно избраны именно эти звукокомплексы, насколько обоснована последовательность и характер их составляющих и насколько обосновано их общее количество, интересна сама идея синкретичности первичных элементов и их трехкомпонентной С другой стороны, число «четыре», по видимому, было особенно близко Марру. Его теория стадиальности также была тетрихотомичной. 7 11 структуры. Кроме того, следует подчеркнуть, что выбор звуковых компонентов в звукокомплексах определяется их схематическим характером.. Критики Марра об этом почему-то не упоминают. Консонантный или вокальный компонент в первичном элементе – это не конкретный звук, а лишь схематическое обобщение целого ряда вариантов. По большому счету, первичный элемент – это своеобразная формула, не являющаяся жесткой фонетической цепочкой или формой конкретной морфемы. Ко всему Марр лишает эти звукокомплексы какой-либо семантики, рассматривая их как чистые асемантические фонетические формы. В этом смысле идея Марра (как чистая гипотеза) мало чем отличается от индоевропейской или ностратической гипотезы происхождения языков. По нашему убеждению, настоящим предметом критики в вопросе о первичных элементах должно стать не количество8 или фонетическое качество этих единиц, а само их постулирование. Дело в том, что предложение каких-либо семиотических единиц (причем в любом конкретном количестве) в качестве праоснов логично для сравнительно-исторической методологии (например, ностратических), но никак не в теории схождения и скрещивания. Если предположить, что языки возникали постепенно или параллельно в различных местах, а затем многократно на протяжении многих тысячелетий опять-таки в различных местах самым различным образом перемешивались и скрещивались в ходе социальных взаимодействий, родовой, племенной или межплеменной коммуникации, то нет никаких, даже малейших шансов на сохранение какого-либо следа того первоначального многообразия (ни фонетического, ни морфологического, ни тем более семантического). Ошибка критиков марризма, высмеивающих концепцию стадиальности или концепцию четырех первоэлементов с позиций компаративистики, заключается в том же, в чем заключается ошибка атеистов, критикующих христиан с позиций материализма. И одни (марристы), и другие (компаративисты) проповедовали каждые свою версию сказки о возникновении языка. Критиковать следовало саму попытку проникнуть под видом научного познания в ту область виртуальной реальности (какой еще может быть гипотетическая дописьменная и доцивилизационная прошлая «реальность»?), для проникновения в которую нет ни эмпирических, ни спекулятивных орудий. Совершенно прав был Бодуэн де Куртенэ, написавший, что «размышления и более или менее остроумные предположения относительно начала языка, или человеческой речи, не относятся, собственно, к науке в точном значении этого слова» (Бодуэн де Куртенэ 1963д, с. 299). В исторических лингвистических исследованиях языков дописьменных эпох интерес представляют не фонетические реконструкции или фактические этимологии, а те методологические рассуждения и Марр откровенно признает, что «у нас осталось неразъясненным число элементов – четыре – и оно таковым и остается» (Марр 2002, с. 188). Единственное, на что в качестве объясняющего фактора намекает Марр, это «трудовое магическое действо», «внимание к роли числа в неразлучных соучастниках элементах одного и того же магического действа, пляске и пения с музыкой, в общем – прообразе эпоса» (Марр 2002, с. 188). Таким образом у истоков глоттогенеза языка, по Марру, стоит магия и «четыре» – ее ключевое понятие. Не вдаваясь в детали и не пытаясь как-то разъяснить эту загадку, напомним только то, что четверка в магических учениях и ритуалах часто была символом первоэлементов (четыре стихии) или главным прообразом системы (крест, квадрат, четыре конечности, четыре точки опоры, четыре стороны света, четыре времени года, четыре евангелия, четыре реки Рая etc.). Заметим также, что в методике Марр более всего тяготел не к лейбницианству, а именно к платонизму – тот же объективистский трансцендентализм в познавательных претензиях, тот же аподиктический эйдетизм в выводах, тот же излюбленный метод мифологического конструирования. 8 12 гипотезы, которые в них явно или скрыто содержатся. Виртуальная сфера познаваема (если понимать этот термин в смысле «познавания», а не «познания») только спекулятивным путем. Эмпирические методы хороши при описании наглядных форм, воспринимаемых непосредственно. Если же сравнивать познавательную ценность историко-лингвистических спекуляций компаративистов и теоретиков языкового скрещивания, то последние нам представляются более перспективными и правдоподобными. Мы рассмотрели лишь некоторые «мифы марризма» с позиций «мифов о марризме», стремясь показать, что претерпевшее мифологизацию «новое учение о языке» достойно сегодня переосмысления и переоценки. Надеемся, что читателю будут небезынтересны и другие стороны учения кавказоведа, археолога и историка Николая Марра, называемого интеллигенцией 20-х годов, в силу «революционности» и масштабности предложенной гипотезы «Велимиром Хлебниковым науки». Литература БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963а. Об одной из сторон постепенного человечения языка в области произношения, в связи с антропологией. In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Издво АН СССР, т. 2. БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963б. Фонетические законы. In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 2. БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963в. Значение языка как предмета изучения. In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 2. БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963г. О смешанном характере всех языков. In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 1 БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963д. Очерк истории польского языка. In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 2. ВЫГОТСКИЙ, Л. С., 1982. Мышление и речь. In: Собрание сочинений в шести томах. Москва: Педагогика, т. 2. ГАМКРЕЛИДЗЕ, Т. В., 1996. Р. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами. In: Материалы международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону», Москва. ИЛЬЕНКОВ, Э. В., 1984. Искусство и коммунистический идеал. Москва: Искусство. ЛЕЩАК, О., 1996. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики. Тернополь: Підручники & посібники. МАРР, Н. Я., 2002. Яфетидология. Жуковский; Москва: Кучково поле. ПОТЕБНЯ, А. А., 1983. Язык и народность In: Мысль и язык. Киев: СИНТО. В этом смысле марризм очень сильно припоминает современную когнитивную лингвистику с ее пристрастиями к исследованию семантической динамики языковой картины мира и метафоризации исследовательских процедур. 13 СЕРИО, П., 1993. В поисках четвертой парадигмы. In: Философия языка в границах и вне границ. Харьков: Око, вып. 1. СОССЮР де, Ф., 1990. Заметки по общей лингвистике. Москва: Прогресс. ФЭС - Философский энциклопедический словарь, 1983. Москва: Советская энциклопедия. In: Respectus Philologicus, 14 (19), 2008, s. 65-76. Часть 2 Обратимся теперь к мифу о надстроечном характере языка. Что имел в виду Марр и как он был понят марксистами? Как и в случае с классами, мы вновь встречаемся с явным терминологическим недоразумением. Надстроечный характер языка в концепции Марра – это не что иное, как признание нераздельной связи языка с культурой, понимаемой как картина мира. Язык для Марра – это не форма выражения (тем более не звуковая форма), а образ мышления, смысл. Выше мы уже приводили слова Н. Марра против смешивания речи и письменного или звукового потока. Как смысловая картина мира язык никак не мог быть отнесен Марром к материальным явлениям, а раз так – то (в терминах марксизма) ему самое место в надстройке. Критика этого положения не должна отрываться от критики самого понятия надстройки. А ведь часто Марра критикуют вполне в сталинском духе даже те ученые, которые совершенно не разделяют взглядов «отца народов». Надстроечный характер языка, по Марру, состоит в том, что язык – явление цивилизационного, культурно-исторического, духовного плана, результат коммуникативной деятельности некоего общественного коллектива, а не естественный организм или побочное следствие натуральной эволюции, некий культурный эпифеномен. Понятно, что если понимать надстройку по-марксистски, т.е. чисто как общественную идеологию, то отнесение языка к надстройке представляется нелепым (это стало общим местом в марксистской критике Марра). Стадиальная смена базиса в марксистской теории неизменно влечет за собой изменение в надстройке. Но ведь Марр имел в виду нечто совершенно иное, а именно язык как этнокультурное и социокультурное мировоззрение. И в этой части теории к нему не может быть никаких претензий (принимая во внимание ее базовые методологические установки). Иное дело, что здесь смешаны когнитивный и собственно лингвистический аспекты картины мира. Гносеологическая функция языка здесь полностью вытесняет его коммуникативную функцию9. Формальная сторона языковой деятельности перестает учитываться. Но сейчас речь не об этом. Самым важным моментом теории надстроечного характера языка у Марра нам представляется все же положение о неестественном, культурном происхождении языка: «[...] язык, звуковая речь, ни в какой стадии своего развития, ни в какой части не является простым даром природы. Звуковой язык есть создание человечества. [...] натуральных языков не существует в мире, языки все искусственные, все созданы человечеством, и они не перестают быть искусственными по происхождению оттого, что, раз они созданы, наследственно переходят от Кстати, точно такой же теоретический ход наблюдаем у В. фон Гумбольдта, Б. Л. Уорфа, Л. Вайсгербера и Н. А. Хомского. 9 14 одного поколения к другому, точно природный дар, как бы впитываемый с материнским молоком в детском возрасте» (Марр 2002, с. 140.). Как нам кажется, И. В. Сталин, видя явный платонизм Марра, тем не менее совершенно не понял смысла его концепции. Обратимся к пассажу из «К некоторым вопросам языкознания»: «Обратите внимание на следующие слова Н. Я. Марра: „Язык существует, лишь поскольку он выявляется в звуках, действие мышления происходит и без выявления... Язык (звуковой) стал ныне уже сдавать свои функции новейшим изобретениям, побеждающим безоговорочно пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его накоплений в прошлом и новых стяжаний и имеет сместить и заменить полностью язык. Будущий язык - мышление, растущее в свободной от природной материи технике. Перед ним не устоять никакому языку, даже звуковому, все-таки связанному с нормами природы” (см. «Избранные работы» Н. Я. Марра). Если эту „труд-магическую” тарабарщину перевести на простой человеческий язык, то можно придти к выводу, что: а) Н. Я. Марр отрывает мышление от языка; б) Н. Я. Марр считает, что общение людей можно осуществить и без языка, при помощи самого мышления, свободного от „природной материи” языка, свободного от „норм природы”; в) отрывая мышление от языка и „освободив” его от языковой „природной материи”, Н. Я. Марр попадает в болото идеализма. Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи, возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать, в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой „природной материи”, не существует. „Язык есть непосредственная действительность мысли” (Маркс). Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с „природной материей" языка, о мышлении без языка. Короче: переоценка семантики и злоупотребление последней привели Н. Я. Марра к идеализму» (Сталин 2002, с. 467). Концепция языка как надстройки начинает рушиться у Марра именно тогда, когда он пытается ее связать с марксизмом. Но причина здесь не в слабости теории Марра, а именно в слабости марксистской концепции надстройки, восходящей к т.н. основному вопросу философии. Марксистски мыслящий философ выводит из формулы «бытие определяет сознание» необходимость смены идеологической и мировоззренческой парадигмы при каждой смене базиса. Базис марксисты однозначно связывают с материальным фактором, а в преломлении через трудовую теорию этот момент теории обретает форму материального производства. В концепцию же Марра термин «надстройка» попадает как термин негативный, призванный противопоставить язык физико- 15 материальной стороне жизни и подчеркнуть его принципиально семантический (в терминологии Марра – идеологический) и функциональный (творческий) характер. Базисом для Марра является не совокупность производительных сил, материальных средств и производственных отношений, а тип цивилизации. Временные отрезки, которыми мыслил Марр, не идут ни в какое сравнение с теми, которыми принято оперировать в марксизме. Упрекать Марра в привязывании истории языка к истории материальной цивилизации человечества, опираясь при этом на переход от рабовладельческого строя к феодальному и капиталистическому, а от него к коммунизму, это то же, что критиковать теорию Дарвина, основываясь на том, что за последние 4-5 тысячелетий эволюции природы ни одна обезьяна не стала человеком.. Марр довольно последовательно разводит семантику (сущность) и звуковую форму, чем явно «грешит» против гегелевской и марксистской диалектики как единства всего со всем. Известно, что Марр, в отличие от марксистов, предполагал возможность невербального мышления. Последнее непосредственно сближает концепцию Марра как с платонизмом, так и с рядом современных воззрений на возможности разных видов мышления (Серебренников 1983), а опосредованно – с функционально-прагматической концепцией человеческой деятельности. Во-вторых, «природная материя» языка, вокруг которой ломаются копья – не что иное, как звуковая форма речи (а не языка). По мнению Марра, звуковая форма речи не представляет собой сущность языка как феномена, что доказывают ее иные, более «окультуренные» формы, такие как письменность. А ведь «мышление, растущее в свободной от природной материи технике», которое должно в будущем заменить собой язык (звуковой язык!!!), – это не что иное как аудиовизуальная коммуникация. Свобода от «природной материи» не означает свободы от материи вообще, ведь техника (читай, компьютерная техника), в которой должно, по мысли Марра, «расти мышление», свободна лишь от природной (= естественной) материи, но при этом она остается столь же материальной, сколь материален человеческий мозг. В приведенном Сталиным отрывке из Марра речь идет о том, что мы сегодня называем Интернетом, о росте аудиовизуального сознания, которое при благоприятных обстоятельствах (например, в случае полной и безоговорочной глобализации и универсализации культуры и картины мира) может создать предпосылки для неоиконической мультимедиальной коммуникации, ей же может оказаться совершенно чужд момент членораздельной звуковой речи, а следовательно – и момент морфонологического и морфодеривативного конструирования линейных синтаксических образований. Нетрудно догадаться, что такой сценарий, кажущийся ныне уже не столь фантастическим, как во времена Марра и Сталина, напрямую ведет к исчезновению формальной специфики национальных языков и превращает язык в способность к мультимедиальной синкретической и синтетической коммуникации. Удивительно не то, что Сталин не мог этого понять, а то, как Марр мог прийти к такой идее задолго до появления первых компьютеров. В этом месте вполне логичным видится переход к еще одному марристскому мифу – мифу о ручном мышлении и жестовом языке как иконической праформе коммуникации. При кажущейся невероятности этой гипотезы Марра мы, тем не менее, считаем, что есть несколько весомых 16 аргументов в ее пользу. Многие историки и теоретики языка (среди которых были, например, Потебня и Матезиус) считали, что первоначальные единицы речи носили синкретический, предикативно-номинативный характер, т.е. были как бы «словами-предложениями», т.е. одновременно выражали мыслительное состояние говорящего и отсылали к каким-то элементам его картины мира. Глагол и имя, подлежащее и сказуемое, субстанция и процесс, время и пространство были еще не расчленены10, эмоции и волеизъявления были еще не отделены от предпонятий и преддискурсивных суждений, денотация не отличалась от коннотации, локутивный аспект – от перлокутивного и иллокутивного. Но что самое важное, акт мыслительного состояния, акт экзистенциального переживания жизненной ситуации и акт общения представляли собой единый акт. Все это можно назвать дорефлексивным типом коммуникации. Понятно, что предмет речи при такой коммуникации немыслим вне самой речи, слово (как знак) тождественно мысли и мыслимому объекту. Отсюда магия знака как коммуникативноритуального заместителя-дублера реалии. Это одновременно и симулякр, и его полная противоположность: в то время как симулякр – знак без отнесения, знак в себе и для себя, синкретический предзнак – это знак как alter ego реалии. Знак такого типа должен обладать минимальной расчлененностью формы и значения. Иконический характер первичных знаков при таком положении вещей представляется вполне обоснованным. Что в такой ситуации может лучше, чем жест или танец (пантомима), послужить знаком нерефлексивной и недискурсивной интенции? Номинация нужна в обществе, где возникает идея инварианта и традиции, передачи вещей и идей по наследству. В стаде, живущем актуальным настоящим, нужна не система знаков, а лишь общие принципы коммуникации, реализуемые ad hoc. Жест здесь как нигде на месте, чего нельзя сказать о таком совершенно необразном средстве сигнализации, как звук. Звук, особенно членораздельный звук, становится нужным тогда, когда появляется необходимость повторения и комбинирования дискретной инвариантной информации, осуществляемых, соответственно, дискретными знаками.. По мнению Марра, «звуки речи не имеют ничего общего с естественным звукоиспусканием» (Марр 2002, с. 181), между ними – пропасть перехода от выражения животных эмоционально-волевых состояний к человеческому понятийному мышлению. «Никаких натуральных слов не существовало. Слова созидались с тех пор, как стала слагаться звуковая речь, в удовлетворение потребностей, возникавших с развитием хозяйственной жизни и социальной структуры коллективов в путях достигнутой в то время техники и в зависимости от мышления тех же эпох» (Марр 2002, с. 317). В работе «Язык и письмо» Н. Марр выдвигает весьма неожиданный, но интересный аргумент в пользу смены ручного языка звуковым. Прислушаемся к нему. Даже если он изначально ложен, то Очень интересным нам кажется наблюдение Марра относительно функциональной взаимосвязи оппозиции «имя (предмет) – глагол (процесс)» и «пространство – время»: «Образовательные элементы у спряжения и склонения – одни и те же, но в одном случае они выявляют отношения в пространстве (в склонении), в другом случае – во времени, т.е. в движении, действии (это – спряжение)» (Марр 2002, с. 238). В этом просматривается явная параллель с кантианскими категориями апперцепции (время и пространство) и понятийной антиципации (процесс и субстанция) (см. Кант 1993, с. 88). 10 17 все равно в нем заключен импульс познавательной ценности: «Мы знаем, что смена кинетической или линейной речи звуковой знаменует смену орудия производства – какого? Казалось, не правда ли, руки – языком?» (Марр 2002, с. 174). А что, если прочитать этот пассаж следующим образом: смена руки языком – это смена физического труда умственным? (В более мягкой форме: использование нового орудия производства (языка) – есть знак появления умственного труда, прежде всего планирования деятельности и управления ею). Однако наиболее ценным и совершенно не понятым критиками элементом концепции Марра была идея функциональной значимости языка и всех его элементов. Независимо от Соссюра и пражцев Н. Я. Марр с завидной последовательностью строит свою семантическую и грамматическую концепцию на базе понятий: функция, значимость, ценность, целевая установка и даже стоимость (напр., «языковые стоимости, в том числе и значения слов»( Марр 2002, с. 140), «благодаря палеонтологии речи, вскрывшей смену значений слов, этих надстроечных социальных стоимостей» (Марр 2002, с. 151). Последние высказывания однозначно перекликаются с соответствующими взглядами Вильяма Джемса: «Из каждого слова вы должны извлечь его практическую наличную стоимость, должны заставить его работать в потоке вашего опыта. Оно выступает не столько как решение, сколько как программа для дальнейшей работы», Джемс 1995, с. 30). Задачу истории материальной культуры Марр видит не в поиске фактов или их систематизации, а в том, чтобы «доискаться функции и смысла памятника в движении» (Марр 2002, с. 98). Языковые явления для Марра – это «прежде всего историческая ценность, т.е. продукт исторического процесса» (Марр 2002, с. 102), «общественная функция», созданная человеческим коллективом «с определенной целевой установкой» (Марр 2002, с. 157). Функциональны, по Марру, обе стороны языкового знака – значение и форма: синонимом семантики у Марра является значимость, термин «семантика» неоднократно дополняется определением «функциональная», а звуки важны не сами по себе, а лишь с точки зрения их использования «в общественном строительстве» (Марр 2002, с.273). Развитие семантики определяется Марром как «функциональная смена значений» (Марр 2002, с.342). Все декларации о материалистичности яфетидологии разлетаются при чтении таких, например, положений, как «слово в те эпохи созидалось не по технике, а по функции» (Марр 2002, с. 343). Задолго до публикации «Философских исследований» Л. Виттгенштейна Марр отметил, что «значение, как выяснилось, определяется функцией» (Марр 2002, с.179). Все это самым непосредственным образом сближает методологические позиции концепции Марра с функциональным прагматизмом, в основу которого легли воззрения Канта (и ряда кантианцев), а также взгляды В. Джемса и других прагматистов. Заметим, что один из наиболее последовательных кантианцев Э. Кассирер, строя функциональную концепцию семиотики, высказывал в своих работах идеи весьма близкие к марровским. Об этом писал и сам Марр: «Такие совпадения, иногда разительные, в вопросе о происхождении языка, наблюдаются и с неокантианцем Кассирером, мысли которого в целом абсолютно не вытекают из языковедно добытых основных положений яфетической теории» (Марр 2002, с.90). Обе концепции (кантианство и платонизм) сближает именно понятие 18 функции как дуализма и взаимной связанности всех выделяемых в мире явлений, и цели как глобальной смысловой направленности всех обнаруживаемых в мире процессов. В другом месте читаем: «В последнее время мы обрели, казалось бы, союзника в лице известного немецкого ученогофилософа Эрнста Кассирера, поставившего совершенно конкретно вопрос о происхождении языка, не в пример языковедам-индоевропеистам, как научную проблему [...], но у него мы не находим вовсе внимания к социальному моменту в той мере, в какой вынуждают нас его утверждать чисто языковые факты и наблюдения» (Марр 2002, с.103-104). Последнее замечание Марра представляется нам крайне важным, поскольку вскрывает то тонкое, но существенное отличие, которое разводит платонизм (вкупе с августинианством) и кантианство по разные стороны методологической шкалы, а именно метафизический объективизм первого и менталистский антропоцентризм второго. В платонизме весь мир представлен как объективная дуальная телеологическая функция, в то время как в кантианстве и прагматизме дуализм и целесообразность – это параметры жизнедеятельности общественного человека. Общественный характер, социологизм языка и сознания является одним из центральных моментов и в концепции марризма, и в марксизме: «Язык – явление социальное и социально благоприобретенное» (Марр 2002, с.214) и «Язык есть важнейшее средство человеческого общения» (Ленин 1973, с. 258). Эта черта существенно сближает обе концепции с функциональным прагматизмом: «Мы обмениваемся мыслями, мы в процессе социального общения берем у других и даем им, в свою очередь, проверку. Благодаря этому все истины облекаются в словесную оболочку, накапливаются и становятся пригодными для всякого человека» (Джемс 1995, с. 106), «[...] язык, как в целом, так и во всех своих частях, имеет только тогда цену, когда служит целям взаимного общения между людьми» (Бодуэн де Куртенэ 1963а, с. 280) или «язык по преимуществу является средством, орудием, которое предназначено для постоянного и немедленного достижения соответствующей цели и результата – взаимопонимания» (Соссюр 1990, с. 66). И для марксистов, и для гумбольдтианцев, и для Марра, и для функциональных прагматистов язык – это прежде всего коммуникативное средство регуляции общественной жизни индивидов. Но у Гумбольдта, Маркса и Марра народ, общество и класс – своеобразный «дом бытия» языка (позже Хайдеггер сменит знаки и поместит общество и целый мир в язык): «сами группировки человеческих существ» являются у Марра «коллективными творцами звуковой речи» (Марр 2002, с. 79). Для функционалистов же таким «домом бытия» для языка и общественного сознания является коммуникативно-мыслительная и чувственно-рассудочная деятельность (т.е. опыт) общественного человека. Ср.: у Потебни – «Итак слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между людьми и установляет между ними разумную связь, что в отдельном лице назначено посредничать между новым восприятием (и вообще тем, что в данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания прежним запасом мысли» (Потебня 1993, с. 97), 19 у Бодуэна – «Язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество. Язык племенной и национальный является чистою отвлеченностью, обобщающей конструкцией, созданной из целого ряда реально существующих индивидуальных языков» (Бодуэн де Куртенэ 1963г, с. 71), [теория волн И. Шмидта] «вызывает у нас предположения, что язык, оторванный от человека, является текучей, жидкой субстанцией, чем-то вроде воды или даже отравляющих газов» (Бодуэн де Куртенэ 1963в, с. 343), у Соссюра – «[...] языковая способность локализируется исключительно в мозгу» (Соссюр 1990, с. 94), «языковые знаки, хотя и психичны по своей сущности, но вместе с тем они не абстрактны; ассоциации, скрепленные коллективным согласием, совокупность которых и составляет язык, суть реальности, имеющие местонахождение в мозгу» (Соссюр 1964, с. 365), у Выготского – «[...]В самом интимном, личном движении мысли, чувства и т.п. психика отдельного лица все же социальна и социально обусловлена [...] Именно психология отдельного человека, то, что у него есть в голове, это и есть психика, которую изучает социальная психология. Никакой другой психики нет» (Выготский 1986, с. 26), в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» – «Распространение языковых явлений, изменяющих лингвистическую систему, не происходит механически, а определяется склонностями воспринимающих эти изменения индивидов» (Тезисы 1964, с. 71). В приведенных высказываниях следует обратить внимание на то, что и для Марра, и для функционалистов (причем для всех, включая. Соссюра, а не только для пражцев, как полагает П. Серио (см. Серио 2001, с. 317) языковая система – реальность, а не научный конструкт. Разница лишь в том, что для Марра это социальная, гипостазированная реальность, а для функционалистов – психосоциальная способность человека. Н. Марр совершенно справедливо отмечает, что степень «социальности» языка у его концепции и в концепции неокантианца Кассирера различна. «Социальность» языка у Марра имеет онтологический характер (язык – онтически социальная функция, общество – субъект и место локализации языка). Сходный характер имеет сознание в социологической концепции Э. Дюркгейма и язык в концепции А. Мейе, хотя это концепции реалистические (аристотелианские, отчасти позитивистические). Сам Марр был неудовлетворен «общими фразами» французских социологов о языке как социальном явлении: «Обходится молчанием генетический вопрос; между тем язык есть сам создание общественности» (Марр 2002, с. 142). Социальность языка в функционально-прагматической концепции – функциональная и генетическая (язык возникает в общественной деятельности и функционирует в общественной деятельности, но онтологически это психическая способность человека, местом локализации языка является человеческая психика). Это обстоятельство окончательно выясняет те глубинные различия, которые существуют между концепцией Марра и лингвистическими концепциями Потебни, Бодуэна, Соссюра, Выготского, Трубецкого или Матезиуса. Патрик Серио совершенно точно подметил, что «два главных русских представителя Пражского лингвистического кружка были бесконечно далеки 20 от социологической модели – той, что Мейе заимствовал у Дюркгейма» (Серио 2001, с. 214). Их социологизм иной – деятельностный и психологический (конечно, не в смысле биологического психологизма). Марр же последовательно и однозначно противопоставлял социологизм и психологизм, исключая возможность рассмотрения социального как психологического.. Связь языка с обществом и индивидом имеет еще один принципиально важный аспект для рассматриваемой здесь проблемы, а именно – мировоззренческий. И в марризме, и в функционализме язык рассматривается в самой тесной функциональной связи с картиной мира. Различие, однако, состоит в том, что для Марра это общественно-классовая картина мира (ср. гердеровско-гумбольдтовскую идею языка как Духа народа), а для функционального-прагматизма – идиолектная картина мира, включающая в себя в качестве составных элементов социолектные, этнические, идеологические и др. мировоззренческие моменты. Связывая язык с картиной мира, и Марр, и функционалисты, тем не менее их не отождествляли, правда, Марр рассматривал соотношение речи и мышления в генетическом отношении (язык – порождение классового сознания), а функционалисты – в синхронно-динамическом (язык – средство выражения интенций). Именно марристы и функционалисты первыми поставили задачу изучать генезис и функционирование языкового (и внеязыкового) мышления. Н. Марр даже предлагал параллельно с глоттогонией и глоттотехникой исследовать «логогонию» и «логотехнику» (см. Марр 2002, 151-152). Повторно проблема соотношения языка и сознания, речи и мышления, языковой и когнитивной картин мира стали объектом регулярных лингвистических исследований только в 70-80-е годы ХХ века. Удивительно, но одним из инициаторов исследования языковой картины мира в советском языкознании стал один из принципиальнейших противников марризма Б. А. Серебренников. Еще один важный момент, на который мы предлагаем обратить внимание, это динамичный, процессуальный методологический характер концепции Н. Я. Марра. Это черта также сближает марризм с функционализмом. Динамизм у Марра обретает две ипостаси: диахроническую (идея перманентной семантической и формальной эволюции языка) и синхронную (мышление, речьпроцесс, синтаксис выдвигаются на передний план). «Принадлежность различных систем морфологии к различным периодам языкотворчества опирается, разумеется, не непосредственно на тот или иной тип техники, хозяйственной и социальной структуры, а при посредстве мышления. Мышление не стабильно» (Марр 2002, с. 281), – отмечал Марр. Следовательно, понять динамику языка (как «единый процесс глоттогонии» или процесс «созидания речи» (Марр 2002, с. 196) – это понять суть смены мышлений. Языковые факты обретают «жизненность» только в историческом процессе: «Интерес наш к фактам не завершается с установлением статики, факт-видимость для нас становится фактом-реальностью лишь по уяснении динамической его роли в историческом процессе развития речи» (Марр 2002, с. 102). Речь как процесс и синтаксис как грамматическая организация речи для концепции Марра становится основой глоттогенеза: «Техника звуковой речи начинается с синтаксиса, главнейшей вообще части всякой звуковой речи. Синтаксис отличается именно тем, что в нем идеология и 21 техника неделимы, еще нерасчлененно слиты, диффузны, не дифференцированы» (Марр 2002, с. 237) или: «Звуковая речь начинается не только не с звуков, но и не со слов, частей речи, а с предложения, мысли активной и затем пассивной, т.е. начинается с синтаксиса, строя, из которого постепенно выделяются части предложения, определявшиеся по месту их нахождения в речи» (Марр 2002, с. 239). Аналогичную по способу рассуждения, хотя и противоположную по смыслу концепцию функционального разворачивания речи предложил Л. Выготский: «Смысловая сторона речи развивается от целого к части, от предложения к слову, а внешняя сторона речи идет от части к целому, от слова к предложению» (Выготский 1982а, с. 306). Впрочем это неудивительно, так как развитие (генезис) языковой деятельности и мышления в принципе обратно пропорционально их синхронному функционированию: язык возникает из коммуникации, но функционально предшествует акту речи. Соссюр охватил эту функциональную зависимость простой формулой: «язык – одновременно и орудие, и продукт речи» (Соссюр 1964, с. 368). Таким образом, мы должны признать, что Н. Марр еще в 1929-30 гг. параллельно и независимо от функционалистов высказал идею лингвистической дедукции (движения от синтаксиса через морфологию и лексику к фонетике), которая будет возрождена только в конце 50-х Н. Хомским. «Нужны ли факты? Едва ли кто даст отрицательный ответ. Более осторожный, может быть воздержится. Но стоит только вспомнить, что вопрос представляет холостой выстрел без начинки содержанием двух других неразлучных братьев, среднего: „откуда брать факты?” и особенно младшего „как брать факты?” – как возникает разногласие [...] А насчет отбора фактов, то большинство, уверен, склоняется к тому, чтобы быть Диогеном, ищущим не человека, а правду, да с фонарем без огней: собирай все, а потом истина-правда выплывет, и мусор отпадет сам собой. Иначе факты, мол, будут искажены предвзятой идеей» (Марр 2002, с. 120). Последнее высказывание вполне согласуется с дедуктивными посылками функционализма, ср.: «[...] вера в факт может способствовать возникновению последнего» (Джеймс 1997, с. 23), «[...] кто рассматривает факты, неизбежно рассматривает их в свете той или иной теории» (Выготский 1982а, с. 26), «Сколько видов языковых явлений можно выделить? Один-единственный вид или же бесконечное множество, скажет нам лингвист и совершит свою самую основную ошибку. Есть один вид явлений, ибо все они относятся к языку и тем самым, по его мнению, проистекают из одного и того же единого целого, из одного и того же не вызывающего сомнений единства. Можно выделить бесчисленное множество видов явлений в зависимости от всех тех «точек зрения», с которых рассматриваются и классифицируются факты [...] За мыслью о том, что для выявления сущности форм надо лишь «проанализировать эти формы» подобно тому, как анализируют химические вещества или производят препарирование, кроется бездна наивности и вызывающих удивление концепций. Это равнозначно тому, что (1) имеется два десятка разновидностей анализа, не имеющих между собой ничего общего и приобретающих ценность только после их классификации; (2) объект не может быть проанализирован до того, как его существование станет определенным. Таким образом, следует понять условия, в которых существует [в настоящий момент] форма» (Соссюр 1990, с. 122-123). 22 Именно этот аспект (небрежное отношение «нового учения» к фактам и языковым формам) не раз служил основанием для критики Марра со стороны функционалистов (например, Н. Трубецкого). Ряд интересных замечаний по поводу сходства и различий во взглядах пражцев и Марра высказал в своей монографии П. Серио (Серио 2001, с. 189). Но вот что интересно, при всех разногласиях и заочном противостоянии Трубецкого и Марра, по иронии судьбы разгром марризма в СССР дал повод чешским марксистам для разгрома Пражского лингвистического кружка (мы имеем в виду статьи П. Сгалла, Sgall 1951 и Б. Гавранека, Havránek 1951). А может быть это было неслучайно, и административная процедура упразднения немарксистского элемента из послевоенного чехословацкого языкознания была как-то сущностно связана с ликвидацией марризма.. Осознанно или подсознательно, несмотря на подчас прямую противоположность марризма и функционализма, Н. Я. Марр реализовывал в своей деятельности целый ряд положений, общих функционализму и платонизму, что способствовало развитию функциональной методологии в советской лингвистике. И. И. Мещанинов и С. Д. Кацнельсон переняли от Марра повышенный интерес к языковой семантике, творческому характеру и телеологии речевой деятельности, дедуктивной и функциональной методике лингвоанализа, хотя не последнюю роль в становлении их взглядов сыграли петербургская функциональная традиция школы Бодуэна де Куртенэ (известно, что Л. В. Щерба самым тесным образом сотрудничал с марристами), а также учение А. А. Потебни (марристам принадлежит заслуга издания трудов харьковского лингвиста и популяризации его взглядов в СССР). Как бы там ни было, но именно марристы (и, частично, Щерба) создали основу Ленинградской функционально-грамматической школы (А. В. Бондарко, Ю. С. Маслов). Многие гипотезы или просто маргинальные замечания Николая Яковлевича Марра до сих пор вызывают у лингвистов недоумение или удивление (у самых недалеких – даже возмущение или смех). Их действительно сложно согласовать с привычными стандартами традиционной исторической лингвистики, однако их автору не откажешь в смелости воображения и полете фантазии. А как когда-то сказал о воображении Иммануил Кант, «всегда легче бывает ограничить его смелость, чем помочь его вялости» (Кант 1993, с. 102-103). В другой своей работе Кант высказал эту же мысль в более «научном» виде. Она, как нельзя лучше подходит в качестве эпиграфа к творчеству Н. Я. Марра: «Критика нашего разума в конечном счете показывает нам, что чистым и спекулятивным применением разума мы, собственно, ничего не можем познать; не должна ли она поэтому открыть более широкое поприще для гипотез, поскольку (если мы уж не можем ничего утверждать), нам позволительно по крайней мере что-то выдумывать и высказывать мнения» (Кант 1964, с. 637). Данная статья представляет собой лишь попытку весьма поверхностного методологического анализа функциональных элементов в лингвистической концепции Николая Яковлевича Марра. Многое опущено, многое лишь упомянуто вскользь. Мы не ставили перед собой цели в который раз вскрывать явные слабые места и критиковать откровенные фантазии создателя яфетидологии (это уже делали до нас многие лингвисты). Скорее наоборот, мы сосредоточились на том ценном, что 23 содержится в учении Марра, а еще больше – в марристской методологии. В отличие от теоретической полемики или фактографической рефлексии анализ методологии является очень трудоемким процессом, требующим анализа всех тонкостей семантики анализируемого текста: тщательному методологическому анализу даже одной статьи может быть посвящена целая книга. Поэтому мы ни в коем случае не претендуем на исчерпывающий анализ взглядов творца «нового учения о языке». Главное, на что нам хотелось обратить внимание, абстрагируясь уже от творчества Н. Я. Марра, – это неустаревающее значение его работ в области гуманитарных наук. И новые поколения еще не пораженных догматизмом исследователей всегда могут найти в них пищу для ума и источник вдохновения. Литература БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963а, Введение в языковедение, In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 2. БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963б, Николай Крушевский, его жизнь и научные труды, In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 1. БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963в, Проблемы языкового родства, In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 2. БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., 1963г,, Язык и языки, In: Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР, т. 2. ВЫГОТСКИЙ Л. С. , 1982б, Сознание как проблема психологии поведения, In: Собрание сочинений в шести томах. Москва: Педагогика,, т. 1. ВЫГОТСКИЙ Л. С. , 1983, История развития высших психических функций, In: Собрание сочинений в шести томах. Москва: Педагогика,, т. 3. ВЫГОТСКИЙ Л. С. ,1986, Психология искусства, Москва: Искусство. ВЫГОТСКИЙ, Л. С., 1982а. Мышление и речь. In: Собрание сочинений в шести томах. Москва: Педагогика, т. 2. ДЖЕЙМС, В., 1997, Воля к вере и другие очерки популярной философии, In: Воля к вере, Москва: Республика. ДЖЕМС, В., 1995, Прагматизм, Киев: Україна. КАНТ, И. , 1964, Критика чистого разума, In: Сочинения в шести томах, Москва: Мысль, т. 3. КАНТ, И. , 1999, Антропология с прагматической точки зрения, In: Метафизические начала естествознания. Москва: Мысль. КАНТ, И., 1993, Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки, Москва:: Прогресс. ЛЕНИН, В. И., 1973, Полное собрание сочинений, 5 изд., Москва: Политиздат, т. 25. МАРР, Н. Я., 2002. Яфетидология. Жуковский; Москва: Кучково поле. ПОТЕБНЯ, А. А. , 1993, Мысль и язык, Киев: СИНТО. 24 СЕРЕБРЕННИКОВ, Б.А., 1983 О материалистическом подходе к явлениям языка, Москва: Наука СЕРИО, П. , 2001, Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920-30-е гг., Москва.: Языки славянской культуры. СОССЮР,. Ф. де, 1990,. Заметки по общей лингвистике. Москва: Прогресс. СОССЮР, Ф. де , 1964, Курс общей лингвистики (извлечения), In: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. I, Москва: Учпедгиз. СТАЛИН, И. В,. 2002 К некоторым вопросам языкознания, In: Н. Я. Марр, Яфетидология. Жуковский; Москва: Кучково поле. Тезисы Пражского лингвистического кружка, 1964, In: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. II, Москва: Учпедгиз. ТОРОПЦЕВ, И. С., 1985, Язык и речь, Воронеж: Изд-во ВГУ. HAVRÁNEK, B. , 1951, Dva roky po stalinově geniálním zásahu do vývoje jazykovědy, In: Slovo a slovesnost, 1951, nr 1, s. 109-117. SGALL, P. , 1951, Stalinovy články o jazykovědě a pražský strukturalismus, In: Slovo a slovesnost, 1951, nr 1, s. 1-11.