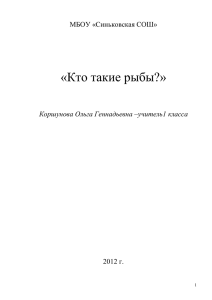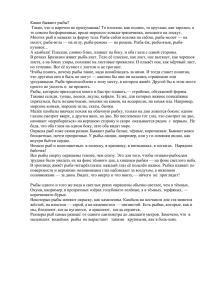Влияние акклиматизации рыб на распространение рыбных
реклама

Известия Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ), том ХХI, стр.: 51-64, 1939 Bulletin of the Institute of fresh-water fisheries, Vol. XXI ВЛИЯНИЕ АККЛИМАТИЗАЦИИ РЫБ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЫБНЫХ ЭПИЗООТИЙ Проф. В.А. Догель Семь лет последовательной работы в области изучения заболеваний рыб дали нам возможность собрать значительное количество фактов, которые, в свою очередь, настоятельно говорят о необходимости подведения некоторых итогов и о своевременности ряда организационных выводов, идущих на пользу строительству рыбного хозяйства СССР. Несколько лет тому назад наши сведения о заболеваниях рыб в СССР, и притом не только в диких водоемах, но и по линии прудового хрзяйства, были крайне ограничены. Так было еще в 1930 г., когда открылась лаборатория болезней рыб в Ленинградском ихтиологическом институте. 1 С тех пор сделан большой шаг вперед. Эпидемиология рыб заняла подобающее ей место в рыбохозяйственных вопросах, и рыбохозяйственные организации считаются с заболеваниями рыб, как с серьезным фактором, влияющим на успешный ход рыбохозяйственных предприятий: лаборатории болезней рыб приходится ежегодно давать десятки консультаций различным хозяйственным организациям. Мало того, наши исследования показали, что эпидемиологические факторы нередко играют важную роль в жизни рыб данных водоемов, причем массовые заболевания промысловых рыб и в диких водоемах доступны контролю и вмешательству со стороны человека. О значении этого вмешательства, о содействии его рыбному хозяйству в условиях диких водоемов, а тем более в условиях прудового рыбоводства, и говорится в настоящей статье. 1.Ныне Всесоюзный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства. Прежде всего следует выставить несколько главных положений, вокруг которых в дальнейшем будет развиваться наше изложение. В большинстве случаев гораздо легче предупредить наступление эпизоотических заболеваний рыб, чем лечить или искоренять уже начавшуюся эпизоотию, особенно в условиях диких водоемов. Паразитарные и бактериальные заболевания рыб носят заразный характер, причем в некоторых случаях могут, несомненно, передаваться от одних видов рыб другим. В рыбном хозяйстве СССР в широком масштабе практикуются пересадки, переброски рыбы как из одних прудовых хозяйств в другие, так и из одних диких водоемов в другие бассейны. Первое из выставленных положений не требует особых доказательств. Даже в сравнительно небольших прудовых хозяйствах, легче поддающихся контролю, искоренение появившегося в хозяйстве заболевания удается лишь с большим трудом. Легче всего поддаются кардинальному лечению некоторые болезни, вызываемые эктопаразитами. Так, повторное купание в дезинфицирующих ваннах хорошо освобождает рыбу от инфузорий ChHodon, а также от жаберных сосальщиков Dactylogyrus. Блестящее подтверждение этому мы находим в случае, имевшем место в 1931 г., с мальками форели в Ропше. Мальки заболели от массового заражения Chilodon и жгутиконосцем Ccstia, вследствие чего начался массовый отход рыбы. Примененная нашей лабораторией дезинфекция мальков при помощи ванн из марганцевокислого калия предохранила всех оставшихся в живых мальков от гибели, причем новых вспышек той же болезни в Ропше не констатировано. Однако, и с укоренившимися в водоеме эктопаразитами борьба бывает чрезвычайно трудна. Во-первых, замерзание прудов на зиму на долгий срок выводит рыбу из-под санитарного контроля и позволяет в некоторых случаях паразитам размножиться до опасных пределов. Во-вторых, усиленное размножение эктопаразитов иногда периодически повторяется, приводя к массовой гибели. Так, по данным А. П. Мар-кевича, в прудах Никольского завода Chilodon имелся в большом количестве в 1934 г., после чего вплоть до 1937 г. о нем ничего не было слышно, несмотря на периодически производившиеся паразитологические исследования. Однако, весной 1937 г. Chilodon появился в громадном количестве, и повышенную смертность прекрасных по качествам сеголеток Никольского завода следует в данном году в значительной степени отнести за счет этой инфузории. Многие из заболеваний рыб внутренними паразитами почти не поддаются искоренению. Редкий удачный случай в этом отношении представляют некоторые из форелевых прудов в Гостилицах, где путем уничтожения дикой рыбы в пруде, дававшем воду прудам хозяйства, был удален источник заражения форелей опасными ленточными глистами, которые до тех пор встречались почти у всех форелей поголовно и причиняли серьезный ущерб Гостилицкому прудовому хозяйству, вызывая среди форелей падежи. Еще труднее справиться с поселившимися в водоеме патогенными бактериями и грибками. Например, рачья чума сплошь и рядом прекращается в водоеме лишь с гибелью всех населяющих его раков. Краснуха карпов, появившаяся в прудах Никольского завода в 1935 г., с тех пор в течение трех лет, несмотря на меры по дезинфекции рыбы, устранению заболевших рыб, уборке трупов и т. д., упорно держалась в прудах, показав значительное падение лишь в 1937 г. и полное исчезновение в 1938 г. В диких водоемах падению и исчезновению болезни содействует, главным образом, сильное разрежение рыбы, которое получается, однако, лишь в результате вымирания большинства особей от данной эпизоотии, т. е. когда болезнь уже сделала свое губительное дело. Общим выводом из приведенных данных является вполне осознанная необходимость предупредительных, или профилактических, мер борьбы с эпизоотическими заболеваниями. Легче предупредить заболевание путем недопущения его в водоем, чем искоренить распространившуюся уже болезнь. Раз высказанное утверждение верно, то одной из главных задач борьбы с массовыми заболеваниями рыб (и раков) должно являться препятствие распространению уже появившихся в каком-либо районе рыбных эпизоотии. Это тем более важно, что нам известно немало случаев постепенного захвата болезнью все новых и новых районов, причем человек относился к этому явлению совершенно пассивно, а иногда даже бессознательно способствовал распространению заболевания. Классический пример постепенного распространения и нарастания болезни дает рачья чума 1870—1900 г., Начавшись на крайнем западе Европы, во Франции, на исходе 70-годов, чума шаг за шагом в течение ряда лет прошла через всю Европу, проникла в Россию (1884—1890 гг.) и здесь также распространилась постепенно с запада на восток и на север, охватив к 1898 г. всю Европейскую Россию. На Скандинавском полуострове, отделенном от остальной Европы водной морской преградой, долгое время не наблюдалось рачьей чумы. Однако, в 1907 г. чума была завезена в Швецию с больными раками из Финляндии, и с тех пор можно было наблююдать последовательное поднятие чумы вверх по рекам бассейна Мелар. Рачья чума осталась в Швеции и поныне, давая периодические вспышки. Аналогичная картина получена нами и для распространения столь опасной болезни, как краснуха карпов, в пределах Советского Союза. Несомненно эпизоотии краснухи последних лет двигались с запада на восток. В Германии массовые заболевания краснухой — факт давно известный. У нас, по наведенным нами справкам и специальным анкетам, распространение краснухи рисуется в таком виде. В 1930 г. на Украину из-за границы были завезены карпы-производители, которые, вероятно, и послужили первопричиной наших эпизоотий. С Украины посадочный материал завозился в рыбхозы Азово-черноморского и Северокавказского края, где в 1935—1936 гг. краснуха вспыхнула в Фастовецком рыбхозе и в селе Благодатном. В то же время или даже немного раньше, в 1933 г., в рыбхозах Московской области, в том числе в рыбхозе Непрейка, была обнаружена эпизоотия краснухи. Из Непрейки посадочный материал был вывезен в Ленинградскую область, на Никольский завод и в Усторонье. Результатом этого оказалась сильная эпизоотия краснухи в этих местах, свирепствовавшая в 1935/36 г. Наконец, в 1936 г. констатирована краснуха дикого сазана в Ейском лимане Азовского моря, проникшая в лиман, по нашему мнению, из сообщающихся с р. Еей прудов Фастовецкого рыбхоза. Таким образом, факт постепенного распространения краснухи на восток при невольном содействии со стороны человека кажется для нас несомненным. Вообще же, по нашим впечатлениям, промысловая и культурная рыба Западной Европы сильнее страдает от различных инфекционных заболеваний, чем рыба в водоемах Союза. Всем известна история массовых падежей рыб от шишечной болезни в реках Франции и Германии, от вертежа в реках и прудовых хозяйствах Германии, от чумы лососей в реках Англии и Шотландии. В пределах Союза все эти заболевания, по крайней мере в массовом масштабе, совершенно неизвестны. Все эти обстоятельства не мешает отметить. Данные, приведенные относительно рачьей чумы и краснухи, заставляют нас насторожиться в отношении столь часто практикуемых и носящих весьма различный характер перебросок рыбы из одного водоема в другой. Нередко такой переброской можно принести рыбному хозяйству Союза вместо пользы жестокий вред. Попробуем, прежде всего, разобраться в различных типах перебросок и в их значении для распространения паразитарных заболеваний. Наиболее безопасным в санитарном отношении способом является переброска рыбы из одного водоема в другой в виде икры. За исключением чрезвычайно редких случаев (заражение яиц некоторых карповых рыб спорами Microsporidia) икринки рыб являются совершенно чистыми от паразитов, а потому и безопасными в санитарном отношении. Поэтому переброску рыбы на стадии икры можно особенно рекомендовать. Проверка безопасности подобных перебросок в ряде случаев уже сделана. В 1935 г. Ленинградский университет предпринял специально с этой целью исследование сигов, пересаженных в Уральское оз. Тургояк в виде икры свыше десятка лет тому назад. Это исследование дало очень интересные результаты. Акклиматизированные в оз. Тургояк сиги оказались совершенно свободными от злейших паразитов сигов Ленинградской области. В них не было скребней Echinorhynchus, которые сотнями встречаются в кишечнике наших сигов; отсутствовали также крупные паразитические рачки (Lernaeopodidae), которые глубоко впиваются в тело сигов под жаберной крышкой. Не было и миксоспоридий (Henneguya), которые вызывают у ладожских сигов громадные нарывы в мускулатуре. Все эти вредители отпали, ибо они заражают только рыбу, а не ее икру. Meжду тем, сиги были переброшены в состоянии икры, а среди местных рыб оз. Тургояк не было сиговых, которые могли бы передать интродуцированным сигам свойственные сиговым заражения. Вследствие этого именно обстоятельства в оз. Тургояк не имело места ни заражение местной рыбы от интродуцированной, ни интродуцированной от местной. В самом деле в исследованных нами сигах были найдены лишь 3 мелкие личиночные формы глистов, которые мало разборчивы в выборе хозяина и встречаются на любой рыбе, а потому и перешли с местной рыбы озера на сигов. Между тем на ленинградских сигах имеется более 20 видов разных паразитов. Что переход местных паразитов на интродуцированную рыбу возможен, доказывается примером оз. Севан, куда сиги были перекинуты тоже в состоянии икры, т. е. свободными от своих специфичных паразитов. Условия в оз. Севан отличаются от Тургоякских, однако, тем, что в озере имеются родичи сигов, а именно форели, содержащие ряд эндемичных паразитов из класса скребней. В работе Динника ("Паразитические черви оз. Севан") вскользь упоминается о том, что эти местные скребни приспособляются к акклиматизированному сигу. Оки встречаются в сиге, однако, лишь в небольших количествах, тогда как в местных форелях их попадается иногда до 1000 штук в одной рыбе. Работа произведена без специальной цели, уже несколько лет тому назад, а потому крайне интересно было бы проверить ее результаты в настоящее время. Интересно узнать, не усилилось ли заражение сигов за эти годы и не приобрели ли скребни патогенное для сигов значение. Сравнительная безопасность пересадки рыбы в состоянии икры в смысле переноса свойственных данной рыбе паразитов в новые водоемы доказывается также нашими работами над акклиматизированной корюшкой. Оплодотворенная икра невской корюшки была перевезена в пруды Никольского завода и рыбхоза Яжелбицы. Выловленная впоследствии в прудах корюшка — приблизительно полугодового возраста — была исследована на паразитов и показала полное их отсутствие. Между тем, параллельное изучение невской корюшки показало наличие у нее 11 видов паразитов. Отсюда следует, что корюшка, пересаженная в виде икры, теряет всех своих паразичов, а потому и не может занести их в те водоемы, куда пересажена. Иначе обстоит дело с пересадками взрослой рыбы, судя по скудным данным, имеющимся по этому вопросу. Прежде всего в пересадках взрослой рыбы надо различать два случая. Б первом из них рыба пересаживается в бассейн, где отсутствуют ее близкие родичи. Ввиду того, что паразиты каждой систематической группы рыб обладают известной специфичностью, подобного рода пересадка не может повлечь за собою никаких неблагоприятных последствий. Пересаженная рыба не заражается местными паразитами, ибо у нее нет родичей в новом местожительстве. С другой стороны, и местная рыба не может заразиться от новых поселенцев ввиду отсутствия родственных связей с ними. Мало того, при таких пересадках можно скорее ожидать обеднения пересаженной рыбы паразитами. Так, много лет тому назад из шедшей по Мариинской системе прорези с живой стерлядью часть рыбы ушла и случайно попала в речную систему Сев. Двины. Произошло случайное зарыбление этой реки стерлядью, которая, равно как и прочие осетровые, до тех пор в Сев. Двине не водилась. Волжская стерлядь страдает от целого ряда паразитов (Cystoopsis, Amphilina, Diclibothrium и др.). Между тем, при исследовании проф. К. Скрябиным северодвинской стерляди, произведенном несколько лет тому назад, последняя оказалась вполне свободной от всяких паразитов. Скрябин справедливо расценивает этот факт, как последствие пересадки стерляди в новый бассейн. Рыба попала в Сев. Двииу в сравнительно небольшом количестве экземпляров, а потому и расселилась там очень рассеянно. Между тем как раз густота населения наиболее способствует заражению животных паразитами, а разреженность его тормозит инфекцию. В таких условиях первые поселившиеся в Сев. Двине стерляди утратили захваченных ими в их родной реке, т. е. Волге, паразитов, а новых не получили вследствие отсутствия в Сев. Двине осетровых, которые могли бы явиться источником заразы. Совершенно иной характер носит пересадка живой рыбы в водоемы, где уже присутствует данная рыба или ее близкие родичи. Здесь при наличии какой-нибудь разницы в паразитофауне как пересаживаемая, так и местная рыба грозят друг другу заражением новыми и притом нередко весьма опасными паразитами. Наглядную иллюстрацию этого явления дает массовое заболевание и гибель шипа (Acipenser nudiventris) на Арале летом 1936 г. Случай этот поучителен во многих отношениях и хорошо известен нам, так как исследование его производилось сотрудниками ВНИОРХа. Заболевание вспыхнуло в нижнем течении Сыр-Дарьи, в южной части Арала, в районе о-ва Токмак-Ата (Муйнак, Тигровый Хвост), а также и далее к северу в районе острова Возрождения. Осмотренные нами в большом количестве больные шипы оказались на 100% заражены жаберным сосальщиком Nitzschia sturionis. На одной рыбе наблюдались 100—300, а иногда даже до 600 червей, покрывавших жабры, а также сидевших на губах и во рту шипов. Nitzschia — жаберный паразит, питающийся кровью рыбы. Принимая во внимание, что взрослые сосальщики достигают около 1,5—2 см длины, можно думать, что каждый паразит ежедневно может высасывать около 0,5 см3 крови. В таком случае шип во время разгара заражения при наличии 300—400 паразитов должен ежедневно терять 150—200 см3 крови, т. е. количество, достаточное для того, чтобы постепенно истощать рыбу. Соответственно с этим мы наблюдали, что у сильно зараженных шипов жировые отложения в полости тела были ничтожны и вообще рыба казалась сильно исхудавшей. Это обстоятельство, равно как и отсутствие всяких других паразитов, а также каких-либо признаков бактериального заболевания показывает, что причиной массовой гибели шипа на Арале явился сосальщик Nitzschia. Это же доказывается и следами сильного повреждения жабер, а также повадками больной рыбы. Жабры зараженных шипов были изъязвлены и покрыты густым слоем слизи, во многих местах были ясно видны отпечатки мощной задней присоски паразитов — самым актом присасывания черви повреждают и раздражают жабры. Шипы чувствовали себя так плохо, что поднимались на поверхность воды, очевидно из-за затруднений в дыхании, вызванных повреждением жабр. Ослабев- шая рыба ловилась во всякую снасть, вплоть до лещевых сетей, дав в 1936 г. 400% улова по сравнению с заданием. Ясно, что как смертность шипа, так и указанный вынужденный перелов чрезвычайно неблагоприятно отразятся на вылове аральского шипа в ближайшие годы. Естественно возникает вопрос о причинах такой внезапной вспышки паразитарного заболевания, а ответ на вопрос дают некоторые добытые нами исторические справки. В 1930 г. во время паразитологичгского обследования мы (Догель и Быхозский) подвергли вскрытию или внешнему осмотру свыше 25 шипов в том же месте Арала (Муйнак) и в то же время года (май, июнь), как в 1936 г. При этом мы не обнаружили ни одного экземпляра Nitzschia. Рыбаки Арала были совершенно незнакомы с жаберными сосальщиками. Рыбаки в 1936 г. настолько были удивлены присутствием червей на жабрах, что даже полагали, что они попадают на жабры из кишечника. Все это заставило нас сделать предположение, не имело ли в данном случае место импортирование паразитов на Арал. Наведенные нами в Аральском управлении регулирования рыболовства, рыбоводства и мелиорации справки показали, что в 1933 и 1934 гг. в Арал было завезено несколько миллионов личинок каспийской севрюги. Кроме того, в 1934 г. из Каспийского моря в Аральское (на Сыр-Дарью) пересажено до 90 штук производителей севрюги. Между тем, по нашим данным, по экспедициям на Каспий в 1931/32 г. можно видеть, что все осетровые Каспия обнаруживают заражение Nitzschia. У белуги и шипа инвазия охватывала все обследованные нами особи рыб, достигая максимально 30—40 экземпляров на одну рыбу. Севрюга была заражена значительно реже (13,6%) и слабее, но тем не менее она несомненно является одним из хозяев Nitzschia. Мы совзршенно убеждены в том, что опыты акклиматизации севрюги на Арале явились исходным моментом для заражения аральского шипа жаберными сосальщиками. Заражение произошло, вероятнее всего, через взрослую севрюгу. За это говорят как предварительные отрицательные показания относительно наличия Nitzschia в Арале, так и заражение шипа именно после пересадки в Арал севрюги. Мы уже сказали, что описанный случай содержит ряд интересных моментов. Во-первых, он показывает, что переброска взрослой рыбы из одного водоема в другой может сопровождаться гибельными для рыбного хозяйства посадочного водоема последствиями. Во-вторых, случай на Арале ясно показывает, что паразиты в новом водоеме, куда они попадают, могут приобрести гораздо более патогенные свойства, чем на местах своего прежнего жительства. В самом деле, на Каспии и Черном море, где Nitzschia не редкость, этот паразит совершенно не вызывал до сих пор эпизоотии среди осетровых рыб. Между тем, будучи пересажен в Арал, тот же паразит причиняет массовую гибель шипов и поселяется на них в огромных количествах. Окончательно ответить на этот вопрос можно лишь после проведения специального исследования, но, судя по всему, аральские шипы, до сих пор не подвергавшиеся нападению Nitzschia, лишены по отношению к данному паразиту всякого иммунитета. Напротив того, осетровые Каспия, с давних пор заражаемые жаберными сосальщиками, приобрели по отношению к ним известный иммунитет. Он сказывается, повидимому, в двух различных направлениях. Заболевания, вызываемые Nitzschia на Каспии, протекают более легко. Кроме того, осетровые Каспия, возможно приобретают какие-то особые свойства, мешающие усиленному размножению паразитов на них (напомним, что в Каспии нам не удавалось найти ни на одной рыбе более 40 червей). В-третьих, Арал показывает, с какой быстротой распространяется инвазия при благоприятных условиях. Достаточно было в 1933 г. перебросить на Арал несколько сотен Nitzschia на акклиматизируемых севрюгах, чтобы через три года в южной части Арала все шипы прямо-таки кишели паразитами. Это важное указание для работников рыбного хозяйства: результаты недосмотра по санитарной линии наступают чрезвычайно быстро. Другой случай, аналогичного свойства, но менее печальный по результатам, имел место, как нам стало известно благодаря любезности проф. А.А. Белинга, при пересадке днестровской стерляди в Днепр, совсем недавно. Днепровская стерлядь была до сих пор свободна от характерного и специфического паразита осетровых — амфилины (Amphilina foliacea). В настоящее время переброска стерлядей из Днестра, где амфилина встречается, в Днепр привела к заражению днепровских стерлядей этим ленточным глистом. Мы не сомневаемся в том, что аналогичное возникновение паразитарных эпизоотий неоднократно имело место при перебросках карпов в прудовые хозяйства, например в случаях массовых поражений дактилогирусом (Dactylogyridae). Однако, заносный характер эпизоотии мог ускользать от внимания вследствие недостаточно тщательного исследования их. Еще легче могут распространяться посредством неосторожных пересадок болезни бактериального и грибкового происхождения, примеры чего были уже нами отчасти указаны для краснухи и рачьей чумы. Здесь вопрос осложняется тем, что возбудители заболевания крайне мелки и трудно установимы простым микроскопическим исследованием. Это сильно усложняет диагноз и отбор пересаживаемого материала. Для диагноза необходимо искусственное культивирование микроорганизмов, да и оно не всегда дает достаточно надежные результаты. Вторым затрудняющим обстоятельством служит явление бактерионосительства: рыба может казаться и даже быть вполне здоровой, а между тем она содержит патогенных бактерий, не страдая от них. При пересадке в новые водоемы такой рыбы происходит заражение местных рыб бактериями. Между тем бактерии, не вызывая у "носителя" никаких болезненных явлений, могут оказаться крайне патогенными для других особей того же вида рыбы. Таким образом, вполне здоровая на вид рыба может занести в водоем бактериальную эпизоотию. С фактами бактерионосительства сталкивается всякий, работавший над краснухой. Наконец, как многие бактерии, так и грибки обладают необычайно стойкими и жизнеспособными покоющимися стадия- ми (например спорами), которые облегчают их распространение и затрудняют профилактику. Для того, чтобы показать возможность переноса бактерииальных заболеваний при посредстве применяемых человеком рыбоводных мероприятий в здоровые дикие водоемы, остановимся подробнее на случае, который мы имели возможность наблюдать в Ейском лимане Азовского моря. Мы глубоко убеждены в том, что краснуха сазанов В Ейском лимане, вспыхнувшая осенью 1936 г., обязана своим возникновением инфекции, попавшей в лиман из расположенных по реке Ее прудовых хозяйств (Фастовецкое хозяйство). В пользу этого свидетельствуют следующие обстоятельства. Во-первых, массовые заболевания рыб чаще всего возникают в условиях тесной скученности рыбы, т. е. в условиях прудового хозяйства. Во-вторых, по полученным нами сведениям, в Фастовецком хозяйстве в течение двух лет, предшествовавших эпизоотии в Ейском лимане, наблюдалась довольно сильная краснуха. В-третьих, пруды рыбхоза находятся в столь открытом сообщении с р. Еей, что дикие сазаны, поднимающиеся в реку с моря, проникают в водоемы рыбхоза, а оттуда могут возвращаться в р. Ею. В-четвертых, в пользу нашего мнения говорит и положение очага эпизоотии. Эпизоотия сазанов разразилась в Ейском лимане Таганрогского залива. Все берега лимана были усеяны трупами погибших сазанов. Между тем, в самом Таганрогском заливе трупы на встречались за пределами Должанской косы, отделяющей его от моря. Это ясно свидетельствует о пресноводном, а не морском происхождении эпизоотии: болезнь шла из Ейского лимана в море, а не из моря в реку. Итак, в данном случае произошел случайный перенос эпизоотии из прудового хозяйства в прилегающий дикий водоем, но этот перенос осуществился способом, напоминающим искусственные пересадки: переход рыбы из моря в пруды, и обратно. Это факт— безусловно многозначительный. Наряду с разобранными выше случаями, он указывает, насколько осторожным следует быть при всевозможных опытах переброски рыбы, зарыбления, интродукции и акклиматизации. Каждый опыт может окончиться катастрофой, если приниматься за него без достаточной подготовки. Мы в свое время (1932 г.) указывали, что если бы осуществилась предполагавшаяся в то время мера организации ряда прудовых карповых хозяйств вдоль юго-западного берега Каспия, в Ленкоранском районе, то можно было бы ожидать массового заражения прудовой рыбы веслоногими рачками Caligus. В самом деле на о-ве Сара мы нашли, что Caligus встречаются в этом районе в огромном количестве (до 100 штук на рыбе) и наносят сазанам множество кровоточащих изъязвлений. В прудовой обстановке распространение этого паразита привело бы к серьезной эпизоотии среди карпов. Другое предостережение мы должны сделать сейчас относительно устройства в дельте Волги прудовых карповых хозяйств с зарыблением их из различных источников. Выгода от этих хозяйств перевешивается той угрозой, которую они создают по отношению к заражению каспийского сазана краснухой. Опыт Ейского лимана показал, что дикий сазан легко заражается краснухой, получаемой им от прудовых карпов. Нет никакой гарантии в том, что и на Каспии связь прудовых хозяйств с дельтой Волги не проведет к заражению устьевых сазанов, но если это произойдет, то можно быть уверенным, что эпизоотия краснухи пройдет по всему Каспию, вызвав огромный отход среди сазанов. Поэтому следует особенно приветствовать как очень хороший почин паразитологическую проверку, применяемую проф. Л. Зенкевичем при работе его по пересадке некоторых черноморских беспозвоночных в Каспий с целью усиления кормовых ресурсов последнего для промысловой рыбы. Действительно, пересаживаемые моллюски, черви и т. п. могут оказаться промежуточными хозяевами для различных рыбьих паразитов, роль которых играют многие беспозвоночные. Следовательно, без предварительного паразитологического анализа пересаживаемые животные могут занести на Каспий молодые стадии развития каких-нибудь патогенных рыбьих паразитов, т. е. привести на Каспии к таким же гибельным последствиям, к каким может привести и бесконтрольная пересадка самой рыбы. Нельзя, однако, ограничиваться отдельными полезными указаниями или добровольными благими начинаниями отдельных работников и учреждений. Дело о пересадках рыб и других животных из водоема в водоем требует государственной регулировки и централизации. Значение внутреннего рыболовства и рыбоводства в СССР чрезвычайно велико. Достаточно напомнить, что Каспий и Арал дают половину всей рыбной продукции Союза. Между тем исследованием болезней рыб занимаются во всем Союзе лишь три лаборатории (Ленинград, Москва, Киев). Притом все эти лаборатории имеют преимущественно местное значение, а для центрального управления рыбным делом являются лишь консультативными органами, которые в большинстве случаев должны лишь при вспыхивании рыбных эпизоотий констатировать факт и причины эпизоотий. Между тем пора взглянуть на дело иначе. Периодически разгорающиеся эпизоотии дикой рыбы, сифизов труд постоянного зарыбления прудов в рыбхозах новой рыбой, вместо погибшей от эпизоотии и других причин, — все эти факты ставят вопрос о реорганизации ряда сторон рыбного хозяйства. В настоящей статье считаем необходимым высказаться по вопросу реорганизации работ по акклиматизации рыб. Первым и самым главным выводом мы считаем необходимость установления самого строгого санитарного контроля над всеми перебросками рыбы из одних водоемов в другие. Контроль осуществляется специалистами по заболеванию рыб, причем каждая пересадка сопровождается актом, констатирующим санитарное состояние рыбы. Особенную осторожность следует проявлять к ввозу производителей из-за границы, тем более, что при заграничных поставках не исключены случаи умышленного вредительства посредством продажи рыбы из зараженных водоемов (смотря сказанное о бактерионосителях). Ведь известны же в Англии некоторые овцеводы, продававшие на племя заведомо зараженных печеночными двуустками ягнят. Гибель части сбытых ягнят гарантировала продавцам спрос на новых производителей. Кроме того, мы видели, что многие болезни рыб распространены преимущественно в западной Европе, отсутствуя до сих пор в пределах Союза. Ввиду этого мы считаем целесообразным установить для поступающей из-за границы живой рыбы строгий контроль и карантин и, по мере возможности, стараться, вообще, избегать перебросок ее в водоемы Союза. Нам известно, что завезенные рыбы, например даже тропические декоративные рыбки, иногда подолгу удерживают в себе своих паразитов и поэтому могут явиться их распространителями при перевозках. Столь же строго следует относиться и к переброскам рыбы в пределах Союза, в особенности к пересадкам в дикие водоемы. Дело в том, что в качестве таких диких бассейнов берутся нередко водоемы капитального промыслового значения, а потому всякое заражение их может привести к последствиям громадного масштаба. Вот почему все пересадки подобного рода мсгут быть предпринимаемы лишь после тщательного осмотра пересаживаемой рыбы специалистами. Не меньшее внимание следует уделять и переброскам рыбы (карпа) из одного прудового хозяйства в другое. Здесь, однако, способ санитарного осмотра может быть упрощен в связи с некоторыми предлагаемыми нами далее мероприятиями. Организация и проработка таких мероприятий, разумеется, не под силу одному лицу — они должны быть установлены на основании мнений ряда компетентных специалистов. Но мы все же позволим себе набросать приблизительную схему того, какой характер должны носить главные профилактические меры. 1. Следует установить правильное районирование при организации новых прудовых хозяйств и детальное рассмотрение местоположения хозяйств, уже существующих. Прудовые хозяйства, расположенные в тесном соседстве с богатыми ценной рыбой дикими водоемами и обладающие стоком в эти последние, представляют несомненную опасность для промысловых рыб водоема, в особенности в тех случаях, когда в прудах и в диком водоеме имеются родственные друг другу породы рыб. Советский Союз достаточно богат пресноводными водоемами для того, чтобы можно было интенсивно развивать прудовое хозяйство, не нанося в то же время ущерба промысловому рыболовству. Следует принять как общую организационную меру запрет организации новых прудовых хозяйств, имеющих близкие стоки в богатые промысловые бассейны. Столь же нежелательно и устройство прудовых хозяйств вблизи заповедников и зимовальных ям. Заповедники представляют такую государственную ценность, что следует предотвратить всякую возможность эпизоотий в них. 2. Нам кажется, что уже давно пришла пора создания на местах особой рыбной санитарной инспекции. Она особенно необходима в местах наиболее интенсивного промысла. Инспекция должна следить не только за санитарным состоянием (упитанность, степень заражения паразитами и т. д.) рыбы, добываемой на промыслах, но и проверять состояние рыбы в непромысловые сезоны, а также обращать внимание на "детские болезни" рыб, просматривая мальков на местах их нагула, если таковые имеются в пределах данного района. Это даст возможность захватывать эпизоотии во-время, а не принимать охранительные меры тогда, когда эпизоотия зашла уже слишком далеко. Так как деятельность такой инспекции является работой на местах, то необходимо наметить пункты, где такая инспекция наиболее необходима. Такими пунктами, по нашему мнению, прежде всего являются: Азовское море с устьями Дона и Кубани — пресноводный характер ихтиофауны, наличие полузастойных лиманов, где легко могут вспыхивать эпизоотии, наличие больших речных систем с приустьевыми заповедниками — все это говорит за необходимость постоянного санитарного надзора в Азовском море; b) район дельты Волги — здесь санитарная инспекция могла бы базироваться на Астраханском гос. заповеднике, где имеются большие удобства для исследовательской работы и где уже ведется изучение зимовальных ям; под надзором инспекции в данном районе будут находиться богатейшие промыслы Каспия; c) Кзыл-Агачский залив и устье Куры — представляя собою не только место выкорма молодой рыбы, но и птичий заповедник и находясь по соседству с крупными промыслами южного Каспия, нуждается в постоянном инспектировании; d) Аральское море (Муйнак) — устье Аму-Дарьи следует поставить под надзор, ибо здесь находятся самые крупные промыслы Арала, а также потому, что здесь уже были случаи массовых заболеваний рыбы. Для того, чтобы вполне использовать санитарную инспекцию, ее можно привлечь и к осмотру рыбы, идущей в продажу. Известно, что в каспийских судаках часто встречается один вид крупных (до 50 мм) круглых червей кроваво-красного цвета (личинки Eustrongylides). Этот червь располагается под кожей, чаще же всего в мускулатуре, свернувшись в клубок. Вследствие своего цвета паразиты производят при поверхностном исследовании впечатление неприятных кровяных нарывов. В пищу же такая рыба может быть употребляема, ибо Eustrongylides на человека не переходят. На практике на этой почве часто происходят недоразумения. Каждую санитарную ячейку мы предполагаем состоящей из одного бактериолога и одного паразитолога, вооруженных надлежащим оборудованием. Инспекция должна быть достаточно подвижной организацией, периодически осматривающей весь район. Учреждение местной инспекции сильно уменьшит необходимость в периодических командировках специалистов из Москвы и Ленинграда. Такие командировки нередко остаются недостаточно плодотворными как из-за своей обычной кратковременности, так и из-за того, что приезжие появляются на месте эпизоотии уже в самом разгаре или к концу ее, не имея представa) ления о начальных стадиях болезни. Между тем инспекции на местах не трудно будет захватывать заболевание в самом начале. При введении местной инспекции командировки из центров ограничатся наиболее важными случаями, многое инспекция будет в состоянии распознать сама или решить на основании письменной консультации. Такая же инспекция, несомненно, нужна и для прудовых хозяйств. Ввиду однородности рыбного материала в прудовых рыбхозах (карп), а следовательно, и ограниченного числа заболеваний, свойственных рыбхозам, каждая санитарная ячейка может обслуживать большой район. 3. Из сделанного нами описания видно, что санитарная инспекция есть орган, работающий на местах. Очевидно, что удовлетвориться им одним невозможно, но что необходимо учреждение в Москве какого-то центрального аппарата, регулирующего работу инспекции в союзном масштабе. 4. Ввиду того, что очень важным моментом при распространении эпизоотий являются различные типы переброски рыбы из одних водоемов в другие, следует учредить при Главрыбе или Главрыбводе консультационную комиссию по акклиматизации рыб. Комиссии должны вменяться в обязанность просмотр и аппробирование проектов по акклиматизации рыб (и водных беспозвоночных), представляемых из различных районов. Кроме того, комиссия организует работу по инвентаризации вспышек различных массовых заболеваний рыб, с одной стороны, и по переброскам рыбы и опытам акклиматизации, производимым во всем Союзе, с другой. 5. В лаборатории болезней рыб начато при помощи анкет, а также при посредстве наведения литературных справок составление сведений по распространению некоторых заразных заболеваний в прудовых хозяйствах СССР. Эта историографиическая работа должна быть продолжена, расширена и облегчена. Планомерная регистрация случаев массовых заболеваний рыбы по всему Союзу может дать очень важные результаты хозяйственного значения. Мне кажется вероятным, что изучение подобных данных, если они будут достаточно подробны, даст возможность в некоторых случаях предсказывать надвигающуюся волну заболеваний в определенных районах Союза, до известной степени наподобие метеорологических сводок, предсказывающих погоду. 6. Для набора штата в санитарную рыбную инспекцию нужны прежде всего люди. При этом далеко недостаточно иметь ветеринаров, окончивших наскоро какие-нибудь двух- или трехмесячные курсы. Для получения нормальным способом надежных и подготовленных кадров надо возобновить имевшуюся при ВНИОРХе и ВНИРО аспирантуру по специальности болезней рыб. В этих учреждениях имеется полная возможность к подготовке кадров, имеются очень подходящие для аспирантуры люди, имеется очень большая потребность в специалистах по заболеваниям рыбы, но подготовки кадров в этом направлении не ведется. Этот недочет требуется устранить как можно скорее. Ряд фактов, приводимых в нашей статье, как нельзя более ясно показывает, что борьба с распространением массовых рыбьих заболеваний имеет громадное значение в рыбном хозяйстве, а самая постановка борьбы требует коренной реорганизации. Совершенно ясно, что от случайной и кустарной борьбы, какой она была до сих пор, давно следует перейти к широкой борьбе в общегосударственном масштабе, с запретом бесконтрольных перебросок и акклиматизаций, со строгой проверкой выбора мест новоорганизуемых прудовых хозяйств, с введением нсвых органов санитарного управления, с организацией правильного регистрирования эпизоотии и т. д. Мы считаем необходимым поставить этот вопрос во всей его остроте, ибо дальнейшее развитие борьбы с заболеваниями рыб важно для успешного социалистического строительства нашей страны. INFLUENCE OF FISH ACCLIMATIZATION ON THE SPREADING OF FISH EPIZOOTIES By prof. V.A. Dogiel Summary Considering the numerous experiments on acclimatization and introduction of fishes, carried out in USSR, and the frequent transplantations of fish from one body of water into another connected with them, the author emphasizes the great importance of prophylactic measures against the spreading- of infectious diseases among reared and wild fish. These statements are confirmed by several examples showing the spreading of diseases, as for instance purpura of the carp due to inconsiderate transplantation of infected planting material. The spreading of diseases called forth by parasites is most effectively prevented by acclimatization of fish in egg stage, i. e. in a stage when they are free from parasites. Transplantation of adult fish without previous disinfection may, on the contrary, lead to outbreaks of epizooties, as shown by the case when the Aral Acipenser nudiventris was contaminated with Nilzschia by Acipenser stellatus breeders transferred into the Aral Sea from the Kaspian Sea. A series of measures are required in order to prevent the spreading of epizootic diseases, as for instance the prohibition of pond carp-farms in the vicinity of important fish basins (for example in the lower part of the Volga). Furthermore, an utterly severe sanitary control of all fish transfers from one water-body to another is required. Special caution is needed towards breeders obtained from abroad, as many diseases spread among cultured fish in Europe were not yet stated in USSR. A special inspection for fish diseases ought to be established, as well as laboratories for investigation of fish diseases, particularly at the Sea of Azof, in the estuary of the Volga and in the southern part of the Kaspian Sea.