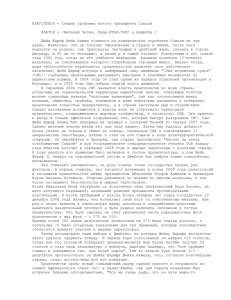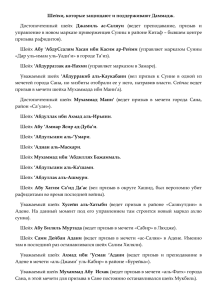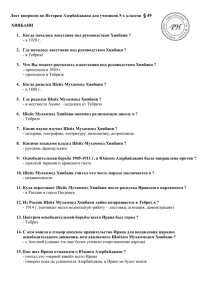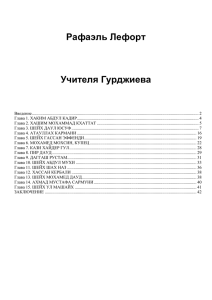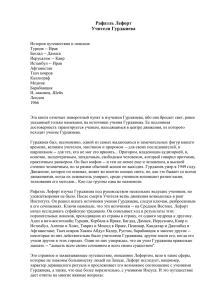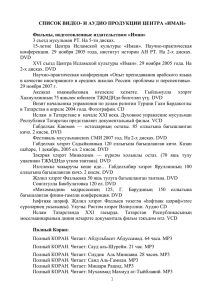Ночи ясные, ночи лунные
реклама
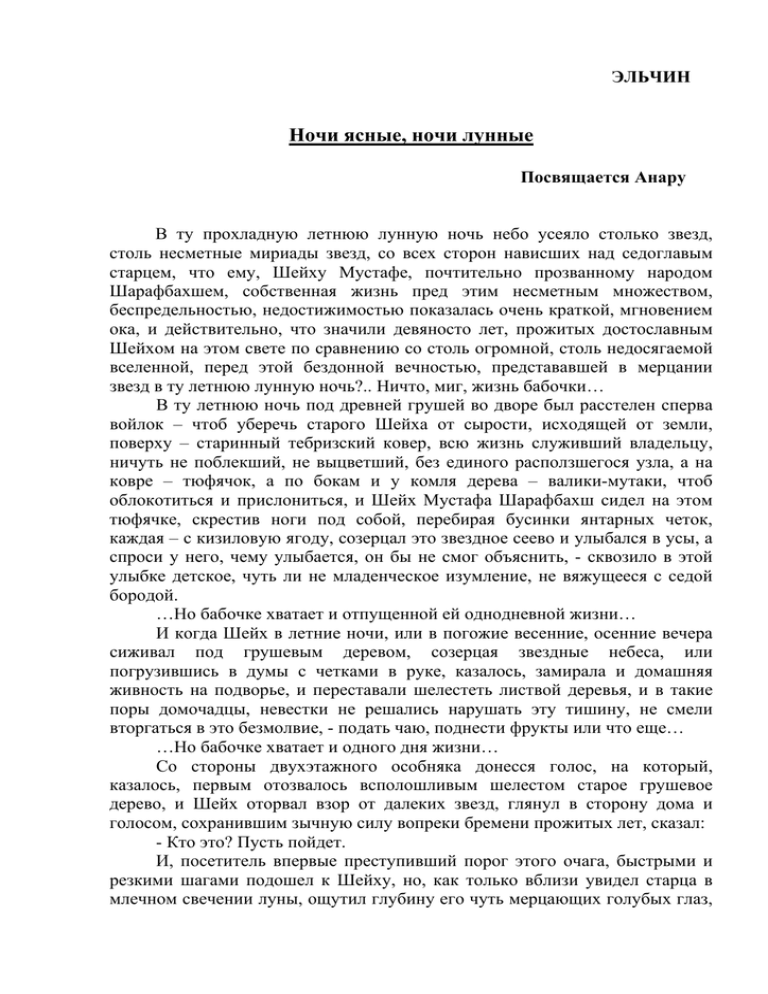
ЭЛЬЧИН Ночи ясные, ночи лунные Посвящается Анару В ту прохладную летнюю лунную ночь небо усеяло столько звезд, столь несметные мириады звезд, со всех сторон нависших над седоглавым старцем, что ему, Шейху Мустафе, почтительно прозванному народом Шарафбахшем, собственная жизнь пред этим несметным множеством, беспредельностью, недостижимостью показалась очень краткой, мгновением ока, и действительно, что значили девяносто лет, прожитых достославным Шейхом на этом свете по сравнению со столь огромной, столь недосягаемой вселенной, перед этой бездонной вечностью, представавшей в мерцании звезд в ту летнюю лунную ночь?.. Ничто, миг, жизнь бабочки… В ту летнюю ночь под древней грушей во дворе был расстелен сперва войлок – чтоб уберечь старого Шейха от сырости, исходящей от земли, поверху – старинный тебризский ковер, всю жизнь служивший владельцу, ничуть не поблекший, не выцветший, без единого расползшегося узла, а на ковре – тюфячок, а по бокам и у комля дерева – валики-мутаки, чтоб облокотиться и прислониться, и Шейх Мустафа Шарафбахш сидел на этом тюфячке, скрестив ноги под собой, перебирая бусинки янтарных четок, каждая – с кизиловую ягоду, созерцал это звездное сеево и улыбался в усы, а спроси у него, чему улыбается, он бы не смог объяснить, - сквозило в этой улыбке детское, чуть ли не младенческое изумление, не вяжущееся с седой бородой. …Но бабочке хватает и отпущенной ей однодневной жизни… И когда Шейх в летние ночи, или в погожие весенние, осенние вечера сиживал под грушевым деревом, созерцая звездные небеса, или погрузившись в думы с четками в руке, казалось, замирала и домашняя живность на подворье, и переставали шелестеть листвой деревья, и в такие поры домочадцы, невестки не решались нарушать эту тишину, не смели вторгаться в это безмолвие, - подать чаю, поднести фрукты или что еще… …Но бабочке хватает и одного дня жизни… Со стороны двухэтажного особняка донесся голос, на который, казалось, первым отозвалось всполошливым шелестом старое грушевое дерево, и Шейх оторвал взор от далеких звезд, глянул в сторону дома и голосом, сохранившим зычную силу вопреки бремени прожитых лет, сказал: - Кто это? Пусть пойдет. И, посетитель впервые преступивший порог этого очага, быстрыми и резкими шагами подошел к Шейху, но, как только вблизи увидел старца в млечном свечении луны, ощутил глубину его чуть мерцающих голубых глаз, 2 проникся трепетом при виде внушительных седин девяностолетнего аксакала, пришельца враз покинула решительность, он осекся и попенял на себя, как же он на ночь глядя посмел беспокоить Шарафбахша, но самое странное, что его привели в чувство и ободрили этот пристальный взор, эта глубина, эти степенные белые седины, и пришелец выплеснул с прежним возбуждением, побудившим его явиться к Шейху. - О, Шарафбахш! Я еле сдержался, чтоб не взять на душу грех! Чуть было не пролил кровь… но я отшвырнул кинжал и кинулся к твоему порогу за советом… Я соседу своему не причинял никакого зла, только добро делал. А он платит мне лихом. Как же быть мне, Шарафбахш? Как поступить мне с лиходеем? Шейх пристально всмотрелся в глаза пришельца, и тому показалось, что старик видит его насквозь, что взор достопочтенного Шейха проникает в его существо, и, должно быть, это ощущение придавало словам старца силу зримого, материального письма, врезающегося в мозг. Шейх молвил: - Ступай с миром и соверши добро этому соседу. И пришелец уразумел, что вот сейчас он покинет двор, и впредь, следуя совету старца, будет делать добро своему ненавистнику и лиходею. И та лунная летняя ночь завершилась, и завершилось лето, и дни сменяли друг друга, и осенняя желтизна тронула листву, и золотой листопад окутал двор; каждый раз, когда угасал закат и густела ночная темень, палые листья под старой грушей возвещали не только о минувшей весне, лете, о том, что и долгие годы, прожитые на бренной земле, остались далеко – далеко как эти звезды, - они возвещали о том, что дорога жизни, начавшейся девяносто лет тому назад, близится к исходу, туда, откуда нет возврата. И по мере приближения Исхода, отдалялось Начало, но удивительно, что в ту погожую осеннюю ночь, сидя под старой грушей в теплой одежде, во дворе, где осенняя желтизна растворилась в полумгле, сквозь которую струился лунный свет через редкие листья, уставившись в красные тлеющие угли мангала, Шейх ясно прозревал это далекое, давнее начало, все видения этого далекого (и увековеченного!) былого, даже годы младенчества, но эти родные, заветные видения не согревали старое сердце, напротив, от этих картин, отторженных пространством долгих-долгих лет (отторженных навеки!), исходил осенний холодок, остуда, осенняя желтизна, ибо они виделись теперь, при приближении Конца, как за студеным стеклом, все больше утолщающимся по мере продолжения длинной дороги жизни. И снова, похоже, первым всполошилось на нарушение осенней тишины старое грушевое дерево, вернее, от легкого дуновения заворошилась и перепорхнула верхушка палых усыхающих листьев с тихим шуршанием, и Шейх, оторвав взор от тлеющих углей, поглядел на эти перепорхнувшие сухие листья, - и эти листья, конечно, означали Конец, но то, что Конец столь легок, вновь напомнило старику бабочку-однодневку… …Но бабочке хватает и одного дня жизни… 3 …Потом он посмотрел в сторону дома и, догадываясь, кто пожаловал, все же сказал: - Кто это? Пусть войдет. То, что давний пришелец за время, минувшее после той встречи в летнюю лунную ночь, переборол, превозмог, победил себя, - было очевидно, как эти палые листья и это старое дерево, - об этом говорили глаза, походка, вид пришельца; представ пред очи старца, он обратил взор на руки Шейха: обе руки покоились на коленях, на левом запястье повисли янтарные четки; при отсвете мангала проступали морщины на жилистых руках, и пятерни с длинными сухими пальцами, пожухшая кожа в пигментных накрапах и усеявшие весь двор палые листья словно дополняли друг друга, но это было на первый взгляд, и пришелец почувствовал собственное тепло этих старческих рук, согреваемых жаром мангала, и именно это живое тепло было магнетической силой, повлекшей его к очагу старика в этот стылый осенний вечер. - О, Шарафбахш! – сказал человек. – Я внял наказу твоему, и делал добро злополучному соседу при случае, по поводу и без повода. Но он продолжает причинять мне зло. Боюсь, доведет меня до греха… Порода такая злокозненная. Помоги мне, укажи выход, как же мне быть. Шейх взял щипцы и поворошил угли в мангале (от этого внезапного движения пришелец вздрогнул, будто полагал, что эти руки так и будут покоиться на коленях), воцарилось молчание, эта пауза показалась вечностью; наконец Шейх произнес, не сводя взора с мангала: - Ступай с миром. И продолжай делать добро. Если Шарафбахш говорит так, значит, так и надо поступать, это ясно, как божий день, - как бы ни было тягостно, мучительно такое поведение, но если он, этот человек, искал правды, справедливости, опасался взять на душу грех, то ему надлежало следовать совету Шейха, ибо он ни на йоту не сомневался в том, что устами Шейха глаголет истина. И минула осень, и настала снежная, студеная зима, и палые листья во дворе остались под снегом; в томительно долгие зимние дни погода ни разу не позволила Шарафбахшу выйти во двор на привычное место под старой грушей; пришлось ему всю зиму просидеть дома и созерцать внешний мир сквозь оконное стекло; нагие ветви грушевого дерева, нахолодавшись, накоченевшись от снегопадов и метелей, наконец, дождались весны, и, как сотню лет назад, ожили, набухли почками, расцвели, облиствели, завязались плоды, настало лето, и в один из летних вечеров Шейх Мустафа Шарафбахш вновь восседал под старой грушей, прислонившись к стволу дерева и возложив руки на валики-мутаки, и вновь с детским любопытством, которому не мог стать помехой девяносто один прожитый год, погрузился в созерцание неба, и вновь безоблачное небо вызвездило, и улыбка тронула губы старца, улыбка, выражающая и изумление, и в то же время некое воодушевление и даже благодарение. Чему был он благодарен – луне ли, звездам ли? Или летней ясной ночи? Деревьям, цветам, травам? Чему? Кому? За что? 4 …Но бабочке хватает и одного дня жизни… На сей раз впервые сам, без оклика, повернул голову к дому (почувствовав, что кто-то явился) и, не спрашивая о личности визитера, сказал: - Впустите. В медленной поступи явившегося к нему человека ощущалась свинцовая тяжесть, по изнуренному, измученному виду можно было понять, что эта свинцовая тяжесть проникла все его существо; жесткую волнистую копну волос, усы, бороду, прошлым летом едва тронутые проседью, теперь густо убелила седина; и хотя грубые, крепкожилые руки сообщали о решительности, силе, хватке, эта седина, этот потухший взгляд говорили о бессилии и отчаянии. Шейх, как и раньше, всмотрелся в глаза представшего ему человека, и последнему вновь показалось, что взор старика проник его насквозь, но на сей раз он не смешался, напротив, как будто после всепроникающего пронзительного взора старика в нем внезапно всколыхнулись, выплеснулись, взорвались с дикой силой все возмущение, гнев и ярость на произвол и безбожные непотребства мира сего, то, что он мучительно обуздывал в себе все это время, и человек с опаленным под солнцем, задубевшим лицом, с вздувшимися жилами на медной шее, пытаясь подавить прорвавшееся извержение, задыхаясь, сказал: - Я больше не могу, Шарафбахш! Невмоготу! Я устал! Я больше не могу терпеть… Сдерживаться… Я столько… добра сделал… этому неблагодарному… соседу… А он платит той же монетой… Пакость за пакостью! Я извелся! Все! Баста! Кончено! Воцарилась такая тишина, что казалось, в этой тишине даже старое грушевое дерево замерло, оцепенело, не смея шевельнуть ни единым листочком. А у этого человека в душе бушевала буря, клокотал вихрь необузданных чувств, рвавшихся на свободу, наружу, и оттого бешено колотилось сердце. И эта колотьба сердца стала явственно слышаться в нависшей тишине, как предвестье несчастья. Шейх оторвал взор своих голубых глаз от глаз пришельца; сперва, как бы не зная, на чем остановить взгляд, обвел взором деревья вдоль забора, аккуратно выложенного гладкой речной галькой, потом снова всмотрелся в глаза собеседника и произнес теплым и мягким тоном, таким же, как и год тому назад: - Как же получается, что твой сосед не устает причинять зло, а ты устаешь творить добро? Старое грушевое дерево сбросило с себя оцепенелость, и дуновение всколыхнуло листья, и листья зашелестели. И человек, обреченный творить добро (всю жизнь! До самого Конца!) покинул двор тяжелыми шагами. А небо, казалось, постепенно становилось еще чище, еще прозрачнее, как и год тому назад, и звезд становилось больше, мерцающих звезд, и Шейх Мустафа Шарафбахш, созерцая далекие небесные светила, вновь вспомнил о 5 бабочке, перепархивающей с цветка на цветок, с колоска на колосок, о бабочке, которой отпущен всего один день жизни на земле… 20 февраля 1992 г. Перевод С.Мамедзаде