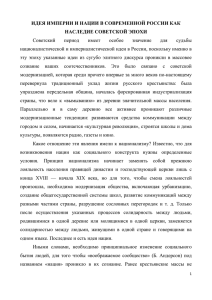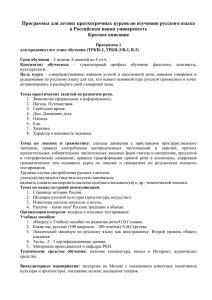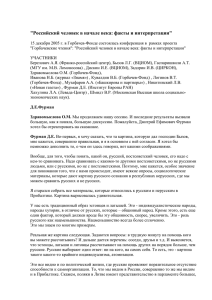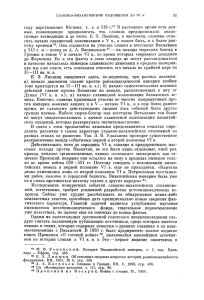Александр Эткинд. Внутренняя колонизация - CEU E
реклама
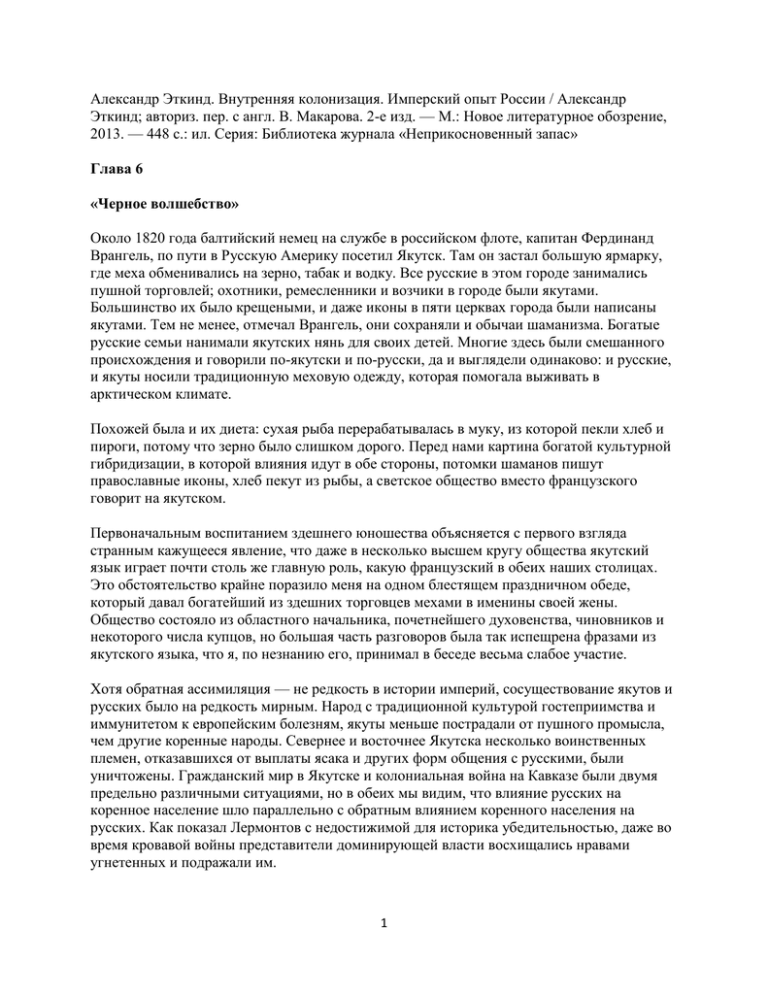
Александр Эткинд. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Александр Эткинд; авториз. пер. с англ. В. Макарова. 2-е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 448 c.: ил. Серия: Библиотека журнала «Неприкосновенный запас» Глава 6 «Черное волшебство» Около 1820 года балтийский немец на службе в российском флоте, капитан Фердинанд Врангель, по пути в Русскую Америку посетил Якутск. Там он застал большую ярмарку, где меха обменивались на зерно, табак и водку. Все русские в этом городе занимались пушной торговлей; охотники, ремесленники и возчики в городе были якутами. Большинство их было крещеными, и даже иконы в пяти церквах города были написаны якутами. Тем не менее, отмечал Врангель, они сохраняли и обычаи шаманизма. Богатые русские семьи нанимали якутских нянь для своих детей. Многие здесь были смешанного происхождения и говорили по-якутски и по-русски, да и выглядели одинаково: и русские, и якуты носили традиционную меховую одежду, которая помогала выживать в арктическом климате. Похожей была и их диета: сухая рыба перерабатывалась в муку, из которой пекли хлеб и пироги, потому что зерно было слишком дорого. Перед нами картина богатой культурной гибридизации, в которой влияния идут в обе стороны, потомки шаманов пишут православные иконы, хлеб пекут из рыбы, а светское общество вместо французского говорит на якутском. Первоначальным воспитанием здешнего юношества объясняется с первого взгляда странным кажущееся явление, что даже в несколько высшем кругу общества якутский язык играет почти столь же главную роль, какую французский в обеих наших столицах. Это обстоятельство крайне поразило меня на одном блестящем праздничном обеде, который давал богатейший из здешних торговцев мехами в именины своей жены. Общество состояло из областного начальника, почетнейшего духовенства, чиновников и некоторого числа купцов, но большая часть разговоров была так испещрена фразами из якутского языка, что я, по незнанию его, принимал в беседе весьма слабое участие. Хотя обратная ассимиляция — не редкость в истории империй, сосуществование якутов и русских было на редкость мирным. Народ с традиционной культурой гостеприимства и иммунитетом к европейским болезням, якуты меньше пострадали от пушного промысла, чем другие коренные народы. Севернее и восточнее Якутска несколько воинственных племен, отказавшихся от выплаты ясака и других форм общения с русскими, были уничтожены. Гражданский мир в Якутске и колониальная война на Кавказе были двумя предельно различными ситуациями, но в обеих мы видим, что влияние русских на коренное население шло параллельно с обратным влиянием коренного населения на русских. Как показал Лермонтов с недостижимой для историка убедительностью, даже во время кровавой войны представители доминирующей власти восхищались нравами угнетенных и подражали им. 1 К середине XIX века слово «креол» стало в Сибири общепринятым. Многие сибиряки — русские, креолы и инородцы — владели двумя языками и культурами, русской и местной, смешивая их до неразличимости. Эти долгосрочные трансэтнические, часто гендерспецифичные процессы ассимиляции, гибридизации и мимесиса были продуктивны для культуры Российской империи. Ученик Ешевского Афанасий Щапов документировал эти явления в серии статей, написанных им в 1860-х годах, в сибирской ссылке. Сам сибирский креол, Щапов доказывал, что Россия возникла в результате тысячелетней «славянской колонизации» земель, которые принадлежали финнам, татарам, якутам и другим народам; всего Щапов насчитал их 111. Эта колонизация — сущность российской истории, с ней связана «вся наша правда и наша вина». Приводя примеры уничтожения тихоокеанских племен российскими казаками и матросами, Щапов полагал теперь, что более ранние славянские вторжения по всей Евразии были не менее кровавыми, просто память о них стерлась. Этим новым пониманием роли насилия и забвения в процессе колонизации Щапов поправлял своего казанского учителя Ешевского. В двух больших частях России, которые Щапов знал и любил, — в татарских землях вокруг Казани и в Западной Сибири, — русские частично ассимилировали коренное население, крестив часть туземцев, заключая смешанные браки, передавая им свои ремесленные навыки и таким образом включая их в российскую экономику. На многих примерах Щапов показал, что у российской колонизации был и обратный, доселе неизвестный аспект: русские перенимали навыки, обычаи, инструменты, одежду, язык и даже внешний вид местного населения. Современный историк приводит немало своих примеров «коренизации» русских в разных районах Сибири. Обобщая опыт британской колонизации Индии, историк Ранаджит Гуха (предложил концепцию «доминирования без гегемонии». Эта критическая в отношении Британской империи формулировка близка к давним идеям русских мыслителей, предлагавших иные пути для Российской империи. В самом начале Высокого Имперского периода граф Уваров объяснял коллегам, что «завоевание… без исправления состояния побежденных — тщетная, кровавая мечта»; Хомяков писал о бедах, к которым ведет колонизация «без того превосходства духа, который по крайней мере часто служит некоторым оправданием завоеванию». Лишенное культурной гегемонии, силовое доминирование британцев создавало неустойчивую ситуацию недоверия, сопротивления и вспышек насилия, характерных для британской Индии так же, как для российских Кавказа, Урала, Средней Азии. Но обратная ассимиляция, какую мы видели в Якутии и на Кавказе, добавляет к этой большой картине новые краски. В такой ситуации доминирование и гегемония не просто принадлежали разным историческим агентам, но развивались в полярных направлениях: силовое доминирование принадлежало Российской империи, а культурная гегемония, наоборот, оставалась за коренным населением и в этом виде разделялась имперскими колонистами и колонизаторами. Коллежские асессоры и армейские поручики, которых служба занесла во всевозможные углы Евразии, от Риги до Камчатки, с неожиданной легкостью, а иногда и страстью перенимали местный образ жизни. Одни брали туземных любовниц, другие нянь; следующее поколение получалось двуязычным, и в нем становились нормой смешанные браки. Российское доминирование оставалось постоянным и насильственным, а российская гегемония в этих местах не просто отсутствовала. Ее осуществляли туземцы, а русские пришельцы перенимали их образ жизни, ценили их оружие, носили их одежду, говорили на их языке. Российская гегемония 2 была негативной величиной. Подобно температуре по Цельсию, гегемония по Грамши в России часто бывала отрицательной. Примеры такой арифметики известны историкам, хотя описывались иначе: going native, обратная ассимиляция, коренизация, месть побежденных... В наброске своей «всеобщей истории» Гоголь описывал колонии Римской империи в выразительных терминах, которые он, сам родом из колонии, применял к ситуации в Российской империи: «Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Все мешается опять. Все делаются римлянами и ни одного настоящего римлянина!». Ассимиляция среди «побежденных» народов грозила упрощением нравов, искажением иерархий, обращением прогресса вспять. Трактуемые в руссоистском, народническом, потом толстовском или даже марксистском ключах — как бегство в природу, хождение в народ, возврат к примитиву, первобытный коммунизм, — стратегии опрощения противостояли прогрессистским и колонизаторским намерениям власти. Но они могли использоваться и иначе, как оправдание российского колониализма ссылками на авторитарные традиции «диких» народов, далеких и близких. В 1819 году Михаил Магницкий был назначен попечителем Казанского университета, где обязал всех профессоров доказывать преимущество Священного Писания над наукой, заменил преподавание римского права «византийским правом» и ввел жесткий режим, который, по его мнению, отвечал имперской миссии восточного университета; впрочем, в него и до, и долго после Магницкого принимали только студентов-христиан. В это время из кругосветной экспедиции в Казань вернулся астроном Иван Симонов, подаривший университету коллекцию предметов, собранную среди маори на островах Новой Зеландии; коллекция включала большой деревянный жезл вождя. Вдохновленный этим жезлом, Магницкий писал в послании Совету университета: «Любопытно и вместе с тем утешительно, что вопреки всем неистовым теориям естественного права о равенстве и безначалии естественного человека, перед глазами нашими открытые, дикие, истинные сыны природы присылают нам непреложный знак их покорности и естественного единодержавия». История российской колонизации Сибири полна тревожных рассказов об отатаривании, отунгузивании, объякучении, окиргизивании русских поселенцев и одновременно о «культурном бессилии» и низкой «ассимиляционной способности» российских крестьян и казаков. Объездивший Сибирь Николай Пржевальский писал: «Ассимилирование происходит здесь в обратном направлении. Казаки перенимают язык и обычаи своих инородческих соседей; от себя же не передают им ничего. Дома казак щеголяет в китайском халате, говорит по-монгольски или по-киргизски… Даже физиономия нашего казака выродилась и всего чаще напоминает облик своего соседа-инородца». Но и те колонисты, кто сохранил русский язык, быстро превращались в сибиряков, гордившихся своими отличиями от соотечественников «из России». Сравнивая их с русскими крестьянами, приезжие приписывали сибирякам «сухой материализм», «сытое довольство», забвение фольклорных и общинных традиций. Во втором поколении сибирские колонисты и правда жили иначе и лучше, чем их двоюродные братья и сестры в российской метрополии. Обобщая путевые заметки и воспоминания приезжих русских, сибирские исследователи обобщают этот мотив в фигуре сравнения: «Подобно 3 англичанину, который превратился в янки, русский превратился в сибиряка». Народническая интеллигенция, к которой принадлежали русские этнографы и из которой все чаще выходили российские чиновники, воспринимала эти изменения с грустью, даже скорбью. Отрицательная гегемония могла сосуществовать с относительно мирным доминированием, как в Якутии, но ее сочетание с массовым насилием на Кавказе было обречено на провал. От Гоголя до Конрада и от Пушкина до многих поколений профессиональных ориенталистов, интеллектуалы по обе стороны колониальной пропасти — колонизованные и колонизующие — считали такую ситуацию бесперспективной. Они удивлялись российской неспособности дать покоренным народа позитивные образцы, привлекательные для них культурные формы, действительно нужные им товары и другие элементы высшей цивилизации. Но, как мы знаем в наш постколониальный век, другие цивилизации — британская, французская и прочие — тоже оказались не очень способны играть эту высокую роль. Готовность русских ассимилироваться среди покоренных народов, однако, давала шанс парадоксальной надежде, что русские обладают уникальным для имперской нации видением мира — смиренным, отзывчивым, космополитичным. Хотя эту идею обычно ассоциируют с пушкинской речью Достоевского (1880) и с ее поэтическим развитием у Блока (1918), она развивалась на протяжении всего Высокого Имперского периода. Опережая развитие этой идеи, западник Карамзин возражал против нее в национальном ключе: «Истинный Космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя». И наоборот, создавая в 1840-х годах всеобщую историю миграций, славянофил Алексей Хомяков пытался увидеть в этой ситуации «открытости» и «космополитизма» особенность и преимущество российского пути колонизации: «Ни один Американец в Соединенных Штатах… не говорит языком краснокожих… И даже флегматический толстяк болот Голландии смотрит в своих колониях на туземцев, как на племя, созданное Богом для служения и рабства, как человекообразного скота, а не человека… Русский смотрит на все народы, замежеванные в бесконечные границы Северного царства, как на братьев своих, и даже Сибиряки на своих вечерних беседах часто употребляют язык кочевых соседей своих, Якутов и Бурят. Лихой казак Кавказа берет жену из аула Чеченского, крестьянин женится на Татарке или Мордовке, и Россия называет своей славой и радостию правнука негра Ганнибала, тогда как проповедники равенства в Америке отказали бы ему в праве гражданства». 4