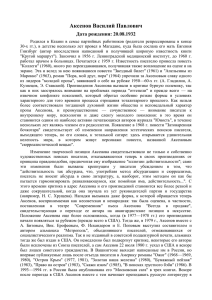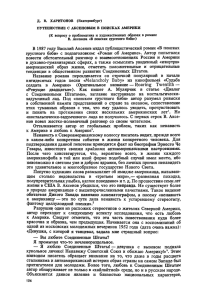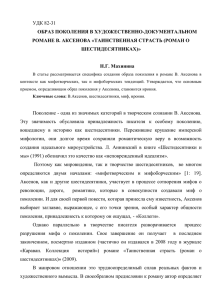[Домашнев Сергей Герасимович]. Вступленіе // Академическiя изв ѣстія. 1779. Часть І. М
реклама
![[Домашнев Сергей Герасимович]. Вступленіе // Академическiя изв ѣстія. 1779. Часть І. М](http://s1.studylib.ru/store/data/002741897_1-41a3d0fb93f8a38a34f62609a257e844-768x994.png)
[Домашнев Сергей Герасимович]. Вступленіе // Академическiя извѣстія. 1779. Часть І. Мѣсяцъ Генварь. [Каниц, Юлий Иванович фон]. Россіяда історическая поема, печатана при Імператорскомъ московскомъ университетѣ 1779 года в четверть листа // Санктпетербургскiй вѣстникъ. 1779. Ч. 4. Любжинъ А.И. Ода М.М. Хераскова на восшествiе на престолъ Императора Александра I. // Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов Отдела редких книг и рукописей. К 60-летию образования Отдела. М., 2008. Лютер А. Русские писатели XVIII–XIX века в немецких переводах // Временник Общества любителей русской книги. Париж, 1938. № 4. Мартынов И.Ф. Библиотека и читательские дневники М.Н. Муравьева // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. Л., 1981. Мерзляковъ А.Ѳ. Краткое начертанiе теорiи изящной словесности. Въ двухъ частяхъ. Издано профессоромъ А. Мерзляковымъ. М., 1822. Мерзляковъ А.Ѳ. Разсужденiе о Россiйской словесности въ нынѣшнемъ ея состоянiи // Труды Общества Любителей Россiйской Словесности при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. Часть первая. М., 1812. Мерзляковъ А.Ѳ. Россiяда, Поэма Эпическая Гна Хераскова (Письмо къ другу). Амфiонъ. М., 1815. О поврежденiи нравовъ въ Россiи князя М. Щербатова и Путешествiе А. Радищева. Факсимильное издание. М., 1983. ОР РГБ. Ф. 298 (Н.С. Тихонравова). Раздел IV. К. 1. Ед. 2. Орля-Ошменецъ Ф.Ф. Образцовые Россiйскiе Писатели. — Другъ Россiянъ и ихъ единоплеменниковъ обоего пола, или Орловскiй Россiйскiй журналъ На 1816 годъ, издаваемый Титулярнымъ Совѣтникомъ и Орловской губернской Гимназiи Старшимъ Учителемъ Фердинандомъ ОрляОшменьцомъ въ Орлѣ. № VI. Декабрь. М., 1817. Побѣдоносцевъ П.В. Заслуги Хераскова в отечественной словесности // Труды Общества Любителей Россiйской Словесности при Императорскомъ Московскомъ Университете. Часть первая. М., 1812. Соколов А.Н. История русской поэмы (XVIII — первая половина XIX века): Дисс. … докт. филол. наук. М., 1948. Строевъ П.А. Письма о русской словесности. О Россiядѣ, поэмѣ Г. Хераскова (Письмо къ дѣвицѣ Д.) // Современный наблюдатель россiйской словесности. Издаваемый П. Строевым. Часть первая. М., 1815. № 1; 3. Тургенев А.И. Забытый старичок, прославленный пиита… // Поэты начала XIX века. Вступительная статья, подготовка текста и примечания М.Ю. Лотмана. Л., 1961. Шаликовъ П.И. Посланiя въ стихахъ К.П. Шаликова. М., 1816. Ширяевъ А.С. Отъ издателя. // Эпическiя творенiя М.М. Хераскова. Часть первая. Россiяда. Чесмесскiй бой. М., 1820. Сведения об авторе: Любжин Алексей Игоревич, канд. филол. наук, зав. сектором книг отдела редких книг и рукописей НБ МГУ. E-mail: [email protected] ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 9. ФИЛОЛОГИЯ. 2011. № 5 Е.Ю. Зубарева ЖАНРООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В РОМАНЕ В.П. АКСЕНОВА «МОСКОВСКАЯ САГА» Статья посвящена проблеме синтеза жанровых традиций А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого в романе В.П. Аксенова «Московская сага». Соединяя жанровые возможности эпопеи и «свободного романа», писатель решает задачу художественного осмысления законов жизни общества и самоопределения отдельных людей. Ключевые слова: В.П. Аксенов, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, жанр, роман, традиция, литература русской эмиграции. The article is dedicated to the problem of Pushkin’s and Tolstovian genre traditions synthesis in the novel “The Moscow Saga” by V.P. Aksenov. Combining epic and the “free novel” genre possibilities the writer addresses the challenge of artistic reflection on the laws of society and the self-determination of individuals. Key words: V.P. Aksenov, A.S. Pushkin, Tolstoy, genre, novel, tradition, literature of Russian emigration. В изменении форм бытования традиции в современной литературе отразился процесс смены эстетических ориентиров, стилей, жанров. Как заметил в одной из работ В.Е. Хализев, «причастность традиции проявляется не только в виде ясно осознанной ориентации на определенного рода ценности, но и формах стихийных, интуитивных, непреднамеренных. Мир традиций подобен воздуху, которым дышат люди» [Хализев, 1999: 354]. Литературная реальность второй половины ХХ в. порождала художественные условия, при которых осознанная ориентация на литературную традицию проявлялась в формах если не стихийных, то весьма необычных. Одной из таких форм стал процесс созидания новых жанровых конструкций на основе синтеза возможностей не только разных жанров, но и различных жанровых традиций. Жанровые эксперименты, основанные на синтезе разнородных (порой взаимоисключающих) жанровых компонентов и имеющие целью создание новых жанровых модификаций, способствующих решению новых художественных задач, были характерны еще для русской литературы последней трети XIХ в. В прозе 1970 — 1980-х гг. такие эксперименты стали отражением не только эстетических, но и духовных поисков, процесса творческого самоопределения. По- 96 97 7 ВМУ, филология, № 5 этому, например, не подвергая сомнению тезис о том, что появление книги В.П. Аксенова «Поиски жанра» ознаменовало «этап эволюции жанрового мышления писателя <…> движение писателя к доминирующей стратегии последующего творчества — трансформации традиционных жанров и создания на их основе новых модификаций» [Аксенова, 2011: 13], следует уточнить, что это произведение прежде всего отразило процесс духовного самоопределения, предопределяющего особенности развития процесса творческого, логику создания художественного текста, который Аксенов позднее назовет «вдохом и выдохом литературы» [Вдох и выдох литературы, 1994: 9]. Неслучайно синтез разных жанров становится жанрообразующим принципом еще в раннем творчестве Аксенова [Аксенова, 2011: 11–13], определяя одну из доминант его художественных исканий. Ярким примером такого жанрового эксперимента стал роман «Московская сага», появившийся в 1990-е гг. Однако критика тогда практически не заметила и не оценила жанровых поисков писателя, называя его произведение то «натуральным семейным романом, временами переходящим в боевик» [Блажнова, 1994: 8], то «сказкой про живых людей» [Немзер, 1994: 12], то эпопеей [Басинский, 1994: 4]. Жанровая специфика «Московской саги» стала предметом серьезного изучения лишь в 2000-х гг. Например, в центре диссертации Е.Ю. Баруэло Гонзалез, появившейся в 2009 г., было именно авторское определение — сага. Отвергая приоритет эпопейного начала и полагая, что «Московская сага» «является “синтетическим романом”, вобравшим в себя черты средневековой скандинавской саги, традиционного семейного романа XIX–ХХ веков, а также постмодернистской прозы» [Баруэло Гонзалез, 2009: 7], исследовательница утверждала, что аксеновский роман стал «своеобразным “ответом” эпопее Толстого “Война и мир”». При всей очевидности самой литературной параллели (как это ни парадоксально, все еще недостаточно изученной), это замечание обретает особое значение именно в контексте обсуждения проблемы жанрового своеобразия «Московской саги». Содержащаяся в ней система аллюзий к «Войне и миру» актуализирует и ее эпопейный потенциал, и ее жанровую связь с историческим романом. Еще более сложной жанровая природа аксеновского романа предстает в свете авторского замечания о том, что его произведение становится частью мирового «свободного романа». Безусловно, обращение к классической традиции помогает Аксенову воссоздать важный этап русской истории и воплотить свою историко-философскую концепцию. Используя в качестве эпиграфа ко второму тому своей «саги» толстовские строки: «Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения» [Толстой, 1980: 6, 275] — Аксенов так объясняет использование этой цитаты: 98 «… наш, там, позади только что оставленный эпиграф, вот эта-то, ну, чеканки самого Льва Николаевича идея о непостижимости “абсолютной непрерывности движения” взята нами не только для приобщения к стаду “великих медведиц”… но и главным образом для того, чтобы начать наш путь через вторую мировую войну… Перечитывая недавно “Войну и мир”… мы столкнулись с рядом толстовских рассуждений о загадках истории, которые порой радостно умиляют нас сходством с нашими собственными, но порой ставят нас в тупик» [Аксенов, 1993–1994: 2, 5]. Сближение и отталкивание как полюса, крайние точки литературных параллелей никогда не определяют их сущности. Именно в зеркале литературной параллели художественный текст предстает не как нечто статичное и неизменное, а как живое течение мысли, процесс осмысления принятого и опровержения отвергаемого. Эта априорная амбивалентность проявляется на всех уровнях текста. Осознанность обращения Аксенова к «недавно перечитанному» роману Толстого обусловлена не только потребностью «ответить», но и желанием понять и объяснить как вневременные законы человеческой жизни, так и особенности социально-исторической психологии народа. На первый взгляд Аксенов идет «по стопам» своего предшественника. Используя название толстовского романа, он встраивает его в текст «Московской саги». Однако в том мире, в котором живут аксеновские герои, соотношение понятий «война» и «мир» становится еще более сложным. «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» — так называет Аксенов вторую и третью книги своего романа. «Война» и «тюрьма» противопоставляются как две ипостаси зла. Слово «мир» в этом контексте утрачивает свою многозначность, но это происходит не по воле писателя. «Мiръ» противостоит тюрьме, в которой «мир» невозможен. Толстовская антитеза в «Московской саге» преломляется через призму трагических противоречий ХХ в. При этом Аксенов обнаруживает, что формы противостояния злу в их духовном национально-историческом проявлении могут оставаться неизменными. У Толстого Наташе силы дает молитва: «Миром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться» [Толстой, 1980: 6, 80]. Героиня Аксенова Нина Градова тоже ищет духовной помощи в церкви: «Даже если бы некрещеная была, все равно пошла бы в церковь! <...> Куда же нам еще идти, если не в церковь! <…> Если уж сейчас, после всего этого, русские в церковь не пойдут, то что же это за народ <…>?» [Аксенов, 1993–1994: 2, 134]. Но за сходством духовных установок героев скрываются разные формы их самоопределения. Наташа ощущает себя частью целого, в ней проявляется «роевое» начало, тогда как Нина, осознавая значимость этого целого, воспринимает себя как отдельную часть. 99 Цитируя утверждение Толстого о том, что «сумма людских произволов сделала и революцию, и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила» [Толстой, 1980: 277]. Аксенов замечает, что многие его герои: «… и старый врач Б.Н. Градов, и его жена Мэри, столь любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша, и даже участковый уполномоченный Слабопетуховский в гигантском пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже де Голля, Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императора Хирохито и Муссолини» [Аксенов, 1993–1994: 2, 6). Эти строки, казалось бы, развивающие толстовскую мысль, в действительности полемичны по отношению к первоисточнику. Для Толстого важна именно «сумма произволов». Как подчеркивает Аксенов, сам Толстой «свой немалый «произвол» добавлял в эту сумму, а прежде всего полагал, что движение этих бесконечных сослагательных направляется Сверху, то есть не теориями задвинутых экономистов или антропологов, а Провидением» [Аксенов, 1993–1994: 2, 8]. И хотя, как замечает Т.А. Маликова, Аксенов «всерьез начинает допускать мысль о том, что наряду с исторической детерминированностью важную роль играет Провидение» [Маликова, 2007: 118], для него принципиально значима роль каждого из «произволов». Если, по Толстому, «роевое» начало предопределяет ход истории, и отдельный человек, независимо от его социального статуса, не может что-либо изменить, то у Аксенова история — калейдоскоп судеб, множество отдельных фрагментов, непредсказуемо меняющих общую картину жизни и при этом неразрывно связанных друг с другом. Для Аксенова толстовская эпопея — это не только способ отражения масштабности происходящих событий, но и жанровая форма выражения «мысли народной», слишком обобщенной в своей универсальности. Сам же Аксенов возможности эпопеи использует прежде всего для того, чтобы воссоздать значимость, катастрофичность и всеобщность происходивших событий. Но это всеобщность особого рода. Аксенов, как и Толстой, разделяет понятия «Отечество» и «государство», однако мотивация подобного разграничения безусловно разная. Для Толстого государство — некая условность, порожденная отдельными людьми, функционирующая в соответствии с их волей1 и основанная на насилии, тогда как Отечество, объединяющее народ, в идеальном своем виде представляет собой тот самый «рой», «мiр» в состоянии мира. В период исторических потрясений «мiр» в лучших его проявлениях «встает с колен» и делает выбор в пользу «Отечества». В такие моменты «мiр» в его порыве к естественному, а не навязанному единению может освобождаться от диктата слабею1 «Сильные мира кажутся великими только людям, которые стоят перед ними на коленях. Только встань люди с колен на ноги, и они увидят, что казавшиеся им такими великими люди — такие же, как и они» (Л.Н. Толстой «Путь жизни»). 100 щего государства, «главное зло» которого даже «не в уничтожении жизней, а в уничтожении любви и возбуждении разъединения между людьми». Для Аксенова государство в романе «Московская сага» — это не просто сумма немногих «произволов» (подчас и диктат одного из них), а прежде всего определенная политическая система, тоталитарная в своей основе. Именно поэтому в его произведении Отечество — это нечто порабощаемое государством, а порабощение это стало возможным по вине его граждан2, «молчаливо договорившихся, что с ними ничего особенного не происходит» [Аксенов, 1993–1994: 1, 255]. Аксенов показывает, что именно по этой причине борьба за освобождение Отечества была разнонаправленной, она шла вопреки государству, против системы и против отдельных «произволов»: «Ведь и на самом же деле душа была уязвлена нашествием чужого на свое. Сталин ли, Гитлер ли, большевики ли, нацисты ли, все-таки чужая подлость прет на родное злосчастье, и душа требует движения к своему народу» [Аксенов, 1993–1994: 2, 78]. Но если в «Войне и мире» «движение» могло привести к слиянию с «мiром», то в «Московской саге» герои в силу объективных причин чаще всего лишались такой возможности. Путь от интуитивного порыва к достижению желаемого был для подавленных испытаниями и оторванных друг от друга людей необычайно тяжел, они не могли остановиться в этом постоянном и мучительном движении между полюсами «государство» и «отечество», как, например, Вероника Градова, не ощутившая в себе сил стать частью целого: «Нет, не могу, слеза не выдавливается, родины не чувствую. За Тараканище3 молиться? Пардон, без меня» [Аксенов, 1993–1994: 3, 320]. К признакам эпопеи принято относить не только особую пространственно-временную организацию и структуру системы персонажей, но и экзистенциальность проблематики. Использование жанрового потенциала эпопеи помогало как Толстому, так и Аксенову сложить мозаику человеческих судеб, показать вселенский масштаб исторической драмы. Однако при этом могли решаться не только сходные, но и различные художественные задачи. Толстой воссоздает безобразный лик войны, чтобы воплотить общую мысль о ее бесчеловечности, о бессмысленно повторяющемся трагическом абсурде. Именно с этой целью он описывает ощущения Андрея Болконского, 2 Воплощением насилия у Аксенова является не государство, а его определенная идеологическая модель, одной из форм этого насилия становится деформация сознания людей вне зависимости от их социального статуса: «Насильственная идеология гипнотизировала свои жертвы, и моя мать <Е. Гинзбург. — Е.З.> была ни сильнее, ни слабее вооруженных до зубов маршалов Тухачевского и Блюхера, когда те забывали о подчиненных им армиях и покорно отдавались в руки чекистов)» [Аксенов, 2004: 101]. 3 Имеется в виду И. Сталин. 101 находящегося в одной из палаток перевязочного пункта: «Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. <…> Всё, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair à canon, вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас» [Толстой, 1980: 265]. В этом эпизоде Толстой вышел за пределы традиционных батальных описаний, нарочитый физиологизм стал формой изображения экзистенциальной трагедии. Неслучайно Аксенову интуитивно хотелось видеть в Толстом художника, «чья мысль <…> и <…> сильнейшее религиозное чувство полностью отмежевываются от позитивистских теорий XIX столетия и уходят в метафизические сферы» [Аксенов, 1993–1994: 2, 7]. Однако Толстой все же остался верен своим историко-философским убеждениям. В этом фрагменте, используя реализованную метафору, он противопоставляет две крайности: энтропию роевого начала (одно разлагающееся тело), отражающую апокалиптическую логику войны и жизнеутверждающую логику вечной роевой жизни, превозмогающей смерть. У Аксенова мысль о противоестественности войны имеет иное воплощение, формой которого становится внутренний монолог Никиты Градова: «Загадка человеческих масс, как и моя собственная загадка... мы все полагаем уцелеть, а между тем вполне хладнокровно считаем проценты потерь, даже не задумываясь о том, что эти проценты <… > представляют собой массу мгновенных превращений осмысленных, движущихся, надеющихся существ в разодранные клочья плоти» [Аксенов, 1993–1994: 2, 132]. Здесь мы видим совсем иной аспект проблемы антигуманности войны: автор говорит о превращении свободы и надежд отдельных существ в ничто, война становится орудием смерти, воспринимающейся как метафизический произвол, как антитеза антропоцентризму, исчезающему в толстовских размышлениях о свободе и необходимости4. Интуитивно тяготея именно к антропоцентризму, Аксенов в то же время не может безоговорочно отвергнуть толстовский фатализм, полагая, что исторически детерминированные события и неуправляемые физические процессы находятся «в странной <…> просто возмутительной зависимости» [Аксенов, 1993–1994: 1, 18]. В то же время толстовские эпические обобщения, такие как «всем народом навалиться хотят» или «дубина народной войны» (великая 4 Но сохраняющемуся в изображении духовной жизни его героев. Можно предполагать, что эта антиномия, как всякая тайна процесса сотворения текста, была особенно интересна Аксенову. 102 и безликая одновременно), не могут объяснить Аксенову всей сложности происходившего: «Но вот бывает же все-таки, что некоторые теоретики и практики выделяются из «суммы произволов» и посылают миллионы на смерть и миллиарды в рабство, стало быть, произвол произволу рознь и нам при всем желании трудно прилепиться к роевой картине, какой бы впечатляющей она ни была, и отвергнуть роль личности в истории» [Аксенов, 1993–1994: 2, 8]. Это нежелание «прилепляться» к «роевой картине» обусловливало функциональную недостаточность эпопейной составляющей в «Московской саге». Возможно, определение «сага» помогло Аксенову примирить героизм и универсальность общего (эпопейного толстовского) и частного (отдельных «произволов»5), аксеновская сага соединяет в себе черты героической саги и «семейной саги» [Вдох и выдох литературы, 1994: 9] в духе Голсуорси, семейной хроники6. Герои его трилогии стремились не только ощутить себя частью силы, способной отстоять свободу родной земли, но и сохранить собственную свободу (во всех ее формах). Полемизируя с великим предшественником, Аксенов игнорировал способность его героев органично соединять в себе ощущение причастности к «рою» и духовную свободу, так как смещал фокус с художественной ткани толстовского романа на философско-публицистические отступления, в которых «свобода» вытеснялась «необходимостью». Для Аксенова же идея свободы как доминанты отдельной человеческой жизни трансформировалась в идею свободы Отечества как «мiра», сообщества свободных людей, способных благодаря свободе нравственного выбора на великие или низкие поступки. Выразить эту идею, опираясь лишь на жанровые возможности эпопеи, Аксенов не мог. Его тяготили безликость «роя» и внеантропоцентрическая природа «мысли народной», ему было «трудно <…> отвергнуть роль личности в истории» [Аксенов, 1993–1994: 2, 8]. Именно амбивалентность антропоцентризма историософской концепции Аксенова объясняет тот факт, что ему оказалось тесно в рамках эпопеи. «Размышления на толстовские темы», по его словам, были ему необходимы в романе для того, чтобы «глянуть сквозь магический кристалл в очередную даль все того же, единственного мирового «свободного романа», одной из частей коего» [Аксенов, 1993–1994: 2, 8] являлось его произведение. Как одну из форм во5 В романе Аксенова частное нередко доминирует над общим, бывает вызывающе индивидуалистическим, однако он, в отличие от Толстого, отнюдь не всегда рассматривает это как форму духовной болезни. 6 Черты семейной хроники тоже являются своеобразной жанровой аллюзией на толстовский роман. Этот жанровый компонент рассматривался еще современниками Толстого, в частности, Н.Н. Страховым в его статьях о «Войне и мире». 103 площения своей философско-эстетической концепции Аксенов выбрал свободную беседу с читателем, порой даже «болтовню», что означало отказ от традиционной для эпопеи композиционной целостности, обусловленной единством авторской идеи. Неслучайно принцип сопряжения историй героев в аксеновском романе напоминает о свободном соединении «пестрых глав» в пушкинском «Евгении Онегине». Это произведение воспринимается Аксеновым как метароман, одна из наиболее целостных форм «мирового “свободного романа”», которому писатель дает определение «роман самовыражения». Возникший как порождение романтизма («в результате байронических откровений»), он надолго закрепился в литературе, трансформируясь во множестве вариаций, но сохраняя основные характерологические признаки: «Специфическими чертами романа самовыражения являются его открытость (“даль свободного романа”), его постоянное обращение к читателю с приглашением к соавторству…». Этот роман породил новый тип героя, который предстал как «молодой бунтовщик против светских условностей, одинокий герой, смелый до безрассудства, надменный, циничный, но мечтающий о неслыханной любви, меланхолик и мизантроп, иронически отвергающий любого типа экзальтацию» [Аксенов, 2002]. Такого героя Аксенов назвал «байронитом», осознанно создавая его разнообразные версии в своих произведениях. Встречается он и в «Московской саге», в которой одним из «байронитов» является сам автор, выступающий в соответствии с пушкинской традицией и как повествователь, и как писатель, в разных своих ипостасях организуя повествовательную, жанровую и сюжетно-композиционную структуру текста. Иронический дискурс повествователя обусловлен не только спецификой сложившейся стилевой манеры Аксенова, но и особой коммуникативной стратегией, обусловленной необходимостью сохранения в романе эмоционального баланса. «Роман самовыражения» порождал у читателя определенные жанровые ожидания, связанные с разгадыванием текста, развертыванием его метафорической ткани: «Этот гипотетический художественный читатель читает не только глазами, не просто пробегает страницы в поисках разных историй или нравственных проблем, но и губами, проборматывая текст, предложение за предложением, слово за словом, испытывая наслаждение прозы» [Аксенов, 2002]. Тайна художника, «властителя дум», «полумифической фигуры», должна быть обязательно сохранена. Но поскольку возвращающийся во времена своей юности автор слишком уязвим в своей потенциальной сентиментальности, на помощь ему приходит ирония. Кроме того, в ироническом, даже подчеркнуто жестоком отношении к героям, сочетающемся с физиологизмом 104 описаний, как это ни парадоксально, можно увидеть форму остранения в его модернистской версии (эстетически близкой Аксенову), что подтверждается и введением в структуру романа «антрактов», в которых происходит деконструкция привычной действительности, показанной через призму восприятия животных, пресмыкающихся, цветов. При этом жизнь живой природы подчинена вечным законам бытия, тогда как быт людей может быть низведен до вызывающе натуралистического небытия (например, описание жизни Мити Сапунова после ареста). Пушкинская модель «романа самовыражения» эстетически притягательна для Аксенова и благодаря ее экспериментальности, стихотворной жанровой оболочке. «Конечно, пока рука держит перо, я буду продолжать экспериментировать со стилем, ритмом и композицией, не говоря уже о метафорах, потому что роман для меня немыслим без эксперимента. Современный роман в том смысле, как я его понимаю, обладает более поэтической тканью, чем поэзия», — утверждает писатель [Аксенов, 2002]. Есть и еще одна черта «свободного» «романа самовыражения», которая органично существует в структуре аксеновской жанровой модели, — использование литературной игры как алгоритм свободной беседы с читателем. Этот структурообразующий элемент произведений Аксенова особенно значим в «Московской саге». Отсылки к Пушкину могут носить в «Московской саге» внешне игровой характер, однако нередко это только иллюзия игры. Например, один из антрактов, названный «Думы Ганнибала», начинается монологом автора, «болтающего» с читателем о «Солнце нашей поэзии Александре Сергеевиче Пушкине» и «Луне нашей прозы» Александре Николаевиче Радищеве, «некая астральная суть» [Аксенов, 1993–1994: 3, 175] которого в процессе реинкарнации перетекла в тело огромного слона Ганнибала, являвшегося объектом интереса для Сталина. Но за парадоксальностью сталинской привязанности к слону Ганнибалу скрываются раздвоенность сознания тирана и его неуверенность в себе. Подтекст раскрывается и благодаря очевидному соотнесению «антракта», в котором слон самостоятельно приходит в Кремль, и главы «Кремлевский хозяин». И если в этой главе второго тома Сталин, соотнося себя с Пушкиным и цитируя его («Чорт догадал меня родиться в России с умом и талантом»), выражает презрение к находящейся в его власти стране, то во введенном в текст третьего тома «антракте» он вспоминает, что его «кое-кто <…> сравнивает со слоном в посудной лавке» [Аксенов, 1993–1994: 3, 176], презираемым оказывается он сам. Ему непонятна логика жизни существа, которое, будучи самым сильным на земле, не является хищником, тем более его пугает свободолюбие слона Ганнибала с душой Радищева. И эти 105 игровые переплетения, и финальная гибель слона порождают новые смыслы, расширяя жанровые границы романа7. Любое, на наш взгляд, случайное упоминание героями имени поэта или его персонажа художественно мотивировано. Это может быть характеристика культурного кода, насмешка над примитивностью сознания псевдочитателей пушкинских произведений, деталь образа героя. Например, именно такую деталь использует Аксенов, передавая романтическую настроенность Бориса и трепетность Майки: «Ой, луна-то какая висит <…>! — вскричала Майка Стрепетова. — Ну прямо, как…ну прямо…прямо как Татьяна какая-то» [Аксенов, 1993–1994: 3, 276]. И позднее: «Порывы ветра проходили сквозь листву над их головами, шевелили Майкину гриву. Луна, склонившись как «какая-то Татьяна», светя сама себе, смотрела на дворы старого Тифлиса» [Аксенов, 1993–1994: 3, 284]. «Аксенов постоянно находится в семантическом поле «Пушкин» и расширяет это поле»8 [Карлина, 2007: 161). В этом же поле существуют и взаимодействуют его герои. И это не просто дань традиции или стремление сделать условность, игру частью литературного бытия, но отражение профессионального интереса, знак того, что творческая судьба писателя в значительной мере ориентирована на пушкинскую парадигму именно потому, что, как заметил однажды А. Битов, в Пушкине «свобода настолько была, что стоило приоткрыть клетку, как она заполнила сразу все пространство» (Битов, 1998: 392). Аксенов, создавая эффект неуловимости и вездесущности пушкинского присутствия в тексте, формирует собственную модель «свободного романа». Но это уже «свободный роман» ХХ в., его художественное пространство значительно шире, он населен множеством персонажей, в центре внимания его автора не только люди, но и человечество с его амбивалентным стремлением к самоуничтожению и возрождению. Поэтому в структуре этой особой жанровой формы эпическая составляющая трансформируется в эпопейную, взаимодей7 Аксенова критика упрекнула в отказе от индивидуального стиля, в примитивной реалистичности «Московской саги». Между тем писатель остался верен себе, несколько изменив форму иронии, игры и любимой им сказовости. Он следовал в романе творческому принципу, сформулированному еще в 1984 г.: «Я всегда стараюсь танцевать от печки, от реальности, это для меня очень важно — реальность. Только потом я ищу какой-то способ подняться над реальностью, т.е. совершить некую спираль… спирально подняться над реальностью… Для меня абсурд — это не попытка абсурдировать действительность, а наоборот, попытка с помощью абсурда гармонизировать действительность, которую я описываю» [Аксенов о себе, 1984: 130]. По иронии судьбы это был пример непонимания читателем (в этом случае профессиональным) еще одной аксеновской версии «романа самовыражения», пример той читательской глухоты, о которой Аксенов напишет позже. 8 В работе Н. Карлиной дан обзор разнообразных отсылок к творчеству Пушкина. 106 ствуя при этом с лирическим компонентом. Родовые различия при этом нивелируются именно благодаря соединению разных жанровых традиций: толстовской и пушкинской. Этот синтез находит отражение в романе на уровне игры, передающей горькую иронию автора: Аксенов вкладывает в уста следователя Нефедова, допрашивающего профессора Градова, фразу о том, что он «всю классику прочел», и обращенную к жертве просьбу спросить его «что-нибудь из Пушкина, из Толстого» [Аксенов, 1993–1994: 3, 365]. Он проявляется на сюжетном9 и композиционном уровнях: рассматривая происходящие события в контексте толстовской философии истории, Аксенов отказывается от толстовских публицистических отступлений, отдавая предпочтение лирикопублицистическим и собственно лирическим. Используя пушкинские принципы свободного повествования, Аксенов сознательно разрушает монолитность эпопеи, растворяя в ней черты толстовской семейной хроники и других жанровых элементов и таким образом изображая взаимоотношения государства и «мiра», жизнь «мiра» с его объективными и субъективными законами на фоне свободного самоопределения отдельных людей в их сложных взаимоотношениях с «мiром» и государством. В итоге Аксенов создал новую версию «романа самовыражения», в которой важную жанрообразующую роль играет литературная традиция. Список литературы Аксенов В. Десятилетие клеветы: радио-дневник писателя. М., 2004. Аксенов В.П. Московская сага: В 3 кн. М., 1993–1994. Аксенов В. Чудо или чудачество: О судьбе романа // Октябрь. 2002. № 8. (http://magazines.russ.ru/october/2002/8/aks.html) Аксенов о себе // The Third Wave: Russian Literature in Emigration. Ann Arbor, 1984. Аксенова В.В. Жанровое своеобразие прозы В. Аксенова 1960–1970-х гг.: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Астрахань, 2011. Баруэло Гонзалез Е.Ю. Роман В.П. Аксенова «Московская сага». Проблема жанра: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2009. Басинский П. О чем написал Аксенов? Опыт рецензии в манере пересказа // Литературная газета. 1994. 10 авг. Битов А. Неизбежность ненаписанного. М., 1998. Блажнова Т. Семейный портрет в дачном интерьере // Книжное обозрение. 1994. № 30 (26 июля). Вдох и выдох литературы. Беседа с В. Аксеновым // Литературные новости. 1994. № 1(57). Карлина Н.Н. Пушкинские аллюзии в романах В. Аксенова // Литература ХХ века: Итоги и перспективы изучения. М., 2007. 9 Молодые герои вспоминают «Евгения Онегина», а профессор Градов читает «Войну и мир». 107 Маликова Т.А. История ХХ века в романистике Василия Аксенова // Историософия в русской литературе ХХ и ХХI веков: Традиции и новый взгляд. М., 2007. Немзер А. Нам не понять — мы не любили. Василий Аксенов, Московская сага. Трилогия. М., Текст // Сегодня. 1994. 22 июля. Толстой Л.Н. Путь жизни // http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewic.text_0540. shtml Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 6. М., 1980. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. Сведения об авторе: Зубарева Елена Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы филол. ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: [email protected] ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 9. ФИЛОЛОГИЯ. 2011. № 5 МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ А.А. Лопухина О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕДЫСТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ДИАЛЕКТА (ПО ДАННЫМ МЕСТНОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVII в.) В статье реконструируются рефлексы древних *ě и *е (*ь) в двух архангельских говорах. В рукописных источниках XVII в. обнаружены написания с буквой я на месте этимологических ѣ и е, свидетельствующие о реликтовом произношении открытых гласных на месте *ě и *е (*ь). Ключевые слова: историческая фонетика русского языка, диалектология, архангельские говоры, памятники деловой письменности. This article presents reconstruction of the ancient *ě and *е (*ь) in two Arkhangelsk dialects. The manuscripts of the XVII century reveal the usage of the letter я in place of etymological ѣ and е, which indicates the archaic pronunciation of the open vowels as the realization of *ě and *е (*ь). Key words: historical phonetics, Russian language, dialectology, Arkhangelsk dialects, business manuscripts. Памятники локальной деловой письменности XVI–XVII вв. обычно дают ценный материал для реконструкции фонетических особенностей говора писцов. Бывает, однако, что они могут пролить свет и на предысторию отраженного в них диалекта. Продемонстрируем два таких случая на примере рукописей XVII в. из Антониева Сийского1 (современный Холмогорский р-н Архангельской области) и Важского Богословского2 (современный Шенкурский р-н) монастырей. Исследованные рукописи хорошо отражают фонетику холмогорского и шенкурского говоров. Доказательством этому могут служить, в частности, написания, которые черты характерны для описываемых говоров, однако редко наход свидетельствуют о наличии в говорах цоканья, переходного смягчения заднеязычных и сочетания кл на месте праславянского *tl3. Все эти ят отражение в памятниках письменности. 1 Хранятся в Российском государственном архиве древних актов, фонд 1196; при цитировании материала [№ документа (№ описи) — № листа]. 2 Хранятся в Государственном архиве Архангельской области, фонд 829; при цитировании материала [№ описи / № документа — № листа]. 3 Примеры отражения двух последних фонетических явлений встретились нам лишь в рукописях из Важского Богословского монастыря. 108 109