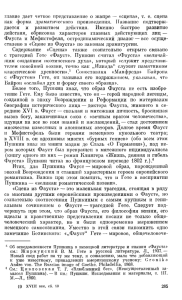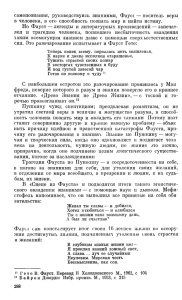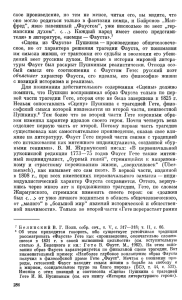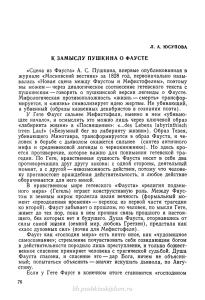Образ Фауста в немецкой литературе XVI
реклама

Галина Г. Ишимбаева Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8389864 Образ Фауста в немецкой литературе XVI—XX веков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Г. Ишимбаева. – 2-е изд., стер.: Флинта; Москва; 2014 ISBN 978-5-89349-479-2 Аннотация В учебном пособии представлены материалы к спецкурсу, посвященному судьбе одного из самых загадочных, колоритных и знаковых образов мировой культуры, – образу Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков. Почему фаустовский сюжет материализовался именно в Германии эпохи Реформации и оказался актуальным для немецкой словесности на протяжении столетий? Почему Фауст воспринимается сегодня в качестве метазнака немецкой культуры? Как этот образ помогает художникам Германии в философско-поэтическом осмыслении истории и современности, в решении вечных проблем бытия, смысла жизни и творчества? Вот круг вопросов, рассмотрению которых посвящена эта книга. В пособие включены контрольные вопросы и темы рефератов. Каждая глава сопровождается библиографическим списком. Для студентов-филологов и германистов, аспирантов и преподавателей вузов, всех интересующихся немецкой культурой, литературой и философией. Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Содержание Предисловие Введение Часть 1 1 2 Часть II Глава 1 1 2 3 4 Глава 2 1 2 3 4 5 6 Конец ознакомительного фрагмента. 4 9 12 14 16 24 27 27 28 30 34 38 38 39 41 42 43 46 49 3 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Галина Ишимбаева Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков Предисловие В истории мировой литературы существуют сюжеты, которые с завидным постоянством повторяются в культуре разных времен и народов, оставаясь для каждой эпохи современными и актуальными. Отвечающие на жгучие вопросы как вселенского, так и конкретно-исторического характера, они обладают константным содержанием, которое запрограммировано на вариативность прочтений. Эти пронизывающие столетия сюжеты изначально бесконечны и открыты будущему, но существуют в каждом конкретном случае в определенную эпоху, что накладывает на них отсвет живой жизни, творящейся здесь и сейчас. Их называют «традиционными», «вечными», «вековыми», «мировыми», «архетипическими», «магистральными»1, подчеркивая тем самым универсальность заключенного в них комплекса общечеловеческих проблем, внятных и с вневременной, и с конкретно-временной точек зрения. Рождение, становление и специфика культурно-исторического бытования традиционных сюжетов коренится в неразрывном единстве двух определяющих их фундаментальных начал – потенциальной вечности, связанной с характерной онтологической проблематикой, и строгой историчности составляющих сюжетных компонентов антропологического свойства. Центральные для традиционных сюжетов мифологические и фольклорные персонажи (Прометей, Икар, Иуда, Агасфер, Зигфрид, Фауст и др.), а также литературные герои (Дон Жуан, Дон Кихот, Гамлет, Тартюф и др.) служат целям художественно-поэтического выражения универсалий вселенского бытия и культурно-исторической реальности в ее богатстве и разнообразии. Этим и объясняется востребованность подобных знаковых фигур, приобретших значение общечеловеческих символов. В этой книге рассматриваются закономерности возникновения, функционирования и развития одного из традиционных сюжетов мировой литературы на культурно-историческом поле одной отдельно взятой страны: речь идет о фаустовском сюжете в Германии пяти последних столетий. Возникший на немецкой почве, он сыграл и продолжает играть здесь поистине великую роль. Поэтическое исследование судьбы Фауста связывается в немецкой литературе разных эпох с поисками ответов на вопросы: кто такие немцы, откуда проистекает их специфический тип мышления, в каком направлении они эволюционируют, как соотносится в них «Я»: и часть всего социума, и малейший фрагмент микросоциума. Размышления над путями фаустовского сюжета в Германии помогают проникнуть в скрытое ядро ментальности и культуры немецкого народа, разгадать и определить его своеобразие, уяснить глубинные свойства национального художественного сознания. То есть позволительно говорить об особой функции, которую выполнял и продолжает выполнять образ Фауста: он стал метазнаком 1 Отсылаем, например, к таким книгам отечественных исследователей, как: Мелетинский Е. О литературных архетипах. – М., 1994; Нямцу А. Рекомендации к изучению традиционных сюжетов и образов мировой литературы. – Черновцы, 1981; Пинский Л. Магистральный сюжет. – М., 1989; Хализев В. Теория литературы. – М., 1999. 4 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» немецкой художественной культуры, единицей характеристики эпохи в культурологическом плане. История изучения германской фаустианы в России насчитывает без малого два столетия. Можно выделить несколько этапов, в каждом из которых есть свой смысловой регистр, определяющий восприятие немецкого героя российскими реципиентами, – XIX в., рубеж XIX–XX вв., период после 1917-го. Первый период в истории российского фаустоведения начинается в 1820-е годы и проходит под знаком И.В. Гете. Это годы, когда, по меткому замечанию А. Михайлова, «немецкие литературные веяния достигают России скопом, сразу за полвека, усваиваются недостаточно расчленение, но при этом как нечто чрезвычайно существенное»2. Таким «чрезвычайно существенным» явлением для русской культуры XIX в. стал «Фауст» Гете, который воспринимался в России как главный и единственный немецкий Фауст. Освоение фаустовского материала российской словесностью XIX в. шло в трех направлениях: во-первых, через многочисленные переводы I и II частей гетевской трагедии (Э. Губера, М. Вронченко, А. Струговщикова, Н. Холодковского, А. Фета) и отрывков из нее (В. Жуковского, Д. Веневитинова, А. Грибоедова, Ф. Тютчева, К. Аксакова, Н. Огарева и др.); вовторых, в ходе создания собственной оригинальной художественно-поэтической фаустианы, опирающейся на традиции Гете («Сцена из Фауста» и «Фауст в аду» А. Пушкина, «Русские ночи» В. Одоевского, «Фауст» И. Тургенева, «Молотов» М. Помяловского и др.); в-третьих, в процессе философских интерпретаций проблемы Фауста в трагедии Гете (об этом размышляли любомудры и западники, В. Белинский и Н. Чернышевский, А. Герцен и И. Тургенев). Второй этап актуализации образа Фауста в России происходит на рубеже XIX–XX вв., когда российская культура внесла новые краски в фаустовскую рецепцию. С одной стороны, интерес к образу Фауста стимулировался эсхатологическими и богоискательскими настроениями, столь типичными в ту эпоху для некоторых слоев российской интеллигенции. Ему отдали дань виднейшие писатели Серебряного века, которые переосмысляли сюжет о договоре человека с дьяволом в терминах русской православной церкви и в традициях – принимаемых или отвергаемых, – идущих от «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», «Бесов» Ф. Достоевского. Наиболее показательны в этом смысле такие сочинения, как «Гоголь и черт» Д. Мережковского, «Огненный ангел» В. Брюсова, «Мелкий бес» Ф. Сологуба, «Жизнь человека» и «Иуда Искариот» Л. Андреева и др. Нередко интерес к Фаусту был связан в эти годы с интересом к оккультным наукам и эзотерическим тайнам. Так было с А. Белым и М. Волошиным, которые в течение ряда лет занимались теософией, были последователями и восторженными учениками Р. Штейнера, принимали участие в строительстве антропософского храма «Гетеанума» в Дорнахе. С другой стороны, на рубеже веков заявляет о себе и вторая линия исследований, посвященных образу Фауста. Ряд ученых обратился в это время к истории фаустовского сюжета ad fontes. И. Шаховской, М. Корелин, М. Фришмут, А. Белецкий проанализировали первоисточники – народную легенду о докторе Фаусте и первую литературную обработку сюжета от 1587 г., а также сделали робкие попытки представить некий общий рисунок развития фаустианы. Третий период в истории российского освоения фаустовского материала начинается после 1917 г. Советская культура, как некогда русская в XIX в., занялась переосмыслением образа немецкой народной книги в категориях своего времени. И, пожалуй, лучше всего о созвучии Фауста советской действительности говорят разрешение компетентных органов на многочисленные переводы фаустовских произведений с немецкого на русский язык, а также создание советской прозаической, драматургической и поэтической фаустианы, кото2 Михайлов А. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. – М., 1989. С. 77–78. 5 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» рую достойно представляют «Возвращение доктора Фауста» Э. Миндлина, «Конец мелкого человека» Л. Леонова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Пятый странник» В. Каверина, «Мефистофель» С. Алешина, «Читая Фауста» И. Сельвинского, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Альтист Данилов» В. Орлова и др. В собственно литературоведческом осмыслении образа Фауста можно выделить несколько направлений, по которым шло изучение фаустовской темы в СССР. Одно из них, занятое преимущественно истолкованием «Фауста» Гете, связано с еще дореволюционной литературно-критической деятельностью А. Луначарского, выступлениями Н. Бухарина, статьями И. Нусинова и др. Их усилия были направлены на то, чтобы насытить гетевскую трагедию постулатами социалистической теории. Принципиально другую позицию в отношении к гетевскому «Фаусту» занял Г. Шлет в своих «Эстетических фрагментах» (1922). Он дает резкие аттестации Фаусту народной книги и Фаусту Гете, внешне привязывая эти инвективы к критике картины западного мира по О. Шпенглеру. Идеи Шпета нашли продолжение в литературной критике М. Горького, провозгласившего в конце 20-х годов новый, созвучный времени лозунг: «не немецкий индивидуалист Фауст, а русский коллективист Петрушка». Как видим, в первые десятилетия советской власти Фауст – и главным образом гетевский Фауст – был в центре внимания нашей политизированной и идеологизированной культуры. Он стал настоящим знаменем борьбы за новое социалистическое искусство. В большой зависимости от генеральной линии партии в области фаустоведения оказывались и художественно-поэтические опыты советской фаустианы. Так, Миндлин поостерегся заканчивать роман о возвратившемся Фаусте, Леонов и Горький «овагнеризировали» своих фаустовских персонажей Лихарева и Клима Самгина, Булгаков не дожил до публикации своей лучшей книги. Поворотным годом в изучении фаустовской темы отечественным литературоведением стал 1958 г., когда В. Жирмунский подготовил академическое издание «Легенды о докторе Фаусте». Эта блестящая работа, лишенная недостатков советского вульгарно-социологизированного и политизированного литературоведения, стала первым фундаментальным исследованием народной книги и народной драмы о Фаусте. Однако в целом проблема эволюции фаустианства в Германии XVI–XX вв. остается в нашем литературоведении не разработанной. Иное дело – отдельные произведения фаустовской тематики и образ Фауста как один из вечных литературных типов, которые постоянно находятся в поле зрения отечественных ученых. Естественно, что в немецкоязычной германистике за истекшие пять столетий накопилась более обширная критическая литература, посвященная Фаусту. Нас в первую очередь интересовали работы обобщающего характера, имеющие своей целью показать развитие фаустовской темы в литературе Германии на протяжении XVI– XX вв. Вопреки ожиданиям, число таких работ относительно невелико. Как правило, в них сначала делается эмпирически-описательный обзор догетевской фаустианы, затем монографически подается трагедия Гете «Фауст». В ряде случаев такие обзоры заканчиваются не гетевским «Фаустом», хотя он естественно находится в центре внимания исследователей, а фаустовскими сочинениями Ленау, Граббе и Г. Гейне – если речь идет об эпохе немецкой классики, и романом Т. Манна «Доктор Фаустус» – если авторы претендуют на рассмотрение проблемы вплоть до XX в. В результате такого подхода в немецкой филологии сложилась парадоксальная ситуация: пятивековая история фаустовского сюжета в художественном творчестве, подробно и детально изученная в каждом отдельном конкретном случае, не осмыслена в целом как единый процесс, развивающийся по собственным внутренним законам; до сих пор не выявлены закономерности существования одного из вечных образов мировой литературы в Германии. 6 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Причины, по которым в немецкоязычном литературоведении стало возможным наличие белого пятна в области, тщательно изученной в частностях, коренятся, на наш взгляд, в том, что грандиозная гетевская трагедия была воспринята современниками и потомками поэта как непревзойденный образец творчества вообще и фаустовского сочинения в частности, она затмила все произведения о Фаусте, написанные раньше и позже. И если догетевскую фаустиану рассматривали, как правило, в качестве своего рода ступеней к великому творению Гете, то в послегетевской фаустиане достойным сравнения с Гете оказывался только Т. Манн, чей роман «Доктор Фаустус» обязательно сопоставлялся с гетевской трагедией. В итоге история доктора Фауста и ее литературное преломление на страницах произведений XVI–XX вв. мыслится и подается немецкими учеными как набор очерков, более или менее подробных, среди которых особенно выделены фаустовские сочинения Гете и Т. Манна. Понятно, что эти сочинения, безусловно выдающиеся, составляют славу и гордость немецкой словесности. Это два вершинных, но далеко не единственных фаустовских произведения XIX и XX столетий. Рядом с ними, в творческом споре с ними, в переосмыслении их концепций рождались и продолжают рождаться иные фаустианские книги, также являющиеся неотъемлемой частью единого литературного потока Германии. И уже одно это должно было бы насторожить немецких филологов, потому что с очевидностью сигнализировало о неких закономерностях существования одного из вечных сюжетов в литературе Германии. Но не насторожило, более того, было оставлено без должного внимания. Объяснение этому может быть только одно: немецкое литературоведение с XIX в. закрепило de jure фактическое наличие в немецкой фаустиане двух фаустовских протосюжетов, один из которых сложился в эпоху Реформации, а другой вырос из гетевской трагедии. После опубликования трагедии Гете в полном объеме (1832) фаустовский миф эпохи Реформации уходит в тень, становится фактом истории фаустианы, гетевская же фаустовская концепция с этого времени начинает серьезно влиять на последующие фаустовские сочинения. (И даже Г. Гейне, яростный ниспровергатель всех авторитетов, создавая свою вызывающую антигетевскую танцевальную поэму «Доктор Фауст» (1851), вынужден был тем не менее учитывать формально-содержательную сторону великой трагедии, чтобы ярче продемонстрировать самобытность собственного нетрадиционного разрешения проблемы. Что говорить тогда о Ф. Штольте, Ф.Т. Фишере, К.А. Линде, которые соответственно в 1859– 1869, 1862 и 1887 гг. выступили с попытками издать римейк гетевского «Фауста»! Более того, немецкая филология, начиная с прошлого века, расценивает фаустовский сюжет в гетевской интерпретации как эталон, которому нужно следовать и переосмысление которого должно караться как отступничество от национальных традиций. Цель настоящего учебного пособия – представить современному читателю пятивековую историю фаустовской темы в немецкой литературе, показать и проанализировать ее на примере лучших произведений германской фаустианы XVI–XX вв., помочь понять преемственность литературного процесса в Германии, обусловленную тематическим единством, увидеть движение художественной мысли от Возрождения через Просвещение и романтизм к реализму XX в. и постмодернизму. В этой связи представляется плодотворным поставить и разрешить целый ряд серьезных вопросов: об истоках фаустовского сюжета, о его корнях в культурной традиции и духовном укладе немецкой нации, о логике его развития, о его родовых чертах. Работа состоит из вводного раздела, где кратко обозначено содержание книги в целом. Далее заявленная проблематика раскрывается поэтапно: уясняется специфика первой литературной обработки фаустовского сюжета в эпоху Реформации (часть I), анализируется структура и генезис ставшей традиционной просветительской концепции Фауста (часть II), 7 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» исследуются причины появления и содержательные признаки романтического Антифауста (часть III), определяется сущность философской экстраполяции вечного образа на рубеже XIX–XX вв. (часть IV), осмысляется жизнь Фауста «на распутье» в XX столетии (часть V). При этом исторические модификации фаустовского сюжета, история его как части литературы и культуры Германии мыслится в неразрывной связи с историей общества, его идеологией, этикой, эстетикой, религией, которые в совокупности, в целостной системе определяют принципы мировйдения художника, а вместе с тем и способы художественного отображения действительности, форму и структуру его произведений. 8 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Введение Доктор Иоганн Фауст, немецкий чернокнижник, продавший душу дьяволу и пожертвовавший вечностью во имя преходящих земных радостей, – один из наиболее колоритных, загадочных и знаковых образов мировой литературы. Сюжет о душепродавце возник в эпоху средних веков, подытожив многочисленные европейские демонологические легенды разного происхождения – из канонических книг Нового завета, апокрифов, житийной литературы, антипапских сочинений, историй об искавших запретной мудрости ученых и философах. В дальнейшем они были перенесены на личность некоего реального Иоганна – Георга Фауста, о котором достоверно известно, что он жил в Германии в первой половине XVI века и прославился как неутомимый искатель истины, отважившийся на сделку с сатаной. Первая литературная обработка фаустовской легенды была сделана в 1587 г., когда И. Шпис опубликовал в своем издательстве книгу «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». Именно она выполнила роль первого протосюжета в мировой фаустиане, т. е. стала тем произведением, к которому будут восходить все последующие обработки фаустовского сюжета. Начиная с 1578 г., каждая эпоха стремится заново осмыслить легендарный образ, который приобретал ярко выраженные черты исторического времени, его идеологии, политики, эстетики, этики. Так, в книгах Г.В. Видмана «Достоверная история Фауста» (1599) и Н.И. Пфитцера «Жизнь Фауста» (1674), на излете эпохи Возрождения, герой народной легенды перестает быть титаном духа и мысли, превращаясь только в грешника, чья судьба должна служить поучением и предостережением всем истинно верующим христианам. На протяжении XVII – первой половины XVIII в. фаустианская тема в Германии представлена преимущественно на театральных подмостках. В оперно-балетных претенциозных спектаклях и кукольных комедиях, перерабатывавших «золотую легенду» в соответствии со вкусами своих зрителей, происходит дальнейшее снижение высокой патетики первоисточника. В одном случае образ Фауста трактовался в стиле манерного придворного искусства, в другом в традициях массовой культуры с ее пристрастием к феерии и буффонаде. Ситуация изменяется в эпоху Просвещения, когда фаустианская тема вновь вошла в обиход классической немецкой литературы. В 1755–1775 гг. в «Письмах о новейшей литературе» и в набросках трагедии Г. Лессинг заложил основы просветительской концепции образа Фауста, человека дерзновенного ума, молодого ученого, полного стремления к истине и обуреваемого жаждой познания. Вслед за Лессингом, открывшим немецкой фаустиане новые горизонты, к этой теме обращаются представители «бури и натиска». В 1770-е годы появляются «Пра-Фауст» И.В. Гете (1773–1775), драматический отрывок «Фауст в аду» Я.-Р. Ленца (1777), первая часть прозаической драмы «Жизнь и смерть доктора Фауста» Ф. Мюллера (1778); несколько позже был написан роман Ф.-М. Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (1790). Штюрмеры трактовали героя народной легенды как «бурного гения», мятежного индивидуалиста, сверхчеловека, выступившего против убожества современного ему филистерского общества. Намеченная Лессингом идея разработки сказания о Фаусте в духе гуманизма, веры в человека и его творческие силы нашла наиболее полное и глубокое художественное воплощение в немецкой трагедии И.В. Гете «Фауст» (1773–1831), который радикальным образом переосмыслил первый протосюжет и заложил основы другого фаустовского архетипа. Гетевский Фауст будет отныне влиять (прямо, опосредованно, методом от противного) на все фаустовские и антифаустовские модификации в мировой литературе. 9 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Просветительская интерпретация одного из вечных литературных образов существенно видоизменяется в эпоху романтизма. С одной стороны, К. Брентано в поэме «Романсы о Розах» (1803–1812), А. фон Арним в романе «Хранители короны» (1817), Э.Т.А. Гофман в романе «Эликсиры сатаны» (1815– 1816) единодушны в своем стремлении снизить накал фаустовских страстей. Их герои Пьетро Акопо, доктор Фауст, монах Медард являются карикатурой на легендарного персонажа немецкого Возрождения и связаны с установившимся в Европе торгашеским духом нового времени. Это авантюристы, шарлатаны, преступники, которым неведомы благородные порывы, общенародные и общенациональные устремления, высокие чувства и замыслы, которые не могут подняться выше соображений примитивно понимаемого личного комфорта. С другой стороны, А. фон Шамиссо в повести «Удивительная история Петера Шлемиля» (1813) создает еще один антифаустовский персонаж, из корыстных интересов продающий свою тень дьяволу. Однако в отличие от «антигероев» гейдельбергских романтиков и Гофмана персонаж Шамиссо эволюционирует, превращаясь в конце концов в героя, типологически близкого просветительскому идеалу. Петер Шлемиль, средний человек толпы, находит в себе силы порвать с лукавым и только после этого становится великим ученым, обретает смысл жизни в исследовании природы и служении нуждам человечества. Во второй половине XIX – начале XX в. фаустианская тема в Германии становится достоянием истории немецкой литературы и одновременно ярко заявляет о себе в немецкой философии. В книгах Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883) и О. Шпенглера «Закат Европы» (1918, 1922) происходит весьма оригинальное возрождение персонажа «народной книги». Последний романтик XIX в., Ницше создает декадентского Фауста – Заратустру, в котором, подобно гейдельбергцам, переосмысляет традиции просветительской фаустианской концепции Гете. Его идее о деятельности исключительной личности на благо человечества и во имя установления мировой гармонии Ницше противопоставляет свою – о сверхчеловеке, обретающем власть над ослепленной толпой недочеловеков. При этом демонстративное антигетеанство ницшевской трактовки Фауста, в известном смысле перекликающейся со штюрмерским пониманием героя «золотой легенды», соседствует с демонстративным же обращением Ницше к не немецким литературным традициям и внесением в исконно немецкую фаустовскую мифологему общеевропейского содержания. Шпенглер вслед за романтиками и Ницше сочиняет свою фаустовскую концепцию, противоположную гетевской. Трактовке фаустовского архетипа, предложенной в Век Разума, он противопоставляет модернистскую версию мифологического персонажа, который становится у него титульным героем западной культуры и цивилизации. Миг величайшего торжества героя просветительской трагедии прочитывается им как доказательство энтропии Вселенной. Так декадентско-модернистское истолкование фаустовской мифологемы на рубеже XIX–XX вв., когда Ницше и Шпенглер переосмыслили и переакцентировали классическое наследие, подготавливало принципиально нетрадиционные философско-художественные концепции «вечного образа» в немецкой литературе XX в. В XX в. Германия с ее национальной трагедией и ее виной перед человечеством в очередной раз обращается к фаустовской теме, чтобы в художественно-философской форме осмыслить свое прошлое и настоящее, чтобы понять, почему «мифы XX в.» так воздействовали на немецкого обывателя, чтобы определить пути своего развития. Писатели Германии XX в. стремятся осознать, почему в их стране, славной великими культурными традициями, стало возможным варварство национал-социализма, каковы причины духовного феномена немецкого фашизма. Поэтому немецкая фаустиана XX в. посвящена прежде всего судьбе и роли творческой интеллигенции в годы кризиса, пережитого Германией. Об этом размыш10 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» ляют А. Нойман в романе «Дьявол» (1926), К. Манн в романе «Мефистофель» (1936), Э. Ласкер-Шюлер в стихотворной драме «Я и я» (1944), Т. Манн в романе «Доктор Фаустус» (1943– 1947), Э. Юнгер в романе «Гелиополис» (1949), С. Гейм в романе «Агасфер» (1981). В отличие от предыдущих периодов развития фаустовской темы в Германии, когда существовало некое единообразие в подходе к решаемой проблеме и когда можно было говорить о ведущей тенденции в трактовке легендарного героя, XX век демонстрирует множественность истолкований «вечного образа», который в одних случаях дегероизируется, в других – прославляется, в третьих – оборачивается Антифаустом. Нойман исследует психологический феномен холопства, возведенного в ранг демонического величия. К. Манн занят историей талантливого актера, продавшегося фашистскому режиму и потерпевшего полное крушение как творческая личность. Ласкер-Шюлер рассматривает судьбу интеллигенции при фашизме в несколько отвлеченном плане как вечное бессилие духа перед властью. Т. Манн показывает Фауста эпохи декаданса, одерживающего победу над временем. Юнгер создает портрет Фауста в экзистенциальном интерьере, доказывая необратимость перерождения героя в свою противоположность в эпоху определенных исторических катаклизмов. С. Гейм по-постмодернистски издевается над своим персонажем, который, повторяя все внешние повороты «золотой легенды», не соответствует ей по сути. Даже из этого самого краткого предварительного обзора видно, что образ Фауста многопланов и принципиально неисчерпаем. Он постоянно участвует в развитии духовной культуры Германии и живет на каждом новом этапе истории новой жизнью. У каждого времени свой Фауст. И есть все основания говорить о разных Фаустах – возрожденческом, просветительском, барочном, штюрмерском, романтическом, реалистическом, экзистенциальном, модернистском, постмодернистском… В каждом случае концепция «вечного образа» тесно связана с конкретно-исторической общественной ситуацией, являет собой очередную версию фаустовского сюжета во всем своеобразии авторских идейных, эстетических, этических принципов. Таким образом, мы имеем дело, по терминологии Юнга, с «содержанием времени»3, которое выражает художник, используя фаустовский архетип. 3 Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество//_Юнг К.Г. Дух Меркурий. – М., 1996. – С. 271. 11 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Часть 1 Реформация: первый Фауст Зададимся вопросом: почему фаустовский архетип «материализовался» именно в Германии на рубеже XV—XVI вв.? Предреформационная Германия существовала в атмосфере грядущего пришествия Антихриста и Страшного суда. И тому было немало причин. Возрождение здесь началось позже, чем в Италии, и оказалось тесно связанным с теологией и с выступлением Лютера против Римско-католической церкви. Так движение гуманизма, зародившееся в Италии на рубеже XIII–XIV вв. и обозначившее коренной переворот в умах людей и в их оценке окружающего мира, приобрело на территории Священной Римской империи для германской нации мистический оттенок богословской казуистики. В противоположность Англии, Франции, Испании, где сильная централизованная королевская власть облегчила национальное объединение, различные области Германии оставались фактически разобщенными. Вследствие этого Германия отставала от других европейских стран по темпам капитализации производства и сельского хозяйства и была вынуждена заниматься модернизацией существующей системы хозяйствования. Поэтому немецкие раннебуржуазные предприниматели, предбуржуа, переживали один из самых затруднительных периодов существования, так как отставали от общеевропейского процесса. Отсюда проистекал вселенский пессимизм, характерный для немецкой бюргерской культуры предреформационной эпохи, проникнутой ощущениями кризиса, заката, конца времен. Специфическая апокалиптика немецкой бюргерской культуры XV в. наиболее последовательно изложена в сочинениях Эразма Роттердамского, властителя дум образованного немецкого буржуа накануне Реформации, и отображена в картинах на апокалипсические сюжеты Альбрехта Дюрера. Эту эсхатологическую ситуацию можно было пережить при помощи новых нравственных ориентиров, которые могла дать в те времена только церковь. Церковь в эпоху средних веков была не столько идеологическим учреждением, сколько универсальной системой, этически организующей социальный космос. Однако европейская католическая церковь с ее симонией, бенефициями, индульгенциями и прочими институтами выколачивания денег из прихожан не могла соответствовать чаяниям бюргерства. Так возникла необходимость мировоззренческого переворота, который и был совершен Мартином Лютером и сторонниками его учения. Согласно средневеково-католической точке зрения, человек есть существо греховное по своей природе. Согласно Лютеру, человек есть существо, осознающее как свою греховность, так и свое назначение – устремиться вверх, к Богу, соединиться с Ним, приобщиться к полноте Божественного бытия, т. е. стать истинной личностью, в которой тварное начало уничтожено. Официальная католическая церковь и культура систематически подавляли человеческую плоть, провозглашая антиномию природного и духовного в человеке. Лютер поставил на повестку дня немецкой и – шире – европейской культуры вопрос о необходимости пересмотра подобной дихотомической традиции и выступил за нераскол отого, гармоничного человека, в котором телесное и возвышенное слились воедино и который напрямую, без посредников, общается с Богом. Главная заслуга Лютера в том, что он сумел сфокусировать и выразить те идеи, которыми было насыщено существование интеллектуальной Германии рубежа XV–XVI вв. и которые оплодотворили народную легенду о гениальном ученом, не чуждающемся ничего 12 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» человеческого. Фауст жаждет истины любой ценой – это определяет его физический тип и нравственный склад. Он борется за свое всечеловеческое «Я», за гармонию телесного и духовного, за моническую этику, в которой добро и зло не являются полюсами человеческой сущности, а взаимосвязаны. Однако витальный герой, синтезирующий всю полноту физической и духовной жизни, был слишком смел для отсталой Германии порубежья, на стыке средних веков и Возрождения, – с ее традиционным тяготением ко всему мистическому, сакральному и трансцендентальному. Поэтому Фауста народной легенды окружает ореол сатанизма, он становится чернокнижником, вступившим в сговор с демоном. Таким образом, в становлении фаустовского архетипа, структуры особого рода в коллективном бессознательном, в которой отложился опыт целокупного человечества, главная роль отводится предреформационной Германии, предложившей новый взгляд на возможность отношений человека с Богом и дьяволом в ситуации трагической борьбы старого и нового, и ментальности немецкого народа с его тяготением к глубинной философии. Поэтому Фауст и стал национальным героем Германии, а фаустианская тема – магистралью развития немецкой литературы. 13 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» 1 Первая литературная обработка фаустианской легенды появилась в 1587 г. во Франкфурте-на-Майне в издании Иоганна Шписа – «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике»4. С самого начала издатель мистифицирует своего читателя. Так, в авторском предисловии он ссылается на «всем известное пространное предание о разных похождениях доктора Фауста» (504–505); заявляет, что «никто не записал по порядку эту страшную историю» (505); утверждает, что настоящую рукопись получил от одного своего «доброго знакомого из Шпейера» (505). С другой стороны, в последних главах Шпис сообщает о появлении книг: одну после смерти Фауста и с его разрешения якобы написал фамулус Вагнер, другая была якобы составлена собственноручно Фаустом и содержала рассказ о его «искусствах, деяниях и обо всем, что было» (605). К ней, по замечанию Шписа, были добавлены показания студентов и магистратов, оказавшихся свидетелями ужасающей кончины доктора. Большое количество ссылок на источники – обычный литературный прием, призванный подтверждать авторитетность и достоверность вымышленного текста. Однако этот традиционный в средневековой литературе ход, когда автор выступает только в роли издателя чужой рукописи, сослужил дурную службу писателю Шпису, который в памяти потомков остался в расплывчатом образе смиренного и богобоязненного издателя, посвятившего «свое ярмарочное издание» (506) «достохвальным и благородным» (504) школьным друзьям – Каспару Кольну, писцу канцелярии курфюрста Майнцского, и Иерониму Хофу, казначею в графстве Кенипитейн. Все это – отсылки к первоисточникам и информация о друзьях и знакомых – способствует представлению Иоганна Шписа в облике человека недалекого и приземленного, который в силу своей ограниченности не был способен понять величие легенды о Фаусте. А между тем внимательное прочтение «Истории о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике» убеждает в том, что ее издатель был не только «акулой книгобизнеса», но и оригинальным писателем. И отнюдь не узким и ограниченным, а, напротив, великим – величием человека и творца эпохи Возрождения, сумевшим поднять народную легенду до уровня большой философии и настоящей поэзии. Об этом свидетельствуют, помимо красоты слога, каким изложена история доктора Фауста, постановка актуальнейших проблем человеческого существования и их решение, а также поэтические и структурные доминанты книги 1587 г. Свою цель издатель четко формулирует уже на титульном листе: эта книга напечатана, «дабы служить устрашающим и отвращающим примером и искренним предостережением всем безбожным и дерзким людям» (504). И, в соответствии с заявкой, Шпис излагает историю легендарной личности, подписавшей договор с дьяволом, наблюдавшей и творившей чудеса и, наконец, по заслугам получившей воздаяние. Вся эта информация содержится на титуле, как и совет всем богобоязненным и смиренным людям: «Будьте покорны Господу, противоборствуйте дьяволу, и он бежит от вас» (504). Книга воспроизводит всем известную в ту пору историю, своими корнями уходящую в глубь веков. Напоминание об известном усиливается предварительной справкой издателя, где кратко излагается судьба героя. Такая подача материала позволяла Шпису сосредото- 4 История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике // Немецкие шванки и народные книги XVI в. – М., 1990. В дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках. 14 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» читься не столько на внешних перипетиях истории, сколько на закономерности преступления Фауста, совершенного им против Бога, и на неотвратимости наказания. 15 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» 2 Уже первая глава книги изображает человека, избалованного судьбой, любимца небес. Как иначе расценить начало биографии Фауста? Крестьянский сын, имевший «отличные способности и память» (507), благодаря своему дяде, состоятельному горожанину из Виттенберга, получил возможность учиться теологии в университете и так преуспел в этом деле, что стал доктором богословия. Однако не зря звали его «мудрствующим» (для Шписа это определение тождественно понятию «дурная, вздорная и высокомерная голова» (508), в гордыне своей он отринул Священное писание и стал вести «безбожную и нечестивую жизнь» (508). Фауст стал мирским человеком, занялся медициной, астрологией и математикой, заклинаниями, волшебством и колдовством. Таким образом, перед нами герой, изначально совмещающий в себе добро и зло, склонность к Господу и тяготение к бесовскому «искусству Дарданову» (508), – тип двуликого Януса. И на протяжении всей своей сознательной жизни он так и будет метаться между противоположными полюсами своей натуры. Предавшись теологии, познав ее, продвинувшись на этом поприще неизмеримо дальше товарищей, Фауст ощущает свою исключительность, начинает тосковать по магии. Став кудесником и некромантом, проникнув в недоступные для обычных людей ведовские тайны, он по временам тянется к небесной отчизне и почти готов покаяться и расторгнуть свой договор с Мефистофелем (596). В этой двойственности – первопричина греховности Фауста. Он и сам отдает себе в этом отчет, когда, например, произносит: «Ах, любовь и ненависть, почему вы одновременно в меня вселились, раз я должен из-за вас теперь терпеть такую муку?» (606). Резонно заявляет Иоганн Шпис, цитируя Писание: «Никто не может служить двум господам зараз» (508), Фауст же словно испытывает Бога, и потому он обречен на страшную судьбу. В прямой связи с этим находится вопрос о божественной предопределенности всего сущего в мире. Франкфуртский печатник Шпис оригинальным образом решает эту проблему, возводя ответственность за все происшедшее с героем народной книги на него самого. Шписовский Фауст говорит: «…я сам это себе избрал и терплю теперь осмеяние себе в ущерб» (610). Как видим, понятие Божьего суда здесь заменяется судом человека над самим собой; железному закону неотвратимой необходимости противопоставляется свобода самостоятельного выбора человека. Фауст изъявляет свою волю, когда уходит из лона Церкви, когда оставляет теологию и дважды подписывает договор с посланцем ада. Однако двадцать четыре года насыщенной жизни, в ходе которых ему было доступно буквально все: глубины наук и мироздания, невыразимые физические и интеллектуальные наслаждения, власть над прошлым и настоящим, – привели его к состоянию внутреннего беспокойства и робости. Чем ближе к концу, тем отчетливее Фауст ощущает, что блага, посыпавшиеся на него из чертова рога изобилия, лишили его тело и душу зрения. Он понимает, что наслаждения быстротечны, в то время как душа – вечная субстанция. Поэтому он осуждает себя и приговаривает к смерти. Оценка собственной жизни (в год истечения договора с Мефистофелем), убеждает Фауста в ложности избранного им дерзкого пути, и он капитулирует. В своей предсмертной речи он обращается к студиозусам: «…имейте же всегда перед очами Господа и молитесь ему, чтобы он защитил и сохранил вас от козней лукавого и не вводил вас во искушение» (613), называет себя «безбожным и окаянным человеком» (613) и поучает: «Посещайте прилежно и усердно церковь, боритесь с дьяволом и побеждайте его твердой верой в Христа и благочестивым поведением» (613). 16 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Сцена финального обращения Фауста к студентам чрезвычайно важна. Именно здесь единство двух противоположных ликов его души получает символическое выражение в знаменитой формуле героя: «…я умираю как дурной и как доблестный христианин: как добрый христианин, ибо я покаялся и в сердце своем прошу о прощении, чтобы спасти этим, быть может, свою душу; как дурной христианин, ибо я знаю, что дьявол хочет взять мое тело, и я готов охотно оставить ему это тело, лишь бы он оставил в покое мою душу» (613–614). Что касается Господа Бога, то он выступает на страницах книги как некая абстрактная сила, никак себя не проявляющая. Существует только человек, подсудный своей совести, ему отданы прерогативы Бога. Это лишний раз подчеркивает, что первая литературная обработка истории Фауста сделана именно в традициях эпохи Возрождения, когда на смену теократизму пришли гуманистические, антропоцентристские мотивы. Нельзя забывать, что последним во времена Ренессанса были свойственны внутренние противоречия, которые прежде всего были связаны с элитарностью науки и культуры (недаром Фауст, обогнавший свое время, остается гениальным одиночкой как среди людей образованных, так и тем более в безграмотной плебейской толпе). Однако возрожденческий гуманизм народной книги, изданной Шписом, проявился и в том, что здесь содержатся по-настоящему революционные идеи: обращение к внутренней, земной «божественности» человека; отказ от насаждаемой сверху Божьей истины; акцентирование человеческой творческой активности; утверждение человека в его праве самому судить себя за свои прегрешения. Все это звучит диссонансом с учением Мартина Лютера, который был убежден в том, что Бог предопределяет человека к вечному спасению через непосредственную веру в Писание. Другими словами, Лютер выступил против церкви как единственного посредника между Богом и человеком, призвал к чистой вере, которая и есть «божий дар». Шпис идет дальше. Его Фауст отказывается от истинной христианской веры, согрешив же, не становится беспомощным и не просит Бога об искуплении – он освобождается от своего морока сам, осознав все и осудив себя. На наш взгляд, в этом можно усмотреть известную необъявленную полемику Иоганна Шписа с основателем немецкого протестантизма, непосредственно выраженную в одной из последних глав книги. Здесь рассказывается о том, как злой дух донимает опечаленного Фауста насмешливыми речами и среди прочего декламирует «свои стихи»: Знаешь что – молчи, По-пустому слов не мечи. Что имеешь, держи под замком: Беда сама идет в дом. Потому молчи, терпи и крепись. Таись и горем ни с кем не делись. Поздно, поздно Господа звать, Горе растет – его не унять (607). Между тем как истинный автор этих виршей – «Застольные беседы» – не кто иной, как Мартин Лютер. Точка зрения Иоганна Шписа на описываемые события совершенно очевидна: Фауст, сознательно отрекшийся от Бога и вступивший в союз со злыми духами, должен быть наказан погибелью души и тела. Эта идея получает воплощение в кольцевой 17 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» композиции книги. В предисловии Шпис говорит о том, что хочет показать читателям «… устрашающий пример, из которого можно…въяве узреть, до какой крайности может довести человека самоуверенность, дерзость и любопытство, могущие послужить причиной отпадения от Господа» (505). В конце книги – в своеобразном авторском заключении, состоящем из одного абзаца, еще раз напоминается каждому христианину о необходимости бояться Господа и избегать бесовских дел, «страшным примером» (616) которых и была история Фауста. Ведущим стержнем логической и лингвистической конструкции единой темы, звучащей в начале и в конце книги, оказывается словосочетание «устрашающий пример» и его вариант «страшный пример». В первом случае форма причастия выражает одновременно некое действие и некое качество, которые несет в себе рассказ о докторе Фаусте: он призван устрашить читателя и привести его в состояние страха. Используемая во втором случае форма прилагательного констатирует тот духовный потенциал, который приобрел каждый христианин, ознакомившийся с историей бывшего доктора богословия. То есть формулировка цели предпринятого издания книги и подведение итогов ее выполнения сделаны в одном ключе. Увертюра и кода фаустианского сказания выдержаны в единой минорной тональности, при этом первая звучит только трагически, вторая – патетически. С этими языковыми и музыкальными тонкостями перекликаются и другие, теологические соображения Шписа. Лейтмотив начала и финала книги – апостольские Послания: во введении слова Иакова: «Будьте покорны Господу, противоборствуйте дьяволу и он бежит от вас» (504), в заключении – наказ Петра: «Бодрствуйте и бдите, ибо дьявол, ваш супостат, бродит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противоборствуйте ему твердою верою» (516). Словосочетание, объединяющее оба Послания, – «противоборство дьяволу». Однако в первом апостольском совете проводится мысль о самодостаточности покорности Богу, что рассматривается как эквивалент противоборства сатане, который вынужден будет бежать. Заключительный пассаж не столь оптимистичен: здесь звучит идея о том, что бесовские силы постоянно начеку, всегда готовы обрушиться на беззащитных людей. Значит, спасение своей бессмертной души истинный христианин может обеспечить не просто покорностью Господу, но противопоставлением дьявольскому наваждению своей твердой веры. Таким образом, кольцевая композиция книги Шписа не есть только свидетельство завершенности изображенного действа. Оно принципиально не имеет конца, бесконечно, трансцендентально, потому что обращено к вечным проблемам добра и зла, которые каждый человек – независимо от вероисповедания – должен сам решать на протяжении всей своей земной жизни. 3 Структура книги Шписа трехчастна и отличается продуманностью, стройностью и изяществом. В первой части рассказывается об истории рождения героя, о его становлении, о сделанном им сознательном выборе между силами добра и зла, о подписанном им договоре с дьяволом, о его беседах с Мефистофелем по вопросам природы ада и падших ангелов, дьявольского правления и власти, геенны огненной и мук адских. Вторая часть посвящена ученым занятиям Фауста астрологией и астрономией, его путешествиям в ад и по звездам, волшебным поездкам в некоторые государства и княжества. Последняя часть повествует о магической практике Иоганна Фауста при дворах царствующих особ, о злых шутках, которые он проделывал со своими современниками без различия их сословного положения, о втором договоре с бесом и о кончине героя. 18 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Все части книги соразмерны и в своем единстве, соответствуют общему авторскому замыслу: после постановки проблемы Шпис сначала дает ее развитие в философско-теологическом плане; затем – в более приземленном, когда на смену вопросам мироздания и смысла бытия приходят более частные, связанные с отдельными науками и конкретными областями (неба, преисподней или земли); и в конце предлагаются прозаически-бытовые, даже анекдотические эпизоды из жизни Фауста, стремительно приближающегося к своему концу; «горестная и ужасная» (570) смерть героя заканчивает книгу. Такое дедуктивное построение книги – от общего к частному, – согласно которому Фауст с высот вечных вопросов бытия опускается до заурядного воровства и мошенничества, до ярмарочных трюков, должно в очередной раз продемонстрировать неотвратимость наказания и расплаты. Для усиления этой своей любимой идеи Шпис прибегает к своеобразным повествовательным приемам. Рассказ от третьего лица сменяется записками, якобы собственноручно составленными героем – это два его договора с Люцифером, письмо к лейпцигскому медику Ионе Виктору, три жалобы-плача. При этом автор на полях зачастую комментирует точку зрения своего героя на излагаемые им события. Так, в главе 53, где приводится второе обязательство доктора Фауста, которое он дал своему духу, напротив признания: «…я…в течение семнадцати лет…был враждебен Богу и всем людям» – Шпис ставит такие слова: «Спаси нас, всемогущий Господь» (596). К этому же приему он прибегает неоднократно и в других главах своей книги, когда на полях страницы приводит краткое резюме, передающее самое существо изложенных в тексте идей, их нравственно-этическую и эмоциональную оценку, моральные сентенции. Прием маргиналий был традиционным в средневековой литературе, однако, в книге Шписа он выполняет и новую функцию, которая сродни эффекту очуждения в брехтовском эпическом театре. Авторский комментарий на полях книги о докторе Фаусте призван прежде всего активизировать восприятие читателя, способствовать его выбору и принятию им решения. Тем самым Шпис достигает столь необходимого объективирования истории. Этим же целям служит и введение в художественную ткань произведения стихов Себастиана Бранта и Мартина Лютера. Глава 7 книги Шписа – «Против доктора Фауста, закореневшего в своих злодеяниях; стихи» – представляет собой рифмованные заголовки к трем главам «Корабля дураков» Бранта (1494) и следует за первым договором Фауста с Мефистофилем. Эти 15 строчек подчеркнуто выпадают из плавного и последовательного рассказа и обращены непосредственно к читателю. В них содержится своеобразный комментарий к заключенной сделке, и оценка судьбы героя. Расставляя акценты в истории Фауста, Шпис находит себе союзника, жившего столетием раньше и тоже считавшего, что тот, «кто обуян гордыней вдруг, а скромность вешает на крюк», обречен, ибо «тот рубит под собою сук и душу, жизнь – все потеряет вдруг» (516). Стихи Лютера появляются в главе 65 книги – между жалобами Фауста, осознающего близость своего конца. Как уже отмечалось выше, их приписывает себе Мефистофель и произносит в ответ на второй плач своего должника. Звучание лютеровских виршей в таком контексте тоже способствует созданию эффекта очуждения: с одной стороны, происходит прямое очуждение произведения от его истинного автора, с другой – здесь констатируется вся бесполезность раскаяния грешника. Поздно, поздно Господа звать, 19 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Горе растет – его не унять (607). Эти строки в очередной раз создают определенную атмосферу, заставляющую содрогнуться души и сердца читателей, которые знают об ужасной смерти, ожидающей грешного Фауста. Поэтика книги Иоганна Шписа позволяет сделать выводы об особом месте, занимаемом «Историей доктора Фауста» в немецкой литературе XVI в. Эта книга, безусловно, принадлежит к серьезной литературе, к так называемой «литературе большой темы», где поднимаются философские, этические, религиозные, научные проблемы. При этом Шпис, автор и книгоиздатель, хорошо знал, кому было предназначено его сочинение – не только образованной элите эпохи Реформации, но и ярмарочной толпе. Поэтому история о чародее и чернокнижнике совмещает в себе философичность, высокую книжность и элементы массовой литературы. Естественно, что Шпис как человек своего времени хорошо знает Писание и вводит прямые и опосредованные цитаты из него в ткань повествования. Так, рассказывая о благочестивых родителях своего безбожного героя, он вспоминает аналогичные примеры из Ветхого Завета – Каина (Бытия 4), Рувима (Бытия 49), Авессалома (Царств 2,15 и 18). Главным доводом в пользу наказания доктора Фауста Шпис выставляет тот факт, что его герой «хорошо знал заповедь Христа: тот, кто волю Господню знает и ее преступает, будет вдвойне наказан» (508). Из уст некоего старца, который попытался отвратить Фауста от его безбожной жизни, звучит рассказ о Симоне из Самарии (Деяния апостолов, гл. 8) (594). Показывая финальное раскаяние чернокнижника, автор в очередной раз сравнивает его с первым убийцей в роде человеческом: Фауст «…пытался молиться, но молитва нейдет у него с языка, как у Каина, который тоже говорил: грехи его превышают меру того, что может ему проститься» (614–615). А Мефистофель в самом начале своего знакомства с Фаустом, живописуя ад, цитирует Книгу притчей Соломоновых: «…ад, чрево женщины и земля ненасытны» (532). Шпис был, несомненно, основательно знаком с церковной и светской литературой своего времени. Это проявляется в прямых заимствованиях из сочинений отцов церкви и светских авторов. Например, описывая хитрости и коварство слуг антихристовых, автор «Истории о докторе Иоганне Фаусте» опирается на «Процесс Белиала» (1508) де Терамо (527), имена десяти областей ада и их правителей называет по «Люцидарию» (1572), некоторые магические фокусы Фауста переносит из книги Лерхеймера о колдовстве (1585), космологические и географические сведения приводит по «Мировой хронике» Шенделя (1493), а примеры некромантской деятельности героя – по «Эрфуртской хронике» Рейхмана-Вамбаха (ок. 1556). Описание ада и рая на страницах книги Шписа удивительно перекликается с соответствующими частями «Божественной комедии» Данте (нач. XIV в.). Автор книги о Фаусте демонстрирует, что не понаслышке знает античную культуру, которая становится у него символом распутной мысли. Недаром носителем этой культуры прежде всего оказывается Мефистофель. Отвечая на вопрос Фауста о сотворении мира, он излагает концепцию античного материализма, получившего хождение среди передовых мыслителей эпохи Возрождения: «Мир, мой Фауст, никогда не рождался и никогда не умрет. И род человеческий был здесь от века, так что не было у него начала. Земля же сама собой родилась, а море от земли отделилось… Богу они предоставили создать только людей и небо, так что люди в конечном счете должны быть подвластны Богу…» (541). Эта философия вызывает возмущение Шписа, который так комментирует ее на полях страницы: «Дьявол, ты лжешь, Божье слово учит иначе» (541). Перечисляя десять самых могучих адских княжеств, 20 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» сатана называет Тартар и Стикс (523). Как известно, в древнегреческой мифологии первым словом обозначается подземное царство мертвых, вторым – адская река. Под обаяние античности попадает и соблазненный Фауст, который живет «эпикурейской жизнью» (520) и верит в то, что «душа и тело умирают вместе» (520). Непосредственный контакт с античными героями заканчивается прелюбодеянием с Еленой Троянской. Сначала Фауст занимался некромантией не по собственной инициативе: то император Карл V приказал ему вызвать тени Александра Македонского и его жены (571), то знакомые студенты просят показать им прекрасную Елену, жену Менелая и дочь Тиндара и Леды, сестру Кастора и Поллукса (589). Все больше погрязая в грехе, в последний год своей жизни Фауст уже сам приказал духу доставить ему Елену, которая стала его наложницей и родила сына Юстуса Фаустуса (603). По Шпису, распутство мысли влечет за собой распутство поведения, гибель души и тела. Поэтому Елена Прекрасная оказывается суккубом, демоном в женском обличий, тоже соблазняющим и без того грешного Фауста и предуготовляющим ему вечные адские муки. Сын их, зачатый во грехе и, разумеется, некрещеный, сообщает своему отцу «о многом таком, что в будущем должно было случиться в различных странах» (603). Мотив наследования от родителя-де-мона знания будущего встречается также в кельтской легенде о волшебнике Мерлине, известной из средневековых романов о короле Артуре. Этот фольклорный мотив оказывается далеко не единственным в книге Шписа, сама основа которой связана с устным народным творчеством. Свое место здесь находят пословицы и поговорки, которыми буквально нашпигована, например, 65 глава, где Мефистофель обращается к народным афоризмам. Выстраивая цепочку пословиц: «…плохо с чертом идти через лед…наигралась кошка с мышкой…любишь кататься, люби и саночки возить…кто легко верит, того и обманут…» (607–609), – бес предсказывает Фаусту неотвратимо приближающийся час расплаты. Большое внимание в книге уделено символике таинственных цифр 3 и 7, тайну которых стремились разгадать все народы: трижды Фауст заклинает черта и трижды беседует с ним, три раза совершает головокружительные путешествия и столько же раз жалуется на то, что должен умереть в свои цветущие молодые годы, семеро самых главных адских духов являются перед Фаустом в своем подлинном лике и т. д. Рассказывая о приключениях своего героя, Шпис пользуется приемами волшебной сказки во второй части, шванка – в третьей. Книгоиздатель, заинтересованный в сбыте своей продукции, обращается к тематике массовой литературы, связанной, в частности, с мистикой (рассказы о ведовстве, черной и белой магии), литературой ужасов (описание ада и последних минут жизни чернокнижника), альковной литературой (повествования о блудодействах Фауста), научной фантастикой (путешествия в ад и на звезды), наконец, с разнообразными анекдотами. Таким образом, перед нами выдающееся произведение эпохи Реформации, решающее коренные проблемы бытия, обладающее оригинальной поэтикой, обращенное к разным слоям общества. Автор этой книги – Иоганн Шпис, великий мистификатор, которого с полным правом можно поставить в один ряд с Гансом Якобом Кристофом Гриммельсгаузеном, автором романа «Симплициус Симплициссимус», и с Джеймсом Макферсоном, написавшим великолепные «Письма Оссиана». Только после смерти английского сентименталиста было документально установлено, кому принадлежит стилизованная под старину поэма, и только в XIX в. после длительного поиска было выяснено имя писателя, сочинившего роман о простейшем среди простаков. Иоганн Шпис же на протяжении веков так и не вышел из образа провинциального печатника и издателя. Между тем, написанная им «История о докторе Иоганне Фаусте, 21 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» знаменитом чародее и чернокнижнике», бесспорно, сыграла выдающуюся роль в судьбах немецкой и мировой фаустианы XVII–XVIII вв., выступая в качестве протосюжета – такого классического произведения, на которое ориентируются все писатели, обращающиеся к аналогичной теме. Контрольные вопросы 1. Почему фаустовский архетип материализовался именно в Германии на рубеже XV– XVI вв.? 2. Какую роль в становлении фаустовского сюжета сыграл Мартин Лютер? 3. Определите существо первой литературной обработки фаустовской легенды. 4. В чем, по-вашему, проявился возрожденческий гуманизм немецкой народной книги 1587 года? 5. Охарактеризуйте композиционные особенности книги И. Шписа. 6. Проанализируйте поэтику книги И. Шписа. Темы рефератов «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике» как протосюжет «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло. • Стилистика немецкой народной книги 1587 года (в переводе Р.В. Френкель). • Этапы освоения немецкой народной книги 1587 года русской культурой (на выбор – XVIII, XIX, XX вв.). • Типологические аспекты немецкой народной книги о докторе Фаусте и русской повести XVII в. о Савве Грудицине. Библиография 1. Легенда о докторе Фаусте / Под ред. В. Жирмунского. – М., 1958. 2. Лютер М. Избранные произведения. – СПб., 1994. 3. Немецкие шванки и народные книги XVI века / Под ред. Б. Пуришева. – М., 1990. 4. Письменный М. История о Фаусте и черте. – М., 1996. 5. Штёкль А. История средневековой философии. – СПб., 1996. 6. Baron F. Faustus. Geschichte, Sage, Dichtung. – Milnchen, 1982. 7. Birven H. Der historische Doktor Faust. Maske und Antlitz. – Gelnhausen, 1963. 8. Eversberg G. Doktor Johann Faust. Die dramatische Gestaltung der Faustsage von Marlowes «Doktor Faustus» bis zum Puppenspiel. – Koln, 1988. 9. Das Faustbuch nach der Wolfenbuttler Handschrift / Hrsg. von H.G. Haile. – Berlin, 1963. H. F 10. Hartmann austgestalt, Faustsage, Faustdichtung. – Berlin, 1979. 11. Henning H. Beitrage zur Druckgeschichte der Faust– und Wagner-Bucher des 16. und 18. Jahrhunderts. – Weimar, 1963. 12. Historia von Dr. Johann Fausten. Neudruck des Faustbuches von 1587 / Hrsg.und einglt.von H.Henning. – Leipzig, 1979. 13. Klusemann E. Sprache und Stil als Mittel der Textkritik. Untersuchungen zur «Historia von D. Johann Fausten». – Marburg / Lahn, 1977. 14. Konneker B. Die deutsche Literatur der Reformationszeit. Kommentar zu einer Epoche. – Milnchen, 1975. 22 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» 15. Mahal G. Der tausendjahrige Faust. Rezeption als AnmaBung // Literatur und Leser. Theorien und Modelle zur Rezeption literarischen Werke / Hrsg. von G. Grimm. – Stuttgart, 1975. 23 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Часть II Просвещение: традиционный Фауст На протяжении XVII и первой половины XVIII в. история о докторе Фаусте практически вернулась к своему фольклорному состоянию. Это произошло благодаря тому, что литературные обработки легенды, последовавшие за шписовской, – Г.Р. Видмана (Гамбург, 1599), Н.И. Пфитцера (Нюрнберг, 1674), анонимного автора, скрывшегося за псевдонимом «Верующий христианин» (Франкфурт и Лейпциг, 1725), – получили постоянную прописку в ярмарочных балаганах. Они определяли основной репертуар кукольных театров Германии. Ситуация меняется во второй половине XVIII в., когда немецкая литература выходит на самостоятельный путь развития и достигает подлинной национальной самобытности. Этот процесс органически вписывается в общекультурный контекст, связанный с развитием просветительских идей в Германии. Просвещение – идейное и общественное движение в странах Европы и Америки, связанное с общими переменами в условиях жизни народов вследствие разложения средневекового феодализма и утверждения капиталистической формации. В разных странах Просвещение складывалось по-разному. Если в Англии оно развернулось после победы буржуазной революции и во многом было направлено к утверждению нового общественного строя в сфере морали, а во Франции непосредственно готовило умы к предстоящему политическому перевороту, то в Германии ни о какой революции не могло быть и речи. Освободительное движение здесь было очень слабым, страна находилась в глубочайшем экономическом и политическом кризисе. И все же немецкое Просвещение имело свои национальные корни: оно возникло на почве общенационального порыва к объединению Германии как спасению от исторической катастрофы. Небывалый взлет национального самосознания вызвал в Германии XVIII в. настоящий расцвет всей духовной культуры, пережившей в это время свой «золотой век». Просвещение, получившее распространение в основном в период между «славной революцией» в Англии (1640–1688) и Великой французской буржуазной революцией (1789–1795), повлияло на развитие всех областей творческой деятельности человека – по-литики, искусства, науки, литературы. При этом просветители опирались на разум в интересах морального и интеллектуального раскрепощения личности. Их целями и идеалами были свобода, благосостояние и счастье людей, мир, веротерпимость, критическое отношение к авторитетам, неприятие догм. Священная Римская империя германской нации в XVIII в. все еще остро переживала губительные последствия Тридцатилетней войны (1618–1648). Вестфальский мир (1648) законодательно закрепил раздробленность страны на сотни княжеств, баронств, рыцарских владений и вольных городов. Немецкое крестьянство осталось закрепощенным, бюргерство было разрозненным и трусливым. Отсутствовали основы для развития общегерманской экономики. Вследствие экономической, общественной и политической отсталости Германии просветительское движение здесь началось позже, чем в Англии и во Франции, во второй половине XVIII в. Один из парадоксов немецкого Просвещения заключался в том, что оно получало импульсы нередко со стороны правящих верхов. Так, инициатором публичного обсуждения его проблем в Пруссии выступил сам король Фридрих Великий. Немецкая литература по мере включения в просветительское движение порывает связь с барочной традицией XVII в. и обращается к устному народному творчеству. По меткому наблюдению В.М. Жирмунского, существенным моментом для ее развития «становится творческое использование, с одной стороны, живой народной поэзии, современного наци24 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» онального фольклора, с другой стороны, национальной старины, традиций немецкой бюргерской литературы XVI-начала XVII века, временно отодвинутых господством «классических», иноземных, главным образом французских, вкусов, чуждых немецкому бюргерству и по своей социальной природе. Легенда о Фаусте, прочно связанная по своему происхождению с XVI веком и творчески переоформленная в XVII веке в духе народного театрального искусства, входит в классическую немецкую литературу XVIII века под знаком обеих указанных тенденций, как наиболее яркое воплощение ее национального своеобразия»5. К народной пьесе о Фаусте первым обратился Г.Э. Лессинг, провозгласивший национальные пути развития немецкой драмы в противовес идеям И.Х. Готшеда, пропагандировавшего принципы театра французского классицизма. Свои взгляды по этому вопросу Лессинг впервые изложил в 1759 г. в «Письмах о новейшей литературе» – в знаменитом «Литературном письме N 17». Здесь, в частности, он утверждал, что английский театр гораздо более, чем французский, соответствует вкусу немцев. Именно Шекспир, а не Корнель и Расин, родствен художественной культуре Германии, традициям ее национального искусства. Выступая за шекспировский театр, Лессинг не изменял своим неоклассицистическим взглядам. Творчество Шекспира, как и французских классицистов, он сопоставлял с опытом «древних» и делал вывод, что французы следовали только внешним приемам античной драмы, Шекспир же был ближе к ней «по существу»6. Восхищаясь Шекспиром и советуя немецким драматургам учиться у него, осваивать его опыт, Лессинг призывал не к простому подражанию, а к постижению глубинной сути шекспировских драм. Это, по его мнению, позволит немецкому театру обрести индивидуальное лицо – ни в коем случае не офранцуженное, а англизированное. Как утверждал Лессинг, «…нам гораздо ближе английский вкус, нежели французский…в своих трагедиях мы хотим видеть и мыслить больше, чем нам позволяет робкая французская трагедия…великое, ужасное, меланхолическое действует на нас сильнее, чем изящное, нежное, ласковое;…чрезмерная простота утомляет нас больше, чем чрезмерная сложность и запутанность… Готшед должен был идти по этим следам, которые и привели бы его прямым путем к английскому театру»7. «То, что в наших старых пьесах было действительно много английского, я бы мог обстоятельно доказать без особого труда, – продолжал Лессинг. – Стоит назвать хотя бы самую известную из них: «Доктора Фауста» – пьесу, содержащую множество сцен, которые могли быть под силу только шекспировскому гению. И как влюблена была Германия, да и сейчас еще отчасти влюблена, в своего «Доктора Фауста» 8. Лессинг первым понял значение народной пьесы о Фаусте, указал на нее как на прообраз национальной драмы и задумал создать свою трагедию о Фаусте. Он приложил к «Литературному письму N 17» отрывок, в котором заложено ядро просветительской концепции образа Фауста. Фауст Лессинга – молодой ученый, полный стремления к истине и обуреваемый жаждой познания. Вместо безбожника, продавшего душу дьяволу ради личного комфорта и погибшего из-за этого, Лессинг задумал изобразить человека дерзновенного ума, которого он оправдывает в его стремлении к истине. Потому что жажда знания – не зло, но добро. Лессинг не завершил своего замысла. Известно, что в период с 1755 по 1775 гг. он несколько раз возвращался к работе над «Фаустом». Его друзья считали, что «Фауст» был закончен им целиком. Однако рукопись трагедии исчезла при таинственных и странных 5 Жирмунский В. Легенда о докторе Фаусте. – М.;Л., 1958. – С. 353–354. Лессинг Г.Э. Избранные произведения. – М., 1953. – С. 373. 7 Там же. 8 Там же. 6 25 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» обстоятельствах. Сохранилось свидетельство некоего капитана фон Бланкенбурга, сделанное им в Лейпциге в 1784 г., относительно судьбы пропавшей рукописи. Но, как бы то ни было, до нас дошли подробный план трагедии, наброски и отрывок, включенный Лессингом в «Литературное письмо N 17». Именно Лессинг дал немецкой фаустиане новые импульсы и открыл новые горизонты. 26 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Глава 1 Штюрмерский «Бурный гений» (Ф. Клингер) 1 Качественный сдвиг в литературе немецкого Просвещения произошел в 70-е годы XVIII в., когда о себе заявили писатели «Бури и натиска» – И. Гете, И. Гердер, Ф. Шиллер, Я. Ленц, Ф. Клингер, Г. Бюргер, И. Фосс, К. Шубарт и т. д. Германская история этого периода не отмечена какими-либо значительными событиями. Однако общая социально-политическая слабость немецкого просветительского движения парадоксальным образом сочеталась со значительными успехами в области философской и эстетической мысли, связанными с деятельностью И. Гамана, Ф. Якоби, Г. Герстенберга, Ф. Клопштока, Г. Лессинга. Все эти ученые и писатели так или иначе повлияли на становление «Бури и натиска». Штюрмерское движение представляет собой одно из важнейших достижений германской просветительской идеологии. Если до сих пор немецкая литература Просвещения отставала от английской и французской, то деятельность штюрмеров означала преодоление этого отставания. Подобный взлет в литературной жизни Германии объясняется прежде всего тем, что представители «Бури и натиска», унаследовавшие от Лессинга традицию борьбы с придворно-классицистическим театром и интерес к общественной проблематике, в своем отрицании эстетики и идеологии предшествовавшего этапа немецкой литературы переосмыслили ранние формы просветительского движения. Однако наряду с этим штюрмеры успешно осваивали завоевания передовой европейской мысли и литературы к началу последней трети XVIII в. – прежде всего сентиментализма в его английском и французском вариантах, а также английского предромантизма. Название всему литературному движению дала драма Ф. Клингера «Буря и натиск» («Sturm und Drang», 1776). Ее герой – «сильный человек» (Kraftmensch), выбравший для себя имя Вильд (Wild), что значит «неистовый», отправляется в Северную Америку. Борясь за свое личное счастье, он становится участником освободительной войны, сражается в армии Вашингтона, на стороне восставших колоний. В этой программной штюрмерской пьесе выражен основной пафос литературы «Бури и натиска», выступившей за раскрепощение человека и против любых форм его угнетения, отстаивавшей право каждого на свободное проявление своей индивидуальности, утверждавшей достоинство человека независимо от знатности его происхождения или богатства. Здесь же Клингер продемонстрировал и вторую составляющую штюрмерской литературы – абсолютную свободу поэта, который отвергал всякие правила художественного творчества, утвержденные рационалистической эстетикой и поэтикой XVII – первой половины XVIII в. Установка «бурных гениев» на насильственное изменение существующих государственных и социальных форм и на отрицание сложившейся культурной традиции получает свое наиболее яркое выражение в другой книге Клингера – романе о Фаусте (1790). 27 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» 2 Фауст – человек, бросивший вызов самому Господу Богу, чернокнижник, замысливший проникнуть в тайны мироздания, – идеальное воплощение штюрмерских представлений о герое. Недаром литераторы «Бури и натиска» неоднократно обращались к легендарному немецкому персонажу. Однако роман Клингера занимает особое место среди произведений немецкой фаустианы эпохи Просвещения. В отличие от других современных ему авторов Клингер воспроизводит сюжетную канву народной книги И. Шписа, что отражено уже в названии романа – «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад». Декларируемая в заголовке произведения идея гибели героя, чья душа обречена на вечные муки в аду, необычайно важна для писателя. Он, с одной стороны, художественно воплощает идеи штюрмерства, дает их квинтэссенцию, но с другой, – производит своеобразный расчет со штюрмерским прошлым, его идеологией и эстетикой. Следуя некоторым авторам XVII в.9, Клингер отождествил алхимика и астролога Иоганна Георга Фауста (ок. 1480–1540) с первопечатником Иоганнесом Фаустом из Майнца, жившим намного раньше (ок. 1400–1466)10. Изображая героя народной книги как Фауста-первопечатника, Клингер тем самым подчеркивал великое значение изобретения книгопечатания, которое открывало перед человечеством невиданные прежде перспективы. С этого времени «начинается, – писал В.И. Вернадский, – быстрый и неуклонный рост человеческого сознания. Книгопечатание явилось тем могучим орудием, которое сохранило мысль личности, увеличило ее силу в сотни раз и позволило в конце концов сломить чуждое мировоззрение. Мы можем и должны начинать историю нашего научного мировоззрения с открытия книгопечатания» 11. С прогрессом книгопечатания связаны значительные успехи гуманитарных и точных дисциплин в конце XV – начале XVI в., когда появились первые печатные учебники, когда в научный и культурный обиход вошли сочинения классиков античности, вновь открытые в это время в Европе, а также новые труды писателей и ученых. Все это способствовало активизации движения гуманизма, означавшего коренной переворот в умах людей, в их оценке окружающего мира. На смену аскетическому идеалу средневековья пришел новый идеал, выражавший преклонение перед активной человеческой личностью, физической красотой человека и силой его разума, способного проникнуть в глубокие тайны природы. Таким образом, клингеровский первопечатник Фауст – один из титанов эпохи Возрождения, чья деятельность служила прогрессу человечества. Стихия легендарного сюжета раскрывала самую суть этого определения Фауста: он совмещал в своем лице ученого-теоретика и ученого-практика, занимающегося прикладной наукой, который добился на этом поприще выдающихся успехов и в силу этого имел право рассчитывать на признание и благодарность современников и потомков. Однако открытие книгопечатания послужило не только точкой отсчета становления научного мировоззрения, но привело в ряде случаев и к распространению порока. Книги несут не только добро и благо, но зачастую становятся и причиной разнообразных соблазнов. Вспомним в этой связи, что именно чтение книг толкнуло героиню Л. Тика из «Бело9 См.: Жирмунский В. История легенды о Фаусте // Указ. соч. – С. 310. Иоганнес Фауст, богатый майнцский ювелир был сначала компаньоном, а затем кредитором немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга (ок.1400–1468). В 1455 г. Фауст, оттеснив Гутенберга, завладел типографией, а также секретом печатания при помощи подвижных литер и продолжал работать вместе с мастером Гутенберга и его зятем, знаменитым каллиграфом Петером Шеффером. – См. об этом: Клингер Ф.М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. – М.;Л., 1961. – С. 210. 11 Вернадский В. Избранные труды по истории науки. – М., 1981. – С. 81–82. 10 28 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» курого Экберта» (1796) на преступление. Недаром и клингеровский Сатана указывает на дьявольское наваждение, соблазн от книг; он закатывает пир по поводу фаустова открытия книгопечатания и объясняет мотивы своего поступка: «… безумие, сомнение, беспокойство и новые потребности распространятся повсюду, и я уже сомневаюсь, сможет ли мое необъятное царство вместить всех, кто испытывает на себе действие этой сладкой отравы»12. Именно Сатана прославляет имя Фауста в веках, объявляет его гением и откровенно радуется, услышав могучий голос ученого, вызывающего князя подземного царства. Клингер, таким образом, рассматривает феномен книгопечатания не одномерно, а в единстве созидательных и разрушительных тенденций, потенциально содержащихся в этом открытии. Книга может способствовать духовному становлению личности, однако, и ее уничтожению – тоже. Книга может служить во благо человеку, но она же может вызвать сублимацию его порочных побуждений. В прямой связи с этим Клингер акцентирует моральную неоднозначность своего героя. Развивая традицию двойственности образа Фауста, святого и грешника в одном лице, писатель показал эволюцию своего персонажа – мыслителя и деятеля эпохи Возрождения. Ренессансу было присуще стремление к универсальности – равному развитию всех сторон личности, гармонии духа и плоти. И поначалу клингеровский Фауст одинаково томим жаждой духа и жаждой наслаждений. Однако с течением времени он превращается в сибарита, живущего по принципу удовлетворения своих плотских желаний. Он так и не смог найти спасительного равновесия между разумом и телом. Чувственное начало победило интеллектуальное. Отважившийся на союз с дьяволом, Фауст дает ему идейное обоснование: «чтобы насытить… жажду знаний, наслаждений и свободы» (32). Однако эти умственные измышления следуют у него за полуосознанными эротическими фантазиями. Более того, он соглашается предаться душой и телом князю преисподней и покинуть магический круг только после того, как Левиафан пообещал ему взаимность желанной женщины – жены бургомистра. Чисто физиологические стремления и становятся таким образом главной причиной грехопадения клингеровского Фауста. Думается, что причины подобной трактовки ренессансного героя коренятся в специфических особенностях социально-экономического и политического развития Германии. Священная Римская империя германской нации, которая, по меткому замечанию Вольтера, «не была ни священной, ни римской, ни даже империей», оказалась мало пригодна для жизни и деятельности профессионала в области науки и искусства: не имея родового состояния или помощи мецената из числа сильных мира сего, он был обречен в Германии на непонимание, холодность и равнодушие сограждан; ощущая свои незаурядные силы и возможности, он вынужден был прозябать здесь в нищете. И если наука не могла прокормить Фауста в эпоху Возрождения, то литературный труд не мог обеспечить Клингера во второй половине XVIII в. Недаром осенью 1780 г. Клингер уехал на заработки в Россию, где он сделал блестящую карьеру – был директором 1-го кадетского корпуса, главноначальствующим Пажеского корпуса, попечителем Дерптского учебного округа, членом главного правления училищ при министерстве просвещения и занимал ряд других официальных должностей. «Бурный гений», ставший царским вельможей и генерал-лейтенантом, он должен был знать по себе, как трудно, практически невозможно прокормиться одними идеями, как бы велики они ни были. 12 Клингер Ф.М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. – М.;Л., – 1961. – С. 37. Далее все цитаты приводятся по этому изданию с указанием в тексте страницы в скобках. 29 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» И, может быть, уступка, сделанная по необходимости самому себе, вынужденному таким образом зарабатывать средства к существованию, привела его к внутренне неразрешимому конфликту и творческому срыву. Последний роман Клингера – «Светский человек и поэт» – был опубликован в 1798 г.; в 1803–1805 гг. появились три тома его «Наблюдений и размышлений над различными явлениями жизни и литературы». После этого он умолкает и больше не печатается, хотя прожил еще 27 лет и умер в 1831 г. Таким образом, можно говорить об известной автобиографичности образа клингеровского Фауста, который выступает на страницах романа невостребованным гением. Изобретший книгопечатание, герой Клингера вместе с семьей может элементарно умереть от голода, потому что не находит покупателя для латинской библии. В его родном Майнце архиепископ вел в это время войну со своим капитулом, город разделился на враждующие партии и ему было не до книг. В соседнем имперском городе Франкфурте-на-Майне почтенный магистрат не нашел необходимых денег, так как только что приобрел для ратуши пять бочек рейнского вина. Несмотря на разные обоснования отказа ученому, карликовое государство, равно как и вольный город Священной Римской империи германской нации совершенно одинаково относятся к просителю, ибо его изобретение не востребовано ни властями, ни гражданами. Тем самым Фауст изначально поставлен в такие условия, в которых он может отважиться на обращение к хозяину преисподней. То есть своеобразный пролог романа Клингера, в отличие от народной легенды и книги Шписа, имеет ярко выраженный социальный характер. Завязка собственно фаустовской коллизии у Клингера тоже нетрадиционна и распадается на две части. Сначала Сатана приглашает к себе Левиафана, «самого утонченного соблазнителя, самого жестокого ненавистника рода человеческого» (45) и предлагает ему завладеть душой Фауста, потому что «человек, подобный ему, стоит тысячи жалких бездельников, которые грешат как нищие и самым обыденным способом попадают в ад» (45). И только затем происходит встреча двух главных антагонистов. Фауст стремится убедить самого себя и дьявола в том, что «человек действительно зеница ока» (60) Господа Бога. Левиафан, нигилистически оценивающий человеческую природу, берется доказать, что эта идея является не более чем иллюзией. Таким образом, мы наблюдаем столкновение двух философий. Фауст излагает постулаты «предустановленной гармонии» Лейбница, который считал, что, несмотря на бесспорное наличие в мире несовершенства и морального зла, наш мир, созданный Богом, есть наилучший из всех возможных. Левиафан придерживается точки зрения Паскаля, который трагически воспринимал социальную действительность как нечто неустойчивое, весьма шаткое, несправедливое и безнадежное и горестно размышлял над судьбой, жизнью и смертью человека. Дальнейшее развитие сюжета романа – это выяснение Истины, во имя чего герои Клингера, согласно традиции, заключают договор, который Фауст подписывает своей кровью. Так читатель получает ключ ко всему роману. Отсюда исходит основная фаустовская тема произведения, здесь намечается проблематика и дается в тезисном плане ее решение. 3 Все повествование выстроено по типу романного хронотопа. Сюжетное действие разворачивается на широком географическом фоне – в Германии, Франции, Англии, Испании, Италии. Исходная точка сюжетного движения – встреча Фауста и Левиафана и их замысел совместного путешествия, в ходе которого каждый надеется доказать другому правоту 30 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» своего взгляда на человека и выиграть пари. Сюжетное движение заключается оглушительным проигрышем Фауста и его низвержением в ад. Между этими двумя точками и развертывается действие романа, которое Клингер исторически локализует, повествуя о реальных европейских событиях второй половины XV – начала XVI в. Однако при этом автора интересует эпоха в целом, а не научно выверенное воспроизведение европейских хроник, поэтому в рамках исторического времени он достаточно свободно обращается с реально существовавшими персонажами, по собственному усмотрению нарушает хронологическую последовательность конкретных происшествий, допускает растяжение или, напротив, сближение сроков событий. Прежде всего это касается главного героя книги, биографическое время которого вмещает в себя два биологически-возрастных ряда (1400–1466 и 1480–1540). Благодаря этому приему Клингер получил возможность максимально расширить рамки своего повествования: с одной стороны, отнести начало истории доктора Фауста к 1455 г., когда прототип народной легенды еще не родился, с другой – связать ее конец с событиями начала XVI в., когда первопечатник Фауст давно скончался. Каждый из географических пунктов путешествия Фауста и Левиафана связан по крайней мере с одной легко вычисляемой датой, хотя Клингер и избегает прямого хронологизирования событий. Так, совершенно очевидно, что Фауст начинает свои странствия по Германии не раньше 1455 г., когда была опубликована знаменитая Библия. Во Францию Людовика XI он попадает в 1477 г. и становится очевидцем казни герцога Немурского, в Англию – в 1483 г., когда видит убийство законного короля Эдуарда V и его младшего брата Ричарда Йорка в тюрьме Тауэр и слушает проповедника доктора Шоу, который оправдывал перед жителями Лондона государственный переворот, совершенный регентом, герцогом Глостерским. После разочарований, испытанных Фаустом в Германии, Франции и Англии, он едет в другие страны – в Италию, Испанию и Ватикан. В итальянских вольных городах и Испании он получил новые свидетельства порочности человека. При этом Клингер прибегает к испытанному приему, называя реальные факты истории Италии и Испании, которые совпали со временем пребывания в этих странах его героя. Можно с уверенностью сказать, что в Милан Фауст прибывает в 1476 г. (он присутствует при убийстве в соборе герцога Галеаццо Сфорца), во Флоренцию – в 1478 г. (он становится свидетелем насильственной смерти от руки наемного убийцы Джулиана Медичи), в Испанию – после 1483 г. (он наблюдает костры инквизиции, зажженные здесь Торквемадой, который был назначен генеральным инквизитором Испании в 1483 г.). Все эти события служат для Левиафана своеобразной прелюдией перед фугой, где тема получит свое кульминационное выражение и развязку, а его оппонент будет окончательно посрамлен. Исстари все дороги вели в Рим, в эпоху владычества Римско-католической церкви все пороки проистекали из Вечного города. Именно Ватикан, двор римского папы, Левиафан приберегает, по его собственному выражению, «на десерт» (155), чтобы уничтожить Фауста и его веру в человека. В Рим, согласно косвенным указаниям Клингера, его герои попадают после 1495 г., когда Карл VIII, сын и преемник Людовика XI, вторгшийся в Италию в 1494 г., был изгнан коалицией итальянских государств, поддержанных императором Священной Римской империи германской нации Максимилианом I и испанским королем Фердинандом Арагонским. Возникающий в повествовании разрыв между смежными биографическими моментами в жизни Фауста, похоже, ничуть не смущает Клингера. Более того, если и до поездки своих героев в Рим писатель, случалось, нарушал элементарную последовательность дат и собы31 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» тий (1455, 1477, 1483, 1476, 1478, 1483), то римский эпизод романа являет собой пример абсолютно свободного отношения автора к хронологии. Так, сразу после прибытия в Рим Фауст и Левиафан, ставшие своими людьми в семействе папы Александра VI Борджа, были приглашены на закрытый просмотр спектакля по пьесе Н. Макиавелли «Мандрагора». (Здесь очевидная нестыковка: папа Александр VI Борджа скончался в 1503 г., а «Мандрагора» Макиавелли появилась только в 1514 г.). Вслед за этим памятным театральным представлением герои Клингера узнают о недавней коронации неаполитанского короля Фридриха (1496), некоторое время спустя – о новой политике французского короля Людовика XII в Италии (Людовик XII стал королем Франции в 1498 г.). Практически в это же время высокопоставленные ватиканские иерархи в компании блудниц и блудников составляют «Таксу апостолических канцелярий и т. д.», издают эту книгу и распространяют среди христиан. Реально же эта книга, которой руководствовалось католическое духовенство при взимании с прихожан денег за отпущение грехов, была издана в 1514 г. После всей этой исторической сумятицы Клингер обращается к обстоятельствам легендарной кончины папы Александра VI Борджа, которая последовала в 1503 г. Клингер произвольно тасует события рубежа XV–XVI вв. Однако способ создания атмосферы и обстановки той эпохи, способ художественного воспроизведения прошлого несомненно является историческим. Писатель выбирает из обилия фактов лишь то, что является наиболее типичным для каждой из изображаемых им стран того времени. Так, он рисует раздробленную Германию, раздираемую междоусобными войнами и готовящуюся к Великой Крестьянской войне (история Ганса Рупрехта); государственные перевороты во Франции, осуществляемые «Всемирным пауком», хитрым деспотом Людовиком XI, и в Англии периода войны Алой и Белой розы; смуты итальянских республик; костры ведьм, полыхающие в Испании; вселенский разврат Ватикана. Картины общественной жизни отдельных европейских стран составлены из многочисленных портретов разных семей, ибо в семье, как в капле воды, отражаются все социальные и моральные проблемы эпохи. Фауст с помощью Левиафана попадает в дома высокопоставленных господ – к германскому министру, французскому дворянину, юнкеру фон Тросселю, знакомится с обстоятельствами личной жизни Людовика XI и папы Александра VI Борджа и убеждается, что все члены этих семейств погрязли в разврате, что для них нет ничего святого, что все их поступки преследуют корыстные цели (власть, богатство, наслаждения – любой ценой). Наблюдения над иными семьями – своей собственной и других бедняков – также привели его к грустным выводам, потому что счастье в этих ячейках общества зависит от наличия презренного металла, а следовательно, они тоже вынуждены торговать собой и своими убеждениями, чтобы не умереть от голода, во имя эфемерного счастья бытия. Некоторые из семейных эскизов очень подробны, другие выполнены без тщательной прорисовки деталей. Однако и те, и другие «работают» на раскрытие общего замысла романа Клингера: они воссоздают историческое время действия произведения и помогают уяснить судьбу Фауста-первопечатника в конкретных условиях европейского Возрождения. Клингеровский Фауст – не столько мифологический персонаж с его вневременным существованием, сколько исторический человек в типических обстоятельствах конкретной эпохи. Знакомство с убожеством невежественной, грубой, порочной Европы зажигает в груди Фауста страстную ненависть к своему веку. Однако на протяжении всех своих странствий он продолжает искать истинного Человека и готов петь ему хвалу в лице отшельника, некоего просвещенного германского князя, доктора Робертуса, французского дворянина. Но при ближайшем рассмотрении каждый из них продемонстрировал Фаусту низость своей натуры: под личиной праведника скрывался потенциальный убийца и развратник; философ на троне 32 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» в действительности оказался игрушкой в руках жестокого временщика; доктор Робертус на деле заботился не о нуждах защищаемого им народа, а об устранении с арены большой политики своего давнего друга-врага; французский дворянин под маской добродетельного отца семейства скрывал человека, торгующего честью своей дочери. Все эти разочарования в людях, которые сначала представлялись Фаусту идеальными, усиливают мучительные колебания героя, который до последней минуты стремится сопротивляться яду левиафановых речей о человеке – гнусной твари. На первый взгляд, все это звучит вполне в штюрмерском ключе. Однако бесспорная заслуга Клингера в том, что он сумел показать, к каким трагическим последствиям приводит философия индивидуалиста и сверхчеловека, который занят тотальным отрицанием и не предлагает позитивной программы, который не выдерживает критики с точки зрения морали, живя по принципу «все дозволено». По сути дела, клингеровский Фауст с самого начала романа выступает как имморалист, обуреваемый плотскими желаниями, а его странствия с Левиафаном оборачиваются бесконечной серией любовных приключений, в которых он и постигает человеческую природу. Так, в Германии он путешествует по постелям то жены бургомистра, то монахини Клары, то безымянных придворных фрейлин и камеристок, то Ангелики. Францию он познает при помощи некоей «хохотушки» (136) из числа приближенных герцога Беррийского и купленной по случаю дочери французского дворянина; туманный Альбион – при посредстве тамошних очаровательных дам. Справедливости ради надо сказать, что мужской магнетизм Фауста зиждется на помощи нечистой силы: Левиафан прибегает к различным способам – прямому обману, переодеванию, внушению, гипнозу, подкупу, шантажу и т. д., чтобы удовлетворить желания своего подопечного. А тот, принимая очередную женщину из рук князя тьмы, разражается тирадами против существующих порядков. При этом любвеобилие и неразборчивость в средствах по отношению к прекрасному полу сильных мира сего возмущают Фауста в такой же степени, как и другие примеры низости и порочности человека. Перед нами, таким образом, своеобразный вариант вечного типа Дон Жуана, но не беспечного, ветренного и вместе с тем увлекающегося соблазнителя, поэта в любви, а лицемерного развратника, который свои плотские страсти прикрывает идейными соображениями. Как замечает по этому поводу Клингер, «проклиная весь род человеческий, Фауст продолжал тем не менее наслаждаться земными радостями и прелестными женщинами Англии, Франции и Испании и поверил наконец, что все эти ужасы неизбежно присущи природе человека…» (155). Однако наступил, наконец, момент, когда сластолюбие и жажда наслаждений, первичные побудительные мотивы союза Фауста с Сатаной, были утолены. При бешеном темпе жизни, заданном Левиафаном, разучившийся чувствовать, желать, сопереживать, он очень скоро стал ощущать себя участником ярмарочной карусели, поэтому его стали одолевать мысли в духе Книги Екклесиаста о суете сует и всяческой суете. Эти настроения совпали с последней связью Фауста с Лукрецией Борджа. Полное пресыщение, которое он испытал в объятиях сиятельной блудницы, Клингер связал с Ватиканом, центром католического мира. Собственный роман на фоне муже– и скотоложества, совокупляющихся кобыл и жеребцов, разнообразных инцестов показал Фаусту всю глубину его падения. «В результате всего виденного и пережитого чувства его настолько притупились, что он, некогда осмеливавшийся внутренне бунтовать против предвечного, теперь едва решался посмотреть в глаза дьяволу, который по-прежнему был его рабом. Ненависть и презрение к людям, скептицизм, равнодушие ко всему окружающему, ропот против несовершенства и ограниченности своих физических и моральных сил – 33 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» вот и все, что принес ему личный опыт, вот итог всей его жизни» (180). Однако даже в эти скорбные мгновения клингеровский Фауст пытается тешить себя мыслью, что «он вырвался из числа тех, кого некая легкомысленная рука подчинила насилию и отдала во власть вельможам, угнетателям и обманщикам, что он сумел уже многим насладиться и может наслаждаться впредь, что он сам создал себя и избрал свою судьбу, что он понял пустоту науки» (181). И только вещий сон, из которого Фауст узнал, что он вычеркнут из «книги жизни», заставил его признать собственное поражение в споре с Левиафаном. Это начало конца Фауста, который только теперь узнает от дьявола всю подноготную своих греховных поступков и нечестивой жизни. Левиафан с плохо скрываемой радостью сообщает бывшему печатнику главную истину, которую тот оказался не в силах постичь самостоятельно: человек определен законами бытия, в которых и заключено его спасение, а вовсе не свободой, как самонадеянно полагал Фауст. Анализируя конкретные ситуации, сложившиеся по воле Фауста, Левиафан доказывает ему: обретение свободы оборачивается для человека погибелью в бездне незримой. Но именно свободы жаждал Фауст более всего и никак не мог разрешить противоречия между нею, желанной, и «железным ярмом необходимости» (198). Поэтому он, мечтавший о восхождении своего духа к высотам Мироздания, на деле спустился к вратам преисподней. Поэтому, обретший свободу человеколюбец, он вопреки своей воле стал убийцей, запятнал себя кровью жертв, жил во зле, был отринут человечеством и только перед смертью признался себе в страшных своих грехах. В этом смысле Фауст Клингера сродни Карлу Моору из «Разбойников» Шиллера (1781), другому штюрмерскому герою, свидетельствующему о необратимом кризисе идеологии «Бури и натиска». Правда, в отличие от шиллеровского «благородного разбойника», клингеровский Фауст не кается в своем грехопадении и до конца выдерживает характер. Собственное нисхождение в ад он расценивает как еще одно доказательство злой воли Господа, тирана и деспота. Поэтому-то, уже будучи в аду, он проклинает Предвечного, и даже дьяволы дрожат, пораженные его дерзостью. 4 Роман Клингера заключает в себе единство противоположностей: герой прославлен и обречен на поражение, интонации триумфальной песни накладываются на плач. Эта специфика романного звучания и определяет многомерность образа Фауста и неоднозначность его читательского восприятия. А причина между тем в том, что некогда «бурный гений» Клингер в этом романе пересмотрел свое штюрмерское прошлое и подверг его переоценке. Это подтверждается не только особенностями трактовки героя народной книги на страницах романа, но и его специфической поэтикой, одним из главных приемов которой является иронический парафраз. Выбор мишени для насмешек и пародий, подчас очень злых, симптоматичен. Клингер беспощадно осмеял тех, на кого штюрмеры молились, писатель обрушивается на представителей трех поколений, исповедовавших сходные идеи, и не оставляет камня на камне от их святынь. Самые ощутимые удары достались Ж.-Ж. Руссо и И. Гердеру, И. Лафатеру и «апостолам свободы». Руссоистские идеи, в духе которых штюрмеры ратовали за простую естественную неискаженную человеческую природу, Клингер передоверяет Левиафану: тот в финале романа менторски поучает Фауста, что истинные нравы народа надо было изучать только по его частной жизни (190). Верные по сути, слова этой тирады, вложенные в уста дьявола, обо34 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» рачиваются пасквилем на первоисточник (Левиафан здесь неточно цитирует текст «Новой Элоизы» (1761), идейного провозвестника Великой французской революции). Главный постулат европейского сентиментализма и руссоизма о примате чувства и интуиции над рассудочной логикой также становится основанием для злой насмешки Клингера. В эпизоде театрального представления на празднике Сатаны разыгрывается такая мизансцена: Теология заметила, что все обнимают сладострастную Поэзию, и от злобы подпалила ей горящим факелом зад. Все остальные участники спектакля не обращают на это происшествие никакого внимания, потому что с Поэзии нечего взять. «Наконец, над нею сжалилась История, приложившая к обожженному месту мокрую страницу исторического романа, в котором автор модернизировал, или, иначе говоря, сделал жалким и слабым, одного из героев древности. Но Поэзия молила дать ей мистический сонет, как более сильное охлаждающее средство» (43). Все в этом эпизоде имеет целью скомпрометировать слезливый сентиментализм с его потугами познать мир в интуитивном озарении. Несколько позднее (в «Наблюдениях и размышлениях») Клингер признавался: «Я ненавижу болезненную, так называемую нравственную сентиментальность и чувствительность. В жизни человеку нужны сила и мужество, независимо от того, восседает ли он на троне, или живет в скромной хижине, или даже если ему приходится под открытым небом просить милостыню на кусок хлеба» (213–214). Четырехтомный труд И. Гердера «Идеи о философии истории человечества» (1784– 1791) также послужил Клингеру поводом для дискуссии. Как известно, теоретический вождь «Бури и натиска», оказавший влияние на все поколение 1770-х годов, Гердер считал, что отличительный признак человечества состоит в гуманности, что человек достигает гуманности только при содействии других людей, что поэтому главный интерес истории заключается в выявлении связей между индивидуумами и их взаимного влияния. С этой идеалистической концепцией Клингер никак не может согласиться. Его отповедь бывшему лидеру «бурных гениев» лишена и следа почтительности и привязана к тому же эпизоду, где он обрушивается на сентиментализм, – к театральной постановке в аду. Здесь среди множества действующих лиц на сцене дьявольского театра появляется История вместе с Гердером. «В доказательство неутомимого стремления человечества к нравственному совершенствованию, История была увешена рассказами об ужасах, которыми украсили ее жестокие завоеватели, узурпаторы, сановники, придворные, временщики, фанатики, глупцы, бунтовщики, то есть все те, кто злоупотреблял религией и проводил коварную политику. За нею, кряхтя под огромным тюком летописей, дипломов и документов, шел сильный, рослый, одетый в немецкое платье мужчина. Под звон висевших на ней рассказов История танцевала с Боязнью» (42). Еще более непочтительно Клингер обошелся с другим литератором, много сделавшим для формирования «Бури и натиска», – швейцарцем И. Лафатером. В главном сочинении своей жизни «Физиогномические фрагменты» (1775–1778) цюрихский пастор сделал попытку установить связь между внешним обликом человека и его психическим складом, характером, а также доказать, что нет двух абсолютно похожих физиономий, как нет и двух полностью тождественных личностей. Эти идеи Лафатера обосновывали положение о неподражаемой индивидуальности художника-творца и интерес писателей-сентименталистов к характеру как выражению индивидуального своеобразия человека. Именно физиогномическое учение Лафатера, в котором он опирался на собственные субъективные ощущения с последующим выведением из них неких объективных законов взаимосвязи между внешним и внутренним обликом человека, и вызвало сокрушительную пародию Клингера. Автор вывел на страницах своего романа носителя нового учения, это полубезумный молодой монах-фантазер, мечтающий прослыть новым апостолом: «… в силу своей внутренней связи с высшим существом, он был весьма лестного мнения о человеке 35 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» и в минуту особого вдохновения решил подвергнуть это величайшее создание провидения, этого любимца небес, физиогномическому изучению, как будто весь мир существует только для того, чтобы можно было определить внутреннюю сущность человека по его внешности» (123). Если персонаж, списанный с Гердера, вызывает усмешку, то инок Лафатер – гомерический хохот. Фауст и Левиафан зло издеваются над метафизическими доктринами монаха, который «ни разу еще не видел человека в его естественном состоянии» (124), но тщится претендовать на абсолютное знание человеческой индивидуальности. В доказательство правоты точки зрения своих легендарных героев Клингер вводит в ткань романа один из скандальных физиогномических просчетов Лафатера. Среди многочисленных поклонников швейцарского богослова был некто Кристоф Кауфман, принадлежавший к «апостолам свободы», которые старались неистовостью своего поведения претворить в жизнь идеалы штюрмеров. Характеристика, данная этому авантюристу, шарлатану и юродствующему «чудотворцу», свидетельствовала о редкостной наивности и близорукости Лафатера, который не разглядел совершенно очевидной уголовной сущности своего клеврета. Лестное истолкование внешнего облика этого проходимца, сделанное Лафатером в его знаменитой книге, в романе Клингера почти дословно воспроизводит монах, восторгаясь лицом Левиафана. Он славит князя тьмы: «Орел! Лев! Сокрушитель! Реформатор человечества! Вперед! Исцели смертных от их слепоты, надели их своей силой. Природа предназначила тебя для этого высокого жребия» (129). Слова эти дискредитировали одного из видных предшественников «Бури и натиска». Однако в финале истории взаимоотношений инока с Левиафаном, который показался ему в своем подлинном виде, создается атмосфера комедии такого же высокого накала, как « Лягушки» Аристофана: «… дьявол, чтобы раскрыть свою сущность, предстал перед монахом во всей отвратности своего подлинного адского облика… От испуга монах лишился рассудка, но и в безумии продолжал писать, а читатели совершенно не замечали происшедшей в нем перемены, до такой степени его новые книги были похожи на прежние» (132). Так, пародируя идеологию и литературу, лексику и стилистику «бурных гениев», их предшественников и последователей, Клингер ломал тесные для него штюрмерские рамки, подвергал сомнению многие общепринятые для его поколения понятия и моральные нормы, отстаивал свои литературные и этические принципы. Он убедился в том, что лелеемый штюрмерами сверхчеловек, преследуя благие цели, приносит человечеству неисчислимые беды и несчастья, и, может быть, в еще большей степени он вредит себе и своей бессмертной душе. Потому что принцип вседозволенности ведет только к моральной деградации и никакими побочными рассуждениями нельзя поколебать эту истину. Клингеровский Фауст изначально обречен на трагический конец: причины его трагедии как личности коренились именно в исторической ограниченности штюрмерской идеологии, носителем которой он являлся. Контрольные вопросы 1. Как изменилось бытование образа Фауста в немецкой культуре XVIII в. и чем вызваны эти изменения? 2. Почему образ Фауста оказался так созвучен идейным и эстетическим исканиям писателей «Бури и натиска»? 36 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» 3. Какое место в штюрмерской фаустиане занимает роман Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад»? 4. Чем показательна эволюция клингеровского Фауста для эпохи позднего штюрмерства? 5. Как Клингер понимает природу Зла? 6. Проанализируйте поэтику и «антиштюрмерскую» стилистику фаустовского романа Клингера. Темы рефератов Фауст немецкой народной книги и Фауст Клингера: типологические аспекты двух концепций. • Ренессансный контекст фаустианы Клингера. • Фауст Клингера и Дон Жуан. • Фауст Клингера: между мифологией и историей. • Лейбниц и Паскаль в художественном целом романа Клингера о Фаусте. • Функции иронического парафраза в романе Клингера о Фаусте. • Две модификации просветительского Фауста (Лессинг и Клингер). • Штюрмерский Фауст Ленца, Мюллера – «Художника» и Клингера. К вопросу о типологии героя. • Проблема мифологического и исторического в романе Клингера о Фаусте. • Философские аспекты романа Клингера о Фаусте. • Особенности поэтики романа Клингера о Фаусте. Библиография 1. Клшгер Ф.М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. – М.; Л., 1961. 2. Стрельцова Г. Паскаль и европейская культура. – М., 1994. 3. Hering С. Friedrich Maximilian Klinger. Der Weltmann als Dichter. -Berlin, 1966. 4. Reiser H. Zur Straktur von Klingers «Faust» // Jahrbuch der freien deutschen Hochstifts. – Tübingen, 1974. 5. Segeber H.M. Klingers Romandichtung. – Heidelberg, 1974. 6. Smoljian O.F.M. Klinger: Leben und Werk. – Weimar, 1962. 7. Zilk G. Faust und Antifaust. Eine Studie zum Denken und Dichten Friedrich Maximilian Klingers. – Miinchen, 1965. 37 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Глава 2 Просветительски-утопический герой (И. Гете) 1 Намеченная Лессингом идея разработки сказания о Фаусте в духе гуманизма, веры в человека и в его творческие силы нашла свое адекватное воплощение в величайшем произведении немецкой классической литературы – в трагедии И.В. Гете «Фауст». Более 60-ти лет прошло от возникновения замысла в 1768 г. до завершения рукописи второй части в 1831 г. Многое случилось в европейской и мировой истории за эти годы. Среди главнейших событий – война за независимость в Америке, промышленный переворот в Англии, Великая французская буржуазная революция, наполеоновские войны, реставрация во Франции и Италии после 1815 г. Великие исторические потрясения, которые переживало человечество, духовные порывы эпохи, идейные и эстетические искания самого Гете нашли свое отражение в «Фаусте», который стал итоговым произведением века Просвещения, века разума. Гете привлекало в историческом Фаусте прежде всего стремление исследовать первопричины всех вещей и проникнуть в тайны природы. Гете был близок самому типу ученого, неудовлетворенного современным ему состоянием науки и мечтающего о беспредельном могуществе человеческого разума. Позже, в своей знаменитой книге мемуаров «Поэзия и правда» (1810–1831), он вспоминал, что кукольная комедия о докторе Фаусте «на все лады звучала и звенела во мне. Я тоже странствовал по всем областям знания и достаточно рано уразумел всю тщету его. И я пускался во всевозможные жизненные опыты; они измучивали меня и оставляли в душе еще большую неудовлетворенность»13. Гете, как известно, занимался не только литературой и театром, но и алхимией, философией, анатомией, ботаникой, астрономией, физикой, геологией, оптикой и множеством других наук. Его открытия в разных областях естествознания поражали современников, а в некоторых случаях не утратили своей актуальности и в XX в., т. е. Гете принадлежал к фаустовскому типу людей, так что в известном смысле можно говорить о автобиографичности его «Фауста». По воспоминаниям И.П. Эккермана, современники подступали к Гете с распросами относительно главной идеи, которую он стремился воплотить в своем «Фаусте». Гете, как свидетельствует его секретарь, отвечал на эти вопросы неожиданно парадоксальным образом: «Да почем я знаю? И разве могу я это выразить словами? С горних высот через жизнь в преисподнюю, – вот как, на худой конец, я мог бы ответить, но это не идея, а последовательность действия. То, что черт проигрывает пари, и непрестанно стремившийся к добру человек выпутывается из мучительных своих заблуждений и должен быть спасен, – это, конечно, действенная мысль, которая кое-что объясняет, но и это не идея, лежащая в основе как целого, так и каждой отдельной сцены. Да и что бы это было, попытайся я всю богатейшую, пеструю и разнообразную жизнь, вложенную мною в «Фауста», нанизать на тонкий шнурочек сквозной идеи»14. С этим поразительным гетевским признанием смыкаются и другие авторские оценки «Фауста»: «Это вещь сумасшедшая, она выходит за рамки обычного восприятия»15, «это… нечто непомерное, все попытки сделать его доступным разуму оказываются тщетными»16. 13 Гете И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда // Гете И.В. Собр. соч. в 10 т. – Т.З. – М., 1976. – С. 348. Эккерман И.П. Разговоры с Гете. – М., 1981. – 534. 15 Там же. – С. 141. 14 38 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» И все же попытаемся выяснить идейные и эстетические особенности этого «непомерного» произведения, которое верный наперсник Гете на протяжении последних десяти лет его жизни сравнивал с Кельнским собором17. 2 Трагедию открывают два пролога – «Театральное вступление» и «Пролог на небе». В «Театральном вступлении» изложены творческие принципы Гете, его эстетическая программа. Писатель сталкивает три точки зрения на существо и предназначение искусства. Комический актер выступает за коммерческое развлекательное искусство, которое «всех прельстит» (17)18, поэт расценивает таковое как «кропанье пошлостей» (16) и отстаивает элитарное искусство как единственное, обращенное к Вечности. Директор театра не столь категоричен в своих суждениях, как два других участника дискуссии, он понимает, что высокое искусство оставляет современного зрителя равнодушным, а значит – «К чему без пользы мучить бедных муз?» (16). Поэтому он занят проблемой репертуара, техникой постановки спектаклей, их освещением, – одним словом, всем тем, чем и поныне занимаются театральные директора. Что же до приемов поэтического письма и актерского мастерства, то директор театра советует одному оппоненту: В поэзии греметь хотите? По-свойски расправляйтесь с ней (18) — и другому: Смотрите, на немецкой сцене Резвятся кто во что горазд (19). Эта точка зрения близка самому Гете, директору Веймарского театра, который выступил новатором в области поэзии и переосмыслил средневековую легенду о чернокнижнике, предавшемся дьяволу, в духе просветительского преклонения перед человеческим разумом и его неисчерпаемыми возможностями. Во втором вступлении – «Пролог на небе» – Гете непосредственно обращается к фаустианской теме и соотносит ее с историей ветхозаветного Иова. Иов, согласно библейскому преданию, – страдающий праведник, испытываемый сатаной с дозволения Бога. При встрече с сатаной Бог спрашивает: «обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов, 1,8). Сатана возражает, что благочестие Иова корыстно, потому что Господь охраняет его благосостояние; едва этому будет положен конец, кончится и преданность Иова Богу. Господь принимает вызов и позволяет сатане начать испытание, запрещая ему только посягать на саму личность Иова. После всех несчастий, обрушившихся на Иова – смерти детей, нищеты и болезни, после пережитого им периода сомнений в справедливости божественного миропорядка, – наступает просветление вет- 16 Там же. – С. 143. Там же. – С. 156. 18 Все цитаты приводятся по изданию: Тете И.В. Фауст. Лирика / Пер. Б. Пастернака. – М., 1986 – с указанием страницы в скобках. 17 39 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» хозаветного героя. Он объявляет о своем раскаянии, и Господь возвращает благочестивому и праведному Иову его прежнее счастливое состояние. В экспозиции «Фауста» такая же расстановка сил, как и в Книге Иова: Бог против сатаны, арена борьбы – душа человеческая. В «Прологе на небе» Гете сопоставляет две точки зрения на природу мироздания. Одну высокопарно излагают архангелы Рафаил, Гавриил и Михаил, которые поют, … как в первый день, сегодня, Хвалу величью божьих сил (20). Мефистофель не согласен с подобными «тирадами» (20). Но поскольку он стесняется «о планетах говорить» (20), то переводит дискуссию в русло обсуждения природы человека, который «скот скотом живет» и «кажется каким-то насекомым» (20). В речах архангелов – время, остановившее свой бег, состояние покоя, отсутствие какого бы то ни было движения. Язвительные же реплики духа отрицания вынуждают Бога назвать своего верного раба Фауста и предложить черту пари: низведенный в бездну Фауст «чутьем, по собственной охоте… вырвется из тупика» (22). «Пролог на небе», в общих чертах повторяя книгу Иова, существенно отличается от нее: именно Господь вызывает сатану на поединок, доподлинно зная о его исходе. Более того, любя Фауста и веря, что он победит все искушения и отстоит высокое звание человека, гетевский Бог, это олицетворение просветительского разума, признается в своей симпатии к Мефистофелю, бесу-искусителю, духу отрицания и демону зла, – чье назначение расшевелить человека, пробудить его от ленивой спячки, покончить с его самодовольством. И Бог дает в спутники Фаусту не архангелов, а Мефистофеля, потому что только падший ангел может обеспечить движение (а в основе любого движения лежит закон отрицания отрицания) ищущей мысли ученого. Таким образом, во втором вступлении к трагедии заложены первоосновы литературного мифа, созданного гениальным писателем: Фауст и Мефистофель – два противоречивых лика одной души. Так Гете в поэтической форме выразил одновременно с Гегелем идею о диалектическом единстве и борьбе противоположностей. Показательно, что самому олимпийскому небожителю из Веймара был близок не только фаустианский тип личности, но и мефистофельский. Недаром современники иногда воспринимали его в сатанинском ореоле. Например, немецкий поэт И.В.Л. Глейм так описал свое первое впечатление от встречи с 28-летним Гете, который в одном из веймарских салонов читал стихи различных авторов: «Но вдруг в декламатора словно вселился бес легкомыслия и задора, и мне показалось, что я вижу перед собою волшебного стрелка собственною персоною… Чего только он не фантазировал в этот вечер, и с каким остроумием! Иногда это были великолепные, хотя и мимоходом брошенные, отрывочные мысли. Авторы, которым он их приписывал, должны бы на коленях благодарить бога, если б такое вдохновение посетило их за письменным столом. Как только шутка открылась, веселье сделалось всеобщим… – Это либо Гете, либо сам сатана! – крикнул я Виланду, который сидел за столом напротив меня, – Оба вместе, – был его ответ»19. 19 Рейман П. Основные течения в немецкой литературе 1750–1848 гг. – М., 1959. – С. 135. 40 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» С другой стороны, в образе Мефистофеля Гете запечатлел черты своего старшего друга и наставника И.Г. Мерка (1741–1791), человека скептического ума и большого знатока людской природы. На склоне лет Гете признавался Эккерману: «Мы с Мерком относились друг к другу, как Фауст и Мефистофель…»20 А в «Поэзии и правде» он называет своего застрелившегося от ипохондрии друга не иначе как «Мерк-Мефистофель»21. Мотив единства Фауста и Мефистофеля у Гете тесно связан с темой Иова, которая звучит в трагедии дважды – серьезно в ветхозаветном ключе в начале и дурашливо-пародийно в конце. В экспозиции трагедии, выполненной в традициях средневековой мистерии, Гете, опираясь на библейскую притчу, создает ее просветительский вариант. Перекличка с историей Иова в «Прологе на небе», таким образом, играет концептуально важную роль. Но Фауст – просветительский Иов – подается автором трагедии в единстве с Мефистофелем. Поэтому так закономерно имя Иова всплывает в сознании духа отрицания в финале произведения. Правда, на сей раз в весьма пикантной ситуации. Мефистофель считает, что выиграл пари у Господа и что бессмертная душа Фауста навечно принадлежит ему – победителю. Однако в миг своего, как ему кажется, наивысшего торжества он не вовремя увлекся видом ангелов, один из которых разбудил его чувственность. Когда Мефистофель сумел побороть наваждение, было поздно: ангелы унесли душу Фауста в рай. Эта сцена, где дается развязка всей истории, решена в комедийных традициях. Комизм ситуации обеспечивается несоответствием между персонажем и его речениями. В нашем случае это дух зла и отрицания, который сравнивает себя с Иовом и шлет свои проклятия в адрес обманувшего его небесного воинства. Тема Иова, звучащая в начале и конце трагедии, оказывается тесно связанной с «Театральным вступлением». Гете демонстрирует на деле возможность сочетания в рамках одного произведения высокого и низкого, трагического и комического материала. Его «Фауст» раскрывает вечные проблемы бытия и – одновременно – сиюминутные, самые прозаические моменты человеческого существования и являет собой редкий сплав элитарной литературы, обращенной к высокообразованному интеллектуальному читателю, и массовой беллетристики, чье назначение – потрафлять вкусам толпы. 3 «Земной» и «небесный» прологи определяют главную особенность произведения Гете, его политекстуальность. Здесь соседствуют сцены, выполненные в традициях кукольных представлений в средневековых ярмарочных балаганах, и реалистические зарисовки будней и праздников провинциального немецкого городка, античная трагедия, рыцарский роман, утопия, мистерия. «Фауст» – это «чудесный сплав» самых разных направлений, жанров и стилей, которые в единстве и составляют его неповторимую ауру. Начало трагедии выдержано в классицистическом духе. В «Театральном вступлении» ставится общая эстетическая проблема, в «Прологе на небе» она конкретизируется и увязывается с определенными персонажами и известным сюжетом. При этом в первом прологе театральное действо предваряют люди, которые обеспечивают таковое в качестве поэта, актера и директора театра; во втором – мистериальные герои будущего представления. 20 21 Эккерман И.П. Указ. соч. – С. 428. Гете И.В. Поэзия и правда. – С. 468, 518, 561. 41 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Непосредственное содержание «Фауста» соотносится не только с историей Иова, но и с Библией целиком: первая часть – своеобразное «второе грехопадение» и «потерянный рай», вторая часть – «возвращенный рай». Перед нами просветительская притча о естественном человеке, который, имея вполне определенное национальное происхождение, получает у Гете статус представителя рода человеческого вообще. Подобный универсализм трагедии обусловлен особенностями идеологии эпохи Просвещения и родствен космополитическим концепциям XVIII в., которым отдал дань увлечения и Гете. Поэтому не случайно прославленный автор концепции мировой литературы обогатил историю о немецком чернокнижнике XVI в., используя многочисленные европейские легенды о союзе человека с дьяволом и исторические свидетельства о средневековых ученых и философах, которых суеверная молва обвиняла в сношениях с сатаной. Среди последних внимание Гете привлек прежде всего англичанин Роджер Бэкон (1214–1292), который в народных сочинениях XV–XVI вв. предстает настоящим искателем запретной мудрости, магом, волшебником и чародеем, творящим удивительные вещи, и который в конце жизни покаялся, став отшельником. Таким образом, гетевский Фауст – человек Просвещения, гражданин Вселенной. В пользу такого расширительного толкования образа свидетельствует и тот общеизвестный факт, что сын Фауста и Елены, Эвфорион, – вдохновенный поэтический памятник Гете безвременно умершему Байрону. 4 Задача, которую поставил перед собой Гете, – показать становление нового человека, историю нового Адама от грехопадения до очищения, – была неимоверно трудной. Недаром ее разрешение потребовало от писателя шести десятилетий напряженной работы. Многое изменилось за эти годы в европейской политике, истории, философии, эстетике, культуре, литературе. И почти все историко-культурные новации нашли свое отражение в грандиозном произведении Гете. Так, замысел первой части возник одновременно с «Вертером» и несет на себе печать эпохи «Бури и натиска». Об этом свидетельствует, во-первых, само обращение писателя к позднему германскому средневековью, к эпохе, предшествовавшей Реформации, и к легенде о Фаусте; во-вторых, штюрмерская трактовка главного героя как яркой индивидуальности, выдающейся личности, «бурного гения» с чертами демонизма, окруженного ореолом исключительности и тайны; наконец, связь основного сюжетного ядра первой части с сентиментально-мещанской драмой, где использованы излюбленные мотивы литераторов «Бури и натиска» (сословный конфликт, обманутая девушка, детоубийство). В письмах Ф. Шиллеру конца 90-х годов XVIII в. Гете, определяя жанр первой части «Фауста», пишет о «рапсодической драме»22. Вторая часть «Фауста» создавалась в послештюрмерские годы, когда Гете вместе с Шиллером вырабатывал художественную программу, получившую в литературоведении название «веймарского классицизма». В этот период Гете стремился к классической ясности и стройности, к гармонии и единству отдельных частей произведения, которое приблизится к идеальному состоянию, благодаря использованию приемов «эпической поэмы»23. Таким образом, вторая часть «Фауста», по замыслу Гете, должна была соединить эпос и драму. В статье «Об эпической и драматической поэзии» (1797) Гете обобщает свои размышления о природе и различиях эпоса и драмы: 22 23 Гете И.В., Шиллер Ф. Переписка. – В 2 т. – Т.2. – М., 1988. – С. 78. Там же. – Т.1. -С. 367. 42 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» «Мне известны мотивы пяти родов: 1) устремляющие вперед, такие, которые ускоряют действие; ими преимущественно пользуется драма; 2) обращающие вспять, такие, которые отдаляют действие от его цели; ими пользуется почти исключительно эпическая поэзия; 3) замедляющие, которые задерживают ход действия или удлиняют путь; этими мотивами, с великой выгодой для себя, пользуются оба жанра; 4) обращенные к прошлому, благодаря которым оживает происходившее до эпохи этих стихотворений; 5) обращенные к будущему, предвосхищающие то, что произойдет в последующие эпохи. В обоих этих мотивах нуждаются как драматический, так и эпический поэты, чтобы сделать свои творения завершенными»24. Эти идеи разделял и Шиллер, который в одном из писем к своему другу отмечал: «Поэтическое искусство как таковое делает все чувственно сопереживаемым, но тем самым оно вынуждает и эпического поэта воплощать подобным образом свершившееся – лишь бы при этом не был бы утрачен характер прошедшего. Поэтическое искусство как таковое делает все настоящее прошедшим и удаляет от нас все близкое, идеализируя его, но тем самым оно вынуждает драматического поэта отдалять от нас действительность, непосредственно воздействующую на нас, и представлять нашему духу некую поэтическую свободу по отношению к материалу. Таким образом, трагедия в ее наивысшем понимании всегда будет стремиться вверх, к эпосу, и лишь поэтому она становится явлением поэзии. Точно так же эпическая поэма всегда будет стремиться вниз, к драме, и лишь поэтому она полностью отвечает родовому понятию поэзии, – как раз то, что делает трагедию и эпопею поэтическими произведениями и сближает их»25. Согласно своим «мотивам» и особенностям строения вторая часть «Фауста» может быть причислена и к жанру эпической поэмы, и к жанру трагедии. Значит, мы имеем дело с эпической трагедией, наследующей традиции античных эпоса и театра во второй части, и драмой в первой части. Следовательно, главной особенностью формы произведения Гете является его синтетичность, которая и позволила, как выразился Шиллер, приспособить «народное предание… к философской части целого»26. 5 Основной конфликт произведения – состязание Фауста с Мефистофелем. Их поединок в конечном счете оборачивается столкновением разных точек зрения на счастье и, следовательно, на смысл человеческого бытия. Первоначальная установка Мефистофеля сделана в духе эпикурейского отношения к жизни. Горациева мудрость: Сагре diem! – вот принцип, который дьявол пытается сделать ведущим в жизни своего подопечного. С этой целью он стремится увлечь Фауста наслаждениями быстротечной жизни. Сначала это вино и радости бесшабашных хмельных гуляк (сцена «Погребок Ауэрбаха» в Лейпциге). Затем – овладение временем, вечная молодость и бессмертие, равность человека к Богу, т. е. возвращение его в состояние «до грехопадения Адама и Евы» (сцена «Кухня ведьмы»), наконец – прелести любовных объятий (основной внешний сюжет первой части, связанный с Гретхен). Однако вид разошедшегося пьяного сброда, уподобившегося «свиньям пятнистым» (83), вызывает у Фауста брезгливость и тошноту. Став, по определению Мефисто24 Там же. – С. 540. Там же. – С. 468–469. 26 Там же. – С. 367. 25 43 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» феля, «магистром всех пьяных степеней» (96), он испытывает отвращение к бражникам, попавшимся на проделки черта и хватающим друг друга за носы. Что касается омоложения героя, то, согласно гетевской концепции, оно происходит прежде всего под влиянием увиденной в волшебном зеркале Елены Прекрасной. Едва ли не впервые в своей жизни Фауст томится не жаждой знания, а желанием приблизиться к вечной женственности и красоте. Мефистофель по-своему использует этот импульс, идущий от Фауста, и предлагает ему Гретхен как одно из земных воплощений прекрасной жены Менелая. Поначалу любовь к Маргарите потрясает Фауста. Однако их союз держится только на чувственном влечении мужчины и женщины, поэтому изначально обречен на кратковременность. Патриархальность, простота, наивная доверчивость Гретхен привлекают Фауста и вместе с тем отталкивают, потому что сочетаются с интеллектуальной неразвитостью, предрассудками и узостью мышления, которые ей свойственны. Мезальянс Фауста и Маргариты является неравным браком не потому, что они принадлежат к разным социальным и имущественным классам, а потому прежде всего, что они не совпадают с точки зрения горизонтов мышления: он – ученый, беспокойный, критически мыслящий, стремящийся найти ответ на вечную загадку бытия, она – юная законопослушная мещаночка, существо преданное, любящее, но пассивное и бескрылое; он – бессмертный человек, гражданин мира, она – типичная ограниченная жительница средневекового немецкого городка; он думает о прорыве к Богу, она теряется вне рамок привычного бидермейера. Потому, едва добившись любви Гретхен, Фауст покидает ее. В итоге – «мука вечная», что уготована матери Маргариты, уснувшей навеки без покаяния, ее брату Валентину, погибшему во время дуэли от руки Фауста, ее незаконнорожденной дочери, которую она утопила в пруду. В этом ряду вечных страдальцев нет самой Гретхен. В финале первой части Мефистофель готов констатировать: «Она осуждена на муки» (176), однако, голос свыше вносит корректировку: «Спасена!» (176). Спасена, надо думать, потому, что любила и именно в любви видела смысл своего бытия. А если эта любовь оказалась трагической и преступной, то Гретхен искупила ее своими земными страданиями, от которых она сошла с ума, и своей верой в Господа, которому она препоручила себя. Тем временем Фауст, отвергший счастье как всего лишь физическое удовольствие, продолжает поединок с Мефистофелем. Мефистофель предлагает своему другу-врагу испытать другие варианты счастья, один из которых, как ему кажется, обязательно вынудит Фауста произнести желанные слова: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» С этой целью сатана, во-первых, искушает Фауста карьерой советника-ученого при молодом и легкомысленном императоре (первый акт второй части); во-вторых, готов помочь ему приблизиться к разгадке жизни природы и существа красоты (второй акт второй части); в-третьих, соединяет Фауста с Еленой Прекрасной (третий акт второй части); наконец, пытается увлечь его войной как делом настоящих мужчин (четвертый акт второй части). Однако все потуги Мефистофеля тщетны. Роль маркиза Позы при недоросле-императоре среди жадной, пустой и завистливой придворной черни быстро наскучила Фаусту. Военное счастье также не прельщает его. Постижение тайн природы Фауста уже не занимает, потому что он томим единственным желанием – обрести вечную женственность в лице Елены Прекрасной. Во имя этого обладания Фауст повторяет подвиг античных героев Орфея и Геракла, спускавшихся в Аид. Однако союз с легендарной женщиной дает ему только иллюзию счастья, утрата которого неминуема. Как некогда во внебрачной связи с реальной Гретхен, так и в законном супружестве с героиней гомеровского эпоса, Фауст обречен на одиночество. Наивная простота и нерассуждающая жертвенность одной и утонченная изысканность и умение растворяться в любви 44 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» второй не способны дать гетевскому герою ощущение полноты бытия. Более того, каждая из женщин становится причиной ипохондрии героя (Гретхен сходит с ума, Елена исчезает, дети, рожденные ими от Фауста, гибнут) и несет ему дисгармонию и чувство неудовлетворенности миром и собой. При этом если инициатором разрыва отношений с Гретхен выступает Фауст, то Елена сама покидает возлюбленного после гибели Эвфориона. По мнению А. Аникста, «союз Фауста с Еленой символ соединения двух разных идеалов… – античного классического и средневекового романтического»27. С. Тураев развивает эту общепринятую точку зрения: «В изображении Елены и ее окружения запечатлен классический идеал… Крах иллюзий, связанных с попыткой возрождения классического идеала в эпизоде с Еленой, своеобразная форма самокритики веймарского классицизма»28. Все это совершенно справедливо. Действительно, союз Фауста и Елены легко поддается подобной расшифровке: Возрождение открыло для себя античность и было поражено ее красотой и мощью, однако все попытки Гете и Шиллера вернуть утерянный классический идеал оказались тщетными в конце XVIII в. Но, думается, есть еще одна сторона этой проблемы. Гете не случайно изобразил два типа женщин, каждая из которых могла бы, по мысли Мефистофеля, стать судьбой Фауста, но не стала. Маргарита и Елена – два проявления единой вечной сущности женственного. Однако этот идеал в реальной жизни недостижим. Правда, младшие современники Гете, романтики, тешили себя иллюзией постижения вечной женственности в лице Доротеи или Каролины. А Новалис в повести «Ученики в Саисе» даже отважился заявить, что под покрывалом богини Изиды скрывалась Розенблюхтен – натура, родственная гетевской Гретхен. Как и его герой Гиацинт, Новалис считал, что обрел воплощение вечной женственности в естественности и простоте юной Софии Кюн. Гете, не в пример юношески максималистским иенцам, более осторожен с понятием Ewige Weiblichkeit. Его собственные поиски идеальной женщины, эти Фридерика Брион, Шарлотта Буфф, Максимилиана Брентано, Лили Шенеман, Шарлота фон Штейн, Христиана Вульпиус свидетельствуют, что идеал так и не был им обретен. Фауст приходит к тому же выводу: вечная женственность – это категория, которую каждый мужчина стремится наполнить реальным содержанием, но не в состоянии этого сделать, ибо вечная женственность подобна линии горизонта, постоянно ускользающей от путника. В свете такого истолкования взаимоотношений Фауста с его любимыми женщинами новым смыслом наполняется кода трагедии Гете, где выступают разнообразные аллегорические персонажи с отчетливо выраженной христианской символикой. Над всеми героями заключительной сцены – отцом восторженным, отцом ангелоподобным, блаженными младенцами, ангелами, младшими ангелами, более совершенными ангелами, возвестителем почитания Богоматери, кающимися грешницами, душой Фауста – парит Mater gloriosa. Тем самым Гете, в соответствии с католическими представлениями, венчает Деву Марию, – «Царицу небесную», олицетворяющую у него явление райской природы. Этот финал явно перекликается со средневековой демонологической легендой о Теофиле, который состоял на службе у епископа и, устав от тягот жизни, продал свою душу дьяволу. Быстро сделав карьеру, но потеряв покой, он раскаялся и обратился за помощью к Богоматери. И Дева Мария вымолила ему прощение, и отобрала у сатаны расписку Теофила. У Гете аналогичная трактовка образа Пречистой: она – всепрощающая мать, которая помогает самому закоренелому грешнику, и всесильная царица мира, которая властна и над Люцифером. Закономерно поэтому, что в загробной жизни Фауст попадает под покровительство Богоматери, которая разрешает «одной из кающихся, прежде называвшихся Гретхен», стать его «вожатой» (421). 27 28 Аникст А. Гете и Фауст. – М., 1983. – С. 203–204. Тураев С. Гете и формирование концепции мировой литературы. – М., 1989. – С. 228. 45 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Последнее позволяет провести и другую параллель в этом сюжете: между Гретхен и Беатриче из дантовской «Божественной комедии». Платоническая возлюбленная итальянского поэта выступает в роли его водительницы по небесному раю и олицетворяет собой религиозную мудрость, теологию. У Гете мы видим секуляризированное преобразование теологических мотивов, лежащих в основе образа Беатриче. Его Гретхен, направляющаяся в высший круг и указывающая дорогу Фаусту – это сама вечная женственность, которая освободилась наконец от сковывавшей ее при жизни телесной оболочки. Поэтому в финальных строках трагедии мистическим хором прославляется Ewige Weiblichkeit, которая есть залог движения к бесконечному постижению истины и смысла бытия. В свете заключительного утверждения Гете: Все быстротечное — Символ, сравненье. Цель бесконечная Здесь в достиженье. Здесь – заповеданность Истины всей. Вечная женственность Тянет нас к ней (421) — иначе прочитывается и пятый акт второй части трагедии, который имеет программный смысл в развитии сюжета и связан с поисками Фаустом форм активного участия в преобразовании мира. Пресытившийся всеми приключениями и победами, разочаровавшийся в плотских утехах и сиюминутных карьерных достижениях, Фауст решает создать рай земной для людей на морском побережье, подаренном ему императором. Он строит дворец, возводит плотины, отвоевывая землю у моря, насаждая сады. Так в трагедию входит тема «возвращения рая», который оказывается иллюзией. Ибо построение небесного Иерусалима на земле невозможно, как невозможно обладание вечной женственностью. Фауст же уверен в обратном и в убеждении своем принимает желаемое за действительное. Слыша звон многочисленных лопат, он верит, что это толпа рабочих осушает болотистую почву. Ослепший, он не подозревает, что это лемуры роют ему могилу, а Мефистофель руководит постройкой домовины. Самое же трагическое во всей этой истории в том, что благие порывы Фауста – построение светлого будущего для всего народа – ведут к мученической смерти конкретных Филемона, Бавкиды, их гостя. Так попытка созидания оборачивается разрушением, уничтожением, смертью. Так Фауст приобретает отчетливо выраженные черты Рыцаря Печального Образа. Однако, в отличие от Дон Кихота, полностью устремленного в прошлое и пытающего гальванизировать мир рыцарства, Фауст стремится приблизить своей деятельностью будущее. Именно поэтому поединок Фауста и Мефистофеля заканчивается моральной победой главного героя трагедии. Произнесенные им слова договора о прекрасном мгновении, которое следует остановить, – не свидетельство капитуляции Фауста. Напротив, в них звучит высшее торжество его творческой мысли, идея бесконечной борьбы, движения, преодоления застоя. 6 Итог земной жизни героя Гете удивительно гармонирует с представлениями И. Фихте о назначении ученого и человека. Известно, что Гете был в хороших отношениях 46 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» с Фихте, он ходатайствовал о приглашении Фихте в Иенский университет. Известно и то, что в начале 1797 г. они вместе вечерами читали «… новое изложение… наукоучения» 29 и что Гете ценил в Фихте способность к «беседе и обмену мысли»30, хотя мог отпустить и насмешливо остроумное замечание об «этом забавном малом» 31. Не обращалось внимание на другое: общая концепция человека в «Фаусте» Гете совпадает с фихтеанским понятием «чистого» Я, Я как такового, общечеловеческого Я, которое есть совокупность разума и воли. Идейный стержень «Фауста» был определен его автором в 1797–1799 гг. Именно тогда он сделал исключительно важную запись в своем дневнике, в которой содержится общий набросок плана, перспектива развития темы: «Идеальное стремление проникнуть в природу и прочувствовать ее целостно… Наслаждение жизнью личности, рассматриваемое извне. В смутной страсти – первая часть. Наслаждение деятельностью вовне. Радость сознательного созерцания красоты – вторая часть. Внутреннее наслаждение творчеством…»32. Герой Гете проходит эволюцию от только ученого и только любовника до государственного деятеля, занятого проблемами общества и человека, культуры и искусства, природы и борьбы за подчинение ее нуждам людей. Он становится человеком Вселенной, который стремится собственными руками создать Телемскую обитель – идеальное общество равенства, братства и свободы. Эта идея чрезвычайно близка Фихте, который «целенаправленно встраивает всеобщую философию человеческого Я в более общую гуманистическую концепцию, центром которой является активная преобразующая деятельность человека и человечества»33. Философ говорит о деятельности, направленной на познание природы и ее преобразование, на создание и усовершенствование человеческого мира. Фихте выстраивает идеал «высшего человека», глубоко влияющего на историю человечества. Таков и Фауст. Фихте вдохновенно славит «достоинство человека» (так называется заключительная речь, завершавшая его философские лекции 1794 г.): «…вокруг человека облагораживаются души, чем больше кто-либо человек, тем глубже и шире действует он на людей, и то, что носит истинную печать человечности, будет всегда оценено человечеством, каждому чистому проявлению гуманности открывается каждый человеческий дух и каждое человеческое сердце… Высший человек с силой подъемлет свой век на более высокую ступень человечества; оно оглядывается назад и изумляется той пропасти, через которую оно перенеслось; десницей великана выхватывает высший человек из летописи рода человеческого все то, что он может охватить»34. Это высказывание философа удивительно гармонирует со строками Гете, выражающими истину, которую ищет и находит Фауст: Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, Жизнь и свободу заслужил. Так именно, вседневно, ежегодно, Трудясь, борясь, опасностью шутя, Пускай живут муж, старец и дитя. Народ свободный на земле свободной Увидеть я б хотел в такие дни. Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье! 29 Цит. по: Конради КО. Гете. Жизнь и творчество. – В 2 т. – Т.2. – М., 1987. – С.273. Там же. 31 Там же. 32 Цит. по: Аникст А. Указ. соч. – С. 131–132. 33 Мотрошилова Н. Социально-исторические корни немецкой классической философии. – М., 1990. – С.38. 34 Цит. по: Мотрошилова Н. Указ. соч. – С. 38. 30 47 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» О, как прекрасно ты, повремени! Воплощены следы моих борений, И не сотрутся никогда они». И, это торжество предвосхищая, Я высший миг сейчас переживаю (405). Герой просветительской трагедии Гете с его желанием обрести вечную женственность и стремлением выстроить идеальное гармоничное общество родствен человеку в понимании Фихте, который утверждал, что «в понятии человека заложено, что его последняя цель должна быть недостижимой, а его путь к ней бесконечным»35. Контрольные вопросы 1. Что привлекало Гете в легенде о Фаусте? 2. Как Гете переосмыслил традиционный сюжет о человеке, продавшем душу дьяволу? 3. Какова композиция трагедии Гете «Фауст»? 4. В чем проявился программный характер «Театрального вступления» и «Пролога на небе»? 5. Как соотносится гетевский «Фауст» с Библией? 6. Объясните причины универсализма трагедии Гете «Фауст». 7. В чем проявляется политекстуальность гетевского произведения? 8. Как выражена синтетичность формы произведения Гете? 9. В чем состоит преемственность фаустовских концепций Лесси нга и Гете? 10. Обоснуйте родственность гетевского Фауста и человека в понимании Фихте. Темы рефератов Библейские источники трагедии Гете «Фауст». • Библейские Адам и Фауст Гете: типология или влияние? • Образ Иова в контексте трагедии Гете «Фауст». А Античные реминисценции в трагедии Гете «Фауст». • Женские образы в трагедии Гете «Фауст» и идеал Ewige Weiblichkeit. • Гретхен Гете и Беатриче Данте. А Автобиографическое начало в трагедии Гете «Фауст». 35 Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении ученого // Фихте И.Г. Соч. в 2 т. – Т.2. – СПб., 1993. – С. 18. 48 Г. Г. Ишимбаева. «Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков» Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом. 49