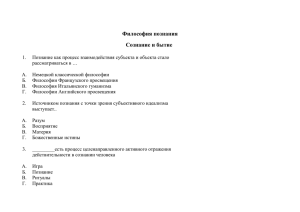философия и теология
реклама

ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ I. ЛОГИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ УДК 130.2 МЕЖДУ МИФОЛОГИЕЙ МОДЕРНА И РАЦИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ: К ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ О.В. Ковальчук1), В.П. Римский2), 1) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78; e-mail: [email protected] 2) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78; e-mail: [email protected] В статье рассматривается генезис основных логико-методологических парадигм европейского социально-гуманитарного знания, укорененных в идеологии и мифологии эпохи модерна. Ключевые слова: модерн, мифология, сциентизм, социально-гуманитарное знание. Основной задачей данной статьи будет усвоение некоторых логикометодологических «уроков» и анализ фактов из истории становления классической и неклассической западной философии и социально-гуманитарного знания. Античная философская рефлексия в пределах мифологического сознания, как показал в своих работах А.Ф. Лосев, лишь подорвала доверие к примитивным народным суевериям и расчистила путь для утверждения христианского монотеизма. Неоплатонические традиции, воспринятые западным Возрождением в светской форме в приложении к античному и христианскому культурному наследию имели своим результатом не только новую гуманистическую картину мира, но и новое, научнопонятийное мышление. Если классический и средневековый неоплатонизм, превращая образы античной мифологии, культуры и Библии в абстракции и символы, конструировали из них вторичную рафинированную мифологию, то аллегорическое понимание религиозного культурного наследия в эпоху Возрождения создавало предпосылки свободного от образности современного понятийно-научного, научно-гуманитарного мышления. Дихотомия «язычество-христианство» здесь сбрасывает мифологизированные формы и впервые становится научно-исторической антиномией. Само понимание «Возрождения» как наследования античности и предполагало культурно-историческое развитие. Но это было развитие в форме ретроспекции, которое у Вико нашло завершение в его философско-исторической концепции в контексте исторического круговорота. В средневековой католической теологии мифами называли все (хотя и по преимуществу античные) языческие суеверия, подчеркивая рационализм, разумность и немифологичность самого христианства. Поэтому новоевропейская философия, занятая критическим усвоением теологического книжного наследства и богословскими спорами в протестантских кругах, изначально была вынуждена определиться со своим отношением к социально-гуманитарной проблематике. Эпоха Великих географических открытий и сопутствующее ей миссионерство, а затем грандиозная колонизация Нового Света (Новой Атлантиды?) протестантскими радикальными сектантами, способствовали накоплению этнографических фактов о человеке и культуре отсталых народов, их критической обработке в становящейся социально-гуманитарной науке, что 3 в свою очередь создало предпосылки более рационального изучения исторических форм культуры. Это положило конец аллегорически-символическим и эвгемерическим толкованиям истории культуры в духе неоплатонизма и средневековой схоластики, вывело ученых за узкие рамки филологических изысканий и способствовало утверждению сравнительно-исторической, компаративистской методологии в социально-гуманитарном знании. Завершился этот процесс в XIX веке возникновением этнографии, археологии, антропологии, истории культуры и других специальных наук, изучающих пути и перепутья человека и человечества. Но вся эта проблематика, начиная с XVII века, волновала, прежде всего, философов. И не только потому, что идеологи молодой буржуазии были энциклопедически образованными людьми с широким кругозором. Проблема власти и религии, культуры и религии, науки и религии и их роли в обществе оказались в центре полемики церковных теологов и светских мыслителей. Развитие социально-политического знания и социальногуманитарных теорий было тесно связано с обсуждением этой проблематики в контексте становления новой научной рационализации. Многое определялось центральной для философии Нового времени идеей «разума», что было обусловлено не только узко идеологическими задачами «борьбы с католической реакцией», но и сугубо внутренними проблемами разработки этой темы. Н.В. Мотрошилова по этому поводу писала, что "разум" или "разумность" на начальных стадиях развития европейской культуры Нового времени выступает как некое целостное синтетическое, пока еще мало дифференцированное понятие [1]. И одним из внутренних моментов дифференциации и категоризации этого понятия было рождение антиномии «рациональное-иррационалъное», которая в свою очередь развернулась веером более конкретных антиномий. А.С. Богомолов в свое время отмечал, что «история понятия рациональности – это история антиномической постановки вопроса о соотношении многообразных категорий, сопоставляемых с racio и его аналогами и проявлениями: логос и миф, знание и мнение, разум и вера, разум и рассудок, дедукция и интуиция и т.д.» [2]. У истоков новой, гуманитарно-рационалистической проблематики, несомненно, встает фигура Ф. Бэкона, в лице которого европейская культура впервые пытается осознать свое прошлое в научной форме. Метод, которым пользуется Ф. Бэкон в трактовке культурно-исторических феноменов, можно охарактеризовать как индуктивно-символический. Широко пользуется Ф. Бэкон и историческими сравнениями, хотя параллели из христианской и античной мифологии и культуры привлекает еще осторожно. Можно смело сказать, что к мифологическим формам культуры он подошел не с позиций апологетического оправдания или критики, а с сугубо гносеологических – Бэкон, на наш взгляд, впервые создает достаточно рациональную философию культуры (мы выразим несогласие с Е.М. Мелетинским, который отдал пальму первенства Вико, у которого мы находим сугубо теологические рационализации проблем). Бэкон рассматривает мифы древности как разновидность параболы наряду с притчами, загадками, метафорами, афоризмами, хранящими драгоценнейшие сокровища наших знаний. Миф для Бэкона – способ мышления, совпадающий фактически со всем сознанием древности, когда разумное, логическое мышление людей было слабым и им "приходилось прибегать к образным сравнениям и примерам, более доступным для понимания, чем абстрактные умозаключения" [3].Интересно, что Бэкон фактически высказывает ту мысль, которая до наших дней витает в обсуждениях проблем современной политологии и социологиии. Он подчеркивает не только познавательную, мыслительную функцию мифов-парабол, но и идеологическую, называя их «палкой о двух концах», выступающей и как средство обучения, и как 4 средство обмана [4]. Причем, идеологическая функция мифов им рассматривается как производная, вторичная от познавательно-обучающей. Как видно из текстов, идеологическая функция для Бэкона является вторичной, а первоначально преобладала функция обучения: в древности «мы встречаем всевозможные мифы, загадки, параболы, притчи, к которым прибегали для того, чтобы поучать, а не для того, чтобы искусно скрывать что-то, ибо в то время ум человеческий был еще груб и бессилен и почти неспособен воспринимать тонкости мысли, а видел лишь то, что непосредственно воспринимали чувства» [5]. Это чувственное мышление, как он считает, обладало «исключительной силой воздействия» [6]. Бэкон этот период в развитии культуры связывает впервые в гуманитарной науке не с реформаторами человечества или его «обманщиками», а с коллективным, устным народным творчеством: мифы этого периода «стоят вне времени», являются преданием древних народов, его песнями. Бэкон по праву должен считаться первый ученым, который не ограничился обыденным или традиционно-теологическим подходом к культуре, а дал ее гносеологический анализ. Но Бэкон далек от просветительского обличения мифов и религий как суеверий, а священников и политиков как примитивных обманщиков. Он видит глубинные, эзотерические смыслы в идеологической функции мифов и религии. И действительно, именно в эту эпоху протестантизм во всех его формах и сектантских ипостасях распространяет свое сакральное «благочестие» не только на обыденную жизнь мирян, но и на другую мирскую сферу – сферу государственно-политическую. Именно протестантизм, смыкаясь в союзе с властью национальных государств, фактически превращает христианство в разновидность светской, социально-политической мифологии. В этом же ряду, вероятно, стоит и учение Бэкона об идолах познания: идолы рода (несовершенство «человеческой природы», по сути, обрекает нас на «вечную иллюзорность и фантастичность» нашего мышления и сознания, здесь можно усмотреть зачатки учения о «коллективных представлениях»); идолы пещеры (наш индивидуальный опыт, столь же несовершенный как и коллективный, причем с охотой идущий навстречу любым иллюзиям-рационализациям в психоаналитической трактовке); идолы площади (затемняющая природа слов и языка – употребляя современные понятия, мифологизирующая сила массовых коммуникаций и текстов культуры); идолы театра («вымышленные и искусственные миры», по словам философа, которые создают философские и научные системы, литература и искусство – собственно идеология в нашем нынешнем понимании, мифы искусства, науки и философии). Однако не станем модернизировать философию мифа Ф. Бэкона и втягивать ее в современный, начала ХХI века мыслительный контекст (хотя почти вся «постсовременная» европейская философия только и занята тем, что модернизирует философские тексты прошлого, начиная от Демокрита и Платона!). Нам важно зафиксировать, что проблематика исследования современной идеологии и сознания (сознания «здесь и сейчас») была отрефлектирована уже Бэконом, мифы-идолы предстали в его наивной интерпретации как сложные духовные формообразования, обладающие в том числе и идеологической функцией. Хотя он далек от определения «современной мифологии», но его апологетика разума, эксперимента и науки, проективного государственного строительства (разумности и идеологичности мифа!) и является, по нашему мнению, тем кирпичиком в «мифологию модерна» и его «проект», который и заложил творец «Новой Атлантиды», барон Веруламский. Т. Гоббс, например, совершенно в духе пуританизма придал некоторым идеям Бэкона формально-логическую, «механистическую» завершенность. Т. Гоббс, младший современник и секретарь Бэкона, принявший столь же деятельное участие в религиозно-политических потрясениях эпохи, более решительно использует 5 аллегорическое толкование Библии, хотя это у него не становится специальной задачей, а лишь используется в качестве способа ведения философско-публицистической полемики. Гоббс специально не занимался изучением истории культуры – у него социально-гуманитарная проблематика появляется в контексте его социальной философии и философии политики. Он также много внимания уделил исследованию социальных иллюзий эпохи. Например, совершенно в духе своего времени он понимает религию не как простой обман, а как социальную силу, опору государства, которое использует ее для обеспечения единства общества и сдерживания «войны всех против всех». Только государство может придать тем или иным фантазиям и верованиям статус религии. Это были выводы не кабинетного ученого, а зрелого политика, деятельность которого совпала с эпохой буржуазных революций, когда ереси и новые сектантские верования после захвата власти становились такой же силой, как и традиционная католическая церковь. Государство как «коллективное лицо» и суверен может использовать любую религию, если она обеспечивает единство общества, сдерживает «войну всех против всех». В ту эпоху и господствует протестантский принцип «каков государь – такова и религия в его государстве». Но предпочтение Гоббс, разумеется, отдает протестантским версиям христианства. Да они и предпочтительнее в выполнении религией функции светской мифологии. Но философия политики Гоббса не только интересна в изучении сюжета о философско-идеологических рационализациях «современной мифологии». Она сама (как и еще в большей степени философия Локка) и представляет собой вариант и образец становящейся рационально-светской мифологии и идеологического проекта «современности». Это относится, прежде всего, к концептам «природа» и «естественное». Если у Бэкона «природа» служит в основном объектом и предметом познания «новой науки» и «новой философии», то у Гоббса (Локка, Юма, Руссо и т.д.) «природа» и «естественное» («природа познания», «природа человека», «естественное состояние человечества», «естественное право» и т.п.) выступают в качестве объяснительного и логического принципа. И концепция общественного договора, вырастающая на основе принципа «естественности» (война всех против всех как «естественное состояние» и т.п.), представляет собой «объясняющий миф», по меткому замечанию Б. Рассела (а уж он был чуток к логической рациональности!). Объясняющим мифом выступают и сами концепты «природы», «естественности» и вытекающего из них «разума», «естественной религии» и «религии в пределах разума», заложенные в методологию не только всей новоевропейской философии и концепций «естественного права» вплоть до Гегеля и Фейербаха, но и в основу политико-правовых и идеологических практик ранней буржуазии. Все буржуазные либеральные конституции с их декларированием основных «прав и свобод человека и гражданина» и политико-идеологические лозунги типа «свободы, равенства и братства» покоились на этих мифологизированных концептах. А потому и составили позже парадигматический остов современной мифологии и идеологических проектов модерна во всех их классических ипостасях и формах: либеральной, социалистической и консервативной. В ту же эпоху на другом берегу пролива рационалист Б. Спиноза в своем «Богословско-политическом трактате» откровенно выступил против теологических методов аллегорического и герменевтического толкования Библии, и, развивая индуктивно-символический метод Бэкона, предложил свою методологию – по аналогии с естественно-научной [7]. Его метод социально-гуманитарного познания можно назвать индуктивно-историческим, так как основная установка Спинозы – находить исторические факты, описывать обстоятельств создания Священных книг, их исторического существования (редактирования, искажения или канонизации), 6 проводить филологический анализ языка, на котором были написаны книги, группировать противоречия и семантически неясные места, интерпретировать их, а уж потом делать выводы «на основании законных следствий из известных или как бы известных данных» [8]. Сциентистская библеистика последующих времен во многом усвоила и развила идеи и методы интерпретации библейских текстов, которые мы находим у Спинозы. Спиноза вообще не пользуется термином «мифы», различая «суеверия» и «религию», а также выделяя в ряду исторических религий «истинную» (иудаизм или католичество, которые он легко менял в своей жизни?). Спиноза противопоставляет суевериям «всеобщую», «истинную» религию, «божественный закон», открытый человечеству Богом – в этих идеях в равной мере можно усмотреть как теологическое рационализирование, так и предварение просветительских постулатов о «естественной религии» и «религии разума». Особый интерес для современного историко-психологического исследования специфики первобытного и средневекового мышления имеет характеристика и сравнение Спинозой библейских пророков и христианских апостолов. Тщательный анализ библейских текстов позволил Спинозе заключить, что пророки получали божественные откровения при помощи воображения – «при помощи слов и образов». Это не реальные, а фантастические, воображаемые образы, поэтому пророческий дар кратковременен. Он пишет, что даром пророчества наделены «люди деревенские, лишенные всякого образования, даже женки», и тот, кто «более всего наделен воображением, тот менее способен к отвлеченному мышлению» [9]. Иной способ мышления мы находим, по его мнению, у христианских апостолов, которые хотя и занимались пророчеством, но уже «проповедовали как учителя, а не как пророки» [10]. В Новом Завете мы встречаем «даже формы выражения, свойственные душе колеблющейся и смущенной», и весьма далекие от пророческого авторитета. «Ибо апостолы везде умозаключают, – отмечает далее Спиноза, – так что они кажутся не пророчествующими, но рассуждающими; пророчества же, наоборот, содержат одни только догматы и решения» [11]. Он очень точно рисует психологический портрет христианского апостола-учителя (подобного и античному философу, как это не парадоксально для обыденного рассудка европейца): «Они просто учили письменно или устно, не прибегая для доказательства ни к каким знамениям», им «была дана не только сила для пророчествования, но и авторитет для учительства», апостолы «могли заключать и выводить о многом и могли учить тому людей, если им угодно было» и т.д. [12]. Рационально-исторический метод исследования истории культуры и религии утвердился в работах последовательного материалиста и английского просветителя Д. Толанда, который по сути одним из первых прошел путь философской эволюции от деизма к атеизму. Толанд, подобно своим предшественникам, различает культуру «языческую» и «христианскую» (последнюю он, вероятно в целях «экзотерических», восхваляет и называет «подлинной» и «истинной»). Толанд признает существование в истории человечества так называемого «дорелигиозного периода», в котором якобы не было ни религии, ни суеверий, а господствовал «разум» (многие просветители позволяли себе описывать начальную историю в понятиях «естественной религии»). Эта схема была наивна и прямо связана с идеологическими целями просветителей, но признание периода «разума» или «естественной религии» наносило эффективный удар по герменевтическому эзотеризму теологии, позволяло ставить вопрос о происхождении и эволюции религии и культуры в рамках исторических фактов и доказательств. Распространение «суеверий» в истории общества и культуры он объясняет чисто просветительски: дети якобы получают их от невежественных наставников, а привычки, страх и неуверенность в будущем, незнание, ложные чувства и, наконец, 7 общественное мнение и государственные законы, закрепляют эти суеверия. Вера в бессмертие души, культ предков, «это благовейное почитание выродилось под конец в религиозное поклонение», «почитание великих покойников с течением времени становится чрезмерным» [13]. Но в этом случае Толанд не выступает как сторонник эвгемеризма – он приводит вполне достоверные факты из античных источников и сравнивает их с этнографическими свидетельствами о современных первобытных народах и доказывает, что жрецы и правители использовали суеверия для оправдания своей власти над народом [14]. Таким образом, Толанд использовал индуктивноисторический метод Спинозы уже для сравнительно-исторического анализа культуры различных народов. В классической форме культурно-исторические и философско-исторические идеи просветителей были представлены у родоначальника французского Просвещения XVIII века – Фонтенеля. Ядро его о концепции также составляет задача «сведения религии с небес» к ее земной основе: «Язычники всегда творили своих богов по собственному своему образу и подобию» [15]. Фонтенель утверждает, что все народы мира проходят одни и те же стадии в эволюции культуры (например, стадию создания мифов): он, отмечая сходство между американскими и греческими мифами, пишет о древних греках, как о дикарях, подобных американским индейцам [16]. Фонтенель впервые ввел парадигму дикаря-философа, первенство в открытии которой затем необоснованно приписали Э. Тейлору: «В эти грубые времена сущствовала даже своего рода философия, и она сильно способствовала рождению мифов. Люди, несколько более одаренные, чем другие, естественно, стремились найти причину вещей и событий, происходивших у них на глазах... Конечно, это своеобразный философ, но, быть может, он был декартом своего века» [17]. Философ-просветитель отождествляет первобытную культуру с мифаминелепостями и бессмыслицами древних, но первые мифы, считает он, были не химерами, а простыми преувеличениями. Ряд причин - слепое следование традиции, перенос известного на другие, неизвестные явления, кочевание сюжетов и затемнение языка - довели мифы до «великой абсурдности». Но вряд ли надо упрощать подход Фонтенеля к истории культуры – ведь для него мифы древних народов не были просто заблуждениями, баснями и сказками» но представляли собой «смесь фактов с современной им философией» [18], были первой историей народов, способом познания природы. Толанд и Фонтенель, стоявшие у истоков национальных течений Просвещения, внесли свой вклад в становление социально-гуманитарной науки и в научное изучение первобытного сознания и культуры. И при всей своей ограниченности просветительский подход к истории культуры не был столь уж примитивным, как его порой трактуют. Наоборот, последующие интерпретаторы (Тейлор, Фрезер и др.) во многом повторяли просветительские идеи и парадигмы. Тот факт, что научно-рациональные концепты просветителей ложились в основание социальной мифологии модерна, еще не значит, что философы «нового времени» занимались сознательным мифотворчеством и идеологизированием, за что и получили у де Траси уважительное, а у Наполеона презрительно-скептическое наименование «идеологов». Собственно, так и будут – от Маркса и до наших дней – представлять культуру Просвещения как сознательное идеологизирование, а мифологию иодерна рассматривать лишь в качестве эквивалента идеологии и идеологической лжи и спекуляции, одной из технологий манипулирования массовым сознанием. Но в реальной культурноой практике было несколько сложнее. Все категории и концепты новоевропейской философии, как бы они сознательно не рефлексировались на страницах философских рукописей и политических конституций, имели более глубинное залегание в ментальностях и культурноцивилизационных парадигмах эпохи, в обыденном сознании субъектов исторического 8 действия, что само по себе предопределяло их бессознательную, объективномыслительную мифологичность. «В итоге оказывается, – писали в свое время относительно этой ситуации М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев и В.С. Швырев, – что категориально оформленное самоощущение мыслящего индивида, живущего в известную историческую эпоху, довлеет над конкретными, живыми людьми, занятыми исследованием и другими формами творческой, духовной деятельности, в качестве заранее отработанного «схематизма сознания», архетипа, априорного правила переживания мыслителем своей собственной субъективности» [19]. Но «схематизмы сознания» мыслителей были уже вторичными по отношению к схематизмам сознания «живых людей» (тем более, что все философы-идеологи были активнейшими «бойцами» в военных и политико-идеологических битвах эпохи ранних буржуазных революций). А мифологизирование происходило и происходит именно на уровне обыденного сознания, непосредственно включенного как в автоматизмы объективномыслительного действия социокультурных систем, так и в процесс наследования культурной архаики, мифологических стереотипов прошлых времен. Об этом – применительно к анализу философии Локка в контексте эпохи – есть интересное наблюдение у Э.Ю. Соловьева. «При создании политико-правового учения Локк лишь в малой степени следовал своей эмпирико-дедуктивной методологии. В данной сфере он работал как философ-аналитик, выражавший на отчетливом языке рассудка такие очевидности, которые неявным образом уже подчиняли себе актуальное политическое сознание и (по крайней мере в Англии) определяли семантику обычного языка». И далее он указывает, как сакрализация права собственности в обыденной практике армии Кромвеля находит рациональное выражение в философии Локка при обосновании им идей и максим «естественного права» [20]. «Естественность» собственности оказывалась естественностью гражданской войны середины XVII века, дела сугубо «неестественного» со всех точек зрения (как хочется провести параллели с «естественностью» собственности, полученной в нашем Отечестве в конце ХХ столетия!). Интересен вклад в социально-гуманитарную науку Дж. Вико, заслугой которого было не только дальнейшее развитие компаративистской методологии в исследовании истории культуры, но и рационализация теологической исторической схемы, к которой он впервые воспроизводит в научно-философской форме концепцию прамонотеизма: «Основатели Языческой Культуры, - пишет Вико далее, - были, несомненно, людьми из расы Хама – прежде всего, Яфета – несколько позже, и, наконец, Сима: один за другим они постепенно стремились от истинной Религии своего общего отца Ноя» [21]. Конечно, и просветители искусственно конструировали «естественную религию», но она радикально отличалась от теологической рационализации Библии у Вико. Да и сама концепция Вико была направлена против просветителей. Хотя и тогда Просвещение показало свою ограниченность, но оно несло в себе импульсы создания новой социальной философии и создавало методологические предпосылки социальногуманитарного знания. Можем мы обнаружить и у самого Вико набор просветительских парадигм. Он признавал страх и удивление как источники мифологии и религии, не обошелся и без «робинзонов»: только у него фигурирует не скромный дикарь-философ Фонтенеля, а Поэт-Теолог, мудрый законодатель. Очевидно, что библейско-теологический схематизм и у него был тем идеологическим привеском, который давал оправдание рационально-научному содержанию его философско-исторической концепции. С этими оговорками мы вполне можем согласиться с тем, что Вико внес существенный вклад в философию истории и историю культуры. Особый интерес представляет его попытка научно поставить вопрос о начале человеческой истории и возникновении речи и языка. Сопоставляя этимологию слов 9 «миф» и «логос», он весьма оригинально связывает проблему возникновения мифологии с генезисом языка и речи. Понимая мифы как «истинную речь», он пишет, что «первый Язык в первые немые времена наций… должен был начаться со знаков, или жестов, или тел, имеющих естественное отношение к идеям». И далее: «Ведь эта первая речь, речь Поэтов-Теологов была фантастической речью посредством одушевленных субстанций, по большей части – воображаемых божественных субстанций… воображаемых божеств, первоначально посредством идей, потом – посредством знаков и, наконец, – посредством артикулированных слов» [22]. Эти гениальные прозрения Вико сейчас во многом подтверждаются в новых научных концепциях культурной эволюции. Интересен и своеобразный диалог, который вел Юм с теорией прамонотеизма Вико. Юм, утверждая в духе своего времени «об основании религии в разуме и о ее происхождении из природы человека», пишет: «Станем ли мы утверждать после того, что в еще более древние времена, до овладения письменностью или же до изобретения каких-либо искусств и наук, люди придерживались принципов чистого теизма, другими словами, что люди открыли истину, будучи невеждами и варварами, но впали в заблуждение, как только приобрели познания и образование?» [23]. Очевидна критика учения о богооткровенной религии и прамонотеизме. Юм более последовательно выступает против теологических рационализаций, фактически признавая наличие в истории человечества дорелигиозного периода, рассматривает политеизм и теизм как необходимые и последовательные стадии в развитии любого народа, между которыми никогда не было большой разницы и резких границ. Юм отождествлял политеизм и мифологию, но он указывал и на их специфическую аффективность и амбивалентность в отношении к богам – боги здесь наделяются всеми человеческими свойствами и слабостями, постоянно подвергаются надругательству, близкому к атеизму. Последовательно развил сравнительно-исторический метод, рожденный в трудах Бэкона, Спинозы, Толанда, Фонтенеля м других мыслителей, на более богатом эмпирическом материале из жизни африканских народов крупный деятель французского Просвещения Шарль де Бросс, который попытался выявить более древние формы религии и культуры, чем политеизм, и связал их впервые с таким культурно-ментальным феноменом как фетишизм. Философ не просто занимался умозрительными спекуляциями, но и приводил богатый эмпирический материал из области фетишизма, сравнивает культуру африканцев не только с античностью, но и с христианской Европой. Ш. де Бросс впервые отмечает специфическую алогичность первобытного мышления. Указывая на алогичность, неразличение причинноследственных связей, повышенную аффективность сознания первобытного человека, Ш. де Бросс на полтора столетия предвосхитил теорию Леви-Брюля. Опираясь на классические постулаты Просвещения, де Бросс много сделал для созревания предпосылок конкретно-научного понимания специфики первобытной культуры. Отбросив теологические схемы, он положил конец устаревшей дихотомии «язычество – христианство», представил развитие человеческого сознания от грубого, иррелигиозного фетишизма через промежуточные формы, к столь же грубым политеистическим религиям в развитых цивилизациях и далее – к христианству, вобравшему в себя многие образы и идеи предшествующих стадий. Мы найдем у де Бросса идеи о взаимозависимости форм с формами технологий и способов производства. Он отмечал: «…человек так устроен, что в своем естественном состоянии, грубом и диком, еще совершенно не просвещенный ни с помощью какой-либо обдуманной идеи, ни с помощью подражания, имеет те же примитивные нравы, те же способы производства в Египте, как и на Антильских островах, в Персии, как и в Галлии: всюду один и тот же механизм идей, а отсюда один и тот же механизм действий» [24]. Поэтому характерно, что молодой Маркс старательно изучил в свое время эту работу де Бросса, а в «Капитале» понятие 10 «фетишизм» стало универсальным при характеристике всех иллюзий человеческого сознания. Интересно проследить и влияние этих идей на теорию М. Вебера о связи способов производства с формами религиозного сознания. Итак, анализ взглядов представителей европейского рационализма, эмпиризма и Просвещения на историю культуры, религии, человеческого сознания и языка показывает, что их подход к научно-гуманитарной проблематике не был столь уж примитивным, как его порой трактуют. В новоевропейской философии история человека и человеческой культуры изучается не по старандартным неоплатоническим схемам, а впервые разрабатываются научно-теоретические, сравнительно-исторические методы их изучения. Хотя в действительности то, что мы сейчас обозначили в качестве «научных достижений» философов Нового времени, таковым является только в свете достижений нашего времени, а для них было скорее наивным «откровением». Найдем мы у них и главную парадигму просветителей: «дикаря Робинзона». Но как бы ни были наивны эти идеи и порой прямо связаны с политическими целями идеологов ранней буржуазии, признание «изначальной разумности» человека, поиск в истории человечества периода «разума» или «естественной религии» не только подрывало феодальную идеологию, но и позволяло ставить социально-гуманитарную проблематику на почву достоверных фактов и исторических доказательств. Таким образом, вторичное, рационально-идеологическое мифотворчество философов-идеологов питалось соками живого мифотворчества массового сознания эпохи, оказываясь не «естественным», а уж скорее «естественно-историческим» (по выражению К. Маркса), мыслительным продуктом. Все категории, понятия и концепты новоевропейской философии втягивались в лоно сформировавшейся к эпохе Просвещения светской мифологии, которую очень многие исследователи называли и называют «религией Разума и Прогресса». Это была еще первичная форма, «клеточка», «зародыш» современной политической мифологии, готовой породить все многообразие ее законных (от «брака» с капиталистическим индустриализмом) и незаконных (от промискуитетных связей с предшествующими традиционными архаизмами). Собственно, лозунг Французской революции «Свобода, Равенство и Братство!» (эти слова и любили писать, особенно в революционной России, с заглавных букв, как имена «живых личностей» – типичный признак любой мифологии) содержал в себе три законнорожденные ипостаси мифологии модерна. «Свобода» – либеральная дочь капиталистического индустриализма (вспомним картину Э. Делакруа «Свобода на баррикадах»); «Равенство» – эгалитарно-социалистический гермафродит работников физического труда (скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница»); «Братство» – консервативно-почвеннический юноша – «мелкий буржуа» с рыцарскими мечтами и весьма неразборчивый в половых и дружеских связях («Черный квадрат» К. Малевича, мифологизировавшего цвет Земли и цвет Космоса, равно близок и «Александру Невскому» П. Корина, и «двум вождям после дождя» А. Герасимова). Здесь нас интересует «оплодотворяющая» сила философских идей Просвещения и классического рационализма, с которой методологемы зарождающейся социальногуманитарной науки оборачивались мифологемами современности. Новая мифология показала свою двойственность – рационализм и иррационализм, созидательно-объединительный и разрушительный потенциал в управлении обществом – уже в эпоху Французской революции. Та концепция линейного поступательного прогресса «цивилизации», которую выработали просветители в борьбе с христианско-католической теологией, в реальной жизни обнаружила тенденцию замыкания в круг по образцу культурологической доктрины Вико – Европа столкнулась с «живым мифом», с новым мифотворчеством. Однако, Разум Просвещения, под знаменем которого буржуазия вступила в эпоху Великой Французской революции, вдруг обернулся, как двуликий Янус, иррациональным движением стихии народных масс и якобинской диктатурой, 11 религией Разума и обожествлением императора Наполеона, и Европа столкнулась с новым мифотворчеством, «живым мифом» на почве капиталистического фетишистского сознания. Та концепция линейного поступательного прогресса, которую выработали просветители в борьбе с христианской теологией, вдруг в реальной жизни обнаружила тенденцию замыкания в круг по образцу доктрины Вико. «Имевшая место недавно во Франции безумная попытка вдруг создать новую республиканскую мифологию обречена была на неудачу из-за насильственных действий зачинщиков этой попытки (мифология может возникнуть только путем естественного и длительного развития)» [25], - интерпретировал эту культурноисторическую ситуацию немецкий романтик А. Шлегель. Так на стыке рационализма Просвещения и политического мифотворчества родился европейские романтизм, попытка которого утвердить нового Прометея в человеческой культуре закончилась неоромантическим Сверхчеловеком Ф. Ницше. Если для классицизма и эстетики Просвещения античность выступала как идеальный и недосягаемый образец, то уже великий Гете ощутил необходимость более творческого отношения к наследию прошлого. Не подражание, а живое творчество форм – основной девиз романтиков: «Миф... может быть только тогда плодотворным для поэзии, когда он живет» [26]. В установке романтиков на новое мифотворчество мы видим первую идеалистическую форму осознания активности человеческой чувственной деятельности, практики. Эта форма рефлексии позволила им преодолеть ограниченность линейной концепции прогресса человечества. Новый взгляд на историю культуры и общества нашел выражение не только в осознании генетической связи, но и в установлении качественного своеобразия античности и средневековья. А. Шлегель, отмечая, что «культура древних представляет собою как бы единое целое», пишет о средневековье: «Эта эпоха также имела свою мифологию, состоявшую из рыцарских романов и легенд. Однако же свойственное ей чудесное и героическое представляет собой нечто совершенно противоположное древней мифологии» [27]. Неудивительно, что логические идеи Гете и романтиков о процессах образования органических целостностей вошли в снятой форме в последующие формы философской диалектики. Теория мифа романтиков и Шеллинга, как их философского вождя, коренилась в традиционалистско-консервативном менталитете эпохи, несла в себе потенции по идеологической рационализации консервативной мифологии современности, направленной против рационалистической либеральной идеологии с ее культом разума, прогресса, уравнительного индивидуализма и плоского историзма. Романтики более последовательно, чем просветители, завершили дело формирования нового историзма (здесь, собственно и утверждается теоретический концепт «Нового времени» в качестве признака «научного историзма»), что и отразилось в их литературном творчестве, противопоставленном просветительскому «классицизму». Из романтического исторического романа и фантастических повестей вырос как реалистический роман, критически выразивший современность во многообразии ее жизненных проявлений, так и модернизм в искусстве с его авангардистской ломкой современности и индивидуалистическим бунтарством. Общим местом является характеристика романтической реакции на Просвещение как антисциентистской и антипрогрессистской, а романтиков либералы неоднократно упрекали в политическом и идеологическом консерватизме, в тоске по средневековому традиционализму. И, наверное, все это имело место. Романтизм и был философской реакцией на либеральную и эгалитарно-социалистическую мифоидеологию. Но он отражал и общие тенденции нового мифотворчества, которые коренились в общих цивилизационных основаниях индустриального общества. Как бы ни ориентировались романтики на прошлые формы государственного устройства и культуры, они вовсе не симпатизировали ни историческому католичеству, 12 ни протестантизму. Отсюда можно заключить, что говоря о «новой мифологии» и «новой религии», они имели ввиду прежде всего вариант создания новой светской мифологии. Новалис пишет Ф. Шлегелю: «Я намерен основать новую религию и тем более способствовать ее провозглашению… Новая религия должна быть исключительно магией». И Ф. Шлегель соглашается с ним: «Религия, дорогой друг, дело для нас отнюдь не шуточное, а самое наисерьезнейшее, ибо настало время основать новую религию. Этот для нас основное, это – задача всех задач. Да, я уже ясно вижу величайшее рождение новой эпохи, скромное и незаметное, подобно древнему христианству, в котором нельзя было предположить, что оно вскоре поглотит Римскую империю, это новое рождение в своих огромных волнах утопит великую катастрофу – Французскую революцию, основное значение которой может быть в том и заключается, что она ускорила рождение этой новой эры (выделено нами – В.Р.)» [28]. Вот, кстати, мы и нашли тех, кто не эсхатологически, утопически и неосознанно, как радикальные протестантские сектанты, Мор или Ф. Бэкон, а вполне сознательно ввел название для своей эпохи – «Новое время». Для исследования истории культуры и общества это принесло важные практические результаты – романтизму мы обязаны введением в научный кругозор огромных массивов древнегерманской, скандинавской и славянской мифологий, зарождением сравнительно-исторического языкознания и литературоведения. Романтические трактовки соотношения древнейшего культурного наследия и современности напоминают во многом идеи Вико. Очень многие отмечали и отмечают политический и идеологический консерватизм романтиков. На наш взгляд, романтический консерватизм сам был характерным следствием нового мифотворчества: философия, искусство, наука и религия отныне подчиняются единой задаче, образуя новую духовную (мифологическую) целостность. Очевидно, что под «новой религией» у романтиков подразумевался именно миф – новое, политическое мифотворчество, отвечавшее духу новой эпохи. Романтическая эстетика и культурология обрела классическую форму и одновременно была преодолена в идеалистической диалектике Шеллинга. Он развил идеи Шлейермахера об искусстве как практике и представил человеческую активность как конструирование форм искусства по образцам мифотворчества. Это было реконструирование на новом научном и культурном материале диалектики идей Платона. Шеллинг, заняв принципиально антипсихологическую позицию (субъективизм Юма – типичная форма психологизма) и развивая представление о народном характере мифотворчества, дал глубокий гносеологический анализ мифологии как объективно-мыслительной формы. Он до конца развил идеи Вико и романтиков о символической природе мифа, произвел сравнительный анализ образа и мифа, схемы и мифа, аллегории и мифа, символа и мифа. Символ – синтез общего и особенного, в котором «ни общее, не обозначает особенного, ни особенное не обозначает общего, но и где и то и другое абсолютно едины»; форма способности воображения, абсолютная форма [29]. Но символы, сами по себе, только идеи, а рассматриваемые реально – суть боги мифологии, которые не являются продуктом разума или рассудка, а порождением фантазии. Таким образом, символы, будучи формами способности воображения, получают в фантазии реальное, независимое от субъекта существование как боги мифологии (здесь коренится теория мифа А.Ф. Лосева). Боги мифологии у Шеллинга – мистифицированные объективно-мыслительные формы искусства (и науки), в которых отражена развивающаяся природа как органическая целостность. Они выступают наиболее адекватной формой шеллингианского Абсолютного. В идеалистической форме Шеллинг, развив идеи романтиков, впервые в истории философии применил к анализу человеческого сознания и культуры системноструктурный метод, рассмотрел сознание как органическую целостность. Это был 13 новый уровень исследования по сравнению со сравнительно-историческими методами просветителей, которые оставляли их на уровне эмпирическом, предметном. Не атомарный индивид-мыслитель и не их механический агрегат, а род как целостный организм, коллектив индивидов на основе общей цели-мотива является действительным творцом культуры, считает Шеллинг. В конечном счете, позиция Шеллинга в исследовании культурной феноменологии определяется пониманием диалектики целостнообразования - у него развитие не имеет выхода к новообразованиям, представлено не в форме спирали, а замыкается в круг. Переход к новым формам сознания и культуры показан не как органический процесс, а как их внешнее, механическое сочленение, разрешить этот парадокс он не смог: развитие у него оказывается производством форм по вечным первообразцам, история культуры – вечным круговоротом, мифотворчеством. Закономерным было и полное растворение мифологии (и искусства, и натурфилософии) в религии поздним Шеллингом. Он философско-культурологически (это так, если иметь в виду междисциплинарный характер методологии Шеллинга) обосновал идеи о символической природе мифа, впервые применил к анализу человеческого сознания (и к мифологии как одной из его форм) символический и системно-структурный методы, предуготовив теории и Кассирера, и Юнга, и Леви-Строса (подробнее см.: 129; 168 и др.). Для нашей проблематики важную роль играет понимание Шеллингом мифологии как производства духовно-мыслительных форм по вечным первообразцам, истории культуры как вечного мифотворчества. Этим самым обосновывалась легитимность современной мифологии, ей не отказывалось ни в возвышенном духовно-религиозном статусе и истинности (любой миф в основе своей связан с религиозностью), ни в мыслительно-познавательной содержательности (можно облечь в формы мифологии даже современную науку, указывал Шеллинг), ни в художественной выразительности (органичная связь мифа и искусства). В утверждении консервативно-почвеннической формы современной идеологии особую роль сыграла идея Шеллинга о создании мифологии народом-индивидом. Шеллинг, критикуя различные варианты аллегорической трактовки мифов (изобретение мифологий отдельными личностями) и просветительски-психологической (миф как «суеверие», «обман», «заблуждение разума» и т.п.), одновременно наносит удар и по либеральным идеям «естественного состояния человечества» и «естественного права». Он писал, что «в области законодательства не все совершается отдельными лицами, и что законы порождаются самим народом в процессе его существования». «Ведь и закон своей жизни, своего пребывания – закон, развитием которого являются все законы, которые выступят в течение его истории, – он как народ обретает вместе со своим бытием. А этот изначальный закон народ может получить лишь вместе со своим врожденным взглядом на мир, и таковой взгляд содержится в его мифологии». И далее: «Однако народ обретает мифологию не в истории, наоборот, мифология определяет его историю, или, лучше сказать, она не определяет историю, а есть его судьба (как характер человека – это его судьба); мифология – это с самого начала выпавший ему жребий» [30]. Мы не будем проводить сомнительные аналогии и параллели между этими мыслями Шеллинга и поздними их «перекодировками» в различных теориях и идеологиях (типа «расовых теорий» и «мифа о крови»). Более того, в консервативном почвенничестве ХIХ века – а у его истоков несомненно стоит Шеллинг – была заложена вполне либеральная идеологема о «равенстве всех народов». В середине ХIХ века, когда классическая либеральная мифология начала претерпевать «империалистические» трансформации, выдавая парадигматику тоталитарных протестантских сект [31], и освящала колониальные войны капитализма и истребление «непросвещенных дикарей» (чего стоит один американский протестантизм с его индейскими скальпами!), именно почвенники выступили в защиту самых малых народов земли, в защиту их самобытности. 14 Диалектику целостнообразования к движению форм человеческого сознания и культуры применил в истории социально-гуманитарного знания Гегель. В этом плане интерес представляет гегелевский анализ исторического формообразования религии и культуры в «Лекциях по философии религии». Гегель, например, не идеализирует мифологию и древнее сознание подобно романтикам и Шеллингу, а понимает лишь как низший уровень мышления по сравнению с понятийным, что само по себе предполагает ее идентификацию с формами первобытного сознания, содержательный анализ которых он и дает. В соответствии с задачами своей системы, в которой философия представляется как высшая, понятийно-разумная форма религии, Гегель естественно не мыслит человеческое существование без религии и объявляет ее первой ступенью «естественную религию». Но это только один пункт (человек – существо разумное и религиозное), который объединяет концепты Гегеля с «естественной религией» просветителей. Он резко выступает против всяческих идеализаций первобытности как «естественного» состояния человечества [32] и просветительского понимания первобытного сознания как «естественной религии» разума, извращенного последующим развитием. Гегель рассматривает ее как примитивную, непосредственную и исторически первую форму и называет «колдовством» (магией). Классик дает ряд блестящих характеристик первобытной культуры и мышления, которые предваряют во многом современные культурно-антропологические интерпретации и не могут не приниматься нами. Например, он пишет: «В этой религии человек выступает в своей непосредственной собственной силе, страсти, в деяниях и поступках своего непосредственного воления. Он еще не ставит теоретических вопросов: кто создал все это? и т.п. Для него еще не существует р а з д е л е н и я предметов в себе на случайное и существенное, на причинно обоснованное и просто положенное, для него еще нет действия» [33]. В отличие от Шеллинга, Гегель рассматривает, например, сознание в его колдовской, магической форме (мифосознание) как продукт специфической деятельности, отличающейся от культовой. Для этого он пытается представить само первобытное сознание в развитии, как метаморфоз. И Гегель дает описание ряда формообразований, которые по современной классификации мы бы назвали тотемизмом, магией, анимизмом и т.д. Но их субординация и интерпретация в гегелевской системе с точки зрения современной науки грешит определенным произволом*. И это не ограниченность эмпирического материала, который использует Гегель, но следствие фундаментального принципа всей его системы. Он в угоду собственному спекулятивному методу игнорирует реальные, культурно-исторические основания всех формообразований сознания, в том числе и религиозного. Гегель не покидает почву абсолютного духа, источником движения которого выступает развитие самосознания на пути к познанию этого духа, т.е. история человечества рассматривается только как история его мыслительной культуры в конкретных формах, понимаемая даже не как продукт творчества индивидуального, свободного сознания живого индивида (живая вера), а как его догматическая предпосылка, заранее содержащая результат. У Гегеля развивается не человеческое сознание в его конкретных формах, а абсолютный дух, уже содержащий эти формы как понятие «в себе», т.е. гегелевское понятие «в себе» аналогично шеллинговским «первообразам», а абсолютный дух – производное от шеллинговского «абсолюта» (не зря они вместе учились на протестантском теологическом факультете). Здесь все та же мистификация диалектики всеобщего и особенного в культуре, когда исходная, всеобщая форма берется не как единичная, эмпирически фиксируемая, а «как таковая». * Хотя и многие современные исследователи столь же волюнтаристичны в деле культурноисторической типологии архаических культурных форм. 15 В этой связи поражает в философии Гегеля бедность определения мифологии (сугубо эстетический подход) и «самосознательный» схематизм в изложении истории религии от ее «естественных форм» до «немецкого протестантизма». Несамостоятелен Гегель и в философской интерпретации идей «естественного права» и апологии «гражданского общества». В своей «Философии права» он, несомненно, доводит виртуозностью диалектика политико-правовые идеи либерального Просвещения до вершин логической мысли. Но не выводит свои концепты за стереотипные границы либеральных идеологем, хотя и у него достаточно места отводится «духу народа» и «объективному духу». Не здесь ли, в различных ментальных ориентациях на «дух эпохи», лежит громадная неприязнь Гегеля и Шеллинга, в прошлом близких друзей. И тот факт, что марксистская мысль фактически игнорировала Шеллинга в качестве представителя «немецкой классической философии», а его русских последователей – славянофилов, почвенников, Данилевского и др., вообще исключила из отечественного «культурного иконостаса». Когда Гегеля записывают в предтечи тоталитарного социализма и фашизма (К. Поппер), то допускают неточность. Исторически первой формой тоталитаризма были радикальные протестантские секты, а мифы «расы» оформились в русле вполне «либерального» капиталистического империализма. Гегель был типичным идеологом либерализма. Правда, национально-консервативного либерализма, который и освящал колониальные войны Англии и Франции, Германии и России. В этом принципиальное отличие консервативно-либеральной идеологии модерна (Гегель) от консервативнопочвеннической, традиционалистской мифологии (Шеллинг). Фейербах разрушил узкие рамки гегелевской системы, а в области исследования человека, культуры и общества завершил работу, начатую просветителями: свел религиозный мир к его земной основе. Собственно, разложение гегелевской философской школы и появление ранних работ К. Маркса и Ф. Энгельса, совпавшее и по времени, и по духу с научной проповедью позитивизма, знаменовали переход к неклассической традиции в философии, в том числе и к неклассической традиции осмысления социально-гуманитарных проблем. Объединение историко-культурных теорий, выработанных классической немецкой философией, с идеями позитивизма и конкретно-научной культурной антропологии в середине XIX века привело к созданию в европейской социадльногуманитарной науке «мифологической школы» (А. Кун, Ю. Зимрок, М. Мюллер, А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев и др.). В философско-теоретическом плане они ничего особо нового не внесли, дав смесь идей Вико, романтиков, Шеллинга и Фейербаха. Содержание первичных феноменоменов человеческой культуры и языка рассматривалось почти всецело в традициях немецкого романтизма. Происхождение первобытных мифов они связывали, во-первых, с олицетворением грозных сил природы, с отражением их в языке народа, и, во-вторых, с «болезнью языка», забвением первоначального смысла слов, имен, порождавших причудливую сказочномифологическую фантастику. А.Н. Афанасьев, например, писал: «Первые наблюдения человека, первые опыты ума принадлежали миру физическому, к которому потому тяготели и его религиозные верования и его начальные познания; и те и другие составляли одно целое и были проникнуты одним пластическим духом поэзии, или прямее: религия была поэзией и заключала в себе всю мудрость, всю массу сведений первобытного человека о природе» [34]. В духе позитивистского эмпиризма они добросовестно составляли классификационные системы, в которых группировались основные фольклорные сюжеты, этимологии мифологических имен и т.п. Положительной инновацией была попытка связать исследование мифов с языком, что повлекло рождение методов сравнительного языкознания в изучении не только текстов древних сказаний, но и более разнообразных гуманитарнофилологических текстов и контекстов. 16 На базе этой школы вырастали и самостоятельные, в теоретическом отношении более совершенные концепции – например, теория А.А. Потебни. Он выступил с критикой идей о «порче языка» и рассмотрел миф как уникальное явление, не сводимое им к поэзии, ни к науке, ни к религии. А.А. Потебня тонко подметил нерасчленимость в первобытном сознании образа и предмета, знака и значения, мифа и речи, определил миф как специфическую деятельность мышления, в которой происходит отождествление звеньев цепочки «образ – значение – предмет». Первичные мифы он характеризовал как познавательные (этиологические) и доказывал, что религиозные мифы «должны быть позднее по времени образования, так как они предполагают более-менее значительную степень широты и единства миросозерцания» [35]. Он во многом опередил свое время, повлияв на культурологические варианты отечественной филологии, лингвистики и семиотики ХХ столетия (В.Я. Пропп, О. М. Фрейденберг, тартурско-московская школа и т.д.). В этот же период на почве позитивизма и новейших данных физиологии, психологии, эволюционной биологии, истории культуры и этнологии создаются различные варианты культурной антропологии, более или менее философски ориентированные, появляются один за другим фундаментальные труды по первобытной культуре, на большом исторической материале производятся эволюционистские схемы культурного развития человечества, напоминающие просветительские теории прямолинейного исторического прогресса. История материальной и духовной культуры в них представлена как простое количественное приращение изобретений и достижений, ступени культурного роста не имеют собственного исторического значения и качественного своеобразия, рассматриваются как простые вехи, условия прогресса от дикости к «вершинам цивилизации» в форме капитализма. И в отличие от идей просветителей в этих теориях функция апологетики капитализма становилась явной. Речь идет о школе культурной антропологии (или культурного эволюционизма), представленной выдающимися именами Г. Спенсера, Э. Лэнга, Л. Моргана, Э. Тейлора, М. Ковалевского, Л. Штернберга и др. Эти ученые, как и представители «мифологической школы», возможно, и делали шаг назад в философском осмыслении мифологии, но заслуга их заключалась в интенсивном формировании таких самостоятельных отраслей научного знания как филология, языкознание, психология, археология, этнография и т.д. Этот «майнстрим» в социальногуманитарном знании XIX века внес свой вклад в изучение истории культуры и человека, оказал влияние как на современников (Маркс и Энгельс), так и на последующие рафинированные теории. Но субъективно-идеалистические философские установки культурного эволюционизма, методологический эмпиризм в трактовке сравнительно-исторического метода исследования и не могли не привести к эклектическому пониманию истории человека и культуры. Что касается их неявного «участия» в идеологических процессах современности, то она, на наш взгляд, состоит в том, что позитивистская культурная антропология ХIХ века рационально-эмпирически обосновывала классические либеральнодемократические и эгалитарно-социалистические мифологемы и философемы «естественного состояния человечества» и «естественных прав и свобод человека», «равенства» (чем отличается дикарь-философ Тейлора от «естественного человека» Локка или свободолюбивого дикаря Руссо?). А тем самым невольно выступала с критикой формирующейся тоталитарно-экономической мифологии капиталистического империализма (будущего «глобализма»). Это не могло не вызывать в то время симпатии других идеологов-мифотворцев – социалистов и марксистов, которые только начинали формировать идеократические модели и социальные проекты переустройства мира. 17 Нет нужды обосновывать, что К. Маркс и Ф. Энгельс были не только великими учеными своей эпохи, создавшими одну из первых комплексных (междисциплинарных) теорий в сфере социально-гуманитарного знания, но и гениальными идеологамимифотворцами современности. Можно сколько угодно развенчивать их вторую роль в современной истории, но для нас именно она и интересна. В их фигурах наиболее четко видно, что современное мифотворчество без теории невозможно. И чем более научный (или наукообразный) характер носит теория, чем она фундаментальнее, тем сильнее становится суггестивный потенциал той формы мифологии, идеологической рационализацией которой и выступает данная теория. В случае с марксизмом речь идет о социалистической модели мифологии модерна, которая затем порождает множество маргинальных форм – от социалдемократии до коммунизма и «новых левых» нонконформистов. Маркс и Энгельс с самых первых своих шагов в философии, оставаясь на позициях левого, радикальнодемократического либерализма, весьма усердно перерабатывали тот "мыслительный материал", который имелся в старой философии. Проблема развенчания идеологий и идеологов (извращенных форм сознания) становится в круг их интересов с самого начала творческой деятельности (не без влияния дискуссий «старогегельянцев» и «младогегельянцев»). Энгельс в ранних статьях о Шеллинге касается его философии мифа. Молодой Маркс, оставаясь на позициях гегелевско-ферйрбаховской философии, в ранних публицистических статьях («К еврейскому вопросу», «К критике гегелевской философии права. Введение» и др.) очень много внимания уделяет проблеме превращенных форм человеческого сознания и культуры, что весьма показательно в плане вклада марксизма как в европейское социально-гуманитарное знание, так и мифоидеологию. В «Экономическо-философских рукописях 1844 рода» Маркс интерпретирует чувственно-предметную деятельность индивида как субстанцию всего исторического развития общества и человека, реальную основу их единства, позволяющую «избегать того, чтобы снова противопоставлять "общество", как абстракцию, индивиду». Категория «человеческая предметная деятельность» несет на себе печать фейербаховского антропологизма, но в ней заложен действительно важный методологический потенциал, особенно применительно к исследованию форм сознания и культуры: «Как родовое сознание, – пишет Маркс, – человек утверждает свою реальную общественную жизнь и только повторяет в мышлении свое реальное бытие, как и наоборот, родовое бытие утверждает себя в родовом сознании и в своей всеобщности существует для себя как мыслящее существо» [36]. В историческом развитии предметная деятельность порождает ее отчужденные формы: отчуждение предмета, продукта труда от производителя и человека от человека, появление частной собственности, а завершение процесса отчуждения происходит в отчуждении духовной деятельности и ее продуктов. «Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т.д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону"» [37]. Здесь Маркс отчетливо формулирует свое враждебное отношение как к частной собственности и праву, «святыням» либерализма, так и «материалистически» интерпретирует религию, семью, государство, основные, институциональные ценности консервативного проекта. Основополагающие принципы марксистской интерпретации идеологии, общества и человека мы находим в «Немецкой идеологии», которая очень долго была как бы эзотерическим текстом марксизма, оставаясь в рукописи. Критикуя младогегельянцев в вопросах религии (и шире – идеологии), Маркс и Энгельс пишут, что их позиция «предполагает религиозного человека как первичного человека, от которого исходит вся история, а действительное производство средств к жизни и самой жизни заменяет в своем воображении религиозным производством фантазии» [38]. Они противопоставляют собственное понимание религиозной идеологии, суть которой в 18 том, чтобы «объяснить ее из эмпирических условий и показать, каким образом определенные отношения промышленности и общения необходимо связаны с определенной формой общества и, тем самым, с определенной формой государства, а стало быть, и с определенной формой религиозного сознания" [39]. Телесные, живые человеческие индивиды в определенных природных условиях, производство ими необходимых средств существования и формы общения в этом производстве, порождая новые потребности, детерминируют все внешние исторические трансформации, образуют способ производства – органическую субстанцию человеческой истории, проявлениями которой выступают ступени разделения труда, формы собственности, общественные классы и соответствующие им формы общественного сознания. Им важно подчеркнуть, что специфические условия общественного бытия (способы производства и формы общения) детерминируют специфические формы сознания, которые и существуют «как идеальное выражение господствующих материальных отношений, как выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения» [40]. Самым примитивным способам производств соответствуют и животное, «стадное сознание», заменяющее человеку инстинкт. Но и оно не остается неизменным. На последней стадии первобытного общества оформляются предпосылки для появления рабства и новой, частной формы собственности и новых форм сознания: «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда... С этим совпадает первая форма идеологов, попы» [41]. Вся дальнейшая работа создателей марксистской философии и была направлена на научное доказательство этих положений исторического материализма, их популяризацию в публицистике, которая и служила «приводным ремнем» от «научной теории» к массовому «пролетарскому сознанию». Работы новых философских и научно-антропологических школ не прошли мимо классиков марксизма. Если в ранних работах Маркса и Энгельса основной упор делался на социально-исторический генезис форм сознания, так как это было связано с обоснованием материалистического понимания истории, то в зрелых работах развитие сознания представлено с точки зрения зависимости мыслительных форм от накопленной духовной культуры общества, духовные продукты рассматриваются не только в связи с их производством, но и обратным влиянием на материальный базис в результате их функционального, органического обособления. Интересно, что к этой проблематике Маркс обращается даже во время работы над «Капиталом», произведением сугубо экономическим. В подготовительных рукописях, критикуя метафизические представления о прямолинейной связи прогресса материального производства с достижениями в области духовной культуры, он прослеживает диалектику развития форм искусства в различные исторические эпохи. Здесь подчеркнута и рационально-эстетическая значимость древней культуры. Причем, имеется определенная связь между формами сознания, связь генетическая, в которой форма предшествующая снимается как предпосылка в становлении последующей, более развитой. Но сама эта диалектика форм сознания детерминирована материальным базисом. Очень часто исследователи, оценивая вклад марксизма в современное социально-гуманитарное знание, ссылаются на текст марксова «Введения» к подготовительным рукописям «Капитала». Интересно, что сопоставление этих текстов с идеями Шеллинга показывает, что Маркс опирался на его эстетические трактовки культуры вообще и античной мифологии в частности. Маркс дает такое определение мифологии: «всякая мифология преодолевает, подчиняет и преобразовывает силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами природы... Предпосылкой греческого искусства является греческая мифология, т.е. такая природа 19 и такие общественные формы, которые уже сами бессознательно-художественным образом переработаны народной фантазией. Это его материал» [42]. Здесь подчеркнута рационально-эстетическая значимость первобытного сознания. Миф определяется в духе позднего Шеллинга, который критиковал трактовки мифа как фантастического отражения природного мира. Маркс интерпретирует миф с включением общества в его «орбиту». Миф – «бессознательно-художественная переработка природы (здесь под природой понимается все предметное, следовательно, включая и общество)» [43]. Может показаться, что Маркс отрицает возможность живого мифа в современности: «Разве тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческой (мифологии), возможен при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа? Куда уж тут Вулкану против Робертса и К, Юпитеру против громоотвода и Гермесу против Credit Mobiler!» [44]. Но Маркс иронизирует здесь против попыток модернизации прошлого или архаизации современности, чем грешили в методологии познания и до сих пор грешат гуманитарии и социологи, когда в теории начинают перевешивать политические идеологемы либералов (европоцентризм и апология современности) или консерваторов (отрицание любых новшеств и апологетика традиции). Для понимания специфики современной социально-гуманитарной науки важны и другие положения Маркса о диалектике сознания в трансформирующихся социальных системах: «Если рассматривать вопрос идеально, то разложение определенной формы сознания было бы достаточно, чтобы убить целую эпоху. Реально же этот предел сознания соответствует определенной ступени развития материальных производительных сил, а потому – богатства» [45]. Конечно, можно Маркса упрекнуть в «технологическом» или «экономическом» детерминизме. И, действительно, в доиндустриальных цивилизациях он не действовал с такой непреложностью. Более того, как показал М. Вебер, талантливый ученик и критик Маркса, там над экономикой господствовали «определенные формы сознания», по-преимуществу религиозного [46]. В индустриальном обществе, подчеркивал М. Вебер, мы имеем дело с мнимым «экономическим детерминизмом» форм духовной жизни. Наоборот, в мире капитализма «дух протестантизма» является первичным. Так что, Маркс в своем экономическом детерминизме сам оказался в плену «фетишистских мнимостей» капитализма? Наверное, не все так просто в полемике Маркса и Вебера, как и в анализе «иллюзий» и «мнимостей» человека, живущего и действующего в социокультурной динамике капиталистического мира, мира модерна и постмодерна. Тем не менее, для нас важно в критическом анализе не упустить действительные достижения Маркса, философские идеи которого можно в определенной мере считать рождением неклассического стиля научного и философского мышления, предвосхитившего социологию знания и идеологии, феноменологию и экзистенциализм. Для понимания специфики сознания агентов капиталистического производства актуальное значение имеет раздел о фетишизме в первом томе "Капитала". Маркс путем сравнения религиозного и вещного сознания (товарно-денежного фетишизма) показал родовую общность всех извращенных идеально-мыслительных форм, в которых «продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом» [47]. Это всеобщее определение всех человеческих иллюзий, начиная от первобытного мифа и заканчивая «протестантским», «атеистическим» или технократическим сознанием как агентов раннего капитализма, так и современного общества потребления. Маркс указывает и на видовую специфику иллюзий, существующих соответственно различным способам производства в особых формах: «это – лишь определенное общественное отношение самих людей, которое 20 принимает в их глазах фантастическую форму... Это – общественно значимые, следовательно, объективные мыслительные формы для производственных отношений данного исторически определенного общественного способа производства» [48]. И дает лаконичный анализ различных способов производства и соответствующих им превращенных форм сознания. Мы не будем останавливаться на реконструкции позитивной части марксова философского анализа превращенных форм сознания современного капиталистического общества. Эта работа достаточно полно проделана отечественными (Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили и др.) и западными неомарксистами (Р. Гароди и др.). Важно подчеркнуть, что Маркс своей судьбой и судьбой собственной теории доказал эффективность фетишизма и превращенных форм сознания в детерминации философских идей. Ведь он оказался заложником у «объективно-мыслительных мнимостей» эпохи, идеологически рационализируя как либерально-просветительские предрассудки и фетишизм наемных работников, так и иллюзии работников умственного труда, представителей «свободных профессий» раннего капитализма, к каковым принадлежал и сам. Маркс, на наш взгляд, в исследовании идеологических рационализаций современности не только завершил классический период философии модерна, но и заложил фундамент для «неклассических» медологических практик и интерпретаций социальной и идеальной феноменологии. Несомненно, Маркс как «неклассический мыслитель» завершал эпоху классической (и, прежде всего, немецкой!) философии. Но, к сожалению, его эпоха не вчитывалась в «неклассические смыслы» «Восемнадцатого Брюмера Луи Бонапарта» или «Капитала». Маркс был востребован ХIХ веком именно в своей классической, рационально-просветительской ипостаси, а XX – в роли нового мифотворца. Марксизм достойно завершал классический модернистский проект и органично стимулировал рождение одной из базовых моделей мифологии модерна – социалистического мифа. «Неклассический Маркс» будет востребован позже, на исходе ХХ века, когда опубликуют «эзотерический» свод марксистских трудов, а само «постнеклассическое», «постмодернистское» время прочтет потаенные смыслы не только марксистских теоретических текстов (западные и советские неомарксисты), но и социалистических мифов, спровоцированных в свое время гением западноевропейской мысли. Это еще раз подчеркивает возможность нового, плодотворного использования марксовых методологий и интерпретативных идей неомарксистов в научной критике и социально-гуманитарном познании как капитализма, так и самого мифологизированного марксизма и социализма. Часто и в трактовке частных социально-гуманитарных проблем классики марксизма оказывались на уровне науки своего времени. Они не могли дать исчерпывающего анализа тех или иных форм сознания и культуры, так как в специальных науках только начиналась работа по их реконструкции, а их собственные «атеистические иллюзии» и «идеологические предрассудки» мешали объективному научно-гуманитарному осмыслению культурноментальных феноменов. Но надо честно признать, что классики марксизма вели своеобразный диалог как со своими современниками (представителями позитивизма, «мифологической школы» и культурного эволюционизма), так и с последующими критиками. На фоне идей зарождающегося в философии и ряде наук системного подхода (не без доминирующего влияния позитивизма и марксизма) возникает социологическая теория Э. Дюркгейма, который попытался дать более органичную, системноструктурную интерпретацию первобытной культуры по сравнению с «мифологической» и «антропологической» школой. Его социология (как и социология М. Вебера) оказала существенное влияние на последующие неклассические социальногуманитарные теории ХХ века. 21 На фоне неклассических идей Маркса – об иллюзорности и превращенных формах сознания современности; о социальных системах, порождающих причудливую феноменологию идеальных, объективно-мыслительных форм; методология системного анализа, сопряженная с принципами диалектики, примененная им к исследованию не только экономических форм капитализма, но и общественного сознания – возникшие позже первые неклассические социальные теории (в том числе и концепция Э. Дюркгейма о регулирующей роли «коллективных представлений» в жизни индивида и общества), порой выглядят очень наивно. Применение принципов си системно-функционального анализа к исследованию первобытной культуры и отказ от «гносеологизма» и «психологизма» предшествующих теорий – такова исходная методологическая позиция Э. Дюркгейм, который в своей «социологии религии» исходил из признания «элементов истины» в религии и ее «полезной функции» в обществе, интерпретировал первобытное сознание как всецело религиозное. Религия предстала в его теории как протоформа в генезисе не только других форм сознания и духовной культуры, но и в становлении общества и социальных связей. «Социология» Дюркгейма по сути ограничивалась исследованием духовной культуры. Роль «общества» сводилась в его концепции к влиянию «коллективных представлений» на индивида, при котором первое, наделенное статусом «социальности», определяло второе. Фактически извращалась их диалектика и снимался вопрос о детерминированности сознания формами материально-предметной деятельности, первичность «коллективных представлений» как «общества» по отношению к индивидуальному сознанию – это позиция «индивидуального опыта», все тот же «субъективный идеализм» и «психологизм» (Юм и просветители), но в «социологической» оболочке, спекулирующий на действительном факте независимости духовной культуры человечества от отдельного индивида в процессе его социализации. Интересно, что идеи Дюркгейма, который во многом полемизировал с марксистской трактовкой общества и сознания, были восприняты в начале XX века русскими марксистами как последнее слово в науке. Например, А. Богданов, опираясь на идеи Дюркгейма и махизма («второго позитивизма»), попытался развить философию марксизма в новом историческом контексте. Исходная предпосылка философии Богданова – тождество общественного бытия и общественного сознания – прямо заимствована из теории Дюркгейма и завуалирована марксистской терминологией (это очень чутко уловил В.И. Ленин). Богданов, определив организационную функцию в качестве основной функции любой идеологии, соответственно и религию представил «для всех понятным и близким выражением организационной связи общества» [49]. Происхождение религиозной формы идеологии он относил к стадии патриархально-авторитарной культуры с ее разделением коллективов на «руководителей-организаторов» и «исполнителей». Эпоха первобытности представлена как дорелигиозная (отсутствие этого разделения), но с «зародышами идеологии», которые «вносили только больше организованности в эту связь (связь группы – В.Р.), само мышление было вполне «сплошным», до тождества одинаковым у всех членов одной группы» [50]. Религия возникает из культа предков – «из почитания предковорганизаторов, которых народное мышление постепенно превратило в божества» [51]. Появление религии Богданов связывает с ее «полезностью»: «Представления ошибочные и затраты бесполезные с нынешней точки зрения вовсе не были таковыми в ту эпоху. Не только они являлись результатом исторической необходимости, но и были полезными социальными приспособлениями. Они представляли прочную живую связь общины, а затем племени, придавали сплоченность коллективу, единство и стройность его сознанию, помогали кристаллизации и собиранию трудового опыта поколений» [52]. Этот позитивистский функционализм («робинзоны-организаторы» и «пятницыисполнители») был прямым продолжением просветительской схемы («воспитатели22 просветители» и невежественные «просвещаемые»). Концепция Богданова была воспринята богостроителями М. Горьким и А. Луначарским (они затем и приложили руку к созданию «полезного» культа личности Ленина и Сталина – подробнее в моей монографии «Тоталитарный Космос и человек»). В концепции Дюркгейма можно увидеть предпосылки и «философии символических форм» Э. Кассирера, и учения о «функционализме культуры» Б. Малиновского, и теорию «архетипов» К. Юнга, и учение о «бессознательных структурах» К. Леви-Строса. Возьмем для примера позицию «чистого» философа, неокантианца Э. Кассирера и его понимание соотношения форм сознания. Тем более, что его «Философия символических форм» была сознательной попыткой преодолеть методологические и теоретические тупики как классической немецкой «гносеологии» и «метафизики», так и современного западного «позитивизма» и «эмпиризма», а разработка понятий «символическая функция» и «символическая форма» была связана с исследованием внутренней диалектики и специфики таких формообразований сознания (культуры) как наука, религия, миф, история, искусство [53]. Метод, которым пользуется Кассирер – структурно-функциональный (не случайно он часто ссылается на Шеллинга, родоначальника идей системно-структурного анализа сознания и культуры). Кассирер критикует и методологию Гегеля – диалектический метод исследования сознания. Дело в том, что центральной в философии культуры Кассирера является проблема соотношения многообразия (содержания) и единства (формы). Кассирер, совершенно справедливо критикуя метафизическую и эмпирическую традицию за игнорирование специфики форм сознания и преимущественный анализ его содержания, за увлечение внешними признаками и критериями формообразования, отмечал, что в силу примата содержания над формой в системах предшествующей философии «сознание» сводилось к «познанию», «знанию», «чистой логике». Это во многом касается и гегелевского понимания содержания и формы, у которого абсолютная идея развивается, меняя свои внешние формы, как аристократ перчатки. Сам Кассирер впадал в другую крайность: он абсолютизировал форму (структуру, функцию) в ущерб содержанию сознания, которое исследовалось только как совокупность изолированных феноменов, имеющих идеальную внутреннюю форму. А это значит, что исследовались системно-структурные, внутренние отношения форм сознания, а полностью исключались связи внешние, генезис. И эти формы, соответственно, представляли из себя ментальные структуры духа, не связанные с реальным, предметным миром и миром культурной истории. Это тот методологический порок, который порождается попыткой решения проблемы идеального с позиций абстрактного субъективизма. В трактовке мифа он выливается в его апологию и установку на вечно повторяющееся мифотворчество. Вспомним здесь уроки романтизма и Шеллинга. Но этот порок неустраним и на почве гегелевского объективного идеализма, в котором абсолютный дух как содержание включает все свои формообразования в «зародышах». Обе позиции оборачиваются преформизмом и бессильны в исследовании конкретно-исторического генезиса и развития форм сознания, производят логические парадоксы, пытаясь соотнести специфические формообразования культуры. Критерием различения ментально-культурных форм у Кассирера выступает специфическая «символическая функция», определяющая способ преобразования «многообразного» в «единое», способ видения мира. Таким образом, «предметные», внешние критерии различения форм сознания (гносеологические) заменяются функциональными. Так, для мифа специфической, формообразущей функцией устанавливается отношение «профанное – сакральное», «обыденное – священное» в его нераздельности. В религии эта структура сознания получает раздвоение и разделение, а ядром религии является вера в существование сверхъестественных сил. Вышел ли здесь 23 Кассирер за пределы предшествующих теорий? Он, на наш взгляд, до предела заострил антиномию форм сознания. Об этом же говорит и сугубо феноменологическое описание мифосознания в его работах, без попытки вскрыть истоки тех или иных свойств мифа: тождество знака и значения, материального и идеального, образа и вещи и т.д. Итак, проведенный анализ европейской историко-научной традиции в становлении социально-гуманитарного знания позволяет нам подвести некоторые итоги. Социально-гуманитарная проблематика обрела реальное научное существование уже в классической философии Нового времени, великие буржуазные мыслители осознали (явно или неявно) специфически социальную природу человека, культуры и цивилизации, связывая их реальное бытие в земной истории с существованием такого института как государство. Они впервые попытались исследовать как иллюзорные культурно-ментальные формы (суеверие, естественная религия, фетишизм, миф и т.п.), так и рациональные формам сознания и культуры. В это же время в классической и неклассической западной философии складываются и основные методы социальногуманитарного исследования: сравнительно-исторический (компаративный), символико-феноменологический, культурно-антропологический, системноструктурный и диалектический. Это и стало тем реальным научным основанием философскокультурологического и социально-гуманитарного исследование генезиса и развития конкретных ментально-психологических структур и форм человеческой деятельности, ее духовных продуктов и культурных миров, которые с необходимостью связаны с мышлением и жизнедеятельностью человеческих индивидов, живущих в реальном жизненном пространстве и экзистенциальном времени «здесь и сейчас». Список литературы 1. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: Ист.-филос. очерки и портреты. – М.: Политиздат, 1991. – С. 140. 2. Богомолов А.С. Наука и иные формы рациональности // Вопросы философии. – 1979. - №4. – С.106. 3. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Соч. в 2-х томах. Т.1. – М.: Мысль, 1977. – С. 178. 4. См.: Там же. – С. 177-178 и др. 5. См.: Бэкон Ф. О мудрости древних // Бэкон Ф. Соч. в 2-х томах, т.2. – М.: Мысль, 1978. – С. 239. 6. Бэкон Ф.О. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Соч. в 2-х томах, т.1. – 2-е испр. и доп. изд. – М.: Мысль, 1977. – С. 178. 7. См.: Спиноза. Богословско-политический трактат // Избр. произв. в 2-х томах. Т.2. – М.: Политиздат, 1957. – С. 105-106, 110). 8. Там же. – С. 120. 9. Там же. – С. 24, 22, 31, 32. 10. Там же. – С. 166. 11. Там же. – С. 162, 163. 12. Там же. – С.166, 167. 13. Толанд Д. Письма к Серене // Английские материалисты XVIII в. – Собр. Произведений в 3 томах. Т.1. – М.: Мысль, 1967. – С. 120, 121. 14. См.: Там же. – С. 123-125. 15. Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. - М.: Мысль, 1979. – С.192. 16. См.: Там же. – С. 197-198. 17. Там же. – С. 190. 18. См.: Там же. – С. 193. 24 19. Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев B.C. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в современном мире. Философия и наука. – М.: Наука, 1972. – С. 34. 20. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). – М.: Политиздат, 1991. – С. 149, 157. 21. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе нации. – Л.: Худ. лит., 1940. – С. 128. 22. Там же. – С. 144-145. 23. Юм Д. Естественная история религии // Юм Д. Сочинения в 2 томах. Т.2. – М.: Мысль, 1965. – С. 373. 24. Шарль де Бросс о фетишизме. - М.: Мысль, 1973.- С. 84. 25. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 126. 26. Там же. – С. 123 27. Там же. – С.127, 130. 28. Там же. – С. 150. 29. Шеллинг Ф. Философия искусства. - М: Мысль. – С. 106. 30. Шеллинг Ф. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. Т.2. – М.: Мысль, 1989. – С. 213. 31. См. подробнее: Римский В.П. Демоны на перепутье: культурно-исторический образ тоталитаризма. – Белгород: Изд-во БелГУ, 1997. 32. См.: Гегель. Философия истории // Соч. Т.8.– М.-Л.: Соцэкгиз, 1935.– С. 55-58. 33. Гегель. Лекции по философии религии // Философия религии. В 2-х томах, т.1. – М.: Мысль, 1976. – С. 432. 34. Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избр. статьи. – М.: Современник, 1982. – С. 38. 35. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М.: Искусство, 1976. – С. 447. 36. Маркс К., Энгельс Ф. Экономическо-философские рукописи 1844 года// К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. – 2-е изд. – Т. 42. -М.: Политиздат, 1974. – С. 119. 37. Там же. – С. 117. 38. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.- 2-е изд. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1955. – С. 39. 39. Там же. – С.140. 40. Там же. – С.46. 41. Там же. – С. 30. 42. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. //К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1968. – Т. 46. ч. I – С. 47-48. 43. Там же. – С. 48. 44. Там же. – С. 47. 45. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. //К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1968. – Т. 46. ч.2. – С. 33. 46. Подробнее см.: Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994; Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990; Вебер М. Аграрная история Древнего мира. – М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001; Вебер М. История хозяйства. Город. – М.: «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. 47. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., – 2-е изд. – T.23. – М.: Политиздат, I960. – С. 82. 48. Там же. – С. 82, 86. 49. Богданов А. Наука об общественном сознании. Краткий курс идеологической науки в вопросах и ответах. – Изд. 3-е. – М.-Л.: Книга, 1923. – С. 99. 50. Там же. – С. 76. 51. Там же. – С. 99. 52. Там же. – С. 106. 25 53. См.: Cassirer E. Philosophic der Symbolischen Formen. Zweiter Teil: das Mythische Denken. – Berlin: Bruno Cassirer Ferlag, 1925; Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Гардарика, 1998 и др. BETWEEN MYTHOLOGY OF MODERNITY AND RATIONAL KNOWLEDGE: QUESTION OF HISTORY OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES O.V.Kovalchuk1), V.P.Rimskiy2), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; e-mail: [email protected] 2) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; e-mail: [email protected] The article deals with the genesis of main logical and methodological paradigms of the European social sciences and humanities rooted into the ideology and mythology of modernity era. Key words: modernity, mythology, scientism, social sciences and humanities. 26 УДК 303.4.02 ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 1) Е.А. Кротков1) , Д.К. Манохин2), Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] 2) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 В статье рассматривается специфика филологического познания в контексте его полипарадигмальности, анализируется содержание понятия парадигмы филологического исследования; артикулируются концептуальные и методологические ориентации филологических наук, предлагается модель парадигмальной характеристики конкретного литературоведческого направления (на материале деконструктивистского типа филологического исследования). Ключевые слова: филологический дискурс, парадигмы филологического исследования, деконструкция, концептуальные и методологические ориентации. Тема работы обусловлена непростой ситуацией в области филологических наук, объектом исследования которых является художественный текст. В современной филологии существует множество различных течений и школ, которые, как правило, вступают в скрытую либо явную конфронтацию. Например, с середины ХХ века возник и продолжается по сей день конфликт между методологией, занимающейся описанием феномена понимания, и методологией, ориентирующейся на деконструкцию исследуемого текста. Появляются новые методологические подходы, которые далеко не всегда вытесняют старые и придают ситуации еще большую остроту. В этой связи становится актуальной задача осмысления отличительных особенностей филологического типа научного исследования и причин его полипарадигмальности; разработки классификации теоретико-методологических подходов, критериев появления и легитимации исследовательских программ и др. Важно понимать, что обозначенные проблемы не разрешимы категориальными средствами филологических наук, так как имеют все признаки философско-методологической проблематики, хотя порой данное обстоятельство не осознается должным образом ученымилитературоведами, и это создает дополнительные трудности для развития филологического дискурса. Целью работы является прояснение специфики филологического познания на полипарадигмальной стадии его эволюции, а также экспликация теоретикометодологических основ философии литературоведения. Ниже представлены результаты исследования, проводившегося по следующим направлениям: 1.Анализ содержания понятия парадигмы филологического исследования; разработка на этой основе парадигмального подхода к пониманию специфики филологического познания. 2. Артикуляция концептуальных и методологических ориентаций филологических наук и создание предварительной классификации исследовательских парадигм; прояснение посредством этого проблемы полипарадигмальности филологического познания. 3. Построение образца парадигмальной характеристики конкретного литературоведческого направления (на материале деконструктивистского типа филологического исследования). 1. Понятие парадигмы филологического исследования Понятие парадигмы научного исследования получило широкий резонанс в области философии науки после выхода в свет книги Т. Куна «Структура научных революций». Однако впечатляющее разнообразие способов употребления указанного 27 понятия в тексте американского методолога и историка науки привело к дефинитивным проблемам и вызвало множество критических замечаний со стороны философов и ученых. Это подвигло Куна на экспликацию понятия парадигмы, что он и сделал посредством введения термина «дисциплинарная матрица», перечень компонентов которой включает символические обобщения, квазиметафизические предписания, ценности и конкретные образцы решения задач. Названные компоненты у Куна оказываются принятыми в рамках того или иного научного сообщества и задают способ видения объекта исследования. Проведенный анализ различных определений понятия парадигмы, существующих в философии науки, позволяет сделать вывод, что все они достаточно успешно функционируют в рамках философского дискурса. Это связано с особой гибкостью и подвижностью самого понятия, введенного Т.Куном. Но при этом исследователи, использующие те или иные дефиниции, не учитывают всей сложности куновского подхода и сталкиваются со следующими трудностями: а) парадигма определяется как однокомпонентное образование, что приводит к упрощенному взгляду на специфику и механизм естественнонаучного или гуманитарного познания; б)парадигма понимается как многокомпонентное образование, но при этом далеко не всегда отмечаются отличительные признаки компонентов парадигмы, что создает проблемы их выделения и объединения в единое целое; в) даже при указании на многокомпонентный характер содержания понятия парадигмы существует тенденция к выделению главного и второстепенного компонентов, а также исключению какой-либо из составных частей парадигмы, выделенной Куном; г) в ходе разработки названного понятия отсутствует замечание о необходимости экспликации компонентов парадигмы с учетом специфики тех научных дисциплин, которые должны стать объектом парадигмального анализа. Данная ситуация инициируется замечаниями самого Куна относительно широкого и узкого пониманий парадигмы, что наводит на мысль о двух возможных трактовках его содержания – как многокомпонентного и как однокомпонентного образования. Основное затруднение состоит в том, что Кун одновременно следует пониманию парадигмы как «образца» (видимо, в целях изучения психологопедагогического аспекта научного исследования) и рассматривает ее как некое многокомпонентное образование. Слово «парадигма» ведет происхождение от древнегреческого paradeigma - пример, образец, и свое первое научное употребление получило в лингвистике, где оно обозначает совокупность грамматических элементов, образующих единое правило. Однако концептуальное основание этого термина в дискурсе современной теоретической лингвистики сводится не столько к понятию образца, сколько к понятию особого объединения единиц, существующего за счет наличия у каждой парадигмы определенного числа позиций и семантической этикетки каждой позиции. Иными словами, парадигма – это многокомпонентное образование, но при этом необходимо не просто обозначить ее составляющие, но и охарактеризовать их специфику. Именно по такому пути и пошла философия и методология теоретической лингвистики, достигнув предельной четкости определения парадигмы. В итоге мы приходим к следующим выводам: 1) список компонентов парадигмы может как совпадать с куновским, так и дополняться и варьироваться в зависимости от специфики той или иной области науки; 2)при изменении или варьировании состава парадигмы ее компоненты в любом случае должны комплексно представить основные установки исследования, особенности его предметной области и методологии; 3)каждый компонент должен получить дефинитивную разработку; 4) при конкретном анализе компоненты могут получать различную степень значимости, но в самом определении деление на главные и второстепенные составляющие не должно быть исходной предпосылкой. 28 Исходя из этих и полученных ранее результатов, мы попытаемся раскрыть содержание понятия парадигмы филологического исследования. Наше определение ориентировано на перечень компонентов (и их отличительных признаков), предложенный Т. Куном, в котором значатся символические обобщения, метафизические части парадигм, ценности и общепризнанные образцы. В контексте высказываний Куна правомерно говорить еще об одном компоненте – методологии названного исследования. Присутствие следующего компонента – круга основных проблем – основано на том обстоятельстве, что в филологических науках проблема может послужить отправной точкой как для формирования парадигмы, так и нового метода, а метод, в свою очередь, может способствовать переработке теории. Данные компоненты мы размещаем в такой последовательности: от компонентов онтологического характера (и их оценки) к компонентам методологического, а от них – к практическому решению проблем. Эти три «блока» в своей совокупности и взаимосвязи и обусловливают принятие нами определения парадигмы как образования, включающего все ранее перечисленные компоненты. «Символические обобщения». В филологическом исследовании такие обобщения имеют место, когда в парадигму вводятся концептуальные элементы семиологии и структурной лингвистики. Филологи, избегающие формализации, обходятся, как правило, тем, что вводят новые понятия и описывают существующую между ними систему взаимосвязей. Это дает возможность другим исследователям прибегнуть к буквенным символам, заменяющим термины, а затем путем использования минимального набора математических символов построить схему, использование которой может быть уподоблено закону теории. Наиболее редким случаем является использование сложных математических формул, что оказывается эффективным лишь при условии глубочайшей компетентности исследователя. Само по себе употребление тех или иных элементов формализации или же отказ от них еще не может служить средством демаркации парадигм филологических наук. «Метафизические части парадигм» - это концептуальные модели, задающие способ существования объекта исследования. В филологии предпочтение отдается концептуальным моделям метафорического типа. На их основе создаются специфические типы анализа (анализ уподобляется блужданию по лабиринту, нанесению следов, вслушиванию в голос и т.п.), хотя при этом используются строгие научные процедуры (включая и терминологические). Однако употребление различных способов формализации и в то же время использование метафор в качестве средства научного познания и их продуцирование расширяют критерии оценки результатов научной деятельности. «Ценности», точнее, ценностные ориентации, влияющие на выбор направления исследования и средств для преодоления когнитивных проблем. Речь идет об отношении к следующим характеристикам теории: точность, непротиворечивость, область приложения, простота и плодотворность. Ценностные суждения подобного рода весьма распространены в филологических науках. Существует расхождение между учеными: а)принимающими эти критерии (каждый из критериев может получать как лидирующее положение, так и второстепенное, возможно различное их понимание, критическая работа с ними); б) предлагающими свой набор критериев, характерных для филологических, а не естественных наук; в)работающими в какой-либо эзотерической области со своими особыми критериями (хотя такие случаи редки). Но помимо отношения к указанным критериям, в филологии важны ценностные суждения по поводу полезности научного труда для общества, эстетической привлекательности теории. Значимы личная симпатия, стремление или отказ выявить интенцию того или иного филолога. В области филологических наук оказываются в центре внимания и моральные, национально-религиозные ценности. Все это служит как синергии, так и конфликту между различными исследовательскими парадигмами. 29 «Круг проблем». В области филологических наук присутствуют как «головоломки», определяемые уже существующей парадигмой, так и фундаментальные проблемы, способствующие ее экспликации и развитию. Первые решаются при помощи наличествующих в рамках той или иной парадигмы стандартных методов и типов анализа, и имеют, в целом, репродуктивный характер. Специфика вторых состоит в том, что они не могут быть быстро и окончательно решены. Более того, фундаментальные проблемы способствуют неограниченной пролиферации исследовательских парадигм и с возникновением каждого нового теоретикометодологического подхода приобретают дополнительные коннотации. Эти коннотации, в свою очередь, имплицируют подпроблемы, каждая из которых может войти в круг проблем только что сформированной парадигмы. Круг проблем зачастую маркирован в заглавиях филологических работ. Таковы, например, труды М.М. Бахтина «Проблема текста», « Проблема речевых жанров». «Методология». Этот компонент представляет собой совокупность правил, методов, средств и приемов исследования. Он обусловлен теорией и проблемами, требующими разрешения, хотя и сам при дальнейшей разработке влияет на них. В области филологии особенно важны метод (метод герменевтического круга, метод деконструкции) и средство решения проблем (терминологический компонент исследовательского дискурса). При анализе методологии необходим учет высказываний самого исследователя, репрезентирующих его отношение к факту наличия/отсутствия, заимствования/создания метода. «Исследовательские образцы». В филологии ситуация такова: существуют определенные схемы (шаблоны) анализа текста, указывающие на последовательность практической деятельности и состоящие из перечня того, что необходимо подвергнуть рассмотрению. Эти схемы не являются конкретным решением какой-либо проблемы, а, скорее, их списком (с вариантами), инспирируемым либо парадигмой в целом, либо таким ее компонентом как исследовательские образцы. Подобные образцы нельзя найти в учебнике или приобрести их в качестве практического навыка. Это связано с особенностями учебной деятельности: студенты обязаны не только освоить учебник, который является справочным изданием, и выполнить практические задания, но и самостоятельно ознакомиться с текстами, подлежащими анализу, а также тщательно изучить конкретные образцы исследований ученых, к школе которых принадлежит кафедра, или хотели бы примкнуть они сами. Подобные образцы репрезентированы в научных монографиях, статьях и способны оказать воздействие (вплоть до присоединения к парадигме) не только на студентов, но и на ученых. Специфика анализируемых образцов заключается в том, что в них нередко содержатся новые категории и пересматриваются основные теоретические обобщения. Рефлексия над устоявшимися теоретико-методологическими постулатами в ходе конкретного анализа является распространенной среди литературоведов процедурой. Примером таких образцов является книга М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», которой, с одной стороны, можно руководствоваться при интерпретации художественного текста, проводя аналогии с ее проблемами и их решениями, а можно, используя ее как образец, создать собственную теорию. Что касается способа видения, то в филологии он является следствием усвоения всей совокупности ранее перечисленных компонентов: формирование того или иного видения текста является их наиболее ярким отличительным признаком. Специфика научного сообщества в современной филологии состоит в том, что ранее существовавшие раздельно дисциплины соединяются им в одно целое, а дифференциация проходит как между отдельными школами, так и между отдельными учеными, создавшими свою уникальную теорию. Однако может сохраняться и традиционное деление на сообщество представителей гуманитарных наук, затем – филологических наук, и, далее, к примеру, - лингвистики, затем – когнитивной, 30 генеративной лингвистики и т.д., но сама возможность разных типов деления создает дополнительные проблемы. Таким образом, компоненты парадигмы филологического исследования номинально являются теми же, что и в естественнонаучном, но имеют при этом специфические коннотации. В целом мы понимаем парадигму как принятое определенным научным сообществом многокомпонентное образование, задающее способ видения объекта и включающее символические обобщения, концептуальные модели, ценностные ориентации, круг проблем, методологию и конкретные образцы исследований. Несколько замечаний методологического характера. Первое касается компонентов парадигмы филологического исследования, которые детерминируются особенностями литературоведения и задают правила/предписания (метод) парадигмального анализа. В конкретных случаях символические обобщения и ценностные ориентации не обязательно должны выделяться эксплицитным образом. Символические обобщения не эквивалентны (в строгом смысле) закону теории в естественных науках и, скорее, могут вводиться в концептуальном плане как одно из онтологических допущений, а в операциональном аспекте – как методологический компонент. То же верно и в отношении ценностных ориентаций, которые, как правило, проясняются в ходе аналитики той или иной методологической концепции. Второе замечание связано с необходимостью дополнения компонентного состава парадигмы аналитикой установочного звена, суть которого состоит в признании зависимости теоретико-методологических оснований филологической науки от иных дисциплинарных матриц. Далее (в разделе 2) будут представлены результаты экспликации установочного компонента филологического познания. 2. Концептуальные и методологические ориентации литературоведения Филологические науки, объектом исследования которых является художественный текст, находятся в сложном взаимодействии с философией, лингвистикой и естествознанием. Особенно отчетливо это взаимодействие проявляется при парадигмальном анализе филологического дискурса. Одним из критериев различения его парадигм становятся концептуальные и методологические ориентации ученых, формирующиеся в виде установок и предпосылок научного исследования: целей работы, особых характеристик предметной области, необходимости создания и разработки тех или иных методов. В роли ориентиров выступают, как правило, та или иная философская теория, идеалы и нормы лингвистики и естественных наук, уже устоявшиеся филологические школы. Исходя из этого перечня, можно выделить три типа возникновения и развития филологических парадигм. Первый тип представляет собой ориентацию на какую-либо философскую теорию, из которой заимствуется некая онтологическая модель, подвергающаяся переосмыслению посредством включения ее в универсальную для всей филологии систему «автор-текст-читатель». Здесь можно выделить следующие филологические парадигмы – герменевтику и деконструктивизм. Тип филологического познания, маркированный ориентацией на философский дискурс как на некий концептуальный и методологический идеал, характеризуется тем, что имеет прочные теоретические позиции и едва ли может быть в ближайшее время «списан со счетов», поскольку фундирован следующими авторитетными философскими принципами: неполноты понимания; использования лексикосинтаксических ресурсов исследуемого феномена для конституирования критического дискурса; невозможности создания непротиворечивой интерпретации текста. Данные принципы способствуют перманентной эволюции парадигмы. Этот несомненный позитив дополняется фактом взаимной критики герменевтики и деконструктивизма. Со стороны деконструкции она состоит в указании на фиктивный характер феномена понимания и невозможность существования аутентичной интерпретации, 31 согласованной с интенцией автора произведения. Филологи герменевтической парадигмы полемизируют с деконструктивистами по поводу субъективности подхода последних и стремления десемантизировать текст путем экстраполяции противоречивости фрагмента текста на его синтаксис. При этом участники дискуссии, используя способы аргументации и терминологический аппарат противника, имплицитным образом переосмысливают положения той парадигмы, которую они сами исповедуют. Это приводит к появлению новых направлений исследования, которые могут быть выявлены как в ходе повторной рефлексии над собственными высказываниями, так и посредством критики со стороны оппонентов. Иными словами, наличие самопротиворечивых точек зрения может быть истолковано филологами в позитивном смысле и элиминировано путем их рациональной реконструкции и усиления обнаруженных в ее ходе коннотативных значений теоретикометодологического лексикона. Тем не менее, это не отменяет необходимости негативной оценки противоречия, нередко остающегося на имплицитном уровне и приводящего к трудноразрешимым проблемам в эволюции филологического дискурса. Все это наводит на мысль о продуктивности сосуществования различных исследовательских парадигм, поскольку деконструктивистские и просто критические интенции ученых, находящихся под влиянием разных парадигм, способны привести к формированию более развитой и несамопротиворечивой методологической концепции. Основу второго типа возникновения и развития филологического познания составляет ориентация на концептуальный и методологический идеал естественных наук и теоретической лингвистики. К этому типу относится такое научное направление, как структурализм. При этом необходимо сразу же отметить, что структурализм не транслировал механически методы естествознания на свой объект исследования. Скорее он рассматривал естественные науки в качестве образца, на основе которого можно создать и обосновать универсальный для всех гуманитарных наук метод и теорию. Соответствие этому образцу было достигнуто в области лингвистики (Ф. де Соссюр) путем построения структурной модели естественного языка. Затем эта модель была экстраполирована литературоведами на свой объект исследования – художественный текст. Специфика данного типа развития филологического познания заключается в следующем. Структурализм изначально претендовал на универсальность своих положений. Не отказался он от них и в дальнейшем, что привело к его кризису и возникновению постструктурализма, который, в свою очередь, объединил в себе и философию, и науку, и искусство, утратив таким образом отчетливые критерии их демаркации. Однако главной особенностью является то, что пришедшая на смену структурализму парадигма не критиковала его за отказ от идеалов научной рациональности. Скорее, одновременное стремление структурализма к научной строгости и к построению абсолютно завершенной спекулятивной системы при параллельном отказе от учета конститутивных элементов художественного текста позволили постструктуралистам заявить о взаимосвязи, и даже тождественности, западноевропейской метафизики и научной рациональности, что и явилось одним из посылов создания проекта их критики. Специфика этой критики состояла в отказе от любых проявлений фундаментализма и в установке на ничем не ограниченную пролиферацию теоретико-методологических подходов, единственным обоснованием которых выступает эксцентричность манифестированных в их рамках идей. В силу этого, концептуальные и методологические ориентации постструктурализма довольно размыты, и в роли ориентира выступают различные, часто максимально далекие друг от друга, научные дисциплины. Главное, чтобы в результате симбиоза положений этих дисциплин возникла «спекулятивная» теория, не скрывающая своей «спекулятивности» и не претендующая на окончательность и общезначимость выводов. 32 Все ранее сказанное делает достаточно обоснованным вывод о том, что в случае структурализма и посструктурализма имеет место смена парадигм в ходе своеобразной научной революции. Однако следует сделать одно важное замечание, касающееся проблемы соотношения указанных исследовательских подходов. Постструктурализм сохраняет и переосмысливает некоторые из основных теоретических допущений структурализма – «смерть субъекта», семиотический характер культуры и т.п., а Р. Барт и Ц. Тодоров, безболезненно обратившиеся в постструктурализм, продолжают пользоваться структуралистскими, по своей сути, методами. По всей видимости это связано с тем, что далеко не все структуралисты рассматривали свой проект как самодостаточный. В частности, тексты Р. Барта и Ю.М. Лотмана свидетельствуют о понимании структуралистского подхода как первоначальной ступени – освоении языка/кода, за которой последует исследование гетерогенности и полисистемности художественных текстов, учет их специфической прагматики. В этом контексте можно утверждать, что указанные парадигмы представляют собой определенные этапы филологической науки, включенные в общую перспективу семиотических исследований. «Разрыв» между ними заключается лишь в том, что семиология языка и искусства вступила в фазу критической саморефлексии. Таким образом, ориентация на концептуальный и методологический идеал естественных наук, впервые реализованный в области теоретической лингвистики, и одновременное наличие философских обертонов обусловили возможность революционного развития филологической парадигмы. Однако эта революция, с одной стороны, несет в себе специфически преобразованные куновские смыслы, поскольку речь идет о взглядах, изначально определявшихся критикой структурализма как неометафизической теории (Делез), а, с другой стороны, органично включает имманентно присущие отдельным структуралистам интенции (Барт, Лотман, Тодоров). Данный тезис позволяет непротиворечивым образом решить проблему соотношения структуралистской и постструктуралистской парадигм, суть которой заключается в невозможности в одноплоскостном измерении согласовать это соотношение как «разрыв» и эволюцию, в несостоятельности попыток однозначного отнесения ученого к тому или иному направлению. Он также позволяет эксплицировать особенности авторских исследовательских образцов в области литературоведения, в частности, релевантность маргинальных высказываний теории, намечающих перспективы развития той или иной науки. Третий тип возникновения и развития филологического познания представляет собой ориентацию на концептуальные модели и методологию уже существующих филологических парадигм, которые рассматриваются литературоведами в качестве базовых. Его суть заключается в конкретизации тех или иных базовых парадигм, совершающейся путем уточнения и усложнения универсальной схемы «автор-текстчитатель» и связанных с ней концептуальных установок, а также путем комбинаторики при создании методологии анализа текста. К этому типу относятся рецептивная эстетика и нарратология. Специфика этого типа филологического познания заключается в том, что парадигмы рецептивной эстетики и нарратологии, выполняя критическую функцию по отношению к базовым филологическим школам и в то же время служа средством преодоления конфликтов между ними, взаимодополняют друг друга по принципу внешней/внутритекстовой прагматики. Это способствует разрушению позиции, разделяющей мнение о несоизмеримости различных филологических школ, и утверждению подхода, учитывающего все многообразие тех элементов теории и методологии конкурирующих парадигм, которые создают возможность непротиворечивой интерпретации художественного текста. Некоторые выводы, проясняющие причины полипарадигмального характера современной филологии. В зависимости от той или иной концептуальной и 33 методологической ориентации, формирующейся в виде установочного звена парадигмы, продуцируются различные типы развития филологического познания. Экспликация этих типов объясняет несостоятельность обвинения в непродуктивности филологических школ по причине того, что их парадигмы способны к перманентной саморефлексии. Это касается всех исследованных нами направлений: герменевтики, деконструктивизма, постструктурализма, а также рецептивной эстетики и нарратологии, так как последние возникают и развиваются в результате комбинаторики конститутивных элементов ранее указанных школ. И только отказ структурализма от пересмотра собственной методологии в свете наличия новых фактов, имплицированных, по сути, самим методологическим подходом, привел к необходимости специфического вида научно-дисциплинарной революции. Но даже в этом случае структурализм не исчезает бесследно, но сохраняет в видоизмененной форме свои теоретико-методологические компоненты в других исследовательских парадигмах, и прежде всего, в постструктурализме. Далее, экспликация установочного звена филологического познания позволяет прояснить особенности взаимодействия существующих в современном литературоведении исследовательских подходов. Взаимодействие строится по следующим принципам: взаимной критики и сопутствующей ей самодеконструкции (герменевтика и деконструкция); неограниченной пролиферации и конфликтного полилога концепций – следствия научной революции, носившей антиметафизический характер (смена структурализма постструктурализмом); взаимодополнительности (рецептивная эстетика и нарратология). Также следует отметить одну важную особенность установочного звена филологического познания, проясненную в ходе парадигмального анализа: концептуальные и методологические ориентации, формирующиеся в виде установок исследовательского подхода, имеют производный характер, что объясняется следующими обстоятельствами. Установочные звенья ранее исследованных парадигм обусловлены прямой или опосредованной связью с философией. В отношении герменевтики и деконструктивизма эта связь представляется непосредственной и очевидной. Структурализм связан с философией негативным образом – через элиминацию философских импликаций в рамках своей теории, построенной по образцу естественных наук и теоретической лингвистики. Однако этот отказ от философского типа познания, вписывающий структурализм в позитивистскую перспективу, сам, по сути, является философским постулатом, что усиливается фактом трансформации структуралистской парадигмы в догматический тип спекулятивной философии. Появившийся вследствие этого постструктурализм априори определяет себя как симбиоз философии, науки и литературы, обращая при этом внимание на необходимость учета их взаимной критики. Рецептивная эстетика и нарратология представляют собой еще одну степень опосредования. Они связаны с философией посредством заимствованных элементов теоретико-методологических установок базовых парадигм. Современная философия, в свою очередь, отмечена лингвоцентрической ориентацией и пристальным вниманием к проблемам и специфике литературного творчества. Эта ситуация осложняется тем, что в авангардной художественной литературе широко представлен элемент критического переосмысления философского и научного дискурсов. Однако при наличии подобной «диалектической» картины соотношение философии, филологии и литературы все еще остается не проясненным, т.е. предстает в качестве проблемы, и эта проблема имплицирует возможность различных способов организации установочного звена парадигмы филологического исследования. В свете ранее сказанного, мы будем называть это установочное звено философскими основаниями филологической парадигмы. 34 Рассмотренная проблема связана с другой, которая также следует из анализа установочного звена и определяет специфику филологического познания. Филологи манифестируют свое понимание научного статуса литературоведения в зависимости от того или иного философского видения этого статуса. Первый тип (герменевтика и деконструктивизм) характеризуются пониманием филологии как специфической дисциплины, руководствующейся иными, нежели принято в естественнонаучном дискурсе, критериями научности. Второй тип отмечен согласием с общепринятой трактовкой научной рациональности при параллельном постулировании универсальности метода исследования (структурализм); репрезентацией филологического дискурса как некого гетерогенного образования, синтезирующего элементы научного, философского и художественного дискурсов (постструктурализм). Третий тип (рецептивная эстетика и нарратология) также характеризуется ориентацией на традиционные идеалы и нормы научного дискурса, но ограничивает релевантность результатов филологического исследования пределами строго фиксированной предметной области. Таким образом, научный статус филологии не является очевидным априори, но предстает в качестве одной из фундаментальных проблем науки о литературе. Еще одна проблема актуализируется в связи с тем, что все рассмотренные ранее филологические парадигмы представляют собой (в методологическом аспекте) различные модели/способы интерпретации художественного текста. При этом каждая парадигма настаивает на том, что именно ее способ интерпретации является наиболее адекватным природе изучаемого объекта и соответствует целям и задачам «подлинного» филологического исследования. Первый тип развития филологического познания характеризуется историко-контекстуальной (герменевтика) и метаиронической (деконструктивизм) моделями истолкования; второй – структурным объяснением (структурализм) и полисемантической интерпретацией (постструктурализм); третий (рецептивная эстетика и нарратология) – акцентом на коммуникативной составляющей интерпретативного процесса с учетом элементов моделей истолкования ранее отмеченных парадигм. В контексте подобной ситуации возникает необходимость прояснения проблемы интерпретации объекта исследования филологических наук. Ее суть, может быть эксплицирована посредством следующих вопросов: каковы условия существования возможности интерпретации (в том числе, множественной) художественного текста и каков критерий релевантности того или иного истолкования? Постановка проблем соотношения философии, филологии и литературы, научного статуса литературоведения, интерпретации художественного текста позволяет конструктивно обсуждать выявленные в процессе парадигмального анализа филологического дискурса особенности установочного звена литературоведческого исследования – особенности, в определенной степени объясняющие полипарадигмальный характер современной науки о литературе. Необходимость прояснения смысла этих проблем побуждает к дальнейшему изучению специфики филологического познания, его теоретико-методологических оснований. Аналитика фундаментальных проблем филологии может стать одним из самых перспективных направлений философии и методологии литературоведения. 3. Парадигмальный анализ деконструктивистского типа филологического исследования В качестве своеобразного приложения рассмотрим возможности метода парадигмального анализа в отношении такого, как принято считать, неподдающегося систематизации подхода, как деконструктивизм. В соответствии со всеми ранее сделанными выводами и замечаниями мы рассмотрим философские основания, концептуальную модель объекта исследования и методологию деконструктивистского типа филологического исследования. Круг 35 проблем данной парадигмы мы сознательно не эксплицируем, т.к. они коррелируют с фундаментальными проблемами литературоведения, и таким образом, должны быть изучены в рамках типа исследования, намеченного в заключении раздела 2. Философские основания исследовательской парадигмы деконструктивизма. Говоря об исследовательской парадигме деконструктивизма, мы имеем в виду значимые с литературоведческой точки зрения положения философии Ж. Деррида и методологию анализа художественного текста, созданную на основе этих положений в рамках Йельской школы (П. де Ман, Х. Блум). Философская концепция, развитая Ж. Деррида, напрямую связана с общезначимой для всех видов филологического исследования системой «автор-текстчитатель». Необходимо заметить, что Деррида универсализирует понятие текста, фактически придавая ему статус философской категории. Однако в его теории понятие текста и соотнесенный с ним концепт письма призваны вытеснить традиционные метафизические понятия бытия и сознания, что позволяет выстраивать не новую онтологию, а науку о письме – грамматологию. Словом, Деррида пытается хотя бы частично освободить понятие текста от метафизичности, делая его одновременно тропом и риторической фигурой. В свою очередь понятия автора и читателя Деррида предпочитает подводить под понятие субъекта, определяя его в качестве эффекта текста, и этот путь – от текста к субъекту – будет руководить последовательностью нашего анализа. Одним из наиболее распространенных заблуждений является рецепция Ж. Деррида как философствующего семиотика. Между тем французский философ не считает семиотику ни привилегированной научной дисциплиной, ни фундаментом для построения своей собственной теории. В дискурсе Деррида семиотика становится объектом критики в силу того, что пафос исследовательской деятельности философа заключается в деконструкции фундаментальных основ западноевропейской метафизики, в наиболее эксплицитной и доступной для анализа форме представленных в семиотической теории. Деррида не претендует на концептуальное оформление разрыва с западноевропейской метафизикой или на создание какой-либо нелогоцентрической науки, не позиционирует себя в качестве антирационалиста. Скорее, его интенция заключается в том, чтобы, погружаясь в контекст рационалистической метафизики, выявить имманентным образом те понятия и структуры, которые позволят критически оценить ее претензии на самодостаточность, точность и логическую завершенность. Анализ, построенный на принципе внутринаходимости, позволяет с максимальной строгостью определить границы метафизики и указать за ее пределы, но именно указать, а не выйти за них. Данное примечание позволяет отметить еще одну особенность деконструктивистского анализа, которая состоит в его изначально декларируемой незавершенности, в том, что его результат, заключающийся в данном случае в создании и оформлении иной, неметафизической системы, откладывается на неопределенный срок. Эти принципы – принцип внутренней, «имманентной» критики и принцип незавершенности, «безрезультатности» анализа – являются базовыми, регулятивными и «охранительными» для философии Ж. Деррида. Ориентируясь на указанные принципы, Деррида подвергает критическому анализу созданное в рамках семиотической теории понятие знака и, как следствие, понятие текста как знаковой системы.В этом состоит одна из специфических черт его дискурса: сначала из какой-либо научной или философской теории заимствуется термин в его аутентичном значении, а затем этот термин радикально переосмысливается исходя из имплицитно присущих ему противоречивых коннотативных значений и, далее, используется в соответствии с задачами, которые ставит перед собой исследователь. Понятие знака деконструируется следующим образом: означаемое как семиотический коррелят знака элиминируется в качестве 36 внедискурсивного элемента, доступ к которому так или иначе закрыт, но сохраняется как означающее, контекстуально связанное с другими означающими и нетождественное себе в плане генеалогии и графологии, способное быть членом бесчисленных знаковых цепочек, отсылок и замещений. Следствием всего этого стала концепция текста, в которой Ж. Деррида, сознательно избегая принятия каких-либо онтологических допущений и методологических принципов, все же не сумел обойтись без них. В дискурсе Деррида традиционные понятия сущего, бытия и сознания замещаются понятием текста и категориями, применяющимися для его описания, что не мешает говорить о некой онтологической модели, т.е. способе существования объектов деконструктивистского исследования, каковыми для французского философа оказываются вполне определенные типы текстов – художественный, философский и научный. Модель художественного текста в деконструктивистской «семиотике». Текст как знаковая система в силу отмеченной ранее критики не обладает, согласно Деррида, свойствами референции и мимесиса, репрезентации и объективации, т.е. не является целостным и самотождественным образованием, выражением единого и определенного смысла. Но текст не является и бессмыслицей, что логично предположить исходя из утраты означаемого или, скорее, демонстрации того, что никакого означаемого никогда и не было. Для того, чтобы объяснить, как, согласно теории деконструктивизма, образуется смысл текста, рассмотрим понятие текста с точки зрения синтактики. По Деррида и де Ману синтаксические периоды/положения текста не располагаются в линейной последовательности, развивая и истолковывая общую для них проблему, а, следуя этимологическому значению слова «текст», переплетаются таким образом, что положение, находящееся, к примеру, в середине текста, истолковывает положение, располагающееся в начале и само являющееся истолкованием другого высказывания. Исходя из этого может образоваться новая последовательность и даже новая тема, возникающие, по Деррида, при отсутствии некой метапоследовательности, раз и навсегда закрепляющей единственно верный смысл текста. Но при этом новая последовательность также не приводит к центрации и цельности, так как тут же перестраивается в соответствии с положением других периодов. Текст, таким образом, представляет собой взаимодействие означающих, организующееся путем отсылок означающих друг к другу в рамках одного текста или же в форме интертекстуальных зависимостей; взаимозамещений и перестановок, когда одно означающее выступает вместо другого ввиду якобы стилистических предпочтений; этимологической игры, приводящей к полисемантизации и метафоризации, что оказывается особенно важным при учете репрезентативной функции, переосмысленной, соответственно, в рамках деконструктивистского дискурса; графических совпадений типа «сема-семя» и т.п. Все это выглядит как некий новый тип синтаксиса, который в деконструктивизме детерминирует семантику нелинейным и непоследовательным отношением знаков, а, точнее, означающих друг к другу. Понятие текста с точки зрения прагматики, т.е. в нашем случае, соотношения знаков и их пользователей в ситуации письма/чтения, в рамках теории деконструктивизма оказывается наиболее сложным в силу того, что здесь мы сталкиваемся с критикой основополагающего для рационалистической метафизики и классической теории литературы понятия самодостаточного, самотождественного и наличного/присутствующего субъекта. Традиционно соотношение автора и текста рассматривается следующим образом: в авторском сознании возникает идея или комплекс взаимосвязанных идей, являющихся откликом на некую биографическую ситуацию, или ситуацию, характеризующую состояние общества, а затем идея облекается в форму, т.е. текст, который служит средством трансляции этой идеи. Читатель во время интерпретации усваивает «главную мысль» или же систему идей, 37 чем развивает и обогащает собственное мировоззрение. Деконструктивистское понимание субъекта и соотношения субъекта и текста далеко от подобной картины. Автор представляет собой сочетание как минимум двух субъектов – субъекта чтения и субъекта письма. В момент написания текста автор интерпретирует другие тексты, т.е. читает их, а эти тексты, в свою очередь, выполняют не столько роль источника вдохновения или критики, сколько роль «надзирающей инстанции» (системы письма), которая децентрирует субъекта, заставляя его говорить одно, подразумевая другое, противоречить себе, путаться в буквальных и фигуральных значениях. То же верно и в отношении читателя, который, согласно Деррида и йельцам, не извлекает смысл из текста, а, по сути, вкладывает его, т.е. пишет этот текст заново, но это письмо определяется через семантико-синтаксические структуры уже прочитанных текстов. Что касается статуса читателя-литературоведа, то здесь мы обращаемся к специфике деконструктивистской методологии анализа текста. Необходимо заметить, что базовые принципы деконструктивизма являются, по сути, методологическими принципами, что указывает на особенность соотношения теории и методологии в рамках этой парадигмы. Дело в том, что деконструктивисты, основываясь на принципах «имманентной» критики и незавершимости анализа, проводят деконструкцию художественных, философских и научных текстов, и на основе и в ходе этого анализа постепенно формируют теорию текста, которая, в свою очередь, влияет на формулирование методологических правил. Методологические правила, метод, приемы и средства деконструктивистского анализа художественного текста. Перечень методологических правил деконструктивистского анализа текста не является закрытым и ограниченным в силу указанного ранее соотношения теории и методологии, но мы остановимся лишь на наиболее значительных правилах: исключения «трансцендирующего» чтения; отказа от комментария/удвоения исследуемого текста; нелинейного чтения. Основой формулирования правила исключения «трансцендирующего» чтения послужили как анализ текстов и сформированная исходя из него концептуальная модель, которую мы ранее охарактеризовали, так и структурная особенность методологических правил всех существующих на сегодняшний день филологических школ. Что касается концетуальной модели, основанной на истолковании текста как совокупности различного рода взаимодействий на уровне означающих, то абсолютно закономерен отказ от выхода/«трансценденции» за рамки феномена текста к некому внешнему объекту или внетекстовому означаемому. Эта «трансценденция» тем более невозможна, что, как уже отмечалось, так называемый внешний объект априори оказывается заключенным в рамки интертекстуальности. Но рассматриваемое правило является также методологической базой критики как традиционной, так и современной филологии. Как правило, литературоведы занимаются либо анализом формы, либо содержания, будь оно психологическим, историческим или архетипическим. Но и те, и другие подтверждают наличие оппозиции форма-содержание/внутреннее-внешнее, инициируя этим конфликт между методологическими подходами, блокируя возможность выявления специфики исследуемого объекта. В отличие от традиционного литературоведения деконструктивисты совершают двойной, а точнее, двойственный «захват»: с одной стороны, они отказываются выходить за рамки текста, а, с другой – экстраполируют понятие текста как совокупности означающих на традиционно внетекстовую область со всеми соответствующими импликациями. Правило отказа от комментария/удвоения исследуемого текста имеет несколько аспектов. Во-первых, оно означает, что вследствие специфики концептуальной модели художественного текста оказывается невозможным выявление его аутентичного смысла. Во-вторых, повторение/удвоение анализируемого текста – хотя бы и в рамках метаязыка филологического исследования - приводит не к реконструкции смысла, а к его производству. В третьих, учитывая уже отмеченные аспекты, исследователь 38 должен стремиться не удвоить текст, не выявить авторскую интенцию и т.п., а, скорее, согласуясь с общими нормами интертекстуальности, изучить искажения, ошибки, двусмысленность, из которых и состоит произведение, и в итоге привести свое истолкование к подобной же амбивалентности Правило нелинейного чтения базируется на описанном ранее специфическом для деконструктивизма типе синтаксиса текста. В этом случае смысловые потенции художественного дискурса выявляются при соотнесении высказывания А с каким-либо не следующим из него высказыванием Б, которое может находиться как в этом же тексте, так и в другом, даже если тот не принадлежит исследуемому автору. На уровне слова этот процесс означает одновременный учет всех коннотативных, в особенности противоречащих друг другу, значений. Основным методом Деррида и Йельской школы является деконструкция, хотя сами они и не признают ее в этом качестве. Понятие деконструкции, по Деррида, изобретательно, т.е. в каждой своей работе деконструктивисты помимо прочего заняты его определением через цепочку возможных заместителей, каждый из которых получает тщательную характеристику. Однако особенности структуры этой характеристики позволяют понимать под методом деконструкции выявление/прояснение специфики некоторой системы и переосмысление этой же системы исходя из имплицитно присущих ей противоречий/маргинальных элементов. В конечном итоге учет этих «смысловых неразрешимостей» приводит как к смысловой неразрешимости всей системы в целом, так и исследовательского дискурса. Но при этом выявляются термы, конструкции, композиционные приемы, риторические фигуры, бинарные и тернарные оппозиции, приводящие к подобной амбивалентности дискурса, но не с целью их последующего избежания/исключения, а с целью как можно более строгого описания специфики литературного языка. Деконструкция предусматривает множество различных приемов, но в качестве примера можно привести один из наиболее ярких и повторяющихся, в частности, в текстах П. де Мана, посвященных разбору литературно-критических работ. Прием, используемый американским литературоведом, таков: по ходу статьи он описывает концептуальную модель художественного текста А, выдвигаемую тем или иным литературным критиком, а затем применяет эту модель для анализа исследовательского текста самого критика и выясняет, что положения этой работы В противоречат концептуальной модели А. По сути, это то, что в философии и классическом литературоведении рассматривается как самореференциальная непоследовательность, выявление которой исключает возможность дальнейшего анализа. Поль де Ман, однако, исследует данное противоречие и обнаруживает центральную для аргументации В категорию С, а затем применяет ее для анализа концептуальной модели А и деконструирует таким путем оппозицию А и В, усиливая при этом амбивалентность отношений всех трех элементов. Основным средством деконструктивистского анализа является, естественно, язык, точнее, определенные термины, которые заимствуются из философской, научной и художественной литературы и переосмысливаются в рамках рассматриваемой парадигмы, или же вовсе изобретаются тем или иным исследователем. Специфика оперирования этими понятиями заключается в том, что, оказываясь включенными в деконструктивистский дискурс, они фиксируются не столько терминами метаязыка, сколько «фигурами», под которыми, в свою очередь, подразумеваются и тропы (слова и выражения, использованные небуквальным способом), и определенные риторические фигуры, не только выполняющие аргументативную и композиционную функции, но, по сути, описывающие концептуальные и методологические модели. Таким образом, метаязык исследовательской парадигмы деконструктивизма не уподобляется метаязыку лингвистики или семиотики, а представляет собой сочетание точной литературоведческой терминологии и амбивалентной метафорики, характерной для художественного дискурса, что само по себе является не столько выражением 39 антирационалистических настроений, сколько стремлением к непредвзятому и строгому изучению специфики литературного творчества. Действительно, анализируя философские основания, концептуальную модель объекта исследования и методологию деконструктивистской парадигмы, мы, по сути, в каждом случае сталкивались с критически - негативным и металептическим («переиначивающим») отношением йельцев и Деррида к западноевропейской метафизике и теории литературы, их традиционным ценностям – точности, непротиворечивости, линейности и т.п. Однако эта критика имеет целью не разрушение научно - философской рациональности, но демонстрацию ее сущности, несущей ответственность за элиминацию какого бы то ни было модуса литературно-художественного письма, сведения его до уровня «примера», средства трансляции философских и научных теорий или тривиального эстетического феномена. Для деконструктивистов, напротив, художественная литература является и единственно возможной формой ценностной ориентации, и неким метаязыком риторико-фигурального самоопределения философии и филологической науки. Достижение основной цели йельцев – выявление специфики художественного дискурса - будет способствовать обогащению если и не самих философских и филологических текстов, то, по крайней мере возможностей их чтения/интерпретации, хотя при этом деконструктивисты не протестуют и против традиционного типа письма и чтения, считая его вполне обоснованным в рамках уже устоявшегося стиля мышления. То, чем они заняты – это экспериментальное исследование литературы, согласно методологии которого изучить художественный текст можно и нужно лишь его собственными средствами. Это должно быть первичной интенцией, т.к. по ходу анализа рано или поздно выявляется, что эти средства (понятия и структуры) не принадлежат только лишь этому тексту или художественному дискурсу вообще, что позволяет использовать и традиционную научную терминологию, но в то же время способствует ее переосмыслению. Философские основания, концептуальная модель объекта исследования, методология деконструктивистского дискурса базируются, по сути, на специфических фигурах чтения (ирония, синтетизм, металепсис, инверсия, травестия), которые приводят, в свою очередь, к особому стилю письма, т.е., по йельцам и Деррида, к особому стилю мышления – амбивалентному в силу его двунаправленности. Если рассматривать его в качестве нового типа рациональности, способствующего обогащению самой этой рациональности, то этот стиль, возможно, является опасностью для западноевропейской эпистемы. Если рассматривать его как стиль филологической мысли, то, как нам видится, он не имеет себе равных в силу своей искренней заинтересованности литературой и внимательного к ней отношения. Как бы там ни было, представляется в достаточной мере обоснованным утверждение о совершенно новом типе дискурса, не отражающего, а производящего новые смыслы путем пере-читывания уже написанных текстов и описывающего этим сам процесс смыслопорождения и специфику литературного творчества. PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE PHILOLOGICAL DISCOURSE Е.А. Krotkov1), D.K. Manokhin2), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; e-mail: [email protected] 2) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia The paper surveys the specifics of philological cognition in the expanse of its poliparadigmacy, it analyses the content of notion ‘paradigm of the philological research’, it articulates conceptual and methodological orientations of philological sciences, it offers the model of paradigm characteristics of the specific philological branch (on the material of deconstructive type of a philological research). Key words: philological discourse, paradigmes of philological research, deconstruction, conceptual and methodological orientations. 40 УДК 141.333 АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ С.А. Кутоманов1), В.Е. Пеньков2), 1) 2) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 В статье рассмотрены различные подходы к описанию роли человека во Вселенной. Авторская точка зрения представлена в способе решения проблемы соотношения человеческого разума и закономерностей развития природы. Ключевые слова: естествознание, антропный принцип, современные парадигмы естествознания, разум. Идея «антропного принципа» впервые была выдвинута Г.М. Идлисом в 1958 году. Суть принципа заключается в следующем: почему наблюдаемая Вселенная обладает именно такими законами, какие есть? Не связано ли это с тем, что в такой Вселенной мог появиться человек? В работе Б. Картера выделяется слабый и сильный антропный принцип. Первый из них формулируется следующим образом: «Наше положение во Вселенной с необходимостью является привилегированным в том смысле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием» [1]. Это вполне понятно и не вызывает сомнений. – мы являемся свидетелями наблюдаемых условий мироздания потому, что при других условиях, мы просто не могли появиться. Однако более глубокий анализ показывает, что физические условия Вселенной является не только достаточными для существования человека, но и необходимыми. На основе чего Картер сформулировал сильный антропный принцип. «Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит), должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей» [2]. Более того, происхождение не только человека, но вообще любых сложных структур (даже механических, таких как планетные системы, галактики) возможно только при данных условиях. Остается открытым вопрос: почему реализовался физический мир, обладающий такими фундаментальными свойствами, и как с этим связано существование разума? Остановимся более подробно на тех физических параметрах, которые необходимы для существования во Вселенной сложных структур. Во-первых, следует отметить свойства пространственно-временного континуума, в котором разворачиваются физические события. Во-вторых, к ним относятся фундаментальные физические константы: скорость света, постоянная Планка, массы и заряды элементарных частиц, постоянные фундаментальных взаимодействий и др. Если бы свойства пространства и времени были иными, не мог бы существовать наблюдаемый физический мир. Так, только в пространстве, имеющем три измерения возможно существование устойчивых механических объектов. Если бы размерность была бы иной то в мире не могли бы сформироваться сложные устойчивые структуры. На первый взгляд кажется, что при большем числе размерностей возможно образование более сложных структур. Однако, это не так. Дело в том, что размерность пространства определяет силу взаимодействия частиц: будь то гравитационные силы, обусловленные массой, или электромагнитные – обусловленные электрическими зарядами. Плотность силовых линий, а значит и 41 напряженность поля в пространстве обратно пропорциональны расстоянию r в степени N-1, от создающего их тела, где N - размерность пространства. Отсюда следует, что в двумерном пространстве сила притяжения настолько велика, что в нем не могут существовать свободно двигающиеся тела, системы будут детерминированно связанными. Если же N>3, то ценробежная сила, не зависящая от размерности пространства, превысит силу притяжения, в результате чего любая связанная система почти сразу же распадается. В таких пространствах не может быть устойчивых структур: атомов, планетных систем, галактик. Таким образом, приходим к выводу, что только в трехмерном пространстве могут существовать связанные системы и подходящие условия для возникновения разума. В пространствах с другой размерностью мы просто не смогли бы появиться. Однородность и изотропность пространства, а также однородность времени приводят к законам сохранения импульса, момента импульса и энергии, без которых наш мир так же был бы иным. Если бы ядерное взаимодействие было на 2% слабее, «то связь между протонами и нейтронами была бы утеряна и Вселенная состояла бы из водорода, в ядре которого один протон и нет нейтронов» [3]. Небольшое изменение массы электрона или разности масс протона и нейтрона сделало бы невозможным существование водорода или более тяжелых химических элементов [4]. К еще более удивительным относятся следующие факты. Соотношение между электромагнитным и гравитационным взаимодействием должно соответствовать друг другу с точностью 10-40. В противном случае не смогут существовать звезды типа нашего Солнца. Эта точность соответствует точности снайпера, чтобы попасть в монету, находящуюся от него на расстоянии двадцати миллиардов световых лет! Такое же отношение составляют радиус наблюдаемой Вселенной к радиусу электрона, возраст Вселенной к атомному времени. Можно привести еще несколько подобных примеров. Итак, во Вселенной существуют именно такие условия, в которых могли возникнуть сложные структуры вплоть до разумной жизни. Существующая совокупность фундаментальных констант привела к рождению человечества. С физической точки зрения антропный принцип этим и ограничивается. Теперь вопрос заключается в том, как правильно его интерпретировать, какую философскую оценку этого факта можно считать удовлетворительной. С этим напрямую связана концепция глобального эволюционизма, поскольку в процессе эволюции идет усложнение структур и образование все более сложных самоорганизующихся систем, при этом вероятность случайного совпадения отдельных элементов, обеспечивающих устойчивое существование структуры, стремится к нулю. В конечном итоге мы выходим на вопрос, какое место в этом мире занимает человек. Продукт ли он практически «невероятной случайности», или все-таки во Вселенной действуют какие-то механизмы, которые делают этот процесс закономерным. От решения этого вопроса зависят мировоззренческие установки человека, его отношение к миру и самому себе. В конечном счете – его устойчивость. При рассмотрении отдельного фрагмента истории Вселенной, в промежутке времени, когда уже образовалось много различных структур, этот вопрос решается легко. Как отмечает Пол Дэвис: «…сложная организация может возникать спонтанно… для успеха… необходимо существование ансамбля, под которым понимается набор большого числа сходных систем. В биологии этот ансамбль составляют миллиарды организмов и миллионы поколений, существовавших на протяжении истории Земли» [5]. 42 Однако когда речь идет о Вселенной в целом, то проблема становится достаточно серьезной. Либо мы приходим к идее Творца, либо, по аналогии с биологической эволюцией, должны прийти к заключению, что необходим ансамбль различных вселенных для существования нашей Вселенной Таким образом, в рамках материалистического подхода наука пришла в идее множественности миров, что не противоречит теоретическим построениям. В 1957 году Х. Эверетт [6] предложил "многомировую" интерпретацию квантовой механики, в соответствии с которой в результате взаимодействия квантовой системы с прибором происходит реализация всех возможностей, определяемых набором собственных состояний системы. Формализм теории требует интерпретировать это событие как "расщепление" Вселенной на множество в одинаковой мере реальных вселенных, различающихся лишь исходом данного взаимодействия и состоянием сознания наблюдателя, его зафиксировавшего. Физическая Вселенная, таким образом, непрерывно "ветвится", порождая все новые экземпляры полностью изолированных друг от друга миров. Наблюдатель, однако, в каждый момент находит себя лишь в одном мире и не подозревает о существовании остальных Другую возможность дают современные "инфляционные" сценарии эволюции, допускающие существование в нынешней Вселенной причинно разделенных областей, в которых могли реализоваться различные типы фундаментальных симметрий вследствие фазовых переходов, осуществившихся на начальных этапах эволюции. Вся астрономическая Вселенная представляет собой в этой схеме лишь малую часть одной из таких областей В теории фридмонов Вселенные оказываются как бы вложенными друг в друга и образуют замысловатую структуру. Вообразить ее себе очень сложно, тем не менее, по мнению академика М.А. Маркова [7], если такая картина многоэтажной, многоярусной Вселенной не реализуется природой, это само по себе будет удивительной загадкой – уж очень естественно, без всяких дополнительных гипотез возникает эта картина в рамках теоретических построений Таким образом, гипотеза ансамбля миров может быть объяснена теоретически. Однако возникает ряд вопросов, на которые достаточно сложно дать удовлетворительный ответ. Сам факт существования множественности миров можно рассматривать как необходимое условие существования сложных структур. То есть мы переносим антропный принцип с нашей части Вселенной (Метагалактики) на Вселенную вообще. Просто расширяются границы антропного принципа, а суть дела не меняется. Ведь в конечном итоге мы должны рассматривать что-то единое, целостное. Если при единичной Вселенной мы говорим о случайном совпадении констант, то в случае ансамбля миров мы говорим о том, что он необходим (опять необходим!) для существования отдельной Метагалактики с условиями, в которых возможна жизнь. То есть сам ансамбль миров – обязательное условие существования человека. А в силу каких причин он образовался? То есть, по сути дела множественность миров не дает удовлетворительной интерпретации антропного принципа, а лишь расширяет зону его действия. Второй проблемой является проблема эволюции материи во всех ее формах. Даже если принять, что изначально были именно такие условия и появился именно такой мир, очень сложно объяснить, почему он так быстро эволюционировал. Совпадение констант делает возможным образование сложных структур, но отнюдь не необходимым. Противники теории эволюции утверждают, что образование все более сложных структур даже в этом мире идет по пути все меньшей вероятности. В работе Ф. Хойла и Ч. Викрамасинге подчеркивается, что вероятность спонтанного образования жизни из неодушевленной материи составляет 1 к числу с 40000 нулями [8]. 43 Биологическая эволюция по Дарвину прекрасно объясняет факты микроэволюции внутри одного вида, но сталкивается с большими трудностями при объяснении перехода одного вида в другой. Сам автор данной теории отмечал: «Количество существовавших когда-то промежуточных разновидностей должно быть поистине огромным… Почему же в таком случае каждая геологическая формация и каждый слой не переполнены такими промежуточными звеньями? Действительно, геология не открывает нам такой вполне непрерывной цепи организации, и это, быть может, наиболее очевидное и серьезное возражение, которое может быть сделано против [моей] теории» [9]. На основании этих и подобных им примеров делается вывод о невозможности случайного образования сложных структур даже в мире, где существуют условия достаточные для образования таковых. Если даже существует ансамбль миров, в котором в принципе возможны сложные структуры, то такие миры, в свою очередь тоже должны образовать свой ансамбль, чтобы возможность образования сложных структур превратилась в действительность. Не напоминает ли это «дурную бесконечность», против которой выступал Ф. Энгельс? И самое существенное, состоит в том, что ансамбль миров – это только одно из возможных теоретических объяснений антропного принципа, и проблема заключается в том, что данные теории не подлежат экспериментальной проверке. К тому же такой подход ставит человека в положение случайного наблюдателя. Его рассматривают как гигантскую флуктуацию, как «ошибку истории». В таком случае какое будет отношение человека к самому себе? О какой устойчивости может идти речь? Человек порожден слепым случаем, а значит такой же случай может его уничтожить. Жизнь человека и развитие цивилизации теряет всякий смысл. С такой интерпретацией сложно согласится. Поэтому предпринимаются попытки дать другие объяснение антропному принципу, при котором человек был бы более значим для Вселенной. Отсюда один шаг до гипотезы Творца. По словам специалиста в области космологии Э. Харрисона «…мы располагаем доработанным и модернизированным космологическим доказательством существования Бога – доказательством, основанным на идее замысла и плана… Важнейшим доказательством божественного замысла является гармония и упорядоченность Вселенной. Подумайте, какая точка зрения вам ближе: слепой случай, который требует множество миров, или план, который предполагает только один мир… Многие ученые в своих предпосылках склоняются к телеологическому аргументу или идее замысла» [10]. Философ из Оксфорда Р. Суинберн пишет: «Постулирование триллионов триллионов миров, вместо постулирования Одного Бога, для того чтобы объяснить упорядоченность нашего мира, кажется верхом иррациональности» [11]. Теоретик в области квантовой физики Д. Полкингхорн договаривается до того, что вообще отрицает подобные подходы: «Давайте рассмотрим эти спекуляции как таковые. Это не физика, а, в строгом смысле слова, метафизика. Не существует сугубо научных оснований веры в множественность миров. (С этим трудно не согласиться – В.П.). А как теоретическая конструкция эти миры не поддаются изучению. Другое возможное объяснение, обладающее равной интеллектуальной респектабельностью и, с моей точки зрения, более четкой структурой и организацией, состоит в том, что этот мир имеет данное устройство потому, что он был сотворен по воле Творца, Который хотел, чтобы он был именно таким» [12] (В скобках заметим, что тут же возникает вопрос: А кто сотворил самого Творца?) Однако, такой подход оставляет те же самые вопросы открытыми. Уже вопрос о том, зачем Бог создавал человека, к тому же в такой огромной Вселенной не находит ответа. По сути дела, происходит расширение антропного принципа с материальной 44 Вселенной на духовную структуру. Вопрос же о взаимосвязи констант и условий существования человека не решается. Проблема эволюции в концепции Бога также не находит своего объяснения. Ведь не были же эти формы созданы по мановению волшебной палочки. Имел же место процесс создания. В креационистской концепции это выходит за пределы научного объяснения. Третья проблема при принятии концепции Бога становится еще более острой. Если человек создан, то этот же создатель задал и программу для человека, превратив его в раба. Ссылаясь на Бога, можно объяснить преступления, ведь если человек «раб Божий», как он может отвечать за свои поступки? О какой устойчивости личности при этом можно говорить? Человек превращается в винтик, которым руководят сверхестественные силы. Это полностью снимает ответственность с человека, что может служить оправданием для аморальных поступков. Для выхода из такого положения придумывается куча новых постулатов: Бог дал человеку свободу воли, Бог не вмешивается в людские дела, Бог испытывает человека, существует силы, противопоставляющие себя Богу в виде дьявола, сатаны, лукавого и т.д. Таким образом, вместо одного постулата о существовании Бога появляется несколько десятков, которые в принципе не подлежат экспериментальной проверке, а значит и выходят за пределы научного изучения. Два вышеописанных подхода основаны на так называемом выводе, который дает наилучшее объяснение. То есть, мы постулируем гипотетическую субстанцию или объект и, исходя из этого, строим то или иное объяснение. При постулировании (либо множественности миров, либо разумной субстанции) определяющую роль играют мировоззренческие установки. Для интерпретации антропного принципа материалист будут утверждать существование ансамбля миров, идеалист – существование Бога. Как было показано выше, оба этих объяснения не являются столь уж логичными, каждое из них оставляет много вопросов. Уже сам факт того, что из этих двух альтернатив человечество не может выбрать «наилучшее объяснение», говорит о том, что они являются не совсем корректными. Философско-синергетическая парадигма позволяет рассмотреть антропный принцип в несколько своеобразном, оригинальном ключе. Появление разума (и вообще любой сложной структуры) – не есть результат случайного совпадения констант. Вселенная благодаря самоорганизации постепенно усложняется, разум же появляется на определенном этапе как закономерный процесс усложнения материи. Причем в основе мироздания лежат не состояния материи, которые переходят одно в другое в результате случайных процессов, а процесс образования порядка из хаоса в соответствии с законами самоорганизации. При этом такие глобальные переходы как появление вещества, жизни и человека выступают как закономерные этапы указанного процесса. Вселенная является результатом самопостроения. В дальнейшем мы рассмотрим эти вопросы подробнее. И. Пригожин в основу мироздания кладет неравновесность. Ее нельзя описать состоянием, а только процессом. Причем это будет процесс порождения порядка из хаоса на всех структурных уровнях организации материи. Подобные рассуждения находим в работе В.Г. Буданова [13]. Рассматривая открытые системы в иерархической структуре мироздания, он выделяет три уровня: микро- макро- и мега. Тогда для макроуровня микроуровень будет восприниматься как хаос, поскольку его временные и пространственные масштабы таковы, что для вышележашего уровня они воспринимаются как бесконечно малые и нет возможности описать движение отдельных его составляющих. Мега-уровень будет для среднего 45 уровня восприниматься как образованный сверхмедленными, «вечными» параметрами, которые играют для макроуровня роль управляющих параметров. При таком подходе образование порядка из хаоса может быть представлено следующим образом. Случайные элементы новой информации на уровне микромира, попадая в определенную систему макроуровня начинают под воздействием управляющих параметров мегауровня образовывать определенные устойчивые структуры. Структурирование происходит за счет образования взаимосвязей между элементами вновь поступающей и уже имеющейся в системе информацией. О вероятности такого образования мы говорили в прошлой лекции. В данном случае не надо вообще ничего постулировать: ни существование «триллионов триллионов миров», ни существование «Одного Бога»! А процесс образования порядка из хаоса находит прекрасное экспериментальное подтверждение. Единственное, что необходимо принять на веру, так это – неисчерпаемость бытия. Что полностью соответствует материалистической диалектике. При вышеописанном подходе вышеуказанные проблемы могут быть решены следующим образом. Поскольку в основу Мироздания положен процесс, то вопроса о начальном состоянии Естества не возникает: оно было всегда и просто переходит из одного вида в другой. Совпадение констант в таком случае является результатом образования устойчивых форм, возникающих в процессе перехода хаоса в порядок. В таком случае первый и второй вопрос сливаются воедино. Эволюция Естества идет таким образом, что в качестве одной из форм в процессе самоорганизации появляется Вселенная с данными физическими условиями. Многообразие форм, возникающих в процессе образования порядка из хаоса, выступает в качестве ансамбля. Причем нет необходимости существования бесконечного числа формообразований, так как, во-первых, процесс самоорганизации направляет эволюцию по пути образования наиболее эффективных форм за счет воздействия управляющих параметров мегауровня (вопрос о том, что является мегауровнем для всей Вселенной мы рассмотрим ниже); во-вторых, надо считать вероятность появления не конкретных формообразований, а в принципе любой устойчивой структуры. Если бы во Вселенной были другие начальные условия, но процесс перехода хаоса в порядок имел бы место, все равно образовались бы сложные структуры (возможно на совершенно иных принципах) вплоть до появления сознания – способности осмысливать и создавать новую информацию. Таким образом, главная идея высказанной гипотезы состоит в том, что при любых начальных условиях во Вселенной начнут возникать сложные структуры, так как управляющие параметры связывают мир в единое целое. Третья из выше названных проблем решается при таком подходе достаточно просто. Человек является продуктом самоорганизации, и его устойчивость напрямую связана с выполнением законов Естества. Условием сохранения устойчивости человека как самоорганизующейся системы будет гармоничное взаимодействие с другими системами. Если при этом не будут нарушаться законы самоорганизации, не будет возникать конфликтов и противоречий. Для этого необходимо, во-первых, воспринимаемую информацию как можно более плавно вписывать в свое сознание с учетом ее понимания, а не под воздействием внешнего давления. В этом отношении человек по сравнению с другими самоорганизующимися системами обладает уникальным преимуществом – он способен генерировать новую информацию, что в гораздо большей степени позволяет адаптировать внешнюю информацию к своему сознанию и повысить свою устойчивость. При этом, чем большей информацией располагает человек, тем ему легче вписывать новую информацию в свое сознание, тем более устойчив он будет по отношению к внешним воздействиям. Как отмечается в работе Д.С. Чернавского, «Мерой множества устойчивых конечных состояний является количество 46 информации» [14]. Заметим, что это дает возможность теоретически обосновать стремление человека к познанию, желанию постичь тайны природы и самого себя. Во-вторых, для сохранения устойчивости необходимо не оказывать специфического воздействия на других людей, то есть давать свободу выбора приема информации, а не на сильно «впихивать» ее. Данный процесс идет за счет избирательности информации: информация, которая легко может быть вписана в имеющуюся в системе структуру, легко ею принимается. В противном случае система информацию «не замечает», а при насильственном «впихивании» (специфическом воздействии) может даже разрушиться. Именно поэтому недопустимо людям навязывать свое мнение. Здесь может возникнуть вопрос, что при таком подходе каждый будет создавать свои законы и не может быть «правильной» и «неправильной» морали. Но ведь различия могут быть только локального характера. В целом, у каждого человека будет единое ядро, поскольку существует объективные критерии «правильного» поведения, а именно – законы развития самоорганизующихся систем. Если человек будет их нарушать, в его жизни обязательно будут возникать проблемные ситуации. Это будет выступать уже в качестве показателей «правильного» или «неправильного» поведения. Хочешь свою жизнь сделать устойчивой и гармоничной – выполняй законы самоорганизации. Исходя из вышесказанного можно обосновать алгоритм, позволяющий корректно и без противоречий высказывать свои желания и выполнять их. В формулировке цели нельзя оперировать какими-либо внешними обстоятельствами или факторами. Например: «Я хочу, чтобы начальник повысил мне зарплату», «Я хочу, чтобы преподаватель поставил мне зачет» и т.п. При такой формулировке происходит нарушение законов самоорганизации. Первое. Мы оказываем специфическое влияние на другие системы, что рано или поздно приводит к конфликту. Второе, и, пожалуй, более существенно в контексте устойчивости – мы ставим исполнение наших желаний в зависимость от внешних условий, тем самым добровольно лишаем себя возможности достичь поставленной цели. Ведь выполнение нашего желания при таком алгоритме уже не зависит от нас. О какой устойчивости по отношению к внешним факторам можно говорить? Если же формулировки изменить соответственно на: «Я хочу больше зарабатывать денег», «Я хочу сдать преподавателю зачет», то ситуация существенно изменится. При таком алгоритме выполнение желания зависит от самого человека, и он уже в состоянии предпринимать определенные действия для достижения поставленной цели. Как отмечается в работе Н.Н. Мальцевой, для формирования положительной эмоции по отношению к достижению актуальной потребности, «субъект должен понимать, что необходимо для удовлетворения возникающей потребности, и располагать умениями и навыками, обеспечивающими эффективность деятельности по ее удовлетворению» [15]. Очевидно, что положительная эмоция повышает устойчивость личности. И если первый алгоритм лишает человека возможности достичь поставленной цели (удовлетворить актуальную потребность), поскольку ее достижение зависит от внешних факторов, то второй алгоритм отдает достижение цели в руки самого человека. Ему остается только выбрать способы и средства выполнения поставленной задачи в соответствии со своими умениями и навыками. Однако необходимо помнить, чтобы эти способы и средства также не нарушали законов Естества. Попутно заметим, что нарушение этих законов ведет к глобальным проблемам современной цивилизации. При выполнении же этих законов человек будет гармонично взаимодействовать с окружающей средой, людьми и избегать конфликтных ситуаций. 47 Итак, вышеописанный подход дает возможность таким образом интерпретировать антропный принцип, при котором проблемы, появляющиеся при постулировании либо ансамбля миров, либо Единого Бога, находят удовлетворительное объяснение. К тому же, решается вопрос о месте человека во Вселенной, его взаимосвязи и взаимодействии с миром, становятся понятными принципы, на которых необходимо строить человеческое общество. Исходя из вышесказанного, понимание законов бытия и принципов самоорганизации материи каждым человеком даст возможность всей земной цивилизации перейти на новый качественный уровень развития и организации социального бытия, что позволит разрешить многие глобальные проблемы современности, и перевести общество в состояние ноосферы – гармоничного взаимодействия социума, техники и природы. Один из таких вариантов предлагается в работе Герловина. на основе парадигмы жизнеспособных и развивающихся систем (ПЖиРС), в основе которой лежат следующие принципы: 1. Для полного описания любой жизнеспособной и развивающейся системы необходимо представить ее расположенной одновременно в разных подпространствах – слоях некоторого объемлющего расслоенного пространства. 2. Пространственно-временная структура системы в слоях (базе) объемлющего расслоенного пространства при любых сколь угодно кардинальных различиях подчинена единому для всех слоев закону триединства пространства-временивещества. Иными словами, для всех жизнеспособных систем существует пространственный метаморфоз (ПМ), при котором данная система в разных слоях (и базе) объемлющего пространства имеет взаимосогласованные, но разные пространственно-временные структуры 3. По отношению к данному подпространству – базе и/или слою – любое дополнительное к нему подпространство, входящее в полное объемлющее пространство, всегда находится в мнимой области. Мнимая область в этом случае – не формально математический прием, а реальная структурная особенность всех жизнеспособных и развивающихся систем. 4. Между пространствами-слоями или между базой данного расслоения и слоем возможна связь только по каналу информации. По этому каналу идут не только сведения о процессах, протекающих в пространстве – источнике информации, но и сигналы, управляющие общими процессами. Таким образом, информация трактуется в широком смысле. 5. В стационарном режиме по каналу информации идет сигнал, который может привносить в подпространство, в которое он поступает, только отрицательную энтропию. 6. Развитие жизнеспособной системы реализуется резким возрастанием потока информации, несущей отрицательную энтропию. В этой информации могут содержаться и сигналы, которые управляют триадой развития Дарвина – изменчивостью, наследственностью и отбором. Если поток отрицательной энтропии доминирует над производством положительной энтропии, то система становится способной к самоорганизации. 7. Просачивание по каналу информации сигнала, несущего положительную энтропию, или обрыв канала информации, несущего отрицательную энтропию, ведут к болезни или гибели системы. 8. Если нарушаются замкнутость и/или коммутативность диаграммы отображений, описывающей все каналы информации объемлющего пространства, то система теряет жизнеспособность и обязательно погибает [16]. Перечисленные восемь принципов ЖСиРС существенно ограничивают бесконечное множество решений, содержащихся в уравнениях математических 48 теорий: динамических систем, расслоенных пространств, отображений и других используемых для исследования систем. Первые три принципа характеризуют условия устойчивости системы, ее жизнестойкости. Но для того. чтобы система была жизнеспособной во времени, а не только устойчивой в данный момент, она должна удовлетворять определенным условиям стойкости в процессе жизни и способности не просто к развитию, а к саморазвитию. Следующие пять принципов регламентируют условия, необходимые и достаточные для того, чтобы система стала саморазвивающейся. Саморазвитие – один из основных принципов жизнеспособной системы. Применительно к земной цивилизации роль слоев объемлющего расслоенного пространства играют Человечество на Земле и Государства в их этнически и социологически естественных границах. В системе земной цивилизации обмен информацией между государствами, национальными группами, сторонниками разных религий должен стабилизировать, а не дестабилизировать эти структуры. Это выгодно всей цивилизации. На данном этапе развития объединяющей информацией для всех людей является научно-техническая революция (НТР), а также необходимость сохранения жизни на Земле. Дестабилизирующей информацией, которой следует избегать является: развитие военных приготовлений и угроз войны; нарушение экологического равновесия; национальная и религиозная рознь и нетерпимость; социальная рознь и нетерпимость; злоупотребление прогрессом НТР. При математическом описании системы Земной цивилизации сообщество людей на Земле описывается действительными величинами, а все социальные, экономические . политические и другие слои, обеспечивающие жизнеспособность этого сообщества – мнимыми величинами. Условная диаграмма расслоенного пространства, в котором взаимодействие между слоями обеспечивает жизнеспособность и способность к развитию цивилизации на Земле представлен на рисунке. Каналы информации в этой структуре трактуются И.Л. Герловиным следующим образом [17]. I. Содержание каналов информации в человеке как системе Р1 – наличие таланта; Р2 – доброжелательность, склонность к самоанализу; Р3 – надежность всех составляющих жизненных структур организма; Р4 – отсутствие наследственных психических патологий; Р5 – способность к вере в идеалы; Р6 – способность положительно воспринимать искусство и литературу; Р7 – интеллект, ставший натурой; Р8 – трудолюбие; Р9 – умение владеть собой; Р10 – умение видеть красивое в процессе соблюдения нравственных норм; Р11 – выдержка в трудных ситуациях; Р12 – отсутствие необратимых патологий; Р13 – отсутствие устойчивых психических болезней; Р14 – вера в идеалы стала неустранимой привычкой – натурой данного человека; Р15 – любовь к искусству стала натурой данного человека; Р16 – стабильный волевой характер стал натурой человека. 49 50 II. Содержание каналов информации, идущих от человека f1 – уважение нужд окружающей среды; f2 – вклад в уровень цивилизации; f3 – проявление таланта; f4 – предприимчивость, стремление к лидерству в работе; f5 – умение уважать других членов общества , уровень стремления к лидерству в коллективе; f6 – объективный подход к потребностям; f7 – умение ценить достоинства культуры; f8 – контактность, наличие и уровень чувств; f9 – вклад в уровень общества; f10 – способствование росту интеллектуального уровня и уровня квалификации; f11 – вклад в нравственный уровень всего общества; f12 – верность, преданность обществу, способствующие стабильности общества; f13 – вклад в формирование идеологии общества; f14 – информация для космической памяти; f15 – персональная информация для других членов общества; f16 – персональная информация от других членов общества; f17 – трудовой вклад данного человека в развитие общества. III. Содержание каналов информации, идущих от общества и окружающей среды F1 – создание условий нормального функционирования для окружающей среды; F2 – обеспечение человека образованием, медицинским обслуживанием, полными правами и необходимыми обязанностями; F3 – нормальный уровень зарплаты и стоимости жизни; F4 – предоставление должности, звания и возможности принадлежать к естественному для данного человека слою общества; F5 – обеспечение человека хорошим уровнем комфорта на работе и в быту, признание заслуг человека, выражающееся через премии, награды, привилегии; F6 – обеспечение полной социальной справедливости; F7 – предоставление возможности свободно пользоваться театром, кино, книгами и т.п. культурными ценностями, обеспечение возможности общения с другими членами общества; F8 – требование радикальной перестройки натуры данного человека; F9 – обеспечение хороших жилищных условий существования и нормального функционирования; F10 – влияние на идеологию и нравственность; F11 - обеспечение условий существования и нормального функционирования; F12 - информация из космической памяти. Список литературы 1. Картер Б. Совпадение больших чисел и антропологический принцип в космологии // Космология: теория и наблюдения. М., 1978. – С. 372. 2. Там же – С. 373. 3. Гудинг Д., Леннокс Дж. Мировоззрение: Для чего мы живем каково наше место в мире. Пер. с англ. / Общ.ред. Т.В. Барчуновой. – Ярославль: изд-во «ДИАпресс», 2000. – С. 80. 4. Новиков И.Д. Как взорвалась Вселенная. – М.: Наука, 1988. – С. 145-146. 5. Девис П. Суперсила: Пер. с англ./ Под ред. И с предисл. Е.М. Лейкина. – М.: Мир, 1989. – С. 262. 6. Everett H. "Relative state" formulation of guantum mechanics // Rev. of modern physics. 1957. Vol. 29, № 3. P. 454-462. 7. Марков М.А. Размышляя о физике. – М.: Наука, 1988. 8. Hoyle F. Wickramasinghe Ch. Evolution from Space. N.Y.: Simon and Schuster., 1984. – Р. 176. 9. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора // Соч. М. – Л., 1939. Т.3. – С. 514-515. 10. Harrison E. Masks of the Universe. N.Y.: Macmillan, 1985. – Р. 252. 11. Swinburne R. The Existence of God. Oxford: Oxford University Press, 1995. – Р. 68. 12. Polkinghorne J. One World. SPCK. L., 1986. 13. Буданов В.Г. Трансдисциплинарное образование, технологии и принципы синергетики // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 285-304. 51 14. Чернавский Д.С. О генерации ценной информации // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 380. 15. Мальцева Н.Н. Формирование положительного эмоционального отношения школьников к урокам математики // Духовное возрождение: сборник научных и научно-прикладных трудов. Выпуск XI и XII: окончание. – Белгород, БелГТАСМ, 2002. – С. 172. 16. Герловин И.Л. Основы теории всех взаимодействий в веществе. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1990. – С. 36-37. 17. См.: Там же - С. 408-409. ANTHROP PRINCIPLE IN THE EXPANSE OF MODERN NATURAL SCIENCES S.A.Kutomanov1), V.E.Penkov2), 1) 2) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia Different approaches to the description of the role of the human being in the Universe are described in this article. The author’s angle of vision is presented in solution of this problem. Key words: natural sciences, anthrop principle, modern paradigms of natural sciences, consciousness. 52 УДК 001.1 К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА НАУКИ КАК ФЕНОМЕНА ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ПО РАБОТАМ М.К. ПЕТРОВА И А.Ф. ЛОСЕВА) Г.Ф. Перетятькин1), 1) Ростовский государственный университет, 344007 г.Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 105, e-mail: [email protected] В статье в контексте современной философии рассматриваются оригинальные концепции генезиса науки, представленные в работах А.Ф. Лосева и М.К. Петрова, двух классиков отечественной философии. Ключевые слова: классическая наука, социальные функции науки, язык, категориальная структура. Возникновение науки как феномена европейской культуры означает, если брать этот вопрос со стороны развивающейся здесь формы мышления, максимальное использование в процессе познания категориальных структур языка и мышления. Наиболее глубоко и фундаментально эта сторона генезиса науки рассмотрена, как нам представляется, в работах М.К. Петрова и А.Ф. Лосева. Проблему использования возникающей европейской наукой категориального потенциала языка и мышления А.Ф. Лосев и М.К. Петров рассматривали в разных аспектах. Но их исследования удивительно дополняют друг друга и в результате позволяют лучше понять саму проблему. Рассматривая историю развития отношения языка и его категориальных структур, М.К. Петров совершенно справедливо отмечал, что «между возникновением языка и попытками использовать категориальный потенциал языка для нужд социального кодирования должен располагаться некоторый и, видимо, длительный период времени» [1]. В этот период происходит, по Петрову, стихийное накапливание категориального потенциала языка. Но в чём структурно выражается процесс накапливания этого потенциала, и каков «порог» накапливания, достижение которого делает возможным «утилизировать категориальный потенциал» [2] в создании европейского социокода, выразившего себя в научном познании мира? Ответ на этот вопрос можно обнаружить в работах А. Ф. Лосева, для которого процесс накапливания категориального потенциала языка и мышления выражается в исторических изменениях лексических структур. А. Ф. Лосев выделяет три основных исторических типа таких структур, которые хорошо соотносятся с тремя типами кодирования и трансляции культуры, исследованными М. К. Петровым. Древнейший, инкорпорированный строй языка по времени исторического возникновения и по своим структурным и категориальным возможностям совпадает с формированием лично-именного типа. По этим же характеристикам второй, выделенный А. Ф. Лосевым, эргативный строй языка хорошо кореллируется с появлением профессионально-именного, или «традиционного», типа культуры, выявленного М.К. Петровым. Наконец, третий исторический тип лексической структуры номинативный строй языка - заслуживает особого внимания. Лосевский анализ позволяет сделать вывод о том, что возможность «утилизировать категориальный потенциал» в европейском универсально-понятийном социокоде появляется только с формированием номинативной структуры языка. А начинается это формирование, по Лосеву, как раз в период рассматриваемой М. К. Петровым «эгейской катастрофы». В номинативной структуре языка исторический процесс накапливания категориального потенциала достигает нужного «порога» и организации, поскольку структурные компоненты номинативного типа ориентированны на семантическое 53 противопоставление субъекта и объекта. «Номинативное мышление впервые оказывается способным мыслить предмет именно как таковой, узнавать его в смутном и смешанном потоке вещей, отождествлять его с ним же самим вопреки текучести и спутанности всего ощущаемого и воспринимаемого» [3]. Возникновение номинативной структуры языка завершает «…тысячелетнюю и мучительнейшую борьбу человеческого мышления за овладение именительным падежом и за умение отождествлять предметы с ними самими» [4]. Вот почему важным условием, сделавшим возможным возникновение европейского универсальнопонятийного социокода, является наличие к тому времени номинативной структуры греческого языка. Нужно согласиться с А. Ф. Лосевым в том, «что принцип закономерности, внесенный в мышление его номинативной ступенью, является и предпосылкой для научного овладения природой вместо прежнего, более или менее пассивного следования за всеми стихиями природы и общества» [5]. Однако, и здесь уже М.К. Петров как бы дополняет А.Ф. Лосева, накапливание номинативной ступенью категориального потенциала, могущего стать предпосылкой для возникновения научного мышления и научного мировоззрения, вовсе не означает автоматической реализации этой предпосылки каждый раз, как только тот или иной язык достигает в своем развитии ступени номинативности. Как раз наоборот. Сегодня «к номинативным относится большинство языков мира - индоевропейские, афразийские, уральские, дравидские, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, большинство китайско-тибетских, часть австралийских, кечумара и др.» [6] . Но при всей «заряженности» лингвистических структур этих языков на «научное овладение природой» категориальный потенциал номинативности зачастую не только не «утилизируется» в научное мировоззрение, но напротив возникает проблема, которую М. К. Петров обозначает как «культурная несовместимость». Она выражается как «неготовность ряда стран принять научное мировоззрение и развитой способ жизни... без серьёзнейших преобразований в сложившемся у них способе сохранения социальной преемственности - передачи от поколения к поколению накопленного предшественниками и закрепленного в социальных институтах опыта совместной жизни, разделения труда, обмена, познания, обогащения социальных структур и трудовых навыков новым знанием» [7]. Это только подчеркивает уникальность ситуации, сложившейся в бассейне Эгейского моря. Выявленные М. К. Петровым объективные и субъективные обстоятельства «эгейской катастрофы» как раз и позволяют объяснить начало процесса реализации категориальных возможностей, достигшего в этот период ступени номинативности, древнегреческого языка. Теперь мы должны более внимательно присмотреться к категориальным возможностям номинативной структуры языка, исследованной А.Ф. Лосевым. Здесь нужно, прежде всего, отметить одно очень важное для дальнейшего рассмотрения обстоятельство. Дело в том, что при анализе исторического развития категориального потенциала лексических структур А.Ф. Лосев принципиально и последовательно различает категории языка, или грамматические категории, с одной стороны, и категории логики, или категории мышления - с другой. Он отвергает теории отождествления категорий мышления и языка, теории параллелизма мышления и языка и, наконец, теории независимости языка и мышления. Сам Лосев усматривает специфику категорий мышления в том, что это «категории отвлеченного смысла», в которых выражается «обобщенно-смысловая сторона» предмета. Специфику же грамматических категорий он видит в том, что это «категории понимания», «что всякая грамматическая категория не есть категория предметного мышления, но категория общения и понимания, т. е. категория выставления предмета в том или ином свете, с точки зрения той или иной смысловой подачи, категория специализации и конкретизации предмета, предпринимаемой в целях сообщения этого предмета другому сознанию» [8] (выделено мною - Г. П.). Поэтому, в отличие от 54 категорий мышления, грамматические категории содержат в себе, по меньшей мере, два семантических слоя. «Один - предметно-логический и другой - так или иначе понимаемый - интерпретативный, назначенный для сообщения данного предмета другому сознанию» [9]. Именно сквозь призму различения грамматических и логических категорий Лосев рассматривает историческое развитие и накапливание категориального потенциала языка, подытоживая свое исследование в обосновании трех тезисов. Вопервых, различие между грамматикой и логикой есть различие между пониманием и мышлением. Во-вторых, конкретные грамматические категории суть категории понимания и номинативный строй впервые дает ясное разделение логических и грамматических категорий. И это, в-третьих, впервые создает также «четкие формы их ясного и раздельного объединения» [10]. В результате категориальный потенциал, накопленный исторически в номинативной структуре языка, предстает как изначально раздвоенный на противоположности. Он выступает как единство категорий мышления, схватывающих предмет как объективно-мыслимый, и категорий грамматических, категорий собственно языка, в которых фиксируется предмет сообщаемый, предмет так или иначе понимаемый, предмет, интерпретируемый в общении. Но в таком случае, поскольку на ступени номинативности происходит, по Лосеву, подлинное размежевание логических и грамматических категорий как единства противоположностей, то, во-первых, отношения между этими противоположностями уже в рамках возникшей номинативной структуры могут и должны развиваться и изменяться. Во-вторых, использование, «утилизирование» этих двух взаимосвязанных моментов - категориального потенциала языка и категориального потенциала мышления - при возникновении европейского социокода может исторически не совпадать. Растянутость во времени становления европейского универсально-понятийного типа культуры как раз подтверждает и выражает это несовпадение. Европейский социокод зарождается в античности как, прежде всего, использование категориального потенциала языка, поэтому Аристотель не различает еще категории языка и мышления. Э. Бенвенист не случайно констатирует тождество категорий языка и мышления у Аристотеля. «В той степени, в какой категории, выделенные Аристотелем, можно признать действительными для мышления, они оказываются транспозицией категорий языка. То, что можно сказать, ограничивает и организует то, что можно мыслить. Язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами» [11]. А. Ф. Лосев справедливо считал, что не только аристотелевская, но и «современная формальная логика пользуется исключительно только грамматическими категориями, но пользуется ими, совершенно не отдавая себе в этом никакого отчета» [12]. Грамматические категории выступают в античности ведущей противоположностью по отношению к категориям мышления в категориальном потенциале языка. Такое доминирование грамматических категорий в «утилизировании» категориального потенциала обусловлено, как показал М. К. Петров, социальной жизнью свободных греков и, прежде всего жизнью по правилам всеобщего закона - «номоса». Эта «законная» жизнь в сфере всеобщего представляла «гражданскую составляющую» греческого полиса. Вхождение свободного грека в социальную жизнь по всеобщей, универсальной «гражданской составляющей» требовало от него, по Петрову, «умения жить сообща», которое предполагает развитую способность понимания, общения, сообщения. Но как раз категории языка, или грамматические категории, как мы видели у Лосева, и являются категориями понимания и общения. Они-то и используются, прежде всего, из категориального потенциала языка для создания универсально-понятийного типа европейской культуры. Именно они призваны обеспечить понимание, взаимопонимание в 55 гражданском общении свободных греков, ибо без этого понимания невозможно сообща выработать всеобщий, универсальный закон, «номос». Из этой проблемы понимания возникает и интерес к понятию как общему и всеобщему в языке. Поэтому «переход к языку-логосу также испытывает на себе сильнейшее влияние этой номической призмы всеобщего, подчеркивает и в языке общее и всеобщее» [13]. Однако, несмотря на этот интерес к всеобщему в языке, универсальная понятийность здесь еще не означает научного понятия, поскольку категории мышления, позволяющие схватывать предмет как объективно мыслимый, не востребованы из категориального потенциала языка и не выделены для мышления. Они еще находятся «в выжидательном состоянии», как сказал бы Маркс, они «вплетены» еще в практическую деятельность в качестве ее момента. Востребованы же и «утилизируются» грамматические, языковые категории, которые, как уже выяснилось, фиксируют предмет сообщаемый, понимаемый, интерпретируемый в общении людей, впервые в человеческой истории осваивающих нетрадиционное «умение жить сообща». Космос здесь не столько познается, сколько интерпретируется философами сквозь призму грамматических категорий (кстати, традиция интерпретировать мир в категориях языка до сих пор воспроизводится в философии как один из способов «философствования»). «Универсальные синтаксические позиции грамматики греческого языка: подлежащее-субъект, сказуемое-категория, дополнение-объект, определение, обстоятельства - видятся с этой точки зрения как члены целостного ролевого категориального набора. Через этот набор высшая космическая инстанция - перводвигатель - осуществляет комическое определение: приводит все целевые причины в единство, а космос - в целостность» [14], - констатирует М. К. Петров, отмечая отождествление Аристотелем связи слов в предложении с бытийными категориями. (Заметим, кстати, что в приведенной выше цитате хорошо просматривается развитая номинативность греческого языка). Таким образом, возникший в античности европейский социокод выступает по отношению к природе не столько и как универсально-понятийный, сколько как универсально-интерпретативный , поскольку не предполагает рассмотрение ее как объективно мыслимого предмета, способного к самоопределению. Средневековье также не различает категории языка и категории мышления. Но именно христианство создает предпосылку, которая сработает при возникновении новоевропейской науки и заставит различить эти два вида взаимосвязных категорий, тем самым по максимуму реализовав категориальный потенциал и языка и мышления. Такой предпосылкой является, как нам кажется, христианское понимание истины. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанн 8:32), - говорит Евангелие. Сразу же возникает вопрос, о какой истине идет речь, и что отличает это понимание истины от понимания истины в дохристианскую эпоху? Отличает не в содержательном (здесь-то как раз все понятно), а в формальном плане. В дохристианский период у каждого цивилизованного народа мы находим свое, особенное понимание истины. Классическим является рассмотрение этого вопроса у П. А. Флоренского [15], который специально исследовал, какие стороны понятия «истина» имелись в виду разными языками и какие моменты данного понятия подчеркивались и закреплялись в этимологии этого слова у разных народов дохристианского периода. В частности, он выявляет особенности понимания истины, закрепленные в русском слове «истина», в древнегреческом — «’Aλήθεια» (алетейя), в латинском - «Veritas» (веритас) и в древнееврейском - «( »אםתэмет). И вот христианство предлагает отвергнуть прежнюю ложь и познать какую-то новую истину, которая сделает свободными. Кому предлагает? Всем народам. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Эллина, 56 ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Колоссянам 3:9-11). Особенным истинам различных народов христианство впервые противопоставляет истину, характеристикой которой является всеобщность, поскольку она адресуется не эллину, не иудею, не скифу, не варвару, а человеку вообще. Особенные реки-истины под названием Веритас, Эмет, Алетейя и т.д. впадают во всеобщий океан христианской истины. Но христианская истина обладает не только характером всеобщности, но и необходимости. Русское слово «необходимость» очень диалектично, поскольку включает в себя два момента. Первый момент - необходимость это то, без чего не обойтись человеку. Нельзя обойтись без хлеба. Но христианская истина не просто хлеб. Она говорит: «Я есмь хлеб жизни» (Иоанн 6: 48). Нельзя обойтись без воды. Но истина христианства не просто вода. Она обещает: «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» (Иоанн 4: 14). В целом, чтобы обрести жизнь вечную, нельзя обойтись без познания христианской истины. Второй момент - необходимость это то, что нельзя обойти, с чем нужно считаться, что постоянно присутствует в мире и властно заявит о своем присутствии, если с ним не посчитаться и не принять во внимание. И этот момент необходимости наличествует в христианской истине. Попробуйте обойти какую-нибудь заповедь христианства или не посчитаться с Законом Божьим, и эта истина властно скажет: «Мне отмщение и Аз воздам!». Причем всеобщность и необходимость христианской истины распространяется не только на человеческий мир. Перед лицом этой истины «и бесы веруют и трепещут» (Иакова 2: 19). Как уже было сказано, христианское средневековье не различает категории грамматики и логики, языка и мышления. Однако понимание всеобщности и необходимости истины позволяет христианству почувствовать недостроенность античностью европейского социокода, увидеть, что он «завис» в сфере языка, общения и не «цепляет» объективной, то есть всеобщей и необходимой истины, подменяя ее словесными интерпретациями. Причем это осознание очень четкое. Вот несколько примеров. Первый пример - оценка эллинской мудрости в «Деяниях апостолов» в эпизоде посещения апостолом Павлом Афин. Павла, «возмутившегося духом», при виде города полного «идолов», т.е. античной скульптуры, некоторые из эпикурейских и стоических философов привели в ареопаг, чтобы послушать новое учение, проповедуемое апостолом. «Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое» (Деян. 17:21), - сообщается в «Деяниях». Пообщавшись с этими любителями «говорить и слушать», Павел обнаруживает, что для них важна не истина, которую он пытается им сообщить, а сам процесс говорения и слушания, острота новизны, звучащая «эротика текста», как сказали бы постмодернисты. В «Первом послании к Тимофею» Павел дает описание и оценку интеллектуальной атмосферы греческого ареопага, с позиции открывшейся ему всеобщей и необходимой истины. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, - пишет он, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка» (1-е Тимофею, 6: 3-5) (выделено мною - Г. П.). По существу, Павел застает Афины в тот период, когда органическая жизнь полиса, развившая из себя «умение жить сообща», уже подорвана изнутри духом торгашества, а извне македонскими и римскими завоеваниями; когда то, что было самим содержанием жизни, отвердело и застыло в отшлифованных формах говорения и слушания, которые из средства превратились в самоцель. С точки зрения этих самодовлеющих форм, христианская истина и благочестие, проповедуемые Павлом, 57 действительно воспринимаются как еще один товар на рынке «словопрений», предлагаемый «для прибытка». Эту же «поврежденность ума», увязшего в «пустых спорах», отмечает и Григорий Палама, оценивая «внешнюю мудрость» «эллинской науки» в сопоставлении с всеобщей истиной Священного Писания. Мнение Паламы важно еще и тем, что оно высказано на исходе средневековья, когда первые деятели Ренессанса уже начинают листать страницы «книги природы» и возвращаться к античному наследию. Вот что пишет он одному из братии по поводу его спора с представителями «внешней мудрости». «Если даже ты пока не можешь им возразить, хоть знаешь, что они не нашли истину, расстраиваться не надо: ты убежден делом, во всем всегда будешь тверд и непоколебим, неся в себе прочное утверждение истины, а полагающиеся на словесные доказательства обязательно будут опровергнуты, пусть и не сейчас, от твоих доводов; ведь «всякое слово борется со словом», то есть, значит, и с ним борется другое слово, и невозможно изобрести слова, побеждающего окончательно и не знающего поражения, что последователи эллинов и те, кого они считают мудрецами, доказали, постоянно опровергая друг друга более сильными на взгляд словесными доказательствами и постоянно друг другом опровергаемые» [16]. Однако, такая оценка «эллинской науки» не мешает христианству использовать найденные и отшлифованные эллинами в процессе освоения «искусства жить сообща» категории языка и «дисциплинарность» греческой философии в качестве эффективного средства общения и сообщения каждому абсолютной истины христианства. «Умение жить сообща» оживает здесь в практике христианства говорить с каждым — эллином и иудеем, «подзаконным» и «чуждым закона», скифом и варваром - на понятном ему языке. Но цель этого «многоязычия» - любовь к истине, которая есть Бог. Поэтому, «если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая, или кимвал звучащий» (1-е Коринф. 13:1). Теперь самое время перейти к третьему этапу становления европейского социокода - возникновению новоевропейской науки, путь к которой М. К. Петров гипотетически связывает с дисциплинарностью, «которая впервые появилась у греков в форме философии, оторвалась от номотетической эмпирии, получив собственную опору в виде абсолютизированного текста Библии, и предстала в форме теологии, с тем, чтобы в XVI - XVII вв. вновь вернуться к возможной эмпирии планируемого эксперимента и предстать в форме опытной науки» [17]. В этом процессе возникновения опытной науки, в переходе от чтения текста Библии к чтению «книги природы» нас, как уже было сказано, интересует только вопрос «утилизации» второго момента категориального потенциала языка - категорий логики, мышления. Прежде всего, как оценивают теоретики опытного естествознания, в частности Ф. Бэкон, уже освоенную греками часть потенциала языка на предмет ее применимости в качестве метода научного познания. В оценке эллинской мудрости Бэкон практически повторяет то, что за триста лет до него сказал Григорий Палама. «Науки, которые у нас имеются, почти все имеют источником греков, - пишет Бэкон и продолжает далее...- Но мудрость греков была ораторская и расточалась в спорах, а этот род исканий в наибольшей степени противен истине. Поэтому название софистов, которое те, кто хотел считаться философами, пренебрежительно прилагали к древним риторам - Горгию, Протагору, Гиппию, Полу, подходит ко всему роду - к Платону, Аристотелю, Зенону, Эпикуру, Теофрасту и к их преемникам... Они низводили дело к спорам и строили и отстаивали некие школы и направления в философии» [18]. Понимание «ораторской» природы греческой мудрости позволяет Бэкону увидеть грамматическую сущность категорий античной философии. Они хорошо работают в сфере общения и понимания там, где «слово борется со словом», но они не могут быть применены к познанию предмета как объективно мыслимого, там, где вещь взаимодействует с вещью. Критике подвергается, прежде всего, Аристотель, «который 58 своей логикой испортил естественную философию, так как построил мир из категорий. Он всегда больше заботился о том, чтобы иметь на все ответ и словами высказать чтолибо положительное, чем о внутренней истине вещей. ... В физике же Аристотеля нет ничего другого, кроме звучания диалектических слов. В своей метафизике он это вновь повторил под более торжественным названием, как будто желая разбирать вещи, а не слова» [19] (выделено мною - Г. П.). Таковы лишь некоторые критические высказывания Бэкона, свидетельствующие о скептическом отношении его к категориальному потенциалу, «утилизированному» античностью. Не менее скептичен по этому вопросу Гоббс. «Наконец, - пишет он, - я должен сознаться, что еще не видел сколько-нибудь заметной пользы от применения этих категорий в философии. Я думаю, что Аристотель был охвачен желанием, опираясь на свой авторитет, установить классификацию слов только потому, что не добрался до самих вещей» [20]. Как и у Бэкона, здесь мы видим четкое противопоставление отношения слов в общении отношению «самих вещей», как предмета научного познания. В первом случае, это отношение слово - вещь - слово, при котором слова лишь «скользят» по поверхности вещей, не проникая в их «внутреннюю истину». Вещи здесь лишь повод для разговора и философской интерпретации. «Пусть не смутит кого-либо то, что в его (Аристотеля — Г. П.) книгах «О животных», «Проблемы» и других его трактатах часто встречается обращение к опыту. Ибо его решение принято заранее, и он не обратился к опыту, как должно, для установления своих мнений и аксиом; но, напротив, произвольно установив свои утверждения, он притягивает к своим мнениям искаженный опыт, как пленника» [21], - пишет Бэкон. По точному замечанию М. К. Петрова, в подобном отношении «...опыт если и упоминается, то всегда в комплексе «человек - вещи», но никогда не в автономном комплексе «вещи - вещи», характерном для опытной науки» [22]. Во втором случае, это отношение «вещь - слово - вещь». Слова здесь выступают средством познания взаимодействия «самих вещей» (Гоббс), «метками», которые закрепляют результаты опытного познания «внутренней истины вещей» (Бэкон). Исследования М. К. Петрова показывают, что «прорыв» Бэкона и, особенно Гоббса к «самим вещам» стал возможен во многом благодаря аналитическому строю новоанглийского языка, в категориальном потенциале которого, оказались схемы, способные опредметить взаимодействие вещей. Однако использование великими английскими философами-эмпириками грамматического категориального потенциала английского языка для формализации взаимодействия вещей с неизбежностью должно было повлечь за собою открытие и использование категориального потенциала мышления. Дело в том, что переход, от познания истины через чтение книги-Библии к познанию истины через опытное, эмпирическое прочтение «книги-природы» таил в себе одно обязательное для средневекового христианского сознания требование, без выполнения которого оно отказалось бы принять такой переход. Это требование состояло в том, что истина, которая «вычитывалась» из «книги природы», должна была быть такой же всеобщей и необходимой, какой была истина откровения, зафиксированная в книге-Библии, т.е. обладать теми же формальными признаками, какие были у христианской истины. В таком случае, для перехода к чтению «книги природы» нужен был, помимо всего прочего, один маленький «пустячок»: перевести евангельское положение «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» на язык сознания нового времени. Этим переводом осознанно (Спиноза) или менее осознанно как раз и занимается философия нового времени, делая основным предметом рассмотрения необходимость в природе и свободу автономной личности в обществе. На первый взгляд такой перевод осуществляется просто: познаете истину как необходимость, действующую в природе, и это познание сделает вас свободными. Но 59 как, познавая природу, добывать такую истину, которая обладала бы логическими параметрами всеобщности и необходимости, установка на которые прочно укоренена в религиозном сознании. Тогда-то и возникает знакомая всем противоположность рационализма и эмпиризма. С одной стороны, рационализм, пытаясь решить проблему всеобщности и необходимости научной истины и утвердить, соответственно, понимание свободы как познанной необходимости природы, создает теорию «врожденных идей». Но поскольку в качестве источника объективной всеобщности и необходимости истины здесь рассматривается Бог, то высшая санкция на чтение «книги природы» дается в книге Библии. И это несмотря на то, что существование самого Бога Декарт, скажем, выводит из акта самосознания. В результате научное познание, по крайней мере, его теоретические «этажи», не может развиваться на своем собственном основании. Не менее драматично выглядит ситуация на полюсе эмпиризма. Во-первых, открываемое благодаря аналитизму английского языка взаимодействие «самих вещей» носит всеобщий и необходимый характер, но средств схватывания этой всеобщности и необходимости у мышления нет. Аристотелевские категории, как мы видели в приведенном высказывании Гоббса, отвергнуты, и остается лишь эмпирически общее, добываемое посредством индукции и анализа. Во-вторых, мир, открываемый эмпиризмом, благодаря аналитизму английского языка, это «...мир исходной значимой глины, способной к самоопределению через слепое контактное взаимодействие» [23] отличающийся, по Петрову, от сотворенного по слову флексивного языка мира «скульптурных», завершенных форм, «распределенных по классам «частей речи» и «склоняемых» к единству внешней и разумной силой говорящего (творца)» [24]. Однако самоопределение «глины» через «слепое контактное взаимодействие» есть не что иное как самооформление, поскольку любое взаимодействие результативно и завершается изменением формы взаимодействующих моментов. Во всяком случае, момент «скульптурности», завершенности здесь обязательно сохраняется и с необходимостью проявляется. Просто «скульптором» выступает не внешняя и разумная сила творца, как это было у Аристотеля, а сама «глина». Но, борясь с целевыми и формальными причинами как рудиментами схоластизированного аристотелизма, эмпиризм утрачивает постепенно интерес к проблеме формы вообще, он равнодушен к исследованию объективных формообразовательных процессов. Даже Бэкон, с его богатейшими диалектическими интуициями, форму трактует механистически. И это понятно. Поскольку исходной предпосылкой здесь является номинализм и аналитичность, то мир дробится на бесконечное множество единичных вещей, за которыми только и признается реальность. Форматирование так понимаемой реальности исходит, прежде всего, от субъекта, а средства форматирования, поскольку категории отброшены, очень просты: сравнение, сочетание, разделение общих признаков единичных вещей. Такой взгляд на мир не предполагает идеи генезиса, процесса развития и усложнения его форм. Мир понимается как уже готовая механическая система, как совокупность тел, посредством толчка, через «слепое контактное взаимодействие» связанных между собой. Естественно, что растущее здание науки перерастает «духовные строительные леса» эмпиризма. И перерастает именно в аспекте проблемы формы. Особенно по мере того, как в поле зрения науки помимо механических «тел» начинают попадать «тела» органические, как раз и обладающие энтелехийностью, т.е. единством формальной, материальной, движущей и целевой причинности. Не случайно Лейбниц возвращается к аристотелевскому понятию энтелехии как активной самодвижущейся формы. Наконец, и это в-третьих, в силу указанных выше обстоятельств, к середине ХVIII в. аналитизм эмпиризма начинает подрывать сам себя: если в начале объектом анализа выступает причинность взаимодействия «самих вещей», то затем Юм начинает 60 анализировать причинность самой причинности. Это своеобразное «самопожирание» аналитизма должно было завершиться либо юмовским скептицизмом, либо возведением дополнительных звеньев «духовных лесов» науки, таких, которые позволили бы решить вышеуказанные проблемы, а именно: проблему обоснования (без ссылок на Бога и книгу-Библию) всеобщности и необходимости научной истины; проблему исследования содержательной формы, возникающей в результате взаимодействия вещей, а также средств схватывания и удержания в мысли процессов формообразования; наконец, проблему преодоления крайностей аналитизма и эмпиризма, ведущих к скептицизму. Тогда нам становится понятной работа, которую проделал Кант. Немецкий язык, на котором говорил и мыслил Кант, относится к флективным языкам, категориальный потенциал которых, как это хорошо показал М.К. Петров на примере древнегреческого языка, способен опредмечивать как раз результат взаимодействия вещей – изменения содержательной формы. Флективные языки, в которых флексия «может являться выражением нескольких категориальных форм» [25], заряжены на форму. Поэтому для Канта аристотелевские категории это не просто «звучание диалектических слов», как для Бэкона, а близкие, понятные и родные роды «сказывания» о сущем. Поскольку же его, в связи с вызревшим противоречием эмпиризма и рационализма, интересует вопрос о том, что придает некоторым из этих «сказываний» характер всеобщности и необходимости, то он и открывает более глубокое измерение сознания – категории мышления. Исследуя науки, достигшие в своем росте теоретических «этажей», Кант обнаруживает «утилизованные» в них категории мышления. В отличие от категорий языка, с которыми они взаимосвязаны как со своим инобытием, категории мышления позволяют достигать объективного, т.е. всеобщего и необходимого знания. Одновременно они выступают средством «схватывания» движения содержательной формы предмета. (При этом немецкая классика учитывает критику Бэконом и Гоббсом аристотелевских формальных и целевых причин. Гегель в своих «Логиках» постоянно подчеркивает, что нельзя спрашивать, каким образом форма присоединяется к сущности, поскольку форма это отрицательность самой сущности, способ ее самодвижения). Заметим, что Кант прекрасно понимает отличие своего исследования категорий мышления от исследования категорий языка, несмотря на то, что «оба изыскания действительно очень близки между собой» [26]. Поэтому, выявив специфику категорий мышления, Кант констатирует: «Я назвал их, естественно, старым именем категорий» [27], - имея при этом в виду их тесную связь с категориями языка, исследованными Аристотелем. «Суждения отличны от предложений; в последних содержатся такие определения субъектов, которые не стоят в отношении всеобщности к ним» [28],скажет потом Гегель, учитывая кантовское различение категорий языка и мышления. Открытие специфики категорий мышления позволило Канту противопоставить сползающей к скептицизму аналитичности английского эмпиризма идею трансцендентального синтеза. Трансцендентального, поскольку Кант исследует категории как «условия мыслимости» любого предмета в его универсальных логических параметраз; как всеобщие временные «технологические» схемы производства и воспроизводства сознанием предметности в идеальной форме; наконец, как «понятие о синтезе созерцаний» [29]. Синтеза, не только потому, что исследуется природа априорных синтетических суждений, но и потому, что замыкание Кантом категорий мышления на предметность позволило ему перейти от аристотелевского «конгломерата», «агрегата» родов «сказывания» к системе категорий, выражающих живое системное единство предмета. Система категорий делает «систематическим само изучение каждого предмета чистого разума» [30]. 61 Вообще, доминирование анализа над синтезом есть тупик, деструкция, распад, Смерть, в этом смысле, является наилучшим, непревзойденным аналитиком и номиналистом. Жизнь, в любых ее формах, является победой синтеза над анализом, подчинением анализа синтезу. Конечно, мы живем во времена бесконечного числа аналитиков, аналитических центров, бюро, ассоциаций, институтов, а стало быть, «деструкций», «деконструкций» и прочих продуктов аналитического распада и полураспада. Включите ваш телевизор и, наверняка, на каком-нибудь канале вы увидите аналитика. От прочих смертных его отличают особо честные глаза и виртуозное владение категориями языка, позволяющее включать в массовом сознании древнейший механизм суггестии. Реальные плоды деятельности этих аналитиков очевидны для каждого, владеющего категориями мышления и потому способного к контрсуггестии. Но Кант жил в другие времена: в эпоху торжества жизни, надежд, опъянения свободой и прогрессом. И эта ориентация классиков немецкой философии на синтез как выражение жизни позволяет сегодня увидеть сходство между разрабатываемым ими категориальным синтезом научного познания и жизнью как биологическим синтезом. Прежде всего, уже Кант обнаруживает комплементарность категорий мышления, обеспечивающую возможность познавательного синтеза. Принцип комплементарности, т.е. взаимодополнительности, лежит и в основе биологического синтеза. Но здесь, согласно общепризнанной модели ДНК Уотсона - Крика, синтез, воспроизводство любой формы жизни обеспечивается наличием всего лишь двух комплементарных пар нуклеотидов: аденин (А) – тимин (Т) и гуанин (Г) – цитозин (Ц). Обе цепи спирали ДНК , соединенные водородными связями, как бы дополняют друг друга: всегда напротив А должно быть Т другой цепи, а напротив Т – А; точно также Г обязательно «требует» Ц, а Ц всегда Г. Такая комплементарность как раз и обеспечивает возможность репликации, аутоситеза жизни путем постоянного удвоения молекул ДНК. Но подобная «репликация» происходит и в процессе синтеза научного познания благодаря комплементарности категориальной структуры нашего сознания. Скажем, сталкиваясь с явлением, формой или действием предмета, наше сознание сейчас же «откликается» поиском и воспроизведением сущности, содержания или причины, и наоборот, сущность, содержание или причина «требуют» своей противоположности. Однако, в случае с синтезом на уровне жизни результатом репликации всегда является воспроизведение той или иной конечной формы жизни. В научном же познании совершается бесконечный процесс транскрипции и репликации, самоудвоения вселенной в идеальной форме. Поскольку, по справедливому замечанию Гегеля, «в себе и для себя сущий мир есть являющийся мир наизнанку» [31] то посредством категорий происходит как бы выворачивание вывернутого наизнанку мира. Поэтому спираль познания, в отличие от конечной и нерасширяющейся спирали ДНК, бесконечна и расширяется. Комплиментарных пар категорий, обеспечивающих эту бесконечную транскрипцию и репликацию вселенной в синтезе познания, гораздо больше, чем на уровне синтеза жизни. Кроме того, поскольку посредством сознания осуществляется не просто идеальная репликация мира, но и его практическое преобразование, то такое челночное движение между теоретическим и практическим отношением постоянно изменяет, развивает и делает историческими сами категории мышления, как впрочем, и любые другие технологии производства и воспроизводства человеческой жизни. Но синтез на биологическом уровне, кроме принципа комплиментарности, предполагает еще и так называемую триплетность универсального кода ДНК, т.е. различные варианты сочетания трех нуклеотидов, кодирующих синтез 20 аминокислот, из которых строятся все виды белков клеток. Нечто похожее на триплетность обнаруживает и Кант в системе категорий. Анализируя свою таблицу 62 категорий, «отвечающих» за синтез всеобщего и необходимого знания, он открывает, «что третья категория вытекает из первой и второй, связанных в одно понятие» [32]. Кант лишь намечает вышеозначенные моменты познавательного синтеза, рассматривая прежде всего условия возможности априорных синтетических суждений. Исследовать эти моменты будут Фихте, Шеллинг и особенно Гегель, который развивает кантовскую комплиментарность категорий до диалектики их противоположности, обеспечивающей самонаращивание, синтез понятийной ткани науки. Причем каждый новый «стежок» синтеза обеспечивается, как и при синтезе живой ткани, своеобразным «триплетным» кодом – знаменитой гегелевской триадой, «снимающей» противоположность анализа и синтеза. В триадичном коде (если отбросить тот смысл, который придала гегелевской триаде «марксистская» схоластика) выражается ритм пульсации, жизненности, самодвижения, самополагания Бога, мира и человеческого сознания… Таким образом, немецкая классическая философия, перехватывая «эстафету» у великих английских эмпириков, достраивает философскую часть «строительных лесов» новоевропейской науки, обосновывая возможность «вычитывать» из «книги природы» живую истину с такими же параметрами всеобщности и необходимости, как и из книги Библии. Кантовское заявление о том, что ему «пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере» [33], учитывая показанную Гегелем диалектичность границы, легко читалось и наоборот - ограничить веру, чтобы освободить место знанию. Тем самым, протестант Кант выдает бессрочный философский «абонемент» на чтение «книги-природы», не зависящее от книги Библии. Что касается Гегеля, то в своей «Феноменологии духа» он, сам того не подозревая, открывает замечательную вещь, касающуюся происхождения новоевропейской науки и, тем самым, вступающую в перекличку с идеями М.К. Петрова. Всем известна очень изящная и глубокая энгельсовская характеристика гегелевской «Феноменологии» как «параллели палеонтологии и эмбриологии духа». Однако, эта характеристика требует одного уточнения. «Феноменология духа» это «параллель палеонтологии и эмбриологии» западноевропейского духа. Если комунибудь пришлось бы писать феноменологию китайского или индийского духа, то она лишь в отдельных пунктах (в каких – надо еще выяснять) совпала бы с гегелевской «Феноменологией». Но тогда весь пафос синтеза «научного познания», «научной системы» и т.п., который возникает с первых же страниц гегелевского труда, предстает в совершенно другом свете. Сам Гегель считает, что ему удалось показать «научное познание» как необходимый и высший продукт поступательного развития мирового духа вообще. На самом же деле, он рассмотрел «научное познание» в качестве высшего «цвета» западноевропейского духа. Наука предстала у Гегеля, как и у Петрова, в качестве феномена развития именно западноевропейской культуры. Поэтому, когда Гегель говорит о новейшей научной точке зрения как о «новорожденном младенце», которому еще предстоит развиться, поскольку наука, «венец некоторого мира духов, не завершается в своем начале»(6, с. 6), то «колыбелью» этого «младенца» является не «некоторый мир духов» вообще, а прекрасно выписанная в «Феноменологии» духовная история западной Европы. Именно в свете этой европейской истории «начало нового духа есть продукт далеко простирающегося переворота многообразных форм образования, оно достигается чрезвычайно извилистым путем и ценой столь же многократного напряжения и усилия» [34]. Эти «напряжения и усилия» начинаются пиратскими «разборками» в бассейне Эгейского моря, создающими, как показал Петров, ситуацию нестабильности, потребовавшую от греков овладения «умением жить сообща», а завершаются эпохой европейского Просвещения, буржуазными революциями и рождением научного познания. С великими мыслителями так бывает: доказывает одно, а реально получается другое, не менее значительное и замечательное. 63 Вот и Л.С. Выготский – и это еще одна перекличка с проблематикой А.Ф. Лосева и М.К. Петрова – исследуя проблему генезиса речевого мышления ребенка и образование у него в итоге научных понятий, исходит из того, что для него объектом экспериментального и теоретического исследования являются закономерности развития психики ребенка вообще. Реально же изучается психическое развитие и обучение европейского ребенка. Но как раз это обстоятельство позволяет увидеть, что выявленные Выготским основные этапы развития взаимодействия мышления и речи европейского ребенка в онтогенезе сжато воспроизводят важнейшие исторические моменты становления европейского социокода в плане использования категориального потенциала языка и мышления. В самом деле, если отбросить первичную «примитивную, натуральную стадию» младенческого периода, то первой стадией становления речевого мышления ребенка является внешняя речь, переходящая, по мере нарастания трудностей и проблем в общении с другими, в речь эгоцентрическую. Эта стадия как бы сжато воспроизводит античный период становления европейской культуры. Конечно же, все древние народы пользуются внешней речью. Но для греческого народа, живущего в ситуации нестабильности и вынужденного овладевать «умением жить сообща», внешняя и эгоцентрическая речь имеет особое значение в качестве важнейшего средства решения социо-культурных противоречий, а также кодирования и трансляции социальности. Греки потому и используют по максимуму категориальный потенциал языка, что воспринимается другими народами и культурами как ужасающая «болтливость» греков. Но вот какую закономерность, имеющую отношение не только к детям, но и, как нам кажется, к древним грекам, экспериментально открывает Выготский. Он показывает, «что овладение грамматическими структурами и формами идет у ребенка впереди овладения логическими структурами и операциями, соответствующими данным формам. Ребенок овладевает придаточным предложением, такими формами речи, как «потому что», «если бы», «когда», «напротив» или «но», задолго до того, как он овладевает причинными, временными, условными отношениями, противопоставлениями и т.д. Ребенок овладевает синтаксисом речи раньше, чем он овладевает синтаксисом мысли» (выделено мною – Г.П.) [35]. Древние греки, как «нормальные дети» (Маркс), также, прежде всего, овладели категориями языка, что хорошо выразил в исследовании категорий самый умный греческий «ребенок» Аристотель. Категории же мышления на этой стадии функционируют погруженные в то, что Выготский называет «практическим интеллектом». Второй важнейшей стадией формирования речевого, понятийного мышления ребенка является, по Выготскому, переход от эгоцентрической к внутренней речи. Именно внутренняя речь опосредует процесс образования понятий, поскольку «центральным для этого процесса, как показывает исследование, является функциональное употребление знака или слова в качестве средства, с помощью которого подросток подчиняет своей власти собственные психические операции, с помощью которого он овладевает течением собственных психических процессов и направляет их деятельность на разрешение стоящей перед ним задачи» [36]. Эта стадия внутренней речи сжато воспроизводит период европейского средневековья – «культуры безмолвствующего большинства», - по определению А.Я. Гуревича. Опять таки, это вовсе не означает, что внутренняя речь, как предпосылка образования понятийного мышления, присуща только европейскому средневековью. Просто христианское средневековье, с его ориентацией на «внутреннего человека» (Еф, 3:16) придает внутренней речи такой же всеобщий характер, какой античность придала внешней и эгоцентрической речи. Дисциплинарность христианской теологии здесь дополняется, или имеет свою продолженность, во внутренней психологической «дисциплинарности», проявляющейся в различных формах самоисповедальности, 64 самоотчета, самоконтроля, «умной молитвы» и т.д.. Внутренняя речь выступает для жаждущего спасения души «безмолствующего большинства» в качестве универсального средства овладения собственными психическими процессами, собственными поступками и помыслами. Такая, развиваемая посредством внутренней речи, способность к самоисповедальности, самоотчету, самоконтролю, анатомированию и обзору внутреннего опыта души на излете средневековья трансформируется и переключится на анатомирование, описание и обзор внешнего эмпирического опыта, «эмпирии планируемого эксперимента» зарождающейся европейской науки. В этом смысле, между августиновским обзором и анатомированием внутренних опытов души в «Исповеди» и обозрением Бэконом внешних опытов посредством таблиц отрицательных, положительных и т.д. «инстанций» существует историческая и психологическая связь. Наконец, третья, высшая стадия развития речевого мышления ребенка – мышление посредством научных понятий – соответствует как раз возникновению новоевропейской науки. Прежде всего, Выготский показывает генетическое, структурное и функциональное отличие научных понятий от обыденных, «житейских» понятий, несмотря на их взаимосвязь. Особенно важно отметь две отличительный черты научных понятий. Во-первых, в отличие от «житейских» понятий, возникающих непроизвольно, стихийно, на основе индивидуального опыта, научные понятия возникают через обучение в школе, сознательно, произвольно. Это говорит о том, что возникший институт науки воспроизводит себя через систему образования на уровне единичного сознания. Во-вторых, что особенно важно, научное понятие, в отличие от обыденного, вводит предмет, обозначаемый им, в систему логических категорий и противопоставлений. «Вместе с системой возникают отношения понятий к понятиям, опосредованное отношение понятий к объектам через их отношение к другим понятиям, возникает вообще иное отношение понятий к объекту; в понятиях становятся возможными надэмпирические связи» [37]. Выготский, как и Кант, понимает, что система категорий и понятий мышления, возникающая в результате замыкания мышления на предмет, качественно отличается от «агрегата», «конгломерата» категорий языка и, возникающих при их посредстве, «житейских» понятий, которые Гегель называл общими представлениями. «Система, таким образом, является тем кардинальным пунктом, вокруг которого, как вокруг центра, вращается вся история понятий в школьном возрасте. Она есть то новое, что возникает в мышлении ребенка вместе с развитием его научных понятий и что поднимает его умственное развитие на высшую ступень» [38]. На этой ступени ребенок использует и категориальный потенциал языка и категориальный потенциал мышления. Он овладевает и «синтаксисом речи» и «синтаксисом мысли», завершая процесс овладения «умной материей» языка. Если же нам теперь, подытоживая все сказанное, вернуться к М.К. Петрову и А.Ф. Лосеву, то необходимо сказать, что, благодаря их исследованиям, «силовое поле» нашего сознания предстало как «разность потенциалов» категорий языка и категорий мышления. Напряженность этого «поля», в котором всегда совершается работа человеческой мысли, вектор направленности сил этой мысли исторически обусловлены. М.К. Петров исследовал пожалуй самое трудное и загадочное – процесс «утилизации» категориального потенциала языка в строительстве европейского социокода. Процесс это с необходимостью должен был «потянуть» за собой утилизацию категориального потенциала мышления в новоевропейской науке, тем самым завершая становление европейского универсально-понятийного типа кодирования и трансляции культуры. 65 Удивительно то, что Гегель в своей «Феноменологии духа», Выготский в работе «Мышление и речь» и М.К. Петров в своих исследованиях, независимо друг от друга, с различных сторон описали это становление. Гегель – на уровне всеобщего процесса развития формообразований европейского духа; Л.С. Выготский – на уровне исследования единичного процесса становления речевого мышления европейского ребенка, сжато «пробегающего» в движении к научным понятиям основные исторические моменты развития мышления и языка; М.К. Петров – на уровне скрупулезного изучения культурно-исторических особенностей возникновения и развития европейского социокода. На специфику категорий мышления, на необходимость понимания сознания как единораздельного целого категорий языка и мышления обращает наше внимание А.Ф. Лосев, опираясь на опыт немецкой классики и не собственные исследования исторического развития языка. Без учета различий категорий языка и мышления, а также диалектики их взаимодействия, гипотеза Сепира-Уорфа кажется неопровержимой, а постмодернизм может претендовать на то, чтобы считаться последним словом философии в прямом и переносном смысле. И последнее. Когда-то, «на заре цивилизации», выброшенные Посейдоном после кровавых пиратских «разборок» на берег Эгейского моря – этого теплого «лягушатника» европейского детства – греки впервые стали осваивать «умение жить сообща», понимая друг друга посредством «крылатого слова». В результате, из «икринок» греческих полисов «проклюнулась» будущая европейская культура. На фоне «разборок» ушедшего ХХ века пираты Эгейского моря кажутся нашкодившими гимназистами с перочинными ножиками. Но выброшенное «на берег» XXI века человечество должно пройти путь древних греков – овладеть умением «жить сообща» в сегодняшнем глобальном мире. Причем, в отличие от греков, для нас это «умение» предстает в двух аспектах: «жить сообща» друг с другом и «жить сообща» с природой. Для греков второй аспект был неактуален. Жить сообща с природой для них было естественным состоянием. Поэтому и актуализировали они прежде всего категориальный потенциал языка. Современное человечество поставлено перед необходимостью актуализировать и максимально «утилизовать» все категориальные возможности сознания. Две тенденции борются и стремятся определить сегодня будущий облик мира: «греческая» и «персидская». Победит «греческая», - и мир будет единством многообразия форм культуры, каким была когда-то Великая Греция, объединявшая множество свободных, самобытных и самостоятельных полисов. Победит «персидская», - и возникнет «мировая империя» (Ясперс), «форматирующая» мир из единого, имперского аналитического центра по сырьевым, энергетическим и т.п. «сатрапиям». Возникнет мир, в котором ценность человека будет принесена в жертву «общечеловеческим ценностям», мир унифицированных «общечеловеков». Это будет означать, что человечество растранжирило свой самый главный ресурс - «культурноисторическое многообразие. Хотелось бы, чтобы накопленного во всемирной истории интеллектуального и морального потенциала хватило для победы «греческого» начала, чей свободный дух неустанного поиска и детского удивления многообразию мира так хорошо понимали и стремились донести до будущих поколений А.Ф. Лосев и М.К. Петров. Список литературы 1. Петров М.К. Язык и категориальные структуры // Науковедение и история культуры. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1973. - С.66. 2. Там же. 3. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - C.367. 4. Там же. 5. Там же. - С.279. 66 6. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - С.336. 7. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М.: Наука, 1991. - С.22. 8. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С.359. 9. Там же. - С.358. 10. Там же. - С.355. 11. Бенвенист Э. Категории мысли и категории языка // Бенвенист Э. Общая лингвистика. - М.: Прогресс, 1974. - С.111. 12. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С.353. 13. Петров М.К. Язык и категориальные структуры// Науковедение и история культуры. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1973. - С.75. 14. Там же. - С.77. 15. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Том I (I). - М.: Правда, 1990. - С.15-22. 16. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолствующих. - М.: Канон, 1995. - С.7-8. 17. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М.: Наука, 1991. - С.238-239. 18. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2. - М., Мысль, 1970. - С.203. 19. Там же. - С.201. 20. Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т.1. - М.: Мысль, 1989. - С.92. 21. Бэкон Ф. Сочинения в двух томах, Т.2. - М., Мысль, 1972. - С.29-30. 22. Петров М.К. Язык и категориальные структуры // Науковедение и история культуры. - Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1973. - С.80. 23. Там же. - С.81. 24. Там же. 25. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. - М.: Просвещение, 1985. - С.372. 26. Кант И. Соч. в 6-ти т. Т.4. Ч.I. - М., Мысль, 1965. - С.143. 27. Там же. - С.144. 28. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. - М., Мысль, 1974. - С.352. 29. Кант И. Соч. в 6-ти т. Т.3. - М., Мысль, 1965. - С.355. 30. Кант И. Соч. в 6-ти т. Т.4. Ч.I. - М., Мысль, 1965. - С.145. 31. Гегель. Наука логики. В 3-х т. Т.2. - М.: Мысль, 1971. -С 146. 32. Кант Иммануил. Соч. в 6-ти т. Т.4. Ч.I. - М.: Мысль, 1965. - С.146. 33. Кант . Соч. в 6-ти т. Т.3. - М.: Мысль, 1965. С.95. 34. Гегель. Сочинения. Т. IV. Феноменология духа. - М., 1959. - С.6. 35. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений в 6-ти т. Т.2. - М.: Педагогика, 1982. - С.109. 36. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений в 6-ти т. Т.2. - М.: Педагогика, 1982. - С.132. 37. Там же. - С.284. 38. Там же. - С.287. THE PROBLEM OF THE GENESIS OF SCIENCE AS A PHENOMENON OF THE EUROPEAN CULTURE G.F.Peretyatkin1), 1) Rostov-On-Don State University, B.Sadovaya str., 105, Rostov-on-don, 344007; e-mail: [email protected] The genuine conceptions of the genesis of science are regarded in the article. The author deals with the conceptions of two representatives of Russian classical philosophy A.Losev and M.Petrov. Key words: classical science, social functions of science, language, cathegorial sctructure. 67 УДК 001.1 СИСТЕМНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ Н.В. Поддубный1), 1) Белгородский государственный университет, 308007, г. Белгород, ул. Студенческая 14. В статье с позиций диалектики и системно-синергетической методологии рассматривается генезис классической и неклассической науки. Рассмотрена первая стадия формирования ядра научных систем, предшествующая стадиям развития, целостности и зрелости. Ключевые слова: самоорганизующаяся система, ядерно-сферический подход, классическая и неклассическая наука. Возникновение и дифференциация классической науки Мы намерены рассмотреть лишь один аспект науки, а именно, ее онтологический статус как самоорганизующиеся системы. Не все ученые разделяют идею о науке как самоорганизующейся системе. Однако, мы, как и многие другие (Дж. Агасси, П.В. Алексеев, В.А. Бажанов, В.С. Библер, Г.Н. Волков, Б.С. Грязнов, Б.М. Кедров, Е.Н. Князева, В.П. Кохановский, А.С. Кравец, W.Krohn, G.Kuppers, Л.Ф. Кузнецова, И. Лакатос, Н.Ф. Овчинников, Б.И. Пружинин, А.И.Ракитов, Е.Я. Режабек, Г.И. Рузавин, В.С. Степин, Ст. Тулмин и др.), под наукой понимаем сложную функционирующую и развивающуюся систему знаний, результатом деятельности которой являются новые знания. Мы почти не будем касаться роли науки в развитии общества как более крупной системы, элементом которой она является, несмотря на то, что этот аспект является одним из важных в самодвижении самой науки. Однако им мы вынуждены пренебречь, чтобы более выпукло отразить именно онтологический статус науки как самоорганизующейся системы (далее везде – СС). Нас в большей мере будет интересовать процесс внутреннего самодвижения науки как системы знаний, стремящейся к максимальной целостности, устойчивости. Наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть основные закономерности в организации научного знания и его развития и показать, что они, во-первых, являются отражением общесистемных закономерностей, свойственных любым СС, и, во-вторых, с неизбежностью приводят к возникновению синергетики как второй ветви методологии познания, т.е. ветви комплементарной диалектике, философским принципам. Наука представляет собой сложную функционирующую и развивающуюся систему знаний, результатом деятельности которой являются новые знания или, по выражению А.И. Ракитова, наука – это «машина по выработке новых знаний» [1]. Наука, как и любая СС, состоит из отдельных элементов, которые организованы определенным образом, т.е. эти элементы дифференцированы, интегрированы и иерархизированы. Элементами всей научной системы являются отдельные, частные науки. Основой их организации служит СФ. «Однако наука не просто совокупность отдельных дисциплин, – замечает Г.Н. Волков, – она нечто большее, чем их комплекс, ибо представляет собой то целостное образование, которое не сводится к сумме частей и которое важно постигнуть прежде всего. Для этого необходимо понять развитие частей, отдельных дисциплин, исходя из закономерностей развития целого, а не наоборот. Лишь такой подход позволит... выявить общую логику развития науки, ее историческую периодизацию, ее структуру, принципы взаимодействия с другими социальными институтами» [2]. С этих системных позиций мы и рассмотрим основные закономерности и механизмы ее развития. 68 Наука является ядерным элементом в системе общества и причиной ее возникновения, как и любого другого элемента, является стремление общества как целостной системы к своей устойчивости. Как метко замечал [3] М.К. Петров, наука способствует стабилизации общественной системы через генерирование нестабильности во все элементы социальной структуры. Поэтому наука родилась из трудовой деятельности людей, при отделении умственных операций от физических. Перенесение реальных действий в умственный план позволяет меньше совершать ошибок, так как становится возможным с большой скоростью многократно перестраивать план практических действий и контролировать его осуществление. Кроме того, сами умственные операции гораздо экономичнее физических, поэтому и в онтогенезе человека происходит сворачивание внешних физических действий и переход их в умственный план, т.е. имеет место интериоризация внешней деятельности. Наука как относительно самостоятельная подструктура общества зародилась в древней Греции в форме единого, синкретического «протозна-ния» в 6-4-х веках до нашей эры. «Первоначально научное знание, – пишет Б.М. Кедров, – зародилось в форме единой, нерасчлененной, недифференцированной науки под эгидой философии. Это был абстрактный, натурфилософский взгляд на мир, не опирающийся на знание законов каких-либо конкретных явлений природы и общества. Гераклитовское положение “все течет, все изменяется” хорошо передает этот период» [4]. Это этап неразвитого целого, характерный для начала зарождения любой системы. В нем будущая структура организации системы только намечается, существует только потенциально и дифференциация, и интеграция элементов. Научные знания о мире носят абстрактно-созерцатель-ный характер, сам человек и природа в античной науке рассматриваются как единое живое целое, подчиняющееся одним законам. Как считает Г.Н. Волков, основной целью научной деятельности в древнем обществе была выработка общего представления о мире и месте в нем человека. Но не только форма возникновения научной системы совпадает с началом любой СС, но идентичными являются и сами условия зарождения. Процесс возникновения любой СС, как уже отмечалось, имеет два этапа: скрытый, подготовительный, постепенный, когда элементы будущей системы вступают в неустойчивые взаимодействия и этап скачка, когда происходит “связывание”, сцепление этих элементов в прочную, целостную систему. Условия, способствующие образованию системы, подразделяются, как было отмечено ранее, на внешние и внутренние. К внешним условиям относятся относительное постоянство внешней среды, постоянный приток энергии и информации и условия, способствующие концентрации элементов в определенном месте. Знания, как отдельные элементы научной системы, рождались из практической деятельности древних людей и были сначала отрывочными и разрозненными, а поэтому и не могли образовывать целостную систему. Это были простейшие эмпирические знания в области химии, физики, биологии, астрономии, математики, вплетенные в мистику, магию и миф. Они еще не были интегрированы в какое бы ни было подобие теории. Но постепенно эти знания вычленялись из плена иррациональных домыслов, аккумулировались опытом всех поколений племени. Первоначально все племя было носителем знания, но по мере того, «как количество знаний росло, понадобились специальные люди, чтобы хранить их и совершенствовать. Появляются старейшины (ядро племени – Н.П.), а затем жрецы (вторая нить в ядре – Н.П.), которые олицетворяют собой мудрость племени» [5]. Но настоящее обособление умственного труда от физического началось с возникновением социального расслоения общества. Только с достижением высокого уровня развития материального производства, с появлением излишек материальных благ, общество могло позволить небольшой группе людей заниматься умственным 69 трудом, добывая научные знания. Это был этап первичной дифференциации социальной системы. Так складывались внешние условия возникновения научной системы – постоянная социальная среда - общественная система, постоянный приток новой информации, знаний и их концентрация в обществе и, наконец, постоянно возрастающая потребность в знаниях. Именно в Греции эти условия были наиболее благоприятны и поэтому зарождение науки относится к этой стране. Г.Н. Волков отмечает, что греки были тем народом, который сумел принять эстафету рационального познания от восточных культур, переработать их наследие в удивительно жизнеспособную и динамическую форму – в науку в собственном смысле слова [6]. Этому, по мнению Г.Н. Волкова, способствовали социально-экономические особенности жизни городов-полисов древней Греции. Во-первых, они возникли и развились как крупные торговоремесленные центры, посредники культурных и экономических отношений крупных империй, в результате чего здесь сконцентрировалось духовное достояние почти всего цивилизованного человечества. Это условие концентрации элементов научной системы. Во-вторых, торгово-ремесленный способ жизнедеятельности античных полисов стимулировал дух обновления, инициативы, соперничества, что способствовало и обмену мыслей. В-третьих, организация политической жизни здесь не подавляла личность свободного гражданина, а давала возможность многостороннего проявления себя. В-четвертых, в античных полисах не было касты жрецов, которая обладала монопольным правом на научные знания. Занятия философией, математикой, физикой, медициной имели светский характер и преследовали цель духовного совершенствования свободного гражданина. Здесь впервые наука отделилась от религии. К внутренним условиям образования СС, напомним, относятся: тождественность элементов по существу и их отличие по второстепенным признакам, что вместе делает их взаимодополняемыми и позволяет объединиться в систему. К внутренним условиям относится и стремление элементов к объединению для приобретения большей устойчивости, т.е. действие СФ. Слабая расчлененность первоначальных знаний являлась характерной особенностью, поэтому принципиальная тождественность их очевида. Первые греческие философы были носителями всей совокупности знаний и мир воспринимали как нечто целостное, гармоничное, совершенно организованное, в основании которого лежит нечто единое – “первоначало” – атом, логос, эйдос. Они стремились обобщить все знания в стройной теоретической системе на основе логикоматематических доказательств, построить целостную теоретическую систему на основе единого, простого основания. Как отмечает Г.Н. Волков, абстрактно-теоретическое направление в развитии научных знаний было необходимым процессом углубления мышления в самое себя, чтобы глубже познать закономерности самой действительности. Хотя наука и является элементом социальной системы и по своей природе надиндивидуальна, однако обобщению знаний, приведению их в целостное единство способствует и тот факт, что носителем этих знаний является отдельный человек, мозг которого является СС, стремящейся к упорядочиванию поступающей информации. Иначе – внутренние условия образования науки как системы определяются и изначальной, природной системностью человеческого мышления. Таким образом, мы видим, что образованию научной системы способствовали как внешние, так и внутренние условия, а само появление науки характеризовалось, вопервых, вычленением ее в особую, самостоятельную сферу духовной деятельности и, во-вторых, добытые из опыта зачатки математических и других рациональнопрактических знаний были интегрированы в теорию, выражающуюся в философских умозаключениях и “чистых” математических построениях. Мы уже неоднократно отмечали, что СФ науки, как и любой СС является стремление системы к максимальной устойчивости, что возможно только при 70 максимальной упорядоченности всего знания. Проявляется это в стремлении найти единый закон, упорядовачивающий всю сумму знаний, закон, из которого можно вывести или, наоборот, к которому можно свести все знание. Это “голубая” мечта всех ученых во все времена и в этом суть монистического подхода отраженного в философском принципе единства в многообразии. А.И. Ракитов подчеркивает, что системообразующий принцип науки требует построения знаний в систему, сконцентрированную вокруг соответствующих предметных областей [7]. По существу, цель познания сводится к отысканию общего в единичном, конкретном. А.Н. Аверьянов пишет: «Если ретроспективно взглянуть на развитие знания в целом и философии в частности, то четко прослеживается стремление человека овладеть наиболее общими, универсальными законами мироздания, отыскать окончательную истину, найти ключ ко всем мировым загадкам. Фактически все философские системы представляют собой попытки построить единую картину мира, выявить некий общий закон его существования. И сама философия как наука возникла в результате стремления осмыслить единство мира и его движение» [8]. Т.Г. Лешкевич также подчеркивает, что именно поиски принципов гармонизации универсума выступили ведущей чертой философских систем, начиная от досократиков и кончая Г. Хакеном и выделяет пять таких направлений: теологическое, натурфилософское, математическое, психологическое и этико-культурологическое [9]. В идеале познание человека стремится найти простые, элементарные (при данных условиях и для данного уровня знаний) формы внешнего мира (природы), с помощью которых можно объяснить (понять) остальные явления природы, отмечает и Б.М. Кедров [10]. Об этом же пишет и К. Поппер: «Когда нашей целью является знание, простые высказывания следует ценить выше менее простых, потому что они сообщают нам больше, потому что больше их эмпирическое содержание и потому что они лучше проверяемы» [11]. Н.Ф. Овчинников прямо связывает научность знания с существованием в нем системообразующего принципа, который организует всю имеющуюся сумму знаний в самоорганизующуюся систему и считает поиски единого принципа научного знания актуальной задачей в развитии современного этапа человеческого мышления [12]. Этот принцип, по мнению Н.Ф. Овчинникова, должен обладать следующими особенностями: отвечать содержанию научного знания, т.е. отображать общие черты действительности; служить основой для развертывания научной теории как некоторой совокупности законов и само существование законов должно получить объяснение в этом принципе; служить принципом, основой внутреннего развития научного знания [13]. Для нас важна и та мысль Н.Ф. Овчинникова, что этот принцип может иметь различные формы в различных областях научного знания. В нашем исследовании мы рассматриваем онтологический аспект системообразующего фактора (далее – СФ), поэтому он выступает в различных формах в виде ядра системы. Что же это за принцип организации научного знания? Н.Ф. Овчинников отвечает на этот вопрос следующим образом: «Поиски этого принципа ведут к идее, связанной с представлением о природе вещей. Фундаментальной идеей, позволяющей проследить превращение знания в науку, является... идея сохранения. Эта идея сохранения, или, иначе, инвариантности, просвечивает ... и в предмете, и в методе науки. В той мере, в какой эта идея принимает конкретные и многоразличные формы, в той мере совершаются конкретизация и развитие научного знания, открытие различных законов мира. Задача философского анализа принципов сохранения состоит в том, чтобы проследить истоки этих принципов и за бесчисленным разнообразием форм усмотреть действие идеи сохранения как фундаментальной идеи науки о природе» [14]. В.С. Готт и Ф.М. Землянский в качестве системообразующего принципа, лежащего в основе концептуального аппарата общенаучных методов выделяют фундаментальное понятие [15]. В.А. Бажанов не использует специального термина 71 системообразующий фактор при рассмотрении науки как самоорганизующейся системы, однако отмечает, что наука реагирует на изменения ее внутреннего состояния таким образом, чтобы поддержать и развить оптимальный режим своего функционирования [16], что вполне соответствует нашему представлению о СФ. В.С. Степин употребляет понятие СФ по отношению к дисциплинарному знанию, он пишет: «Основания науки выступают системообразующим фактором научной дисциплины» [17]. Итак, структурной организацией, формой СФ в науке является идея, закон, принцип, вбирающий в себя всю сумму знаний и составляющий ядро научной системы, теории. Идея, выраженная в форме основного, исходного принципа, закона играет в теории роль объединяющего начала, служит основой составляющих теоретическую систему понятий и категорий. Эту функцию идея может выполнять, так как в ней отражена субстанциональная основа диалектических противоположностей, антиномий предмета, его субстанциональное отношение. «Благодаря исходному принципу теории, – пишут Ф. Кумпф и З. Оруджев, – выражающему субстанциональное свойство предмета, удается построить единую теоретическую систему понятий и законов... Причем исходный принцип является всегда принципом сохранения основного свойства. Так, принцип инерции выражает сохранение состояния покоя или движения тела, принцип квантования – нерушимость величины дискретного действия h, исходный принцип генетики – сохранение и передачу носителей наследственных признакой (генов), закон стоимости – сохранение количества стоимости в акте обмена и т.д. (выделено мной – Н.П.)» [18]. Очень характерно, что исходные принципы научной теории, системы, выражающие их СФ, являются по своей природе принципами сохранения. Физический смысл идеи, как формы выражения, СФ такой же как и у всех СС, а именно: наименьшая затрата энергии на связывание всех элементов знания в единую систему, наиболее экономичная, оптимальная связь частей в целое. Можно привести многочисленные высказывания крупнейших ученых прошлого и настоящего о том, что истина всегда проста. Такая форма связи и придает системе знаний максимальную устойчивость, т.е. в максимальной степени реализует СФ. Как и в любой СС системообразующий принцип задает логику и определяет законы функционирования и развития научного знания. Так, возникновение второго этапа в развитии науки – этапа ее дифференциации – полностью определилось СФ, стремлением к устойчивости научной системы знаний. Этап целостного созерцания, конкретно-чувственного познания мира древними греками сменяется с началом эпохи Возрождения этапом метафизическим, в основе которого лежит аналитическое расчленение в освоении природы. Развитие науки между этими периодами шло замедленным темпом, так как характер общественнопрактической деятельности при феодализме не стимулировал науку. Феодалу, крепостному, ремесленнику знания не были нужны, они вполне обходились жизненным опытом и секретами ремесла, которые передавались по наследству. Причиной этого было перенесение центра жизни общества из города в деревню. «Разобщенности, спорадичности, парциальности практических усилий человека во времена феодализма соответствует и эмпирический, необобщенный характер знаний. Схоластика и религия стали играть главенствующую роль в теоретическом знании, на свой лад удовлетворяя потребность человека в едином представлении о мире» [19]. Перенесение центра жизни из города в деревню означает движение общественной системы от центра, ядра к среде, это действие фактора площади, когда система развивается медленно, за счет расширения своей территории, затрачивая на это минимальную энергию. Это путь экстенсивного развития. В биологических системах – это аллопатическое развитие. Наука же по своей природе связана с трудностями в развитии общественной системы, т.е. ее функция помогать их преодолевать. Наука – 72 это рефлексия общественной системы. Обученный человек действует автоматически, легко, не задумываясь и лишь при возникновении препятствий у него возникает рефлексия, появляются вопросы, которые необходимо решать. Это внешние, социальные факторы, затормозившие развитие научной системы. С внешними факторами связаны и внутренние, порожденные самой логикой развития науки. Абстрактная созерцательность и увеличивающийся разрыв с практикой, как считает Г.Н. Волков, погубили древнегреческую науку: «Она себя внутренне исчерпала. Древнегреческие философы перебрали все возможные комбинации существовавших тогда умозрительных понятий для объяснения мира, мало заботясь о том, чтобы это объяснение подтверждалось практически» [20]. Этот разрыв с практическим опытом затормозил темпы развития науки в течение нескольких столетий. Первая дифференциация наук наметилась еще в конце античности, но большое развитие она получила только в эпоху Возрождения, когда из прежней философской науки, неразвитой формы стали выделяться отдельные отрасли знания и превращаться в самостоятельные науки, такие как математика, механика, астрономия, физика, химия, биология, геология и др. Этот процесс развития отдельных элементов научной системы, их специализация шел постепенно и был вызван как внешними, так и внутренними факторами. Внешние факторы определяются развитием метасистемы, т.е. общества в данный период. Это время зарождения новых экономических отношений, появления буржуазного общества с его интенсивной предпринимательской деятельностью, расширенному воспроизводству капитала. Это время первой индустриальной революции, появления машинной технологии. Если инструменты ручного труда были реализацией эмпирических знаний, то машины стали техническим воплощением теоретических знаний. Происходило сращивание науки с производством, их взаимное прогрессивное влияние. Производство требовало разработки конкретных проблем, что возможно было лишь при концентрации интеллектуальных усилий на достаточно узком предмете, стороне действительности. Технические возможности позволяли производить эксперименты и тем самым углубляться в предмет познания. Все это выводило науку из области схоластических споров. Внутренний фактор дифференциации задается внутренней логикой развития науки и определяется ее СФ. Естественно, что из отрывочных эмпирических и теоретических знаний трудно создать устойчивую научную картину мира, поэтому также естественно расчленение предмета познания, в данном случае целостной природы на отдельные области, которые и стали предметами изучения самостоятельных наук. «Разложение природы на ее отдельные части, разделение различных процессов и предметов природы на определенные классы, исследование внутреннего строения органических тел по их многообразным аналитическим формам – все это было основным условием тех исполинских успехов, которые были достигнуты в области познания природы за последние четыреста лет, – писал Ф. Энгельс. – Но тот же способ изучения оставил нам вместе с тем и привычку рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности, вне их великой общей связи, и в силу этого – не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменчивые, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми» [21]. И если древнегреческое знание расплывалось в общем, то метафизическое утопало в частностях. Процесс дифференциации науки, начавшийся в эпоху Возрождения как следствие совпадения внутренних и внешних факторов, явился основой узловой проблемы по Б.М. Кедрову [22]. Центральная узловая проблема может возникнуть как во всей науке – данный пример дифференциации ее, – так и в отдельных. Узловая проблема возникает как логически подготовленная ступень научного познания, которую нельзя миновать и вступление на которую оказывает организующее и 73 централизующее воздействие на весь ход дальнейшего развития данной отрасли науки. Данная проблема может стать центром внимания и усилий ученых на многие годы. Но центральная проблема не является, по нашему мнению, ядром конкретной науки, она лишь отражает наличие нерешенного противоречия в создаваемой теории, которая и составляет ядро отдельной науки как системы знаний. Взаимодействие внешних и внутренних факторов развития любой системы различно в зависимости от уровня развития самой системы. На начальном этапе внутренние связи элементов еще не прочные, устойчивость СС низкая и поэтому роль внешних факторов превалирует и, наоборот, – с увеличением устойчивости системы роль ее внутренних закономерностей возрастает. Однако, как справедливо замечает Ст. Тулмин, внутренние фактора развития всегда доминируют [23]. Возникшие отдельные науки также развивались в соответствии с закономерностями СС, так как они являются относительно самостоятельными элементами всей научной системы. Коротко остановимся на основных закономерностях их развития как СС. Эти закономерности можно рассмотреть с разных сторон и на различных уровнях – и как движение понятий, и как развитие отдельных теорий и как развитие отдельной науки. Основной механизм развития СС – это автоколебательный процесс, основанный на обратной связи и заключающийся в движении системы как от ее ядра, так и обратно. В процессе этого движения разрешается противоречие между стремлением системы к максимальной устойчивости и ее нарушением изменениями во внешней среде. При этом система все время укрупняется, растет ее объем. Но этот рост основан на противоположных явлениях, происходящих в ее структуре. С ростом СС объем ее информации все время увеличивается, так как увеличивается количество элементов среды ядра, но он умещается во все меньшем объеме ядра системы. Так, при движении системы к центру, ядру объем информации и энергии в ядре увеличивается, а упаковка ее становится все более сжатой. При движении от центра увеличивается число элементов среды, увеличивается объем системы в целом. Напомним, что движение от цента, ядра означает экстенсивный путь развития системы, действие фактора площади, а движение к центру есть интенсивный путь, действие фактора скорости. Эти закономерности прослеживаются на всех уровнях развития науки. Так, например, понятие является основной формой движения теоретического знания, теории. В.С. Библер, отмечает, что именно противоречивость научных понятий дает возможность представить в их движении развитие науки в целом [24]. Образование самого понятия является примером образования первичной, элементарной теоретической системы. Содержание понятия есть ядро этой системы, которое выступает посредником между противоположными эмпирическими явлениями. Таким образом, образование понятия снимает противоречие между противоположностями и тем самым приводит систему в устойчивое состояние. Кстати, общепризнанным является ошибочное, на наш взгляд, суждение о том, что противоречие является источником развития. С точки зрения развиваемой здесь теории, само по себе противоречие не может служить источником развития, им является СФ системы, т.е. стремление ее к максимальной устойчивости, что и вынуждает систему разрешать возникшее противоречие. Развитие понятия может происходить от узкосодержательного до всеобщего. Такую эволюцию прошли некоторые общенаучные понятия, например, симметрия, асимметрия, структура, функция, модели, информация и др. Они зародились в отдельных частных науках и возвысились до статуса общенаучных. Развитие понятия происходит в результате неоднократного разрешения возникающих противоречий в процессе автоколебаний научной системы. Каждое понятие, категория есть диалектическое “снятие” ряда отрицаний, синтезом многообразного в едином, в следствии чего объем данного понятия как ядра системы, объединяющего большое количество знаний, все время увеличивается. “Чем сложнее и выше по своему уровню 74 теоретическое понятие, тем больше законов заключено в его содержании”, – пишут Ф. Кумпф и З. Оруджев [25]. Развитие понятий происходит в процессе развития самой теории, ядром которой является основной принцип, идея. Создание теории является исходным, первичным, а потому простейшим и самым распространенным теоретическим синтезом. Если имеет место сложившаяся научная теория, основные принципы которой уже сформированы и эмпирически обоснованы, то происходит движение системы от ядра, экстенсивный путь развития науки. Если же при экстенсивном движении возникает противоречие с ядром теории, т.е. новых эмпирических фактов с основным принципом, то возникает необходимость разрешения этого противоречия, что происходит путем уточнения основной идеи или даже построения новой теории, переход на интенсивный путь развития. В результате этого движения рамки исходной теории расширяются, она начинает охватывать более широкий круг явлений, причем содержание прежней теории может в измененном виде оказаться включенным в новую теорию как ее часть, элемент. Таким образом, теория как ядро научной системы с каждым автоколебательным циклом все больше наполняется конкретно-научным содержанием. Интерпретация же эмпирических данных с каждым движением системы от ядра все более базируется на теоретическом осмыслении, становится более богатой и развитой, что, в свою очередь, конкретизирует основной принцип, идею. Этот автоколебательный механизм развития научной системы есть не что иное, как механизм восхождения от абстрактного к конкретному. Теоретическая и эмпирическая интерпретации являются взаимодополняющими, как ядро и его среда. На уровне всей науки этот процесс подробно исследован в работах В.С. Швырева [26] и В.С. Степина [27]. В.С. Швырев отмечает, что движение теоретической мысли происходит на некоторой исходной основе, которая в процессе движения постоянно воспроизводится, конкретизируется и обогащается. В этом и состоит существо механизма развития теоретической системы [28]. Согласно В.С. Степину, теория хранит в себе следы своей прошлой истории, воспроизводя в качестве типовых задач и образцов их решения основные этапы своего становления [29]. Но в рамках одной науки происходит и борьба между различными теориями, которая может завершиться созданием более обобщающей теории, включающей в себя противоположные. Так образуется иерархия теоретической системы, состоящая из целого ряда соподчиненых теорий. Центральная, самая общая теория, находящаяся на вершине этой пирамиды, так же как и теоретическая система в целом по отношению к эмпирическим фактам, является ядром всей отдельной науки. Подобный автоколебательный процесс происходит и на уровне всей науки, где ядром, по нашему мнению, является философия. А.С. Кравец отмечает, что для этапа экстенсивного развития науки характерно сохранение сложившейся основы научной традиции и развитие представляет лишь расширение (фактор площади – Н.П.) сферы возможных применений и конкретизаций этой основы. Результатом такого движения являются вариативно-новые знания. При таком развитии, подчеркивает он, философские представления, как правило, не привлекаются, что вполне согласуется с нашей концепцией. Это движение всей научной системы от ядра. При интенсивном же развитии науки происходят кардинальные, революционные сдвиги, существенно новый прорыв в ее развитии. И вот на этом этапе научного развития, подчеркивает А.С. Кравец, эвристическая роль философии проявляется с особой силой [30]. В другой работе он отмечает, что выдвижение базисных новаций по существу свидетельствует о том, что новые факты и возникающие научные проблемы не могут быть объяснены на путях экстенсивного роста научных знаний, в рамках прежней научной традиции. Появление базисных новаций означает, что наука вступает на путь интенсивного развития [31]. Это этап перестройки ядра системы, движения ее к ядру. 75 В результате подобного движения происходит развитие, расширение и углубление системы знаний. Однако этот процесс не носит прямолинейный и равномерный характер, это нелинейное развитие. На уровне всей науки это ярко проявлялось в смене научных лидеров, о которой писал Б.М. Кедров [32]. Однако нелинейность развития не отрицает его кумулятивности, а последняя не сводится к простой сумме знаний. Ученый всегда стоит на фундаменте прошлого научного опыта, как бы он к нему не относился. Поэтому когда С. Тулмин, П. Фейерабенд, Р. Рорти и др. отрицают накопление научного опыта, само развитие системы знаний, то, на наш взгляд, при этом происходит отождествление его с прямолинейным и равномерным движением, что естественно не соответствует реальному процессу. Кроме того, как мы покажем в дальнейшем, при этом не принимается во внимание качественное различие науки на разных стадиях ее развития, что приводит к смешиванию, неадекватному, неправомерному сравнению и оценке методологических и мировоззренческих установок ученых различных времен. Не противоречит, на наш взгляд, представленный механизм развития науки и подходу к ней как к традиции, который активно разрабатывается в нашей стране М.А. Розовым [33]. Описанный процесс движения научного знания во многом аналогичен предложенному Т. Куном [34]. Его понятие парадигмы соответствует ядерному элементу научной системы, так как парадигма, являясь теорией, моделью, образцом направляет научное исследование в нормальной науке. Само понятие нормальной науки соответствует в нашей концепции движению научной системы от центра, экстенсивный этап ее развития. А смена парадигм в результате научных революций означает преобразования в ядерном элементе науки, интенсивный этап развития. Он подчеркивает, что аномалия появляется только на фоне парадигмы и чем более точна и развита парадигма, тем более чувствительным индикатором она выступает для обнаружения аномалии. Это полностью согласуется с нашим пониманием свойств и функций ядра системы. Т. Кун отмечает, что возникновение парадигмы является характеристикой зрелого этапа в развитии системы. В целом мы согласны с тем, что возникновения ядра системы есть признак ее целостности, однако уточняем, что в зрелой системе ядерный элемент приобретает двойственное строение, имеет две комплементарные ветви – философские принципы и общенаучную картину мира. Т. Кун не ставит прямо вопрос о структуре парадигмы и ее интегрирующей роли в системе знаний, так как он науку не рассматривает как самоорганизующуюся систему. Отсюда вытекает и другое, более серьезное отличие наших подходов к развитию науки. Т. Кун не видит принципиальной преемственности, кумулятивности в развитии науки, поэтому возникновение новой парадигмы, по его мнению, это совершенно новый этап науки, не связанный с предыдущим, хотя ему и приходится делать определенные оговорки на этот счет. Так, например, он пишет, что интуитивные догадки, благодаря которым рождаются новые парадигмы, зависят от опыта, как аномального, так и согласующегося с существующимися теориями и эти догадки суммируют большие части опыта и преобразуют их в другой, весьма отличный опыт. В другом месте он также вынужден признавать, что «традиционность последовательно подготавливает путь к собственному изменению» [35], что указывает на диалектичность процесса развития науки, а значит наличия преемственности. Нашей целью не является анализ постпозитивистких концепций науки, однако нельзя не отметить структурную близость теории «научной исследовательской программы» И. Лакатоса с нашей, что может служить косвенным подтверждением развиваемой нами концепции самоорганизующихся систем. Концепция И. Лакатоса носит явный ядерно-сферический характер, что отражено уже в понятиях структуры научных исследовательских программ: «твердое ядро» и «защитный пояс» [36]. Содержание этих понятий близко нашим понятиям ядра и его среды. Кроме того, 76 строение ядра имеет у него также двойственный характер как и в нашем подходе. Положительная и отрицательная эвристики соответствует в нашей концепции первой ветви в ядре теории, так как они выполняют методологическую роль. Положительная эвристика играет главную роль в развитии исследовательской программы, она более гибкая. В этом качестве выступают метафизические принципы. Отрицательная эвристика определяет твердое ядро, т.е. ряд фундаментальных положений конкретной науки, которые и составляют в нашем подходе вторую ветвь. Как и в СС любой другой природы, связь между ядром и его средой осуществляется двумя путями: прямым – между ядром всей системы и ядрами отдельных элементов, так как они потенциально тождественны и опосредованно – от центрального ядра к элементам через внутреннюю среду системы. Сущность прямой связи заключается в следующем. Идея, основной принцип теории как ее ядро выполняет свою объединяющую функцию благодаря тому, что они присутствуют в каждом понятии, категории теории как ее элементах. С другой стороны, в этих понятиях и категориях раскрывается содержание основной идеи, принципа. Ф. Кумпф и З. Оруджев отмечают, что в движении единой субстанции данной предметной области следует искать основу единства и всех понятий теории, связанных между собой ее исходным принципом. Остальные принципы теории все более конкретизируют идею, являясь основой отдельных разделов теории, ее «ответвлений» [37]. Таким образом, субстанциональное отношение, которое выражает идея, присутствует во всех понятиях теории. Это служит единству научной теории как СС, единству ядра и его среды. Опосредованная, «горизонтальная» связь в научной системе осуществляется на основе использования общих понятий. «На уровне отдельных элементов теорий, – пишет П.В. Алексеев, – самой широкой формой связи естественнонаучной и философской теорий является концептуальная связь... Она является исходной по отношению к проблемной и мезотеоретической формам, включается в них, однако в известной степени автономна в рамках более сложных форм и имеет место при отсутствии других форм связи. Эта форма проявляется в связи, взаимодействии естественнонаучных понятий и философских категорий. Она существует прежде всего в виде терминологической одинаковости понятий...» [38]. После краткого рассмотрения возникновения и дифференциации научной системы нам необходимо остановиться на сущности ядерного элемента науки, как целого, с тем, чтобы мы могли перейти к анализу следующего этапа в ее развитии – этапа интеграции, зрелости. Философские принципы как ядерные элементы научной системы Если рассматривать науку в целом как СС, то философия несомненно является ядром научной системы, точнее - ее методологические принципы. Как сказал Ф. Франк, чем глубже мы погружаемся в науку, тем яснее становятся ее связи с философией [39]. Сейчас ведутся острые споры вокруг этого тезиса. Среди зарубежных ученых, сторонников данного положения можно назвать Дж. Агасси, М. Вартовского, Т. Куна, И. Лакатоса, С. Хаака и др. К противникам относятся Ж. Делез и Ф. Гваттари, Ж. Деррида, Р.Рорти, П. Фейерабенд и др. Отечественных ученых в большей мере можно отнести к сторонникам данного тезиса. Возражения против данного положения комментируются нами в следующей главе. В пользу философии как ядра научной системы говорят многие факты, в которых проявляются свойства ядерного элемента системы. Во-первых. Ядро любой СС является носителем потенциально всей информации о системе, как, например, в половой клетке содержится почти вся информация о фенотипе. Философия перерабатывает и вбирает в себя почти всю информацию всех наук. Она является высшим уровнем интеграции научных знаний. Она изучает мир в целом, а не отдельные его области и уровни. Философские категории являются всеобщими и 77 поэтому универсальными, применимы ко всем без исключения явлениям действительности и способны выполнять методологическую роль в любом процессе познания. Как подчеркивают В.С. Степин и Л.Ф. Кузнецова, наука с самого начала своего становления и в своем развитии испытывает влияние философских принципов, что признается сейчас философами различной ориентации. Они отмечают, что даже те философы, которые раньше скептически относились к этой роли философии, в последнее время переоценили свои взгляды. Имеются в виду такие философы как К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, Дж. Холтон и др. [40] Во-вторых. Ядра элементов системы потенциально равны ядру всей системы. Так как философия изучает всеобщие законы, законы диалектики, то они имплицитно входят как философские основания в любые теоретические системы других наук в форме философских категорий и принципов. Философские категории «все более глубоко проникают в частные науки, в ткань научного знания, осуществляя категориальный синтез на эмпирическом и теоретическом уровнях познания и выступая своеобразным категориальным каркасом всего научного здания, укрепляя его единство, целостность» [41], – отмечает П.В. Алексеев. Они являются универсальной формой движения теоретической мысли. В-третьих. Философия как ядро науки выполняет функцию самого общего интегратора всех наук, упорядочивающего все имеющиеся знания. Эта функция обеспечивается двумя вышеуказанными особенностями философии. Философия образует стержень всех частных наук и, тем самым, выступает как самый мощный инструмент связывания воедино всех его отраслей. Высокий уровень абстракции философских категорий делает их содержание многогранным, подвижным, способным к установлению многообразных гибких связей, что и является основой их высокой интегративной способности среди понятий других наук. Л.П. Киященко, занимающийся синергетическими исследованиями, рассматривает философские обобщения как параметры порядка в науке [42]. В-четвертых. Через ядро осуществляется рефлексия системы. Рефлексия является существенным свойством любой СС, составляет основу целостности системы и механизма ее функционирования, развития и возникает в момент образования ядра системы. Природа возникновения рефлексии заключается в возникновении задержки, препятствия в движении, развитии системы, т.е. потери, снижения устойчивости. Возникая под действием СФ, рефлексия является механизмом оптимизации функционирования и развития СС. Рефлексия – это движение системы к ядру, перестройка в ядре. В.А. Бажанов отмечает, что именно «самоотнесенность знания служит цементирующей основой, придающей сложной системе самопознания науки статус фактора, ответственного не только за упорядочение, реорганизацию и анализ оснований знания, но и фактора, способствующего более оптимальному функционированию и саморегуляции всех звеньев научной деятельности...» [43]. Рефлексия в науке возникла в Новое время, когда ядро науки – философия – окончательно оформилась. А.С. Кравец подчеркивает, что именно философия явилась исторически первой формой осознания результатов развития науки, применяемых ею методов и форм научного познания [44]. В результате рефлексии происходит перестройка исходных, фундаментальных посылок, идей, принципов теоретической системы, которая влечет за собой изменения всего теоретического здания. Подробно этот процесс с философских позиций анализируется в работе В.А. Лекторского, а его механизмы, также глубоко, рассмотрены в исследовании Т.П. Матяш [45]. Иерархическое строение научной системы проявляется и в многоуровневости рефлексирующих механизмов. Выделяются внутритеоретическая, метатеоретическая, междисциплинарная, общенаучная и философско-методологическая рефлексии. Высшим, ядерным уровнем рефлексии научного знания является философский. 78 Философский уровень методологии науки выступает как содержательное основание всякого методологического знания, в него в снятом виде включены более низкие уровни. В этом проявляется еще один аспект связи философии как ядра науки с отдельными, частными науками, являющимися элементами всей научной системы. Особенность философской методологии заключается в том, что она задает максимально широкий контекст для интерпретации конкретно-научных результатов, раскрывает механизм и логику научного знания, а также решает мировоззренческие проблемы. На уровне философско-методологической рефлексии, отмечает В.А. Бажанов, познавательная деятельность “запускает” механизм самообращения и анализа собственных оснований в контексте более широком, чем тот, который задан самой деятельностью и тем самым отчуждает себя до той степени, когда путем самоотнесения осмысливается ракурс “слияния”, взаимопроникновения субъективного в объективное, пределы их совпадения, т.е. мера объективности истины [46]. Этой роли способствует и нечеткость философских категорий по сравнению с конкретно-научными понятиями. Именно эта нечеткость философских категорий позволяет с их помощью определять направления научного поиска в тех ситуациях, когда научные понятия не срабатывают, подчеркивает А.Н. Кочергин [47]. Так как в рефлексии отражены как особенности объекта познания, так и познающего его субъекта, то методология становится ядром современного научного знания. Ведь сама сущность методологического знания заключается в посредничестве между объектом и субъектом, это роль катализатора в добывании новых знаний, в повышении эффективности этого процесса. Регулятивный характер принципов диалектики подчеркивает В.П. Кохановский. Он пишет: «... подлинно универсальными, гибкими и подвижными всеобщими нормами, которые регулируют отношение субъекта как к объекту, так и знаниям о нем, являются методологические установки высшей степени общности – принципы диалектики, которые (взятые в системе) внутренне организуют и регулируют процесс познания и практического преобразования действительности» [48]. И, как всякий катализатор или ядро, метод включает в себя особенности познающего и познаваемого, он синтез двух взаимодействующих сторон. Как справедливо отмечает Г.Н. Рузавин, научный метод представляет собой яркое воплощение единства всех форм знаний о мире [49]. Поэтому не случаен и бурный рост методологических исследований в последнее время. Таким образом, из трех составляющих предмет философии – природа, общество и человеческое мышление, акцент переносится на последнюю. Но в пределе развития науки все три составляющие философского знания будут неразрывно взаимосвязаны, едины в своем основании, так как едины законы диалектики, отражающие единство мира в его многообразии. Предмет науки постепенно становится единым - целостный мир с изоморфной структурной организацией его элементов, с взаимопереходами формы и содержания. В таком всеобщно-сущностном единстве абстрактного предмета и метода познания философская методология будет входить в предмет любой науки как их субстанция, сущность. В-пятых. Философия как ядро науки находится в диалектическом единстве со своей средой, т.е. с частными науками. С одной стороны, философия и частные науки являются противоположными – предметом философии является мир в целом, включая человека, а предметом отдельных наук – только какая-то часть мира или его отдельный аспект, грань, кроме того, философия вычленяет всеобщее в единичном, осуществляя высший синтез конкретных знаний и ее знания не сводимы к знаниям отдельных наук. Но, с другой стороны, философия и частные науки составляют единство. Так, П.В. Алексеев выделяет ряд гносеологических предпосылок этого единства [50]. Исходной предпосылкой является направленность как философии, так и отдельных наук на объективное познание действительности. Критерий истины в обоих 79 случаях один – практика. При всей специфичности философские обобщения по своему характеру, направленности и значимости сопоставимы с частнонаучными обобщениями. Естествознание дает материал для философских обобщений и экспериментально проверяет их, поэтому способность научно-философского мировоззрения к развитию на основе науки и его соответствие естествознанию является одной из гносеологических предпосылок единства философии и частных наук. Философия по характеру исторического формирования и развития тоже представляет собой науку и имеет свой предмет, метод и способность объяснять и предсказывать. Важной гносеологической предпосылкой единства философии и отдельных наук является их предметная сопоставимость. Предметом обеих наук служит один и тот же материальный мир в его единстве. Законы, изучаемые философией представляют собой лишь более высокий уровень обобщенности знаний, чем в других науках. «Взаимосвязь философского мировоззрения и частных наук обусловливается структурным номологическим единством материальных объектов и необходимостью их всестороннего, наиболее адекватного отражения» [51], – пишет П.В. Алексеев. Таким образом, философия и отдельные науки в целом взаимодополняют друг друга как ядро и его среда в любой СС. В-шестых. С развитием ядра любой системы в нем все больше уменьшается доля вещественности образующих его компонентов. Но философия как ядро науки с самого начала своего образования уже состояла из категорий предельно обобщенных, абстрактных, а поэтому содержащих лишь в минимальной степени чувственный компонент, опыт. Как и в любой СС, ядро научной системы начало формироваться с момента ее возникновения, в период нерасчлененного античного знания. Внутренняя противоречивость последнего вызвала первую дифференцированность натурфилософских понятий, выделение среди них философских категорий, отражающих сначала абстрактно-всеобщее в различных объектах природы. В.С. Готт и Ф.М. Землянский отмечают, что дифференциация явилась выражением того качественного скачка в закономерном развитии античной понятийной формы мышления, который был связан с возникновением философских категорий. Выделение категорий как качественно особой понятийной формы, считают они, означало возникновение специфически философского знания и его относительное обособление внутри натурфилософии, т.е. свидетельство о наметившейся дифференциации единой системы натурфилософского знания [52]. Этот скачок и можно считать началом формирования ядра научной системы. В этот период происходило формирование философией своего предмета, специфически философского знания, свободного от онтологического учения о натуральных сущностях и от умозрительной натурфилософии. Все большое значений приобретали мировоззренческие и логико-гносеологические проблемы. Итак, философское и естественнонаучное знание стали развиваться на своей основе, приобрели логико-гносеологическую специфику. Между ними начали формироваться отношения ядра и его среды. Но эти отношения еще не носили диалектического характера как это имеет место в зрелой системе. В.С. Готт и Ф.М. Землянский отмечают двойственный, противоречивый характер между философией и естествознанием в Новое время. С одной стороны, объективные потребности развития науки стимулировали разработку логико-гносеологических проблем в философии, а, с другой стороны, натурфилософский подход к достижениям естествознания исключал возможность их действительного научного обобщения, а возникающие в философии идеи диалектического понимания природы в силу своего абстрактно-умозрительного характера оставались недоступными естествознанию [53]. Поэтому интегрирующая роль философии была еще незначительной, и осуществлялась скорее через мировоззренческий компонент. Дальнейшее развитие научной системы уменьшало отмеченное противоречие и увеличивало, тем самым, интегративную, методологическую роль философии как ядра 80 научной системы. Это был встречный процесс, протекающий в автоколебательном режиме самоорганизующейся системы. Поэтому, как и в любой самоорганизующейся системе, в развитии ядра научной системы неизбежно формировалась вторая ветвь. Наряду с философским осмыслением мира развивалось и естественно-научное обобщение сущности мироздания, которое находило свое отражение в формировании научной картины мира с помощью общенаучных категорий. К.Х. Делокаров и Ф.Д. Демидов пишут, что первая научная картина мира явилась результатом взаимодействия философии и фундаментальных естественнонаучных достижений в новоевропейской и мировой культуре [54] и именно с этого времени начинается движение знания не только от философии к конкретно-научным представлениям, но и наоборот [55]. Научная картина мира как теоретическая модель выступает комплементарно, взаимодополнительно к философским теориям мироздания. Она является посредником между предельно абстрактным философским построением и всем массивом конкретнонаучных данных. Научная картина мира формируется внутри науки путем синтеза важнейших научных достижений, философские же принципы целенаправляют этот процесс синтеза и обосновывают полученные в нем результаты [56]. Философия, отмечают В.С. Степин и Л.Ф. Кузнецова, генерирует категориальные матрицы, необходимые для научного исследования, еще до того, как последнее начинает осваивать соответствующие типы объектов. Развивая свои категории, философия тем самым готовит для естествознания и социальных наук своеобразную предварительную программу их будущего понятийного аппарата [57]. На этапе дифференциации, дисциплинарно-организованной науки общая научная картина мира, т.е. вторая ветвь ядра науки была в начале своего формирования. Частные же научные картины мира выполняли роль вторых ветвей в ядрах отдельных наук. Как пишут В.С. Степин и Л.Ф. Кузнецова: «Специальные научные картины мира выступали в этом развитии ядром исследовательских программ, которые целенаправляли научный поиск» [58]. И только с середины XX столетия, когда наука вступила в “постнеклассическую” стадию, характеризующуюся интенсивными интеграционными процессами, единая научная картина мира, как вторая ветвь в ядре всей научной системы, начинает приобретать законченный характер. Формирование второй ветви ядра научной системы означало начало перехода ее к третьей стадии своего развития, стадии целостности, зрелости, рассмотрению которой посвящена следующая глава. Однако, отметим, что развитие науки в целом на второй стадии происходило благодаря развитию фактора скорости, т.е. за счет поиска субстанциональных основ, углубления в сущность, совершенствования познавательных принципов. Это движение к ядру системы в целом, движение вглубь. Список литературы 1. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. – М.: Мысль, 1977. – С. 123. 2. Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. - М.: Политиздат, 1976. С.140. 3. См.: Петров М.К. Самосознание и научное творчество. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1992. 4. Кедров Б.М. Классификация наук. - М.: Мысль, 1985. - С.155. 5. Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. - М.: Политиздат, 1976. - С.127. 6. Там же. - С.134. 7. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. - М.: Мысль, 1977. 8. Аверьянов А.Н. Системное познание мира. - М.: Политиздат, 1985. - С.102. 9. Лешкевич Т.Г. Неопределенность в мире и мир неопределенностей. – Ростов-наДону: РГУ, 1994. - С.59. 10. Кедров Б.М. Классификация наук. - М.: Мысль, 1985. - С. 202. 11. Поппер К. Логика и рост научного знания. - М.: Прогресс, 1983. - С.188. 12. Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения. - М.: Наука, 1966. - С.21. 13. Там же. - С.22. 81 14. Там же. - С.34. 15. Готт В.С., Землянский Ф.М. Диалектика развития понятийной формы мышления. М.: Высш. школа, 1981. - С.286. 16. Бажанов В.А. Наука как самопознающая система. - Казанский университет, 1991. С.8. 17. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. - М.: Гардарика, 1996. - С.706. 18. Кумпф Ф., Оруджев З. Диалектическая логика. - М.: Политиздат, 1979. - С.202. 19. Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. - М.: Политиздат, 1976. - С. 138. 20. Там же. - С.138. 21. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. - Т. 20.- С.20-21. 22. См.: Кедров Б.М. Классификация наук. - М.: Мысль, 1985. 23. Тулмин С. Концептуальные революции в науке // Структура и развитие науки. М., 1978. - С.222. 24. Арсеньев А.С., Библер В.С., Кедров Б.М. Анализ развивающегося понятия. - М. Наука, 1967. - С.80. 25. Кумпф Ф., Оруджев З. Диалектическая логика. - М.: Политиздат, 1979. С.165. 26. Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. - М.: Наука, 1978. 27. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. - М.: Гардарика, 1996. 28. Шарден Т. Феномен человека. - М.: Наука, 1987. С.324. 29. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. - М.: Гардарика, 1996. С.711. 30. Кравец А.С. Методология науки. - Воронеж, 1991. - С.33-49. 31. Кравец А.С. Наука как феномен культуры. - Воронеж, 1998. - С.62. 32. Кедров Б.М. Классификация наук. - М.: Мысль, 1985. - С.115. 33. См.: Розов М.А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. - Новосибирск: Наука, 1977; Розов М.А. От зерен фасоли к зернам истины // Вопросы философии, 1990, № 7, С. 42-51. 34. См.: Кун Т. Структура научных революций. - М.,1977. 35. Там же. - С.95. 36. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. - М.: Прогресс, 1978. - С. 203-269. 37. Кумпф Ф., Оруджев З. Диалектическая логика. - М.: Политиздат, 1979. - С.201. 38. Алексеев П.В. Наука и мировоззрение. – М.: Политиздат, 1983. - С.304. 39. Франк Ф. Философия науки. - М., 1960. - С.38. 40. См.: Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - М.,1994. – С. 21-22. 41. Алексеев П.В. Наука и мировоззрение. – М.: Политиздат, 1983. - С.342. 42. Киященко Л.П. Синергетика обобщенных представлений // Онтология и эпистемология синергетики. - М., 1997. 43. Бажанов В.А. Наука как самопознающая система. – Казань: Казанский университет, 1991. - С.27. 44. Кравец А.С. Методология науки. - Воронеж, 1991. - С.19. 45. См.: Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. - М.: Наука, 1980; Матяш Т.П. Сознание как целостность и рефлексия. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1988. 46. Бажанов В.А. Наука как самопознающая система. – Казань: Казанский университет, 1991. - С.45. 47. Кочергин А.Н. Философия и глобальные проблемы. - М., 1996. - С.29. 48. Кохановский В.П. Диалектика против софистики и эклектики. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1984; Кохановский В.П. Регулятивный характер принципов диалектики // Развитие как регулятивный принцип. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1991. С.8. 49. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. - М., 1997. - С.24. 82 50. Алексеев П.В. Наука и мировоззрение. – М.: Политиздат, 1983. - С.104-160. 51. Там же. - С.156. 52. Готт В.С., Землянский Ф.М. Диалектика развития понятийной формы мышления. М.: Высш. школа, 1981.- С.132, 139. 53. Там же. - С.259. 54. Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. Синергетика и образовательные ценности // Синергетика и учебный процесс. - М.: РАГС, 1999. - С.19. 55. Там же. - С.20. 56. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - М., 1994. - С.25. 57. Там же. - С.21. 58. Там же. - С.177. SYSTEM REGULARITIES OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE CLASSICAL SCIENCE N.V.Poddubniy1), 1) Belgorod State University, Studencheskaya str., Belgorod, Russia, 308007. The genesis of classical and non-classical science is surveyed from the positions of dialectics and systemsynergetic methodology. The first stage of science systems core formation is analyzed, and it is claimed that this stage would be followed by the stages of development, entity and maturation. Key words: self-organizing system, core-spherical approach, classical and non-classical science. 83 УДК 001.1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУЧНОГО ЭТОСА М.Д. Черкашин1), 1) Курский государственный технический университет, 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, e-mail: [email protected] В статье рассматриваются этические проблемы классической и неклассической науки в их связи с институциональными и антропологическими основаниями научного знания. Ключевые слова: научный этос, классическая и неклассическая наука, философская антропология, социокультурная детерминация. В настоящее время бурно развивающегося научно-технического прогресса, новых технологий, когда многочисленные научные исследования сконцентрированы на практических интересах и эффективности, затянуты в орбиты рыночных отношений, исследование этоса науки и фигуры ученого – реального ее творца, становится задачей первостепенной значимости. На переднем плане научной индустрии находятся открытия, судьба которых не может быть безразлична человечеству. Клонирование, многообразные виды психотропных воздействий, всеобщая технологизация становятся реальностью, изменяющей мир, взаимоотношения между людьми, будущее самого человечества. Представляется чрезвычайно актуальным и значимым включение в общую магистраль науки сдерживающих механизмов этических норм, правил и императивов. Этическая рефлексия над наукой должна быть осмыслена как необходимая оставляющая самого научного поиска и научного исследования. Императивом для ученого должна быть оценка этических последствий его работы. С понятием «этос» связана древнейшая историко-философская традиция его истолкования, при которой этос проецируется на человека и обозначает все то, что связано c особенностями его поведения. С греческого «ethos» переводится как нрав, обычай, образ мысли, характер. Однако в древнегреческой натурфилософии можно встретить размышления об «этосе первоэлементов», то есть о соотношении и сочетании первейших атрибутов мироздания [1]. Эмпедокл был особенно настойчив в рассмотрении «этоса первоэлементов». Вместе с тем, этос первоэлементов указывает на бытийное (онтологическое) наполнение данной категории. Примечательно, что уже в античности присутствует как онтологическая, так и антропологическая интерпретация этоса. Последняя вылилась в этику во всем многообразии ее истолкований, вплоть до современного понимания. Онтологическое, бытийное наполнение понятия «этос» как гармоничной взаимосвязи атрибутивных качеств первоэлементов, легло в основу «запретного принципа в науке», а также связи научных целей и задач с физическими константами мироздания, основными фундаментальными взаимодействиями бытия. «Запретный принцип» в науке обозначал меру допуска, меру свободы и возможностей научных изысканий с учетом фундаментальных физических констант, проявляющихся постоянно и инвариантно в условиях нашего земного существования. Можно также усмотреть некоторое сходство между онтологической интерпретацией этоса (как гармоничной взаимосвязи атрибутивных качеств первоэлементов) с современным синергийным мировидением, обосновывающим правомерность и потенциал именно гармоничных, когерентных, отвечающих «природе вещей» синергийных изменений. Современные воззрения подтверждают интуиции древних авторов. Популярное ныне понятие аттрактора, обсуждаемое в современной постбергсонианской философии хаоса (И. Пригожин, И. Стенгерс, Р. Том), сравнимо с 84 этосом. Оно представляет собой такое состояние системы, которое при всем видимом разбросе хаотических элементов сохраняет тенденцию возврата к исходному равновесию. Следовательно, аттрактор выполняет «роль ритмической кривой, которая скрыто удерживает все «свободные» элементы системы в этой неустойчивой тенденции к первоначальному состоянию равновесия» [2]. Этос науки связывает две достаточно обособленные сферы, с одной стороны объективную и безличную закономерность, открываемую наукой, с другой – мир оценок и ценностей, предписывающих человеку императивы его поведения в системе добро – зло. Научный этос – это область пересечения свободного научного поиска с ответственностью за последствия открытий и их применения. В этом контексте этос науки предполагает императивность, долженствование и расширяет свои полномочия от сферы рефлексии в сферу «практической философии», то есть практического действия. Он связан с запретом, нормой и воспринимается как вид, а точнее основа консенсуса, соглашения. К внутренней проекции, то есть своеобразному микроконтексту этоса науки можно отнести не только сами цели, задачи, программы исследования, но и способы коммуникации между учеными, атмосферу научноисследовательской работы. Внешней проекцией этоса науки является просчет проблемного ряда объективных последствий, негативы технологического применения научных открытий, их давление на природу, окружающую среду, их отдаленные экологические следствия. Можно согласиться с выводами исследователей заключающих, что «во-первых, нравственность проникает всюду, где встречаются два субъекта и где речь идет об их нуждах и угрозах для них. А во-вторых, наука не существует в неких чисто духовных сферах, она не витает над миром, она – дело вполне человеческое и касается огромного множества человеческих интересов» [3]. В ситуации принципиального плюрализма возможно столкновение программ, аргументирующих их обоснований, экспертных оценок и приоритетов. Вместе с тем, даже с точки зрения здравого смысла, очевидно, что осуществление разнонаправленных программ, чреватых негативами для человеческой жизнедеятельности, их внеоценочная рядоположенность, недопустимы. В современной картине мира, которую часто именуют как постнеклассическая, обозначена альтернативная, многовариантная стратегия развития. Этос науки, ориентированный на выживание человечества, благоприятные возможности его ближайшего и отдаленного будущего, вступает в противоречие с теми научными стандартами, в которых предполагается отказ от базовой системы ценностей, интерсубъективных, межчеловеческих регулятивов, общих правил, общезначимых норм. В проекте современной эпистемологии Р. Рорти речь идет даже об отсутствии субъекта, то есть о бессубъектной эпистемологии. Вместе с тем, в современной ситуации чрезвычайно важно обдуманно направлять мощь научно-технического прогресса в сторону, предполагающую максимально коэволюционное (согласованное) развитие природы и человека, цивилизации и природы, человеческой телесности и допустимых для нее информационных загрузок. Сфера современного этоса достаточно расширена и можно сказать модернизирована. В ней речь идет не о подавлении при помощи запрета и закона, а, используя слова М. Фуко, «об образовании себя через разного рода техники жизни». Традиционно считается, что именно Р. Мертон применил понятие этоса к социологии науки и обозначил этим понятием набор согласованных норм, некий социальный код, эмоционально воспринимаемый комплекс институционально одобренных и защищаемых правил, предписаний, суждений, довлеющих над «научным братством» [4]. Однако важно подчеркнуть не только социологическое, но и общефилософское значение понятия «этос науки». Этос науки предполагает соединение научного разума и интеллекта с гуманистическими ценностями, установками и ориентирами. Расширение пределов доверия ко всем без исключения 85 научным изысканиям основывалось в том числе и на эксплуатации мифа о великой спасительной миссии науки. Восприятие науки как наибольшей ценности человеческой цивилизации затушевывало тот проблемный ряд, который порождался самим развитием науки, скрывало ситуацию, когда источником обострения кризисных процессов выступала именно наука. Сфера этоса науки стягивает в один узел многообразные кризисные проблемы техногенной цивилизации, экологии, здравоохранения, демографии, военной промышленности. С особым напряжением они звучат в полемике сциентистов и антисциетистов. Для того, чтобы более рельефно очертить сферу научного этоса, противопоставим его системе, так называемых, внеморальных регулятивов. К ним относят все то, что «не опосредовано нравственным сознанием» [5]. В число внеморальных побуждений как раз и включены сугубо материальные интересы, предполагающие материальную выгоду и получение прибыли любой ценой. Иногда внеморальное качество приобретают способы удовлетворения потребностей и, в частности, чисто физиологических в ситуации крайней жизненной необходимости. Карьерное поведение зачастую оказывается, если не аморальным, то внеморальным. Многочисленные способы коммуникации с субъектами, которые оцениваются только с точки зрения полезности, получения личной выгоды также отличаются своей внеморальностью. Еще у Ницше можно найти вопрос: «В какой мере вся наука и философия были до сих пор под властью моральных суждений?» [6]. Вряд ли можно назвать сферу человеческой деятельности, где не применяются достижения науки. И вместе с тем моральная составляющая в детерминации развития науки достаточно слаба. Вопрос о том, могут ли сами ученые играть главную роль в решениях относительно применения тех открытий и технологий, которые они предлагают, или иначе вопрос о мере моральности науки? – достаточно сложен и вряд ли может иметь однозначный ответ. В нем присутствуют по крайне мере три аспекта. Первый аспект предполагает анализ потенциала и сущности открытий и новейших технологий. Этот аспект связан с проблемой внедрения, реализации технологии. Второй – указывает на позицию самого ученого. Третий аспект описывает подходы к проблеме социальных институтов, социальных допусков и запретов. Если анализировать первый аспект, то технологии являются комплексными процессами, имеющими системный характер. Многие люди вовлечены в процесс реализации технологической системы. Поэтому необходимо сформулировать следующие основополагающие нормативные замечания. Они должны звучать как императивы универсальной пользы: – продукт, получающийся от реализации технологической системы, должен быть возможен; – новые альтернативы и возможные направления деятельности, получающиеся в результате применения технологического продукта должны быть возможны; – материальные, психологические, социальные и культурные условия, требуемые для успешной реализации технологической системы, должны быть желаемы и возможны. Поставленный вопрос: «Могут ли ученые играть специальную роль в решениях относительно применения технологий, которые они развивают?» – не может иметь положительный ответ без экспертизы данной, конкретной технологии. Биотехнологии, генетика и, в особенности, клонирование не может применяться в процессе производства без угрозы для человеческой жизни. Решения в этих сферах должны опираться на гуманистические установки и принципы, суть которых в ориентации науки на выживание и непрекращающееся развитие всего человечества. В них должна содержаться ориентация на будущее, без чего выживание человечества невозможно. 86 Второе. Говоря о специальной роли ученого необходимо помнить, что ученый предлагает свою теорию с достаточной уверенностью в ее истинности. Как правило, ученые не акцентируют уязвимые и негативные аспекты теории или технологии, которую они развивают. Поэтому решения относительно применения технологии не может зависеть только от мнения ученого, эту технологию развивающего. Кто-то должен проверить результаты этих разработок. Иными словами каждая технология должна быть отдана на суд компетентным экспертам, выступающим от имени науки как социального института. Третье. Все многообразие социальных институтов, а также научная периодика, конференции, симпозиумы, конгрессы должны обеспечивать объективность критики и научных результатов. Социальные институты и эксперты, стремящиеся к истине, призваны обращать общественное внимание, как на объективную гуманную ценность новых технологий, так и на негативные аспекты их применения. Известный философ науки К. Поппер был уверен, что научный и технологический прогресс в значительной степени зависим от функционирования этих институтов. Существует еще и позиция, связанная с национальным интересом, которая иногда выдвигается как приоритетная. Она также задает «стандарты благоразумия» и очень влияет на сферу этоса науки. Именно здесь возникает то соперничество, которое может делать второстепенными этические приоритеты, отодвинуть их на периферию. Усилить потенциал «нечувствительности» и слепоты по отношению к сфере морального. Слепые пятна, отсутствие этического фокуса при развитии современнейших технологических разработок может привести к последствиям, в которых значение этических регулятивов будет принципиально обесценено и бессильно. Таким образом, вопрос о мере этичности науки, связан не только с личной ответственностью ученого, но и с целым комплексом общественных взаимодействий, имеющих средоточие в сфере социальной институционализации. В современных условиях этос науки целесообразно анализировать с учетом его системных и индивидуальных параметров. В первом речь идет об институциональных нормах, оценках или тенденциях, которым подвергается научное сообщество в целом и которые модифицируют его функции и направление деятельности. Во втором (индивидуальном) срезе речь идет о типичных личностных позициях, атмосфере научно-исследовательской деятельности, допустимых и недопустимых (компиляция, плагиат) приемах научного поиска, изменениях в личностном портрете и мотивации ученого/ученых, которые оказывают воздействие на его типические поведенческие реакции. Первые (системные) предполагают ряд достаточно четких оснований, среди которых на первом месте институциональное основание. В процессе трансформации научного этоса по данному основанию решающими оказываются такие факторы, как социальный ранг и исторический престиж того или иного научного направления и отрасли, его удельный вес в совокупном интеллектуальном потенциале научной индустрии, а также корпоративный характер управленческого слоя и имеющиеся традиции. Представители доминирующего научного сообщества или лидирующей научной школы воспринимаются как продолжатели восходящего движения, заметно продвигаются по иерархической социальной лестнице предпочтений и рангов. Существовала и существует устойчивая установка, когда достижения школы в прошлом воспринимались как гарантия верного направления научных исследований в будущем и наделялись высоким статусом. Они выступали и как гарантия его безупречной этичности и гуманности. Другим основанием выступает социально-психологическое основание доминирования сложившихся школ и маститых ученых над начинающими, когда конечная экспертная оценка, признание и рекомендации зависят от включения их в принятые слои научного сообщества. Это основание нацеливает на выявление 87 механизмов наследования и удержания социального статуса. На поверхности оказывается, что сама принадлежность к сообществу или научной школе с высоким социальным статусом автоматически обеспечивает оценки высокого ранга, принадлежность же к скромной научной среде дает не громкое, а лишь скромное общественное положение. Особенности отечественной специфики проявляются в том, что зависимость социальных субъектов скрепляется не формально-объективными и отчужденноролевыми отношениями, а во многом межперсональными, эмоционально и личностно окрашенными контактами. «Такая непосредственная вплетенность родовых, дружеских, содельческих, эквивалентных, трастовых связей в механизм общественного функционирования и структурирования придает нашему обществу совершенно неподражаемый стиль социального развития, – отмечают исследователи, – во всех процессах структурирования российского общества присутствует корпоративный дух, иррациональный и консервативный по западноевропейским меркам, что личные отношения оказывают сильное деформирующее воздействие…, что своячество и доверие являются сильным структуроформирующим основанием современного социального расслоения» [7]. К особо эффективным управляющим воздействиям относятся макрокоманды, распространяемые на всех, охваченных данной сеткой зависимостей членов. Кроме того, данная система противится режиму включения в нее новых типажей и новых членов. Ее расширение за счет талантливых самородков носит «достигательный характер», связано с тем, что тот или иной индивид «делает себя сам», примеряет новое социальное лицо, что во многом зависит от его личностных умений. Стремление изменить или усовершенствовать свои социальные параметры предполагает перемену общественного положения. Здесь срабатывает механизм самопричисления, но он не всегда оказывается приемлемым. Следует выделить также, характерное для России основание социальной инициативы, идущей извне. Имеется в виду многообразие социальных заказов вне учета конкретных индивидуальных способностей и возможностей исполнителей. Лидирующее научное сообщество как бы автоматически включается в последующие приоритетные разработки, встраивается в освоение данной проблемы, функционирует в контексте новых ролевых обязанностей. Его возможности и статус редуцируются на сопредельные сферы, что может и не соответствовать реальности. Безусловно, на особенности функционирования научного этоса оказывает воздействие процесс вестернизации, когда западные образцы поведения предлагают новую тональность системных качеств научного сообщества, модифицируют его целостный облик. Стиль общения, языковые заимствования, символика и знаковые стереотипы, комплиментарные поведенческие реакции, принятие эталонов и образцов западной жизни с замесом на российском менталитете и при отсутствии западного уровня жизни, порождает некий неузнаваемый эклектический тип современного ученого. Наибольшей ассимиляции к чуждым ориентациям подвержена относительно молодая прослойка ученых, а также «итээровская» прослойка. Стоит поднять вопрос, является ли эталонной для России платформа вестернизации, предполагающая не только мощные темпы научно технического прогресса, но и этические кодексы? Именно в сфере этических приоритетов исконный интеллигентский призыв «быть россиянами», «быть гражданственными» «любить свою страну, свой народ, свою культуру» всегда враждовал с тенденцией вестернизации общественного сознания. В общем смысле вестернизация связана с индустрией промывки мозгов и суггестивного влияния через рекламу, массовую культуру и политическую пропаганду. В этом случае весьма убедительно негодование Э. Фромма: «Эти методы побуждают нас покупать вещи, которые нам совсем не нужны и которые мы не хотим приобретать; вынуждают нас избирать тех политических деятелей, которых мы никогда 88 не избрали бы, если бы полностью контролировали себя», – пишет он. (Добавим, принимать проекты, которые не являются пригодными для наших условий.) По мнению Э. Фромма, эти гипнотические методы представляют «серьезную угрозу психическому здоровью, особенно ясному и критическому мышлению и эмоциональной независимости» [8]. Тиражирование стереотипов способов, приемов и методов решения проблем, стереотипов стиля и привычек, поточно-конвейерные способы индустрии и технологии опасны. Они лишают «почвенности», т.е. возможности осмысления применительно к данным условиям перспектив сделанных разработок, приучают к пассивному, беспроблемному, не сопряженному с нравственной рефлексией, восприятию заказа и сопровождающей его информации. В конечном счете, они могут привести к установлению режима манипулируемости, безусловной подверженности заказам, той или иной программной установки. Вестернизация ведет к утрате «самосознающей функции» научного сообщества, к его освобождению от «гнета» рефлексивности, анализа и осознания всего объема позитивных и негативных последствий научно-технической деятельности. Унифицирующие тенденции вестернизации встречают оппозицию со стороны самостоятельных ученых, представителей гуманитарной культуры и философов. Их критика иногда достигает высшей формы презрения к массовой культуре. Вместе с тем, следует признать факт, что современные системные трансформации деятельности научных сообществ подчиняются ориентации на специфичность индустриального технологического общества. Было бы нелепо отказывать индустриальным державам в совершенно очевидных достижениях в интенсивном стиле хозяйствования, в сфере парламентаризма, прав человека. Однако, особенностью индустриализованного общества является то, что закономерности действия данного механизма находятся вне компетенции человеческой воли и этики. Независимо от того, какую социальную позицию и какое место в социальной иерархии занимают люди, они оказываются всего лишь инструментами, вовлеченными в осуществление и функционирование индустриального процесса. И это отмечается аналитиками: «Машина становится столь могущественной, что ни один администратор, вплоть до президента США, не может свернуть ее с ее пути» [9]. Поэтому правомерно выделить еще одно основание трансформаций установок научного сообщества, которое имеет индустриально модернизационное содержание. Оно свидетельствует о безусловном принятии изменений стандартов, передовых технологий, достижений и образа действия представителей техногенной цивилизации. Так ориентированный современный ученый стремится к эталонному образу жизни, обеспеченности и благополучию, к адекватной своему интеллекту рыночной стоимости. Он освоил или пытается освоить модели рыночного поведения. Вместо «великого служения истине» естественным для него становится стремление к, так называемому, «буржуазному» образу жизни. Изменения в системе нравственных ориентиров ученого «в обществе потребления» происходят с утратой личностной автономии и независимости, с предельной релевантностью оценок и мнений, и, в конечном счете, могут привести к утрате объективности и суверенитета истины. Такой тип ученого готов беспринципно продавать свой труд, обменивая интеллект, ум и систему нравственных приоритетов на желаемый уровень благосостояния. В этой связи следует согласиться с выводами западных исследователей о превращении всех установок «в конечном счете, в ситуацию бизнеса, денег, власти» [10]. Ученый мир сегодня заметно коммерциализирован, вовлечен в динамику общества потребления и его приоритеты. Проблемы научного этоса усугубляет принципиальное отсутствие у ученых стремления «вхождения во власть», устранения от исполнения функций лица, принимающего общегосударственные решения. Характерное для ученого мужа чувство заниженного реального и активного властолюбия объясняется тем, что, во-первых, 89 крупный ученый изначально не любит властные структуры и тяготеет к оппозиционности. Во-вторых, он не выдерживает гнет властных, бюрократических полномочий, которые тяготят его и отвлекают от науки. Мир ученого – это мир идей, проблем, экспериментов, дискуссий и острой полемики. Это мир теоретических конструктов, возведенных «на кончике пера», мир лабораторных экспериментов, мир обсуждений с понимающими коллегами-специалистами, а не мир реальных хозяйственных преобразований. Ученый-методолог может проанализировать и модифицировать спектр социальных детерминант и приоритетов, выдать рекомендации, но он не способен переструктурировать саму социальную реальность. Его роль и влияние обозначено достаточно четко в рамках локальных ниш и сфер. Вместе с тем, к представителям умственного труда еще в 70-е годы по подсчетам социологов было отнесено 20% населения развитых стран. Это достаточно весомые показатели, причем на сегодняшний день темпы продолжают развиваться, обгоняя все прочие социальные прослойки. Наряду с естественно научной и гуманитарной интеллигенцией на первое место уверенно претендует научная и техническая интеллигенция, что обусловлено особенностями современной индустриальной эпохи. Другой крупной группой является административно-управленческие работники. Новыми активными действующими лицами, способствующими проведению этической рефлексии над наукой и оглашению ее результатов в структуре интеллигентской прослойки предстают активисты многочисленных партий и деятели телерадиовещания и рекламы. Современные отечественные исследователи с горечью отмечают, что «высшее образование перестает быть своего рода капиталом, приносящем проценты в виде буржуазного уровня жизни и высокого социального престижа. Университетский диплом обеспечивает всего лишь более выгодные условия продажи высокопрофессиональной рабочей силы, но отнюдь не статус «лица свободной профессии». Пополнение армии наемных работников большим числом лиц умственного труда в условиях научно-технической революции и государственномонополистического капитализма – процесс, протекающий для интеллигенции болезненно и напряженно» [11]. Данное состояние ведет к принижению статуса научного работника. В его деятельности, установках и ментальности появляется все более выраженная подчиненность социальному заказу, имеющимся иерархиям, заданным программам, а также уменьшение креативности и собственно творческой, поисковой компоненты в процессе научной деятельности. Личностная самоотдача и индивидуальные стремления проявляются в большинстве случаев с ориентацией на карьеру, престиж, высокооплачиваемый статус. В связи с этим особого внимания заслуживает проблема зависимости современного ученого. Институционализация науки не оставляет места для личной инициативы, она предполагает встроенное, функциональное использование труда ученого. В этой связи, заметно ощутимы подвижки в мотивационной сфере. Мотивация приобретает четко выраженную экономическую форму. Она определяется доходом. Ученый уже не стесняется ни спросить о цене, ни назвать ее. Здесь проявляются процессы трансформации интеллигенции «третьего мира», тех, кто стоит на последней ступеньке экономического уровня благосостояния. Широко распространенная пролетаризация представителей ученого мира вызывает беспокойство не столько необходимостью работы по найму, сколько принципиально экономически необеспеченным существованием, препятствующим ее воспроизводству. Для населения России в целом характерен один и тот же тип имущественного расслоения: более двух третей – бедных, маленькая группа богатых и небольшая прослойка граждан со средними доходами [12]. В период социально-экономических преобразований в России были порождены многообразные негативные тенденции. Общество, переживающее глубокий 90 экономический и финансовый кризис, перестает нуждаться в профессионалах высокого класса. Начало рыночных преобразований вытолкнуло массу специалистов высшей квалификации из соответствующей им страты, лишило их по формальным признакам занимаемого ими статуса. Типичный представитель класса научных работников, не имея средств к существованию, став фактически безработным, оказался перед необходимостью выбора новой жизненной стратегии. Установление абсурдных и совершенно иррациональных сумм заработной платы, не имеющих никаких соответствий с реальным прожиточным минимумом, неизбежно привело к горизонтальному и вертикальному разрушению научных и профессиональных сообществ. Пессимистический прогноз о резком ослаблении значения работников умственного труда и ученых в социальной жизни России стал общим местом в публицистике последних лет [13]. Однако невостребованность прошлого опыта высококвалифицированных специалистов обусловливает принципиальную неподготовленность кадрового состава любой сферы высокопрофессионального труда. Низкий уровень ожиданий влечет за собой снижение планки уровня образования и качества знаний. Весьма ущербные отрицательные оценки настоящего положения переносятся на будущее, образуется вакуум вынужденной адаптации к имеющимся условиям, он препятствует рождению инициативы, активности, эвристического поиска. Возникает ярко выраженная позиция невмешательства, отстраненности, нейтральности и неучастия. Это связано с ощущением бесперспективности санкционированных программ, а также с припоминанием своего исторического предназначения – быть уникальной мерой эталонной нравственности, порядочности, объективности. В связи с этим самостоятельной проблемой в контексте тематики научного этоса оказывается прогноз уровня инертности научного сообщества и отсутствие его социальных групповых целей. Такое состояние чревато ослаблением внутренних механизмов интеграции и консолидации, возникновением контактов с очень слабо установленной связью, лишенной устойчивых отношений между членами. Основной отличительной чертой становится частичный обмен информацией. Диспут, дискуссия, столкновение различных мнений, борьба за истину, в силу ее невостребованности и бесполезности перестают быть сферой приложения энергии. На фоне безразличия и инертности возникает ситуация размывания ученой прослойки, ситуация тотального плюрализма, в которой, по определению Фейерабенда, «допустимо все»: степени и звания присуждаются всем тем, кто в этом заинтересован по функциональным и прагматическим соображениям. В круг научных работников с учетом всех корпоративных правил вписываются лица, не имеющие вовсе или имеющие лишь косвенное отношение науке. Очевидной становится ситуация востребованности имиджа остепененности и произвольное расширение сферы мнимых ученых и кандидатов наук, то есть присвоения ученой степени лицам при игнорировании их реального несоответствия. Это одно из проявлений форм индустрии научных статусов, степеней, званий. Строго говоря, актуальным становится умение различать во множестве сертифицированных научных работников подмножество подлинных и подмножество неподлинных представителей ученого мира. Последние, как правило, используют полученные звания и статус для эффективного осуществления управленческой, административной, хозяйственно-организационной и пр. видов деятельности. Причем первое подмножество, породившее второе, выбирает по большей части вариант вынужденного существования. Оно постоянно в ожидании благ, защиты, выгодного контракта, повышения или хотя бы своевременной оплаты труда бюджетной сферы, однако сохраняет веру в признание значимости науки. В этих условиях обостряется процесс трансформации ученого классического типа, что нашло свое отражение в понятии «амбивалентность ученого». Известный западный философ науки Т. Кун определял науку как род деятельности, 91 осуществляемый конкретными людьми – учеными, как то, что делают ученые. Вместе с тем и сама конкретная персона ученого и тот род деятельности, который ей свойственен, не являются свободными от противоречий и заблуждений. Как справедливо отмечает Л.А. Микешина, «традиционная теория познания развивалась, критически осмысливая познающего эмпирического субъекта, чей процесс познания надлежало подвергнуть методу сомнения (по Декарту), и чье мышление необходимо было очистить от «идолов» (по Бэкону), различных «химер», порождаемых неправильным употреблением названий или противоречащими друг другу идеями (по Локку)» [14]. В портрете современного ученого рубежа ХХ–XXI вв. неизменно присутствуют черты индивидуальной трансформации данного типа. В нем можно найти особенности, разительно отличающие его от ученого классического образца и академического типа, ориентированного на античный тезис: «Платон мне друг, а истина дороже», неустрашимого горгоновым ликом истины, помещающим себя «в башню из слоновой кости» и не жалеющим свою жизнь во имя служения истине. На вопросы, поставленные Л.А. Микешиной: «Возможна ли радикальная модернизация рационалистической модели интеллекта?», «Как совместить эту модель и «человеческое в его непосредственности таким, каким мы его видим»? [15], мы получаем положительные ответы. Еще в 1965 году увидела свет работа Р. Мертона «Амбивалентность ученого», само название которой фиксировало противоположность норм, требований и ориентаций ученых в их деятельности. Столкновение норм обнаруживалось практически на каждом этапе научного исследования. Например, ученому необходимо как можно скорее сделать свои результаты доступными для коллег, но он обязан тщательно проверить свои результаты перед их публикацией, чтобы в них не проскользнула ошибка. Далее, ученый должен быть восприимчивым к новым идеям и веяниям, но он призван отстаивать свои научные принципы и не поддаваться интеллектуальной моде. От ученого требуется знать все относящиеся к области его интересов работы предшественников и современников. Вместе с тем, он должен сохранять самостоятельность мышления. Ученому необходимо стремиться вписать добытые им результаты в сокровищницу науки, однако с самого начала он должен быть скептически настроенным ко всем добытым в рамках предшествующей парадигмы знаниям. Следовательно, как отмечается в исследованиях, амбивалентность ценностнонормативной структуры науки всегда ставит ученого перед дилеммой. С одной стороны, жить и работать на благо человечества, с другой, – в условиях, когда результаты его исследований смертоносны и разрушительны, не взваливать на себя бремя ответственности за последствия их использования [16]. В идеальной модели ученого именно компетентность занимает огромное место. Она связана с профессиональным осознанием глубинной структуры своей дисциплинарной области, спектра проблем и способов их разрешения, круга специализированной литературы, владением специальной терминологией и логикой своей профессии. Компетентное мышление формирует позиции и стратегию решения поставленных задач и перспективного удовлетворения возникающих запросов. Компетентность часто мыслится как критерий в оценке деятельности руководителя. Она может быть разложена на закрепленные за руководителем системообразующие, аналитико-конструктивные, деятельностно-регулятивные и оценочнокорректировочные функции. Субъект, осознающий свою компетентность, может действовать в соответствии с требованиями и регламентациями, противодействовать им, а также блокировать или игнорировать их. На установки ученых оказывает значительное влияние углубляющаяся специализация и дифференциация наук. Она создает новые лакуны и ниши, в которых проявляется принципиальная амбивалентность ученых. С одной стороны, 92 профессионалы осуществляют строгий контроль в своей сфере и ограничивают поле принятие решений сферой своей компетенции, они де допускают в нее непрофессионалов, опровергают иные решения как некомпетентные. С другой стороны, они сами понимают, что возможность оригинальных решений по исследуемым проблемам, зачастую выходит за рамки их профессиональной компетенции, находится на стыке наук, либо вообще относится к сфере неординарных, так называемых, «сумасшедших идей». Дж. Холтон, опираясь на высказывания А. Эйнштейна, выявляет следующие мотивы, движущие учеными: «Ученый, мыслитель или художник для того, чтобы скрыться от хаоса мира, образованного опытом, создает «упрощенный ясный образ мира», помещая в него «центр тяжести своей эмоциональной жизни» [17]. Ученый убеждает себя в том, что объект исследования представляет собой нечто целое, самодостаточное. В частном, единичном эксперименте ему видится огромная перспектива. Взаимосвязи объекта, оборванные жесткими рамками эксперимента, оцениваются как второстепенные, не влияющие на полученные результаты. Вместе с тем, именно такого рода абстрагирование, достаточно распространенное в деятельности ученых, порождает ряд проблем, от которых могут проистекать сугубо негативные последствия, вызванные вмешательством в ход естественных, природных процессов. Выводы Н. Гильберта и М. Маклея говорят об определенной степени вариабельности суждений ученых, о том, что эта характеристика – их неотъемлемое свойство, а не следствие методологических неувязок. Ученые весьма различно оценивают поведение своих коллег, иногда они отказываются понимать очевидный смысл употребляемых терминов и теорий, крайне непостоянны в своих предпочтениях и мнениях, могут поменять их на прямо противоположные и перейти в стан интеллектуальных противников [18]. Таким образом, можно прийти к выводу, что субъект, возглавляющий научноисследовательский процесс, отличается сложной «археологией». И что примечательно, «существование просвечивает в этой археологии, как отмечает П. Рикер, – оно остается включенным в движение расшифровки, которое оно само порождает» [19]. Эти характеристики должны быть дополнены штрихами, проявившимися в условиях осуществления научно-исследовательской деятельности нашего современника – отечественного ученого. Для современного ученого свойственны глубокие переживания кризиса эпохи. Тенденцией индивидуальной трансформации современного ученого является смешение стереотипов поведения и мировосприятия. Зачастую нелегко заключить что-то определенное не только о типичном облике современного ученого, но и о его типичном образе действия, т.е. идентифицировать индивида с учетом социально-ролевых стереотипов восприятия. Традиционно к достоинствам ученого относили его объективность, логичность, отрешенность от повседневности, толерантность и космополитизм, антидогматизм, неприязнь грубой силы. Не скрывались враждебные настроения к чиновникам, карьеристам, бюрократам, зачастую к правительству и к оппонентам, абсолютизировался критицизм. Ученый всегда претендовал на наличие свободного, «незаорганизованного» пространства мысли, на собственную нишу уникальности и исключительности. Ему был свойственен отказ от копирования, подражания, критическое и диалогическое отношение к себе. Регистр этического и значимость этической позиции занимали всегда ведущее место в отечественной философии науки. Примечательно, что уникальной особенностью ментальности становилось сочленение этических и просветительских позиций. В авторском сознании ученого полемическая, этическая и гражданственная коммуникация были слиты воедино. Сложность конфигураций «Я-ученого» возникала при столкновении научной бескомпромиссности и той или иной, быть может, унаследованной с детства духовно93 религиозной мировоззренческой ориентации. Здесь личная память, сохраняя за собой автономию, отступала на периферию перед доводами научной логики. Так, например, Э. Шредингер, заканчивая свое выдающееся произведение: «Что такое жизнь с точки зрения физики?» – воздавал хвалу всевышнему. Отметим, что лишь при завершении труда, на всем протяжении которого доминировала научная логика. Однако, тем самым обнажалась уникальная ситуация, состоящая в том, что религиозное мировосприятие присутствовало и подспудно сопровождало весь процесс научного поиска. В обыденном, повседневном восприятии типичного образа ученого сложилось представление о вечной рассеянности, некоторой безалаберности и лености ученого. Существует устойчивое представление о том, что выдающиеся ученые испытывают большие сложности в повседневной жизни, они не рациональны, нуждаются в опеке и, как говориться, «не от мира сего». Современный ученый, как правило, объективно безволен и принципиально непрактичен. Это усталый человек, готовый к многообразной, личностно психологизированной системе аргументации. Он склонен также к излишней горячности и непредсказуемости в отношении эмоционального проявления личных реакций. Иногда фиксируется своеобразный моральный релятивизм, обусловленный разделением «на своих и чужих», «на мы и они». Индивидуальные трансформации данного типа ученого связаны с заниженными оценками профессионального статуса, а вследствие этого, и с размыванием параметров индивидуального профессионализма. В настоящий период вряд ли можно говорить о какой-либо стойкой формообразующей модели ученого. Размыт его классический образ, не принят и не отлился в форму иной – неклассический. Ученый вынужден менять свою социальную траекторию, заботиться о вписанности в существующие социальные структуры, разворачиваться от объективности в сторону конформизма, приспособленчества, адаптироваться к рыночным обстоятельствам, что, по логике вещей, всегда было чуждо интеллекту и критическому разуму. Однако требования социального выживания диктуют свои правила дозволенного. Акцент с плоскости эпохальной озабоченности судьбами человечества смещается в сторону озабоченности индивидуальной неустроенностью, неудовлетворительностью собственным социальным положением, бесперспективностью дальнейшей деятельности. Как говорят психологи, «монитор отклонения» жестко обуславливает жизненный мир ученого набором типичных стереотипов. Социологи в свою очередь фиксируют, что подобное мироотношение передается «от учителя к ученикам». Индивидуальный аспект формирования ментальности ученого обнаруживает две составляющие. Во-первых, это «процесс бесконечного делания и обработки своего духовного «Я». А во-вторых, для того, чтобы осуществить свою миссию и передать плоды знания, ученые нуждаются в подготовленных учениках. Вместе с тем, «люмпенизация» студенческой массы ставит под вопрос эту вторую составляющую, качество процесса обучения. Социально-психологический тонус студенчества на фоне резкого расслоения, не соответствует как приоритетам образования, так и возрастным особенностям психологии молодежи. Происходит отказ от норм и ценностей, свойственных социокультурному коду. Гарантий автоматического воспроизводства типа личности ученого в смене последующих поколений нет. Вместе с тем, представитель научного сообщества должен самоидентифицировать себя, различать свой социальный интерес, статус, типические отличия от представителей других социальных групп. М. Вебер отмечал, что именно через престиж групповой позиции возможно достичь монополии, единого стиля жизни [20]. Индивид, посвятивший свою жизнь науке, должен впитать в себя и постоянно реализовывать модели поведения, присущие именно данной социальной прослойке, миру ученых. Восприятие событий у него происходит с учетом интеллектуальной 94 составляющей, с учетом устоявшихся ценностно-нормативных регулятивов. Среди ученых выделяют теоретиков, экспериментаторов, прикладников, классификаторов, систематизаторов и пр. Вместе с тем, к миру ученых приложимы и такие, широко распространенные модели, как модель Прометея, Колумба, Сизифа. Прометеевская модель подчеркивает устремленность к поставленной цели, создание нового, важность науки и просвещения. «Прометеизм полагает, что человек – идеальный деятель, который достигает своих целей при помощи рациональных и строгих методов; причем якобы не существует расхождения между замыслом и результатом, между обещанием и делом. Вопрос о невыполнении теряет свой эмпирический смысл» [21]. Модель Сизифа фиксирует бесконечный процесс поисков и усилий, направленных на преобразование той или иной сферы. В ней нашли отражение и постоянный разрыв между замыслами и последствиями, и сложности достижения поставленной цели. Модель Колумба представляет собой вероятностную и открытую модель, включающую в себя возможность непредвиденных результатов и тех открытый, о которых ученый и не предполагал. Такой модельный подход очень важен, так как если анализируемый субъект может быть отнесен по характеристикам и особенностям своей деятельности к той или иной модели, то можно прогнозировать, какие приоритеты и принципы будут положены в основу его деятельности. Выводы из области нейрофизиологии высшей нервной деятельности утверждают, что развитие левополушарных связей отвечает за логику, интеллект и однозначные, рационально ориентированные установки, характерные именно для ученых. Вместе с тем, это ведет к сужению всех других каналов мировосприятия. И когда ученые ссылаются на интуицию, ассоциации и метафоры, воображение и внезапные догадки, они стремятся вырваться за пределы жестких схем рациональности и аналитизма. Насколько развитая рациональность, отточенная логика способствуют развитию нравственности и этики? Это вопрос сложный, ведь последние питаются импульсом целостного постижения действительности во всем ее многообразии. Когда известный французский математик, физик и методолог Ж. А. Пуанкаре провозглашал конвенциализм, который утверждал в качестве основы развития научных знаний соглашения между учеными, он мыслил универсально. Подобный конвенциализм может быть обращен и в сферу научного этоса. В этом случае статус этичности приобретается на основе конвенции, соглашения. Соглашения же, по мнению Ж.А. Пуанкаре, связаны соображениями удобства и простоты [22]. И это еще одна дополнительная проблема, обостряющая соотнесение прагматизма и этики. Во многом изменились протоколы, отчеты, свидетельствующие о состоянии внутреннего мира современного ученого по сравнению с ученым классического типа. Если ученый классического образца весьма осторожен в высказываниях на религиозную тему, то современный ученый не склонен камуфлировать свое отношение к духовности и религиозности, он может быть либо воинствующий атеист, либо человек, тяготеющий к религии. В контексте отечественной истории сложилась уникальная ситуация, когда с падением догм коммунистической идеологии, именно религия стала заполнять духовный вакуум. В этой ситуации основными источниками массовой религиозности стали не храм, проповедь, исповедь, духовная семинария или личное общение с представителями духовенства с их серьезным внутренним кодексом. В качестве источников религиозности в большинстве своем выступили красивые повествование о библейских сюжетах и обрядах в СМИ: на телевидении, радио, в прессе, газетных и журнальных материалах, в выступлениях писателей, публицистов, деятелей культуры. Усвоение религиозной тематики происходило на фоне современного состояния нравственности, в смысловом контексте светской культуры, вне всяких духовных обязательств, облегченно в смеси с многообразием других ориентаций и устремлений. Так преломленная религиозная традиция, вписанная в интерпретацию «на злобу дня», стала своеобразной питательной средой, заполняющей 95 образовавшийся духовный вакуум. Она привела к росту особой категории людей, считавших себя религиозными, без конфессиональной самоидентификации, не обременявших себя ни необходимостью теологических знаний, ни следованию канонам религиозного мироотношения, то есть «христиан вообще», «верующих вообще», независимо от стратегии и тактики их реального поведения в повседневности и от обязательств духовно-нравственного плана. Если защищать статус этической компоненты как важной формообразующей составляющей ментальности ученого, то какова бы ни была реальная ломка и трансформации прослойки ученых, необходимо сохранение традиционных ценностей: объективность и профессионализм, честь и достоинство, долг и справедливость. В принципе каждый ученый должен соответствовать серьезному тесту на моральные качества, так как современная модель субъекта научно-исследовательской деятельности заключает в себе подвижную архитектонику меняющихся установок. В ней присутствует выявленная амбивалентность реестра предпочтений и поведенческих реакций, дуальность в процессе принятия решений, формулировки оценок и мнений с учетом привходящих обстоятельств Современное представление о научном этосе, не отменяя широкий спектр интерпретаций, указывает на укоренение морально-нравственных императивов, закрепленных как институционально, так и личностно. Для современной стадии развития науки важен не столько теоретический потенциал этоса, сколько содержащиеся в нем стимулы практического влияния. Уровень научной этики свидетельствует о здоровье социального организма в целом. Список литературы 1. Новейший философский словарь. – Минск, 2001. - С. 1240. 2. Вопрос о методе / Автобиография. - М., 2001. – С. 147. 3. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для аспирантов. - Ростов-на-Дону, 2002. - С. 416. 4. Мертон Р. Амбивалентность ученого. - М., 1965. - С. 485. 5. Новая философская энциклопедия. Т. 5. – М., 2001. – С. 37. 6. Ницше Ф. Воля к власти. – М., 2003. – С. 398. 7. Мостовая И.В. Социальное расслоение в России: методология исследования. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 80-81. 8. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1986. – С. 88. 9. Новиков Н.В. Мираж «организованного общества». - М., 1974. – С. 202. 10. Менегетти А. Система и личность. - М.,1996. – С. 27. 11. Иерусалимский В. Социально-экономические аспекты положения интеллигенции в ФРГ // Рабочий класс и современный мир. – 1972. - №4. – С. 109. 12. Мансуров В.А., Семенова Л.А. Интеллигенция конвертируемых предприятий // Социс. – 1998. - №10. – С. 100. 13. Воронцова Л.. Филатов С. Интеллигенция в постсоветском «капитализме» // Свободная мысль. – 1994 - № 5. – С. 51. 14. Микешина Л.А. Философия познания. - М., 2002. – С. 181. 15. Там же. – С. 124. 16. См.: Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации. - М., 2001. – С. 9596. 17. Холтон Дж. Что такое антинаука // Вопросы философии. – 1992. - № 2. – С. 127. 18. Гильберт Н., Маклей М. Открывая ящик пандоры. - М., 1980. – С. 9. 19. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - М.,1995. – С. 33. 20. См.: Вебер М. Избранные произведения. - М.,1990. – С. 709-711. 96 21. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек. Энциклопедический словарь. - М., 1999. – С. 193. 22. Пункаре А. О науке. - М., 1990. – С. 356. INSTITUTIONAL AND ANTHROPOLOGICAL BASIS OF SCIENCE ETHOS М.D. Cherkashin1), 1) Kursk State Politechnical University, 50 Oktyabrya, 94, Kursk, Russia, 305040; e-mail: [email protected] The article deals with ethical problems of classical and non-classical science in its relation with institutional and anthropological basis of the scientific knowledge. Key words: scientific ethos, classical and non-classical science, philosophical anthropology, sociocultural determination. 97 УДК 130.1 ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ И.Н. Шкуратов1), 1) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 В статье рассмотрены вопросы, связанные с существом и процедурами феноменологических методов, которые коренятся в учении основателя феноменологической философии Эдмунда Гуссерля. Ключевые слова: принцип феноменологического познания, феноменологический опыт, феноменологический метод, феноменологическая редукция. Феноменология относится к важнейшим философским стратегиям 20 столетия. Однако исследователи, желающие воспользоваться преимуществами феноменологической методологии познания, нередко упираются в набор растиражированных феноменологических концептов («редукция», «эпохе», «идеация», «феноменологическая установка» и т.д.), имея весьма смутное представление о принципах, предметности и процедурах реальной феноменологической работы. Таким образом, существует потребность в систематизации феноменологического учения о методе и в прояснении конкретных методологических процедур для более эффективного их использования в философских и научных исследованиях. Принципы феноменологического познания Мы рассмотрим вопросы, связанные с существом и процедурами феноменологических методов, отталкиваясь от учения основателя феноменологической философии Эдмунда Гуссерля [1]. Прежде всего, нужно сказать о том, что гуссерлевский проект, преследуя цель аподиктического прояснения последних источников человеческого познания, исходит из идеи философии как «строгой науки». Отличительной чертой философской научности, по Гуссерлю, является ее предельный радикализм, который фиксируется в феноменологическом принципе беспредпосылочности: феноменологическое исследование должно отстраниться от всех тех предпосылок («метафизических», психологических, естественнонаучных и других), которые не могут быть «феноменологически реализованы». Следствием принципа беспредпосылочности выступает отказ от заимствования положений и методов каких-либо дисциплин в качестве само собой разумеющихся. Таким образом, феноменологическое исследование должно подчиняться нормам собственной автономии. «Феноменологическая реализация», о которой упомянуто выше, означает не что иное, как приведение к очевидности, поэтому введенный Гуссерлем в «Логических исследованиях» принцип беспредпосылочности по сути оказывается негативной формулировкой используемого в позднейших работах принципа очевидности («принципа всех принципов», «первого методического принципа»). Обобщая, можно сказать, что лишь опыт очевидности рассматривается основателем феноменологии как законный источник познания: «в конечном счете всякое подлинное знание и в особенности всякое научное знание покоится на очевидности, и предел очевидности есть также предел понятия знания» [2]. Очевидность есть критерий и опыт истины. Последняя же истолковывается как идея полного тождества (совпадения, идентификации) смыслов мышления и созерцания (подразумевающей и исполняющей интенций). Позднее Гуссерль переносит акцент в трактовке очевидности с синтеза идентификации на созерцательную самоданность предмета. То, что дано полностью и в своей «самости», не нуждается в гипотезах и каузальных объяснениях, оно должно исследоваться чисто дескриптивно. Этот принцип предопределяет характер феноменологических исследований. 98 Предельные очевидности, на которых возможно построить ту или иную систему строгих знаний, суть очевидности первичного опыта. Внешний (чувственный) опыт, по Гуссерлю, никогда не обладает адекватной очевидностью, поскольку в нем всегда подразумевается более, чем может быть созерцательно исполнено [3]. Такую очевидность может гарантировать только внутренний опыт, опыт сознания. Опыт сознания оказывается универсально фундирующим, поскольку смысл любых внешних сознанию объектов, согласно гуссерлевской феноменологии, формируется («конституируется») в сознании, любой внешний опыт опосредуется опытом сознания. Таким образом, опыт сознания приобретает статус первичного и предельно обосновывающего опыта. Сознание понимается в феноменологии как интенциональное переживание. Интенциональность означает фундаментальную характеристику любого сознательного переживания быть сознанием «о чем-либо». (В восприятии нечто воспринимается, в представлении — представляется, в суждении — утверждается или отрицается, в желании — желается и т.д.) Важнейшей функцией сознания выступает смыслоформирование — конституирование смысла предметов опыта. Возникает вопрос, как возможно общезначимое (научно-«объективное») и вместе с тем имманентное исследование опыта сознания и чем феноменология отличается от эмпирической психологии? Ответ Гуссерля состоит в том, что общезначимость можно достичь только в априорном («сущностном») исследовании субъективной сферы. Вот почему он постоянно повторял, что феноменология возможна лишь как трансцендентальная дисциплина. Тем не менее, априоризм Гуссерля значительно отличается от кантовского. В своей концепции «материального Априори» основатель феноменологии попытался «примирить» позиции рационализма и эмпиризма: Априори не только предписывает опыту всеобщие и необходимые условия, но и само обретается в особом роде опыта (идеация, созерцание сущности). С принципом априоризма тесно связано кардинальное различие реального (эмпирического) и идеального (сущностного) аспектов внутреннего опыта, которое Гуссерль установил в своей критике психологизма в логике. Это различие далее конкретизируется как различие связи истин, актов и предметов познания, предписываемое всякой науке. Последнее различение, в свою очередь, может быть трансформировано в различия структурных элементов интенциональности: переживаемый интенциональный объект (ноэма), акт переживания (ноэсис), предмет интенциональной направленности. То же различие реального и идеального лежит в основе гуссерлевского разделения наук на фактуальные и эйдетические. Феноменологическое познание не направлено на установление эмпирических фактов подобно естественнонаучному познанию, не занимается их структурацией, обобщением или установлением причинно-следственных связей между ними. Предметом феноменологического интереса являются сущности (Априори) и сущностные законы, составляющие условия возможности всякого фактуального знания. Таким образом, феноменологический метод применяется не для получения нового позитивно-научного знания (напр., в виде индуктивных законов), а для прояснения смысла и априорных закономерностей какого-либо познания и его объектов, поскольку они обусловлены конституирующей активностью сознания. Иными словами, специфика феноменологической методологии состоит в том, что она направлена не на производство (конструирование) концептов и концептуальных моделей, а на прояснение-осмысление того, как конституируются («устанавливаются», «формируются») смыслы тех или иных предметностей. Феноменологический опыт «Выражение “феноменология”, — отмечал в «Бытии и времени» М. Хайдеггер, — означает прежде всего методическое понятие» [4]. Своеобразие феноменологического метода состоит однако в том, что его нельзя просто «выучить», 99 поскольку он реализуется в особом роде опыта, обращение к которому, по словам Гуссерля, производит «революцию в человеке». Тот же Хайдеггер, приступив к освоению «Логических исследований», постоянно мучился одним и тем же вопросом: «как должно приводить в исполнение способ мышления, называемый “феноменологией”?» [5]. Разрешение подобных затруднений видится нам на пути предварительного прояснения самого феноменологического опыта. Что же представляет собой тот опыт, в котором реализуется феноменологическое мышление? Основатель феноменологии дает следующий ответ: «“Феноменологический опыт” — это, естественно, не что иное, как та рефлексия, в которой нам становится доступным психическое в его собственной сущности» [6]. Важно отчетливо зафиксировать, что, согласно Гуссерлю, вся феноменологическая работа, ее предмет и все результаты «принадлежат» рефлективному опыту. С одной стороны, интенциональное сознание вместе со своими структурами открывается (дано) исключительно в рефлексии [7]. С другой стороны, рефлексия — «это общая рубрика для всех тех актов, в каких становится очевидно схватываемым и анализируемым поток переживания со всем многообразно встречающимся в нем (моменты переживания, интенционалии)» [8]. Иначе говоря, рефлексия — это универсальный метод самопознания сознания: «феноменологический метод безусловно и исключительно вращается среди актов рефлексии» [9]. Далее мы попытаемся продемонстрировать, что феноменологический метод (в первую очередь, редукция) может быть понят и «исполнен» только на основе рефлексии. Многими исследователями была замечена проблема соответствия описываемого Гуссерлем метода методу его «действительной» работы. Так, П. Рикёр в своей статье «Кант и Гуссерль» отмечает разницу между используемым Гуссерлем методом и его интерпретацией [10]; Э. Штрёкер, подразумевая ту же проблему, говорит о необходимости следовать не словам Гуссерля о том, что он делает, а тому, что он в действительности делает, поскольку феноменология «не столько теория, сколько стиль философской практики» [11]. В.И. Молчанов придерживается сходной позиции: «Экспликация опыта в текстах может не совпадать с опытом, воплощенным в этих текстах. Иными словами, эксплицитная методология может не совпадать с имплицитной» [12]. Примечательно, что данная проблема ставится в виде гипотетических суждений. Дело в том, что любая попытка отделить описываемый метод от «действительно» используемого представляет собой интерпретацию не менее, а скорее более проблематичную, чем аутентичная интерпретация. Однако вопросы возникают неспроста. Сомнения главным образом нацелены на метод редукции и его описания в «Идеях I» и последующих произведениях. Переход к сфере феноменологической работы (соответственно, к феноменологическому опыту) зачастую описывается Гуссерлем как смена установок. Пожалуй, это единственное методическое разъяснение, которое встречается в его первой феноменологической работе — втором томе «Логических исследований». Позже смена «естественной» и «феноменологической» установок нередко описывалась при помощи эпохе или редукции, но в «Логических исследованиях» эти методы еще не были введены. Посмотрим, за счет каких средств Гуссерль описывает здесь переход к феноменологическому опыту, и что представляют сами эти «переход» и «опыт». «Источник всех трудностей заключается в том, что в феноменологическом анализе требуется противоположная естественной направленность созерцания и мышления. Вместо того чтобы растворяться в выстроенных различным образом друг на друге актах и, таким образом, обращаться исключительно к их предметам, мы должны, скорее, «рефлектировать», т.е. сделать предметами сами эти акты» [13]. Т.е. нашими объектами в феноменологической установке должны стать не те естественные объекты, которыми мы обычно заняты (например, внешние вещи, ценности, теоретические 100 положения и т.д.) вместе с принадлежащей им бытийной значимостью, а акты, в которых полагаются эти объекты. Обращение к этим новым объектам вполне четко, как это видно из приведенной цитаты, описывается Гуссерлем как рефлективное обращение. Переход к феноменологической установке, которую Гуссерль часто называет также «теоретической» или «рефлективной», описывается им именно как рефлективный переход [14], наконец, сфера «чистого сознания», достигаемая путем смены установок, представляет собой именно рефлективную сферу: «Мы живем теперь исключительно в таких актах второй ступени, данное в которых есть бесконечное поле абсолютных переживаний: основное поле феноменологии» [15]. Феноменологические методы Феноменологические методы представляют собой взаимосвязанное единство принципов и процедур сущностного исследования данностей первичного опыта – феноменов. Условно можно выделить три основных метода (или три момента единого метода), используемых в феноменологии: феноменологическую редукцию, идеацию и дескрипцию. В реальной феноменологической работе эти методы тесно взаимосвязаны и предполагают друг друга; разделить их возможно только в абстракции. С помощью феноменологических эпохе и редукции мы получаем методологически обеспеченный доступ к предметам исследования, раскрывая сферу имманентного опыта. Последовательное осуществление редукций ведет к дальнейшему «очищению» этой сферы, вплоть до ее априорных оснований. Усмотрение сущности, или идеация, является интуитивным (и в то же время рациональным) методом разработки внутри редуцированных сфер. В идеации добываются «чистые сущности» предметов опыта. Наконец, открытое в феноменологическом созерцании должно быть зафиксировано так, как оно было дано, т.е. чисто дескриптивно (описательно). Стало быть, феноменологический метод имеет дескриптивный, а не каузально объясняющий характер. Феноменологические редукции Прежде всего нуждается в прояснении сам термин «редукция». Нередко он используется в смысле «сведения одного к другому». В этой связи возникает доктрина редукционизма, подразумевающая возможность сведения сложных явлений к простым, объяснения законов сложных систем посредством законов простых систем и т.п. Следует иметь в виду, что Гуссерль, выступая против всех форм подобного «редукционизма», употребляет этот термин в ином смысле. Конечно, русское слово «сведение» имеет достаточно широкий объем, чтобы с его помощью можно было бы говорить также о сведении трансцендентного к имманентному, но все же «сведение» не является адекватным переводом для латинского ‘reductio’. ‘Reductio’, по словарным справкам, имеет следующие основные значения: возвращение, отодвигание назад, приведение обратно. Сравним эти значения со значениями латинского ‘reflexio’: обращение назад, поворачивание, загибание. Таким образом, уже на чисто лингвистическом уровне эти выражения можно рассматривать как очень близкие по смыслу. Хайдеггеровское определение редукции как возвращения (возведения) взгляда очень тонко демонстрирует исконный смысл слова ‘reductio’ [16]. Как мы видели, в «Логических исследованиях» Гуссерль вполне обходился понятием рефлексии для описания перехода в сферу феноменологического опыта. Позднее философ не раз упоминал о том, что методология редукции была уже предуготована в понятии феноменологической рефлексии [17]. Каковы те причины, что привели к появлению в арсенале Гуссерля особого понятия (и метода) редукции? Мы неизбежно попали бы впросак, если бы попытались выявить фактические обстоятельства дела. Тем не менее определенная идеальная реконструкция соответствующих оснований представляется нам допустимой и даже необходимой. Как известно, исследования второго тома «Логических исследований» были повсеместно расценены как дескриптивно-психологические (во многом благодаря 101 самоинтерпретации Гуссерля). Понятие рефлексии стало одним из центральных объектов критики, поскольку в нем видели возрождение давно обесцененного принципа интроспекции. Непонимание, с которым столкнулся основатель феноменологии, было настолько вопиющим, что он даже не узнавал в критикуемых положениях свои собственные. Гуссерль, возлагавший большие надежды на создание феноменологического сообщества, не мог оставаться безучастным к этому факту и попытался значительно изменить языковые средства, чтобы сделать свои идеи более ясными [18]. Это одна из мотивационных линий. Другая состоит в том, что феноменологические взгляды Гуссерля после публикации «Логических исследований» претерпели ряд значительных изменений, связанных с переходом к трансцендентализму. Эти изменения затронули прежде всего методологию: вводились и упорядочивались новые уровни анализа, которые требовали своеобразной и более развитой методической базы. В результате появилась первая книга «Идей», центральное место в которой было отведено под учение о феноменологической редукции. На наш взгляд, к этой работе вполне применимы золотые слова Канта: «некоторые книги были бы гораздо более ясными, если бы их не старались сделать столь ясными» [19]. Многочисленные метафоры, типа «введения» и «выведения» за «скобки» и «кавычки», «выключения» и проч., с помощью которых описывались процедуры редукции, способствовали многочисленным неверным истолкованиям этого метода и уводили от его сути, на что справедливо указывают некоторые исследователи феноменологии [20]. Первоначально феноменологическая редукция вводилась Гуссерлем в качестве дедуцированного «теоретико-познавательного принципа», который был призван методически реализовать принцип беспредпосылочности путем a) «нейтрализации» трансцендентно-объективирующих полаганий и b) обращения от них к их имманентным коррелятам (феноменам) в сознании [21]. Как мы далее увидим, эта двойная задача выполняется в единой рефлективной процедуре. Следует сказать о том, что Гуссерль вводит для обозначения своего метода еще один термин — «эпохе», который по аналогии с «воздержанием от суждения» древнегреческих скептиков означает воздержание от догматического содержания существующих философий и наук, а также воздержание от полагания бытия и поначалу используется как равнозначный «редукции». Термин «редукция» Гуссерль считает все же более подходящим для описания различных спецификаций и ступеней данного метода. В «Идеях I» отдельные редукции в рамках единой феноменологической редукции мыслятся как редукции тематические, отличающиеся видом «выключаемой» (или «нейтрализуемой») предметности, будь то теологическая, материальноэйдетическая или какая-либо иная особая предметность. Одновременно намечаются различные уровни редукции, которые позже будут систематизированы, в частности, под рубриками феноменолого-психологической и трансцендентальной редукций. При поверхностном прочтении «Идей I» возникает соблазн трактовать редукцию как «выключение мира», скептическое сомнение или негацию реального бытия. Поэтому необходимо разобраться, что же именно «выключается» («нейтрализуется», «выводится из игры») при осуществлении феноменологической редукции? Редукция «выключает» или, лучше сказать, «нейтрализует» не мир или его аспекты, но бытийную значимость мира и его предметов, т.е. ту «доксическую характеристику», с которой эти предметы полагаются в первичных (дорефлективных) переживаниях. Дескрипции Гуссерля чаще всего отталкиваются от анализа восприятия и пытаются сыграть на различии характера очевидности «Я есть» (точнее, cogito sum) и «мир есть». Очевидность бытия мира неизбежно имеет презумптивный характер, тогда как очевидность бытия ego cogito, по Гуссерлю, аподиктически гарантирована. Другими словами, предпосылка бытия реальных предметов, реального мира вообще, является метафизической, поскольку она не может быть удостоверена в очевидном усмотрении. 102 Следовательно, эта предпосылка бытийной значимости, согласно принципам беспредпосылочности и очевидности, должна быть нейтрализована. То же требование распространяется Гуссерлем и на «доксические характеристики» всех иных первичных полаганий: практическую или эстетическую ценность, полезность, опасность, желательность, убежденность и т.д. В редукции я отстраняюсь от той «бытийной веры», с которой полагаются объекты моих первичных переживаний, я попросту не участвую в этой вере, обретая тем самым позицию «незаинтересованного наблюдателя» по отношению к своим первичным полаганиям. Бытийная значимость, от которой я отстраняюсь, не уничтожается, но «заключается в скобки», чтобы предстать в рефлексии для осмысления [22]. Именно поэтому Гуссерль называл феноменологическую установку «подлинно теоретической», «антиутилитарной», «созерцательной». Для уточнения специфики феноменологической редукции полезно сравнить ее с картезианским сомнением. На определенную преемственность метода редукции относительно метода, используемого Декартом в первых Медитациях, указывал сам Гуссерль [23]. Тем важнее для нас понять различия этих методов. Декартовское сомнение в бытии мира подразумевает, по мнению Гуссерля, некоторую негацию: в противоположность тезису «мир существует» акт сомнения выносит антитезис, полагает небытие мира. Редукция же снимает не только тезис, но и антитезис. В противном случае, сохранялось бы определенное полагание бытия, пусть и в модусе «небытия». Таким образом, феноменологическая редукция не зависит от феномена сомнения [24]. Пора задаться вопросом о той процедуре, которая позволяет осуществить редукцию, т.е. «вывести из игры» нашу бытийную веру и одновременно сделать доступными имманентные данности. Проясняя процедуру этого метода в своих лекциях по «Теории феноменологической редукции», Гуссерль без обиняков начинает с рефлексии [25]. Допустим, я воспринимаю дом. Объектом, на который я направлен в этом восприятии, является сам дом, реальная вещь мира. Этот объект полагается мною в восприятии как реально существующий. В рефлексии я делаю своим объектом акт восприятия дома вместе с присущим ему бытийным полаганием. Таким образом, в рефлексии первичный акт выступает не как актуально полагающий, но как объект нового, рефлективного, полагания. Теперь я не живу в бытийной значимости первичного акта, но созерцаю ее как «незаинтересованный наблюдатель». В «Теории феноменологической редукции», а позже в «Картезианских размышлениях» для объяснения процедуры редукции Гуссерль прибегает к феномену «расщепления» переживающего Я в процессе феноменологической рефлексии. В §15 «Картезианских размышлений» этот феномен описывается следующим образом. Первичное переживание определенным образом полагает бытие того, что в нем переживается, и Я, к которому отнесено это переживание, оказывается погруженным в мир и заинтересованным в нем. Но в акте феноменологической рефлексии над «вжитым» в мир Я утверждается Я феноменологическое, «не участвующее» в бытийной вере первого и в качестве «незаинтересованного зрителя» созерцающего его жизнь [26]. В связи с тем, что редукция неизбежно выполняется в актах рефлексии, возникает весьма сложная проблема различия редукции и рефлексии. В.И. Молчанов в своей статье «Понятие рефлексии в контексте феноменологического учения о времени» указывает на особую близость понятий редукции и рефлексии у Гуссерля, замечая, что «в определенном смысле они тождественны» [27]. С другой стороны, Г. Шпигельберг, автор фундаментального труда по истории феноменологического движения, пишет: «Если редукция подразумевает лишь удержание от убеждения и сопутствующую рефлексию, то возникает вопрос, почему редукция должна произвести такой переворот оснований философии, как это считал Гуссерль» [28]. Шпигельберг, анализируя труды Гуссерля (в том числе используемые нами), не находит однозначного ответа на 103 поставленный вопрос, замечая только, что редукция предполагает некие дополнительные шаги, однако «нелегко определить, что собой представляют эти дополнительные шаги редукции» [29]. При этом исследователь ссылается на заявления Гуссерля о незавершенности работы над объяснением редукции и на экстраординарные трудности такого объяснения. На наш взгляд, понятие редукции является не просто более широким, чем понятие рефлексии, но и более гибким: оно позволяет выделять разноплановые структуры и направления феноменологического описания (сферы тематизации, уровни дескрипции). Причем, если понятие рефлексии применимо к отдельным актам, то понятие редукции применяется к целым «сферам» или «пластам» опыта. Именно в этом смысле и стоит, видимо, понимать эйдетическую редукцию, которая не только совершается в актах идеации, но и предполагает переход в область исключительно эйдетического опыта. Далее мы рассмотрим особенности основных видов феноменологической редукции, различающихся по своему объему и достигаемым результатам. Выполнив феноменолого-психологическую редукцию, мы, по мысли Гуссерля, во-первых, обретаем подлинно теоретическую «позицию» исследователя, свободного от необходимости предпосылать своему исследованию некоторое наивно принятое толкование смысла бытия, а во-вторых, впервые раскрываем «жизнь» субъективности, ту сферу деятельности сознания, «сквозь» которую мы все это время смотрели на вещи, оставляя между тем саму ее постоянно «просмотренной». Вместо вещей, ценностей, целей и т.д. мы раскрываем тот субъективный опыт, в котором они «являются», мы изучаем то, как они являются, будучи «единицами смысла», феноменами, сплетающимися в единый «гераклитов поток» интенциональной жизни. Важно отметить, что именно рефлексия обращает нас к сфере имманентности, и именно она является «инструментом», с помощью которого вычленяются отдельные смысловые единицы (феномены) в потоке сознания. В рамках раскрытой сферы индивидуальной душевной жизни может быть проведена эйдетическая редукция, выделяющая сущностные формы психического бытия. В произвольных вариациях фактических данностей сознания мы усматриваем всеобщие виды («эйдосы») переживаний и предметностей, коррелятивные тому или иному региону сущего. Каждому региону соответствует «эйдетическая наука», или онтология, исследующая выявленные эйдетической редукцией сущностные структуры региона [30]. Трансцендентальная редукция может надстраиваться над психологической и эйдетической редукциями как этап более глубокого «очищения» сферы имманентного опыта. Если феноменолого-психологическая редукция направлена на вскрытие потока наших психических переживаний, а эйдетическая – на усмотрение чистых видов переживаний и предметностей, то трансцендентальная редукция нацеливается на описание самой структуры сознания как переживания. Трансцендентальная редукция предполагает «заключение в скобки» не только того, что подверглось психологической и эйдетической редукции, но и всего душевного и эйдетического. Содержания феноменов моей фактической душевной жизни перестают быть предметом интереса. Более того, меня теперь не интересует и свое собственное существование в качестве психофизического субъекта. Трансцендентальное эпохе распространяется не только на реальный мир, но и на все возможные «идеальные миры», включая науки и культурные ценности. Выполняя трансцендентальную редукцию, мы обращаем взгляд от содержания феноменов к их всеобщим структурам, т.е. ноэтико-ноэматическим корреляциям, открывая сферу «чистого сознания», сознания как «чистой возможности» любого фактуального сознания вообще. Так проявляется универсальная область сознания, конституирующая мир и душевную жизнь — трансцендентальная субъективность. 104 В заключение стоит отметить, что большинство последователей Гуссерля не поддержало идею трансцендентальной редукции, расценив ее как уклонение от фундаментального принципа феноменологии обращаться только «к самим вещам». Ранний Хайдеггер использует понятие феноменологической редукции для обозначения метода тематизации бытия путем возвращения феноменологического взгляда от схватывания сущего к пониманию бытия этого сущего. Идеация Идеация («категориальное созерцание», «созерцание сущности», «эйдетическая интуиция») в самом общем смысле означает направленность сознания непосредственно на всеобщее, («эйдос», «сущность», «Априори»). Акты созерцания всеобщего, по Гуссерлю, принципиально отличных от актов созерцания единичного, тем не менее, первые фундированы во вторых и в конечном итоге — в первичных чувственных созерцаниях. То же коррелятивно относится и к идеальным предметностям: «Их способ явления сущностно определяется этим отношением. Здесь идет речь о сфере объективностей, к о т о р ы е м о г у т я в л я т ь с я « с а м и » т о л ь к о в т а к и м о б р а з о м ф у н д и р у е м ы х а к т а х » [31]. Тем не менее каждый категориальный акт созерцания, согласно классификации, данной в «Логических исследованиях», имеет: 1) свое качество, 2) свою (интенциональную) материю, т.е. смысл схватывания, 3) свои репрезентанты. Указанные структурные моменты категориальных актов содержательно отличны от соответствующих моментов фундирующих актов. Причем, в качестве репрезентантов категориальных созерцаний могут выступать только содержания рефлексии [32]. В «Идеях I» Гуссерль выдвигает тезис о том, что всякое созерцание в принципе может быть преобразовано в сущностное созерцание [33]. Заметим, что такая возможность выполнима только в рефлективных актах. Подобно чувственному созерцанию, созерцание сущности (в широком смысле) может быть адекватным или неадекватным, различаться по степени ясности и отчетливости. Исследователи гуссерлевской феноменологии не раз отмечали факт многочисленных неверных трактовок идеации, или Wesenschau. Дело в том, что в издававшихся при жизни Гуссерля исследованиях метод идеации и его процедура были прояснены недостаточно. В «Философии как строгой науке», а затем и в §20 «Идей I» Гуссерль показывает, что позиция эмпириков, не признающих сущностное познание, противоречива. Эмпирическое исследование неизбежно прибегает к сущностным констатациям, дедуктивным или индуктивным выводам, полагающим всеобщее, которое недоступно эмпирическому познанию. В то же время, если опосредованное познание лишается опытного оправдания, то чем оно лучше спекуляций идеалиста? «Кажется, эмпирики вовсе не заметили того, что научные требования, предъявляемые ими к познанию, вместе с тем адресованы и их же собственным тезисам» [34]. Следовательно, феноменология, последовательно отстаивающая и проясняющая опыт познания сущностей, есть радикальный эмпиризм и подлинный позитивизм. Особо стоит отметить, что сущностное познание, по мысли Гуссерля, подразумевает не просто мышление (пустое полагание общего), но и созерцательное исполнение таких полаганий. Основатель феноменологии постоянно подчеркивает, что общее может не только мыслиться, но и созерцаться. Здесь возникает несколько важных проблем. Первая касается правомерности расширения понятия созерцания. В произведениях Гуссерля неоднократно встречаются попытки оправдания такого шага [35]. В целом они основываются на постулате, что всякое созерцание, в отличие от мышления, обеспечивает самоявленность предмета, непосредственно («во плоти») открывает его «духовному взору». Кроме того, Гуссерль апеллирует к неслучайности расширенного употребления понятия «видения» в естественной речи. Совершенно очевидно, что эта аргументация, черпающая свою силу из аналогий и метафор, не является достаточной. В расширенном понятии созерцания неизбежно размывается различие между мышлением и созерцанием, о чем свидетельствует уже всякая попытка 105 «созерцать» какое-либо идеальное образование, к примеру, число «два» (не цифру «2», а именно саму «двоичность» как таковую). Решающий аргумент Гуссерля состоит в том, что без допущения сущностного созерцания формально-логические и математические положения не могут быть очевидными, что противоречиво. В шестом исследовании «Логических исследований» условия возможности категориальных предметов вообще ставятся в необходимую корреляцию с условиями возможности категориального созерцания [36]. Следует учесть однако, что здесь предположена совершенно определенная концепция очевидности (см. выше). Тем не менее категориальное созерцание может быть проблематизировано и в ее рамках. Э. Штрёкер замечает: «представляется сомнительным, может ли очевидность чисто логических «положений дел» быть также объяснена при помощи расширенного подобным образом понятия созерцания» [37]. Если здесь сохраняется различие между пустой и исполненной интенцией, то как могут быть исполнены содержательно пустые логические формы? В конце концов, проблема категориального созерцания сводится, на наш взгляд, к вопросу: что же именно «стоит у нас перед взором» в этом случае. Если это единичный предмет со своими категориальными формами, то возникает вопрос о самоданности этих форм. Если же нам даны чистые формы, то могут ли они быть созерцательно исполнены? В феноменологии Гуссерля идеация очень тесно связана с эйдетической редукцией. В любом случае, когда идеация опосредуется феноменологическими редукциями (т.е. применяется к феноменам сознания), она осуществляется в актах рефлексии. Не случайно Гуссерль называет идеацию также «идеирующей рефлексией» [38] и «рефлексией сущности» [39]. Процедуры метода идеации подробно описываются в лекциях «Феноменологическая психология» и в выпущенном под редакцией Л. Ландгребе «Опыте и суждении». Дескрипции идеации в обоих произведениях в значительной степени перекликаются, поскольку при подготовке «Феноменологической психологии» В. Бимель использовал те же рукописи Гуссерля, что и Ландгребе в «Опыте и суждении». Уже в «Логических исследованиях» Гуссерль замечал, что в случае категориального созерцания нивелируется разница между восприятием и воображением [40]. Воспринятый вид «Красное» неотличим от воображаемого вида «Красное». Сознание общего с одинаковым успехом может строиться как на основе актов восприятия, так и на основе актов фантазии. Более того, фантазия имеет безусловное преимущество по сравнению с другими модусами сознания, поскольку она постоянно доступна и способна приводить свои предметы к совершенной ясности. Геометр, к примеру, постоянно погружается в это «царство чистых возможностей». Вот почему Гуссерль уверенно заявляет в Идеях I: «“фикция” составляет жизненный элемент феноменологии, как и всех эйдетических дисциплин, <…> фикция — источник, из которого черпает познание “вечных истин”» [41]. Исходным пунктом идеации служит некоторая фактическая данность имманентного опыта, Априори которой требуется установить. Эта данность кладется как «образец» или «пример» в основу идеирования. Далее на этой основе путем свободной вариации в фантазии модусов данности мы образуем горизонт произвольных вариантов начального «образца». При этом исходный «пример» превращается в чистую возможность наряду с другими возможностями, каждая из которых может стать центральным членом вариации. Таким образом, произвольная вариация становится решающим шагом в отстранении от всего фактического. Важными условиями осуществления идеации Гуссерль считает произвольность варьирования и постоянное поддержание открытости горизонта вариации, сохранение постоянной возможности «и так далее». Последнее условие не подразумевает однако произведения всех возможных (бесконечно-возможных) вариантов. Оживляемые фантазией 106 единичные варианты не просто следуют друг за другом, но образуют синтетическое единство, приходя к перекрывающему совпадению. В постоянном самосовпадении вариантов проступает общая им всем сущностная форма как необходимо сохраняющийся во всей вариации инвариант: «мы можем видеть с абсолютной достоверностью, что в выполнении произвольной вариации, поскольку различающееся в ней нам безразлично, так сказать, сохраняется постоянное совпадение вариантов и общая сущность в качестве Что или содержания, которая в этом совпадении остается необходимо инвариантной… Эта общая сущность есть эйдос, “idea” в платоновском смысле, но чисто схваченная и свободная от всех метафизических интерпретаций…» [42]. Идеация может быть исполнена и на основе идей. Пределом вариации выступает региональная сущность, которая уже не имплицирует вышестоящий род. В «Опыте и суждении» выделяются три основных шага процесса идеации: 1) порождающее протекание многообразий вариантов, 2) единая связь в постоянном совпадении, 3) усматривающая активная идентификация совпадающего в противоположность разнящемуся [43]. В связи с учением об идеации Гуссерль проводит несколько сущностных различий. 1) Идеация не имеет ничего общего с эмпирическим обобщением. Объем последнего составляют единичные факты, тогда как объем эйдоса — «чистые возможности». 2) Идеация осуществляется путем вариации, а не изменения. Изменение, как и неизменность, относится к реальному, существующему в постоянном временном становлении. В изменении предполагается тождество изменяющейся индивидуальности, в вариации мы, напротив, упускаем тождество индивидуального, чтобы сфантазировать другие индивидуальности. 3) Эйдос — не результат эмпирической абстракции (в смысле выделения части содержания). Дескрипция Согласно «принципу всех принципов», усмотренное в идеации «нужно принимать таким, каким оно себя дает», т.е. точно описывать открытые взору данности, не прибегая к объяснениям причинно-следственных отношений и толкованиям, руководствующимся внешней точкой зрения. С самого начала определяя характер своей работы как дескриптивный, феноменология движется в русле основной интуиции психологий Брентано и Дильтея. Своеобразие же феноменологической дескрипции состоит в том, что ее предметом выступают не эмпирические факты, не реальные события, но сущности. Гуссерль подчеркнуто именует свою дескрипцию «эйдетической», дабы ее не смешивали с описаниями реальных психических процессов и состояний. Помимо прочего, такая позиция мотивирована убеждением в невозможности точной понятийной фиксации индивидуальных переживаний флуктуирующего потока сознания. Но возможно ли, в свою очередь, описание сущностей? Значительное внимание рассмотрению данного вопроса уделил Г.Г. Шпет в своей работе «Явление и смысл» [44]. По его мнению, возможность описания сущностей коренится в том обстоятельстве, что феноменология относится не к формальным, а к материальным эйдетическим наукам. Следовательно, феноменологические сущности являются не пустыми абстракциями, но конкретными содержательными Априори. Действительно, если мы присмотримся ближе к предмету феноменологического описания, то заметим, что сущность восприятия имеет свою собственную специфику, отличную, допустим, от сущности воспоминания или воображения. Более того, имеет свое сущностное содержание и сущность «интенция». В этой связи В.И. Молчанов пишет: «Введя родовую сущность интенции, Гуссерль был вынужден, по существу, перейти к построению различных моделей сознания. Объявляя дескрипцию основой феноменологического метода, Гуссерль в то же время, полагает в качестве «единицы» сознания то, что в принципе не поддается описанию — интенцию как таковую, или переживание как таковое и его части. Тем самым разработка региона «чистое сознание» становится возможной только как структурирование переживания, 107 как структурная модель» [45]. На наш взгляд, здесь нет противоречия: описание сущности «интенция» по необходимости есть аналитическое описание ее сущностных структур (напр., ноэтико-ноэматической корреляции), и это еще отнюдь не означает теоретического моделирования. Если допустить, что сущность непосредственно созерцается в своих структурах, то нам незачем строить модели этой сущности. Помимо проблемы самой возможности эйдетической дескрипции феноменологическое учение сталкивается с проблемами понятийного выражения, а далее и с более широкими языковыми проблемами. Что касается понятийной фиксации опыта, то Гуссерль, с одной стороны, постоянно борется с всевозможными эквивокациями и требует однозначного употребления выражений, а, с другой стороны, как замечал В.И. Молчанов [46], стремится преодолеть субстантивацию терминов, учитывая неизбежные изменения и уточнения в процессе развития феноменологического анализа. Трудности дескриптивного исследования, которые были осознаны Гуссерлем, касались прежде всего отсутствия в естественном языке четких выражений, позволяющих описывать важные феноменологические различия, к примеру, различия между актом переживания и пережитым содержанием («суждение» как психический акт и одновременно как положение дел). Тем не менее философ считал допустимым использовать в феноменологических описаниях многозначные естественные выражения, рассчитывая на то, что в интуиции они «получают однозначную соотнесенность с определенно интуитивно постижимыми сущностями, какие “исполняют их смысл”» [47]. Нетрудно увидеть, что здесь мы попадаем в заколдованный круг: смысл выражений, фиксирующих опыт, сам должен фиксироваться в том же опыте. Последнее предполагает крайне проблематичную фиксацию самого опыта. Ж. Деррида вслед за О. Финком поднимает проблему «трансцендентального языка», т.е. собственного языка описания трансцендентального опыта [48]. Если трансцендентальный опыт предполагает редукцию «естественности», то эта редукция должна затрагивать и «естественный язык». Возникает вопрос: в каком языке может быть описано трансцендентальное сознание? В «Голосе и феномене» Деррида дает следующий ответ: «В действительности никакой язык не может справиться с операцией, посредством которой трансцендентальное эго конституирует и противопоставляет себя своему мирскому я, своей душе, отражающей себя в verweltlichende Selbstapperzeption» [49]. В целом фундаментальный характер языковой проблемы не был систематически осмыслен Гуссерлем, на что указывали уже его ближайшие сотрудники — Л. Ландгребе и О. Финк, в один голос заявлявшие о «языковой наивности» основателя феноменологии. Естественный язык не может быть полностью заменен техническим, и, в то же время, нельзя полностью отстраниться от бесчисленных коннотаций естественного языка с его вековыми традициями. Можно даже сказать, что язык неизбежно опосредствует «непосредственно переживаемую» действительность, причем не только в коммуникации, но и в «одинокой душевной жизни». Проблема языка — это не просто проблема однозначности языковых выражений, но проблема внутренней структуры самого сознательного опыта как опыта «языкового», как опыта, всегда уже вплетенного в предданый культурно-исторический контекст. Значимость этой проблемы была осознана в философской герменевтике (Г. Шпет, М. Хайдеггер, Х.Г. Гадамер, П. Рикёр), которая во многом отталкивалась от феноменологии Гуссерля. Говоря о «герменевтической прививке» феноменологии, мы не должны однако забывать о том, что Гуссерль не был абсолютно слеп к герменевтическим идеям и не противопоставлял описание истолкованию (в особенности в поздний период). В статье «Феноменология и антропология» он прямо говорит: «Подлинный анализ сознания — это, так сказать, герменевтика сознательной жизни» [50]. Кроме того, Гуссерль ясно видел и феномен герменевтического круга. Уже в во втором томе «Логических 108 исследований» мы встречаем ссылку на «зигзагообразное» движение исследования в процессе прояснения понятий, так как подобное исследование само вынуждено пользоваться понятиями, к прояснению которых следует снова и снова возвращаться [51]. Список литературы 1. Заметим, что другие мыслители, работавшие в рамках феноменологической традиции, хотя и испытывали в большинстве своем зависимость от гуссерлевского понимания феноменологической методологии, нередко привносили в нее собственные нюансы и решения. 2. Гуссерль Э. Логические исследования. Том I: Пролегомены к чистой логике // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 187. 3. Грубо говоря, мы всегда подразумеваем более, чем воспринимаем. Когда, например, мы видим дом, мы подразумеваем и те его элементы (пол, крышу, стены), которые в данный момент не воспринимаются. И если бы мы их не подразумевали, то мы бы видели не дома, а театральные декорации. Важно отметить, что ни одна вещь внешнего мира, по Гуссерлю, никогда не дана абсолютно, она дается в меняющихся проекциях, в горизонтах неопределенности. 4. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 27. 5. Хайдеггер М. Мой путь в феноменологию // Логос. 1994. №6. С. 304. 6. Гуссерль Э. Амстердамские доклады. Феноменологическая психология // Логос. 1992. № 3. С. 66. 7. См. там же, с. 65. 8. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. С. 164. 9. Там же, с. 160 и сл. 10. Рикёр П. Кант и Гуссерль // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. Томск, 1998. С. 163. 11. Ströker E. The Husserlian foundations of science. Washington, 1987. P. 22. 12. Молчанов В.И. Аналитическая феноменология в Логических исследованиях Эдмунда Гуссерля // Гуссерль Э. Собрание сочинений. Том 3 (1). М., 2001. C. XXII. 13. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Том 3 (1): Логические исследования. Том II (1). Исследования по феноменологии и теории познания. М., 2001. С. 20 и сл (цит. по первому изданию). 14. См. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. С. 19. 15. Там же, с. 111. См. также Husserl E. Phänomenologische Psychologie / Gesammelte Werke (Husserliana). Bd. IX. Den Haag, 1968. S. 190. 16. См. Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001. C. 26. 17. См., напр., Husserl E. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. Second book: Studies in the phenomenology of constitution / Collected works. Vol. 3. Dordrecht, 1989. P. 418 f. 18. Ср. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. С. 69. 19. Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 3: Критика чистого разума. М., 1994. С. 15. 20. См., напр., Ströker E. The Husserlian foundations of science. Washington, 1987. P. 24. 21. См.: Гуссерль Э. Идея феноменологии. Пять лекций // Ступени. 1991. №3. С. 215. Husserl E. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological 109 philosophy. Third book: Phenomenology and the foundations of the sciences / Collected works. Vol. 1. The Hague, 1980. P. 65. 22. Ср. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. C. 100. 23. Husserl E. Erste Philosophie. Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion / Gesammelte Werke (Husserliana). Bd. VIII. Den Haag, 1959. S. 80. 24. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. C. 72. 25. См. Husserl E. Erste Philosophie. Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion / Gesammelte Werke (Husserliana). Bd. VIII. Den Haag, 1959. S. 87f, 119. 26. См. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 97-99. 27. Молчанов В.И. Понятие рефлексии в контексте феноменологического учения о времени // Критика феноменологического направления современной буржуазной философии. Рига, 1981. С. 131. 28. Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Историческое введение. М., 2002. С. 141. 29. См. там же. 30. Подробнее об этом см. в разделе, посвященном идеации. 31. Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. II. Zweiter Teil: Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis. Tübingen, 1980. S. 146. 32. Ibid, S. 180. 33. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. C. 28. 34. См. там же, с. 55. Гуссерль имеет в виду, например, такой тезис эмпиризма: всякое значимое мышление основывается на опыте. Спрашивается, почерпнут ли этот тезис из того же опыта? 35. См. Husserl E. Phänomenologische Psychologie / Gesammelte Werke (Husserliana). Bd. IX. Den Haag, 1968. S. 85. Husserl E. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Hamburg, 1976. S. 421. 36. Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. II. Zweiter Teil: Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis. Tübingen, 1980. S. 189. 37. Ströker E. The Husserlian foundations of science. Washington, 1987. P. 44. 38. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Том 3 (1): Логические исследования. Том II (1). Исследования по феноменологии и теории познания. М., 2001. С. 38. 39. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. С. 140. 40. См. Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. II. Zweiter Teil: Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis. Tübingen, 1980. S. 163. 41. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. C. 149. 42. Husserl E. Phänomenologische Psychologie / Gesammelte Werke (Husserliana). Bd. IX. Den Haag, 1968. S. 73. 43. См. Husserl E. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Hamburg, 1976. S. 119. 44. См. Шпет Г.Г. Явление и смысл. Томск, 1996. С. 96-106. 45. Молчанов В. Предпосылка тождества и аналитика различий // Логос. 1999. №21. С. 196. 46. Молчанов В.И. Понятие трансцендентальной субъективности в феноменологии Э.Гуссерля // Проблемы сознания в современной буржуазной философии. Вильнюс, 1983. С. 52. 47. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Том I: Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. С. 142. 48. Гуссерль Э. Начало геометрии. Введение Жака Деррида. М., 1996. С. 78-80. 110 49. Деррида Ж. Голос и феномен. СПб, 1999. С. 22. 50. Aguirre A. Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik. Darmstadt, 1982. S. 66. 51. См. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Том 3 (1): Логические исследования. Том II (1). Исследования по феноменологии и теории познания. М., 2001. С. 27-28. PHENOMENOLOGICAL METHODOLOGY OF COGNITION I.N.Shkuratov1), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia The article deals with the questions linked to the nature and procedures of phenomenological methods which are rooted in the studies of the phenomenological philosophy of Edmund Husserl. Key words: principle of phenomenological cognition, phenomenological experience, phenomenological method, phenomenological reduction. 111 ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ II. ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРА. ЧЕЛОВЕК. УДК 103.2 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И СИСТЕМНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА С.Н.Борисов1), С.В.Резник2), В.П.Римский3), 1) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] 2) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78; e-mail: [email protected] 3) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78; e-mail: [email protected] В статье предпринята попытка системно-философского анализа феноменов тоталитаризма и терроризма, которые синергетически вплетены в системное поле и культурно-цивилизационное пространство традиционализма и современности. Ключевые слова: терроризм, тоталитаризм, модерн, постмодерн, феноменология, системно-культурологический анализ. Введение Конец ХХ столетия был ознаменован не только падением коммунистических режимов, но и разрушением многих идеологических стереотипов относительно самой сущности «современной цивилизации». Это отразилось в теоретических декларациях о «конце истории» и «конце идеологии», о «постсовременности» и «посттоталитаризме» и т.п. Сейчас очень модно стало говорить о «глобализме» и «терроризме», о торжестве «глобальной цивилизации», «демократии», «свободы» и «общечеловеческих ценностей». На наш взгляд, все эти декларации и заявления содержат в себе неприкрытые идеологические интересы западной цивилизации, которая слишком рано празднует победу «идей либерализма и демократии» во всем мире. Терроризм и антиглобалистское движение, альтернативные варианты глобализма, на которые начинают претендовать некоторые регионы (Индия, Китай, Латинская Америка, Россия), длительная стагнация экономики Японии и экономический спад в США говорят о том, что западные экономические механизмы, социальные институты, ментальные конструкции и соответствующие им теоретикоидеологические конструкты переживают кризис и проверку на культурноисторическую прочность. Очевидно, что мы можем стать свидетелями конца одного большого комплекса мифов, обслуживавших в течение 500 лет один (!), - не универсальный, а столь же «уникальный», как и другие, - культурно-цивилизационный проект. С этой научно-критической точки зрения и следует прежде всего изучать и феномен исторического и современного терроризма. Основная часть Как феномен терроризма вошел в повседневность современного мира, так и понятия, связанные с этой культурной реалией прочно вписаны в коммуникативную практику не только специалистов, но и широких слоев населения. Обилие литературы по этой проблеме может соперничать только с количеством точек зрения по ее 112 решению. Однако, общепринятого определения понятий «террор» и «терроризм» до сих пор не сложилось. В культурно-идеологической практике понятие «террор» и «терроризм» в современном значении стали употребляться в период Французской революции 17911794 гг. Современная семиотика и лексикология связывает с террористическим дискурсом прежде всего жестокие насильственные действия в сфере политики и реализации прав субъектами власти. В частности, террор как отношение государства к своим оппонентам, репрессивное и жесткое, исследуется отечественным политологом И.М. Ильинским. А. Бернгард в работе «Стратегия терроризма» указывает на связь терроризма с силой, но понимает его как применение силы слабыми в отношении сильных. Американские исследователи В. Маллисона и С. Маллисона определяют терроризм как систематическое использование насилия и угрозы насилия для достижения политических целей. Таким же недостатком обладает определение терроризма, данное сотрудником Государственного департамента США Д. Лонгом, который сводит феномен терроризма к действиям по изменению существующего политического строя, существующего мирового порядка. Ф. Уилкокс, координатор по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, видит в терроризме политически обусловленное насилие, направленное против мирного населения. Общим для всех перечисленных определений является взгляд на терроризм как на политически, социально обусловленное насилие. Применение понятия «террор» исключительно к политической сфере значительно суживает реальное поле феномена терроризма, акцентирует внимание на политической власти, имеющей аппарат принуждения, и относит «террор» к оппозиционным власти силам. Такой подход в определении терроризма вполне приемлем для юридической фиксации данного явления. Он нашел отражение в Федеральном законе РФ «О борьбе с терроризмом», принятом в 1998 г. Между тем достаточность такого определения терроризма для юридического применения совсем не соответствует требованиям междисциплинарного научно-гуманитарного анализа. Нередко отождествление терроризма с таким явлением как война, партизанская война или гражданская. Ряд авторов, М. Либиг, Ф. А. Фрайхер фон дер Хейдте, П. А. Шерер, Д. Стерлинг, Л. Ларуш, говорят о терроризме как особой форме войны, не выделяя его как самостоятельный феномен. М. Либиг не отрицает социальноэкономическую, национальную, этническую и идеологическую обусловленность терроризма, однако истинные причины, по его мнению, кроются в политической заинтересованности государств в таком эффективном средстве реализации своих интересов как терроризм. Фон дер Хейдте определяет терроризм как современную нерегулярную малую войну, которая характеризуется нерегулярными боевыми действиями, длительностью, специфическими «террористическими» тактиками. Необходимо отметить общую основу для сопоставления войны и терроризма – насилие. Подчас схожи цели и методы войны и терроризма, особенно при сопоставлении политического террора и войны в ее классическом понимании. Помимо того, обладая рядом других недостатков: сведение терроризма к физическому устранению политических лидеров и военно-политическому насилию подменяет понятие «терроризм» узким понятием «террористический акт». Все вышеперечисленные смыслы террора и терроризма, так или иначе, возводят проблему на уровень взаимодействия государства и его политических оппонентов, тем самым не рассматривается ни религиозная природа терроризма, ни его глобализационная специфика в эпоху постмодерна, характеризующимся «метагосударственностью», не всегда обусловленной политической борьбой. 113 Терроризм на данный момент достаточно изучен и с позиций психологии (Д. Ольшанский, М. Коупленд), политологии (К. Попов, К. Жаринов, А. Хинштейн), военной науки (М. Либиг, А. Фрайхер фон дер Хейде, Л. Ларуш и др.), экономики (М. Чандлер, Р. Зелик). Но очевидна не только ограниченность привязки феномена терроризма к политике или социальной сфере, но и к социальной психологии. Вышеизложенные понимания и концепты вполне уместны для обозначения терроризма века XIX и начала XX, когда этот действительно носил преимущественно политический и социально-психологический характер (начиная с террора Великой французской революции и заканчивая государственным террором тоталитарных государств). Но события 11 сентября 2001 года уже не укладываются в формулу политического терроризма, как и трагедия сентября 2004 г. в Беслане. Феномен терроризма, на наш взгляд, мало исследован в философскокультурологическом, религиоведческом и культурно-антропологическом пространстве (если не считать философско-культурологических работ О. Аронсона, А. Никитаева и некоторых других). Необходимо при оценке тех или иных политических событий, связанных с терроризмом, как и при экспертизе антитеррористических программ и мероприятий учитывать социокультурную, культурно-идеологическую, культурноантропологическую, этнокультурную и религиозную специфику феномена терроризма. Терроризм конца XX - начала XXI века, понятие «современный терроризм», требуют нового определения. Собственно, от такого понимания феномена терроризма мы и отталкивались, приступая к работе над кандидатскими диссертациями по соответствующей проблематике и реализации исследовательских проектов в рамках федеральной программы «Университеты России». На данный момент мы можем отметить, что нашим коллективом созданы предпосылки для утверждения нового научного направления в исследовании культурно-исторической феноменологии и антропологии терроризма в контексте различных культурно-цивилизационных систем, в которых и создаются различные основания социокультурных деформаций и появления антисистемных террористических формообразований. Наиболее значимые результаты по проблематике наших исследований и проектов можно кратко свести к следующим положениям. Было установлено, что во всех социокультурных кризисах, так или иначе сопровождавших великие цивилизационные трансформации, всегда система как бы соскальзывает назад в культурно-историческом развитии, начинается стихийное воспроизводство старых, отживших форм (это мы и наблюдаем в современной России). Подобный революционный откат всегда приводил и будет приводить к упрощению системы. Но простота, унификация связана с воспроизведением социального однообразия, примитивной целостности: социальный хаос не может продолжаться бесконечно, система требует стабилизации и всегда идет по самому легкому, простому пути – устанавливается диктатура, военный режим правления и экономической деятельности, не обладающие легитимностью и поддерживающие свое существование террором. В этих условиях и возникает феномен антисистемы. Антисистемы, возникающие в недрах различных культурно-цивилизационных миров (христианского, исламского), оказываются той культурной «парадигмой» и матрицей, которая воплощается в тоталитарных системах и сопровождающих ее функционирование террористических клонах, в соответствующих террористических архетипах и социокодах. Это связано с тем, что все антисистемы, к которым можно отнести революционно-террористические и крипто-тоталитарные секты и организации, характеризуются высокой степенью замкнутости, хотя абсолютной замкнутости достичь невозможно. Самые эзотерические секты и учения вынуждены уделять 114 внимание и экзотерической стороне системы, общаться с «непосвященными». Поэтому очень часто за истину принимались совершенно незначительные или подражательные идеи антисистемных учений и движений – очень характерна и показательна история религиозно-манихейских сект и революционных организаций. В этом ключе и формируется антисистемная мифология с ее первобытным дуализмом сакрального и профанного, являясь идеологической санкцией и идеологическим оправданием и воспроизводством квазиэтнического дуализма. Нами предложена и сейчас разрабатывается следующая культурно-историческая типология феноменов терроризма: 1) религиозно-традиционалистский терроризм; 2) этноконфессиональный; 3) политико-идеологический (модернистский); 4) политикорелигиозный (тоталитарный) и 5) культурно-виртуальный (посмодернистский) проекты. В пространстве современного глобализирующегося мира все эти проекты тесно переплетены и порой трудно различимы. И, тем не менее, предложенная типология вполне работает при интерпретации современной культурной феноменологии терроризма, прежде всего исламского. Анализ культурно-исторической эволюции ислама показал, что ранний ислам перекодировал и переинтерпретировал культовые и культурные тексты и социокоды христианства и иудаизма, выступив как более доступный, упрощенный вариант монотеистической религии. Идеология исламского сектантства как в перспективе культурно-исторической эволюции (гностики, собственно манихейские секты, зиндики, исмаилизм и т.п.), так и в пространстве современности (ваххабиты, движение Талибан и другие носители террористического проекта в исламе) имела антисистемный характер. Характерными особенностями идеологии исламского сектантства являются: перекодировка смыслов концепта джихада как личного спасения в сугубо агрессивную матрицу обвинения в неверии и уничтожения неверных. В этой связи следует также отметить, что на протяжении всей истории существования ислама концепция «джихада» выполняла достаточно противоречивые функции, была в основе внутренней и внешней политики различных сил и движений, стремившихся использовать ее в первую очередь для мобилизации мусульман на достижение определенных целей (в том числе и духовно-культурных) и для оправдания тех или иных акций. Обращаясь к концептам джихада в традиционном исламе, можно отметить, что мусульманская теология в общей классификации предписаний Корана относит установления, касающиеся войны и мира, джихада, военнопленных, трофеев и отношений с «немусульманами» к разделу кратких предписаний в сочетании с детальными. Коран не абсолютно последователен в этом вопросе. Многие аяты на первый взгляд противоречат друг другу, отсылая к нормам и ограничениям (в пределах дозволенного богословием). Понимание джихада как священной войны за веру, в защиту и за распространение ислама, является лишь одним из первоначальных концептов. Однако понятие джихад в исламе трактуется значительно шире. Слово «джихад» по-арабски означает также «приложение усилий», «усердие». Впоследствии именно это значение данного слова в исламе стало преобладающим по отношению к его первоначальному смыслу («сражение с врагами»). Пророк Мухаммед назвал военный джихад «малым джихадом», тогда как «большой джихад» подразумевает такую деятельность, которая, несмотря на сопряженные с этим жертвы, направлена на совершенствование общества и человека (прежде всего нравственное!) с тем, чтобы они руководствовались такими моральными ценностями как истина, справедливость, равенство и уважение к человеку, защищал их, поскольку они противостоят притеснениям и пророку, способствуют построению счастливого человеческого общества. Фактически на так понятом концепте «большого джихада» в наше время базируются многие проекты «мусульманского социализма». 115 Все вышеизложенное помогает нам органично подойти к рассмотрению культурно-исторических смыслов и идеологии современного ислама. Здесь закономерно возникают вопросы и проблемы: не является ли современное столкновение мира ислама с «американским империализмом» на самом деле столкновением мира традиционализма и мира модернизма, как ранее в случае с нашей, российской революцией 1917 г.? Характеризуя устремления исламского мира на новом цивилизационном витке, когда он оказался втянутым в водоворот западного мира модерна, нужно отметить, что ему чужд поворот в сторону интеллектуального или социального уединения. Однако, в настоящее время, перешагнув порог XXI столетия, можно сказать, что исламский мир по-прежнему как консолидированный субъект международной политики существует чаще только виртуально. Ряд причин социальноэкономического, политического и религиозного характера привел к наличию альтернативных проектов исламского мира. Одним из таких проектов является исламский фундаментализм. Фундаментализм – это религиозно-культурная установка, направленная на переосмысление утраченной, но чрезвычайно значимой традиции. Религиозный фундаментализм является оппозицией процессу десакрализации культуры. Иными словами, религиозный фундаментализм предлагает «веру помимо интерпретации», что на практике приводит к требованию принять идеологическую позицию его лидеров в качестве единственно верной. Соответственно, религиозный фундаментализм выступает против плюрализма мнений и толерантности, которые, с его точки зрения, неизбежно ведут к духовному релятивизму, т.е. к допущению равноправия многих истин даже в пределах одной религиозной традиции. «Возрожденчество» или «фундаментализм» – своеобразная реакция отторжения модернизации, ориентированной на западные модели (понятие «модерн» включает «настаивание» на настоящем, своего рода отклонение или девальвация того, что было давно, «во времена предков», активная нейтрализация и дисквалификация традиции, прошлого, уклонение от традиции). Идеология фундаменталистов носит ярко выраженную антизападную и антиглобалистскую направленность и характеризует данное течение в исламе как потенциально радикалистское. Традиционалистский проект следует отличать от фундаменталистского, так как он характеризуется тем, что его сторонники (их еще иногда называют ортодоксами) выступают против каких-либо реформ ислама, за сохранение ислама таким, каким он сложился в эпоху добуржуазных социально-экономических, политических и культурных институтов и представлений. Современные традиционалисты, вместе с тем, уже не так строго придерживаются ультраконсервативного традиционализма и подчас сближаются с модернизаторами в толковании священных текстов, они готовы жить в мире и согласии со всеми и способны сотрудничать с властями, представляющими самые разнообразные политические системы и режимы. Следующей проективной тенденцией в современном исламе выступает модернизм, который определяется тем, что его сторонники (их еще называют реформаторами) стремятся реформировать, приспособить мусульманскую догматику к нуждам современного развития, отбрасывая или замалчивая одни положения и развивая другие. Они настаивают на возможности синтеза ислама с современными западными либеральными (ранее – и социалистическими) ценностями и институтами. Важным вопросом является определения соотношения между исламом, его идейными течениями (традиционализм, фундаментализм, модернизм) и исламским радикализмом (исламизмом). Исламизм называют политическим исламом или политизированным исламом. Вместе с тем исламский радикализм представляет собой лишь крайнюю, маргинальную (часто весьма агрессивную) часть всех течений в рамках политического ислама. Анализ идеологии и политической практики представителей самого крайнего, деструктивного исламистского радикализма – религиозно116 сектантского, террористического проекта в исламе наиболее репрезентативно вести на примере ваххабитов на Северном Кавказе и движения Талибан в Афганистане. На фоне столкновения мира модерна и традиционализма происходит и борьба между ортодоксальным исламом и сектантскими (религиозно-террористическими) движениями. В последней четверти ХХ в., конфликтующие общественные системы обнаружили, что рядом с ними и во многом по их вине возникло «параллельное пространство», в котором находится могущественная и чудовищная по своим обычаям антисистема, действующая в «виртуальном времени». Международный терроризм превратился во влиятельнейшую виртуальную мировую державу, не имеющую ни единого «официального» центра, ни правительства, но оттого еще более опасную. Последнее обстоятельство позволило говорить о появлении нового проекта, реализующегося в пространстве ислама – сектантского религиозно-террористического экстремизма «бенладеновского», виртуального типа. Заключение Все изложенное позволяет сделать вывод, что культурно-идеологические архетипы и парадигмы исламского террора уходят в глубь времен, как в практику религиозных сект (иудео-манихейских, гностико-христианских и параисламских), так и в наработки светского терроризма, в том числе либерально-европейского (якобинцы) и европейско-социалистического (русские народники и социалисты). Исход борьбы между различными исламскими проектами важен как для судеб исламского мира, так и для мирового сообщества в целом. PHENOMENOLOGY AND SYSTEMIC AND CULTUROLOGICAL DEFINITIONS OF TERRORISM S.N.Borisov1), S.V.Reznik2), V.P.Rimskiy3), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; e-mail: [email protected] 2) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; e-mail: [email protected] 3) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia; e-mail: [email protected] The categorical system-philosophical developmental work of phenomenon of totalitarianism and terrorism, which are synergeticaly conjugated in one systemic field and cultural and civilizational area, is given in this paper. Key words: terrorism, modernity, postmodernity, phenomenology, systemic culturological analysis. 117 УДК 316.723 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА БЕЛГОРОДЧИНЫ: ОПЫТ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ М.С. Жиров1), О.Я. Жирова2), 1) 2) Белгородский государственный университет, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] Белгородский государственный институт культуры и искусств, 308034, г. Белгород, ул. Королева, 7 Содержание статьи представляет ретроспективный, философско-культурологический анализ народной художественной культуры Белгородского региона в этнической, историко-стадиальной многослойности ее пластов, жанров, видов и форм бытования в ракурсе ряда аспектов: генезис и эволюция, жанровая природа, ценностно-полифункциональный универсализм и вневременная бытийственность. Установлено, что все традиционные формы бытующего в регионе фольклора представляют собой гармоничный синтез материальных и духовных ценностей, символов, идей, традиций, норм и образцов жизнедеятельности, знаковых систем и имеющих социокультурный и педагогический смысл лишь в контексте их выявления, освоения и трансляции в современный социум. Ключевые слова: народная художественная культура, язык, фольклор, обряд, традиция. Введение Вобрав в себя тысячелетний духовный и практический опыт народа, национальная культура всеобъемлюще отразила его этноконфессиональные, этические, эстетические представления, историю мировоззрение, менталитет, систему ценностей. Осмысление традиционной русской культуры в контексте ее генеза, развития и бытования в качестве полноправного самодостаточного явления национальной культуры как синкретичной художественной энциклопедии трудовой и социальной жизни народа, его быта, психологии и идеологии, как базисной основы национальной идентификации представляет особый интерес в период системного и глубокого кризиса, поразившего важнейшие сферы духовной жизни современной России. Актуализирует данную проблематику и общемировая тенденция роста национального самосознания народов мира, их своеобразный этнический Ренессанс, особенно отчетливо проявляясь на фоне процессов глобализации. В связи с этим растет потребность россиян в осмыслении своей духовно-этнической самости как основы для осознания себя частью своего народа, этноса и – одновременно – мира; как естественной, «почвенной» среды для дальнейшего духовно-нравственного развития человека и общества в гармонизации отношений в системе «человек – семья – природа – общество»; как эффективного средства для масштабного диалога не только отдельных стран, но и всего мирового сообщества. В контексте данных подходов особую актуальность приобретает проблема продуктивного сопряжения двух социальных пространств – пространства культуры во всем многообразии ее проявлений и образовательного пространства в процессе освоения, сохранения, развития и трансляции в современный социум национальных (народных и православных) и общечеловеческих («вечных») культурных ценностей. И это не просто теоретическое усвоение практических знаний и духовного опыта предшествующих поколений, а их мировоззренческое культурологическое осмысление и восприятие в качестве полифункционального ценностного ресурса современного духовного пространства, в котором мы определяем не только существующую систему координат, но и свое место и роль в этой системе, своей парадигмы созидающих действий в нем. 118 Теоретический анализ Современное состояние духовной жизни российского общества породило немало вопросов концептуального характера, решение которых, на наш взгляд, находится в русле интегрального социокультурологического осмысления ценностносмыслового и социотехнологического аспектов традиционной народной художественной культуры как стержневой основы всего «древа» национальной культуры, ее наиболее древней и монолитной части. Никогда не имевшая отдельного статусного значения народная культура русских регионов, вопреки всем объективным и субъективным факторам, выжила, сохранив многие уникальные памятники духовной и материальной культуры в таких ее проявлениях как фольклор (песенный, инструментальный, хореографический, устнопоэтический, празднично-обрядовый), традиционное декоративно-прикладное, художественно-прикладное и изобразительное народное искусство, бытовое художественное любительское творчество, художественная самодеятельность. Более того, многие из этих структурных элементов имеют вполне конкретный мир явлений народной культуры: от архаичных и традиционных форм – до включения в себя множества новых, обладающих ярко выраженными свойствами и характеристиками. Это свидетельствует о плодотворном взаимодействии традиционного слоя народной художественной культуры и инновационных образований, благодаря чему во многих локусах региона она остается живым, современным конкретно-историческим явлением, развивающемся как универсальное национально-этническое образование. В производстве, сохранении, репродуцировании и социальном функционировании его культурных ценностей участвуют все слои и социальные группы общества в соответствии с архетипами народной философии, веры, менталитета, психологии, эстетики, морали. Это дает нам основание воспринимать народную художественную культуру русской провинции как целостную самодостаточную систему, аккумулирующую в себе элементы культуры языческого, архаического, урбанистического периодов, ценности православия и профессионального искусства. Эти разновекторные горизонтальные и вертикальные процессы позволяют проследить историческую логику становления и развития народной художественной культуры как ценностно-полифункциональную систему в этнической, историко-стадиальной многослойности ее пластов и жанров в ракурсе двух аспектов: - «изнутри» (генезис и эволюция, жанровая природа, сущность и функции, исторические формы, морфология и структура, статус ее творцов и потребителей, связь с этническим и социально-психологическим менталитетом этноса); - «извне» (исследование как бы со стороны, как социальное, этнокультурное, этнохудожественное явление в современной социокультурной среде). Такое осмысление помогает рассматривать народную художественную культуру края как самостоятельный исторически обусловленный тип культуры, «имеющий свои формы, механизмы, социальную стратификацию» [8, 25], социально-культурный контекст, ареал бытования, определенную «валентность», специфические закономерности развития и функционирования. Как показывают проведенное нами исследование, народная художественная культура Белгородчины – явление чрезвычайно сложное и многогранное, обладающее большим внутренним единством, и в то же время она глубоко индивидуальна и специфична в региональном аспекте ее рассмотрения. «Остается только подивиться, как своеобразны бывают вкусы в различных местностях и по этому поводу в сотый раз припомнить русскую пословицу: «Что город – то норов, что деревня – то обычай» [12, 68]. И, действительно, места традиционного бытования народной художественной культуры края имеют свое, особое своеобразие народных песен, инструментальной музыки, хореографической пластики, говора, обычаев, праздников, обрядов, одежды, 119 декоративно-прикладного творчества. Еще явственнее обнаруживается это своеобразие в отдаленных друг от друга районах области, что обусловлено «встречей» на одном географическом пространстве культуры славян, русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев, степняков, образовавших неповторимый культурно-национальный комплекс, для которого характерна упорядоченность пространства, особый хозяйственно-бытовой уклад жизни, традиционные представления о мироздании: земле, небе, воде, человеке. Временная и пространственная динамика волнообразной концентрации разного типа культур в крае охватывает исторический период последних пятисот лет. Общее дело отстаивания и освоения своих земель и славянских принципов жизни на территории бывшей Белгородской засечной черты способствовало синтезу «старых» (остатки культуры Киевской Руси, культура степняков и проживающих здесь народностей в Х-ХI веках) и «новых» культур: русской, украинской, белоруской, польской, литовской, завезенных вместе с переселенцами в ХVI-ХVII веках. Такое широкое представительство культур на территории края позволяет выявить ее связи со славянской, языческой культурой, доминировавшей вплоть до принятия христианства. Так, музыкально-этнографическая работа в регионе в последнее десятилетие выявила бытование древнего жанра святочных подблюдных песен. Особый интерес представляют и мало сохранившиеся даже в северных регионах России образцы песенколядок с припевом «виноградье – красно-зеленое», зафиксированные, в частности, в Грайворонском районе. Слово «виноградье» в народной поэзии имеет значение символа плодородия и обилия, любви и брачной жизни. Отголоски северянских «игрищ межю селые» ясно просматриваются в песнях, записанных в Ивнянском, Ракитянском, Прохоровском районах, где дается конкретное описание умыкания невесты: бояре, «город завоевавши, деревню разоривши, Татьянушку взявши». Рудименты древнего обряда брачных отношений древлян нашли отражение в традиции межсельских игр, плясок, вождения танков и карагодов на «гранях»: … А нам надо девушку, девушку, Ой, дид-ладо, девушку, девушку... … Лови, лови, волче, сераю гусыню За белаю шейку … Важно отметить развитость социальной организации и практический смысл подобных игрищ, которые не могли появиться в одночасье, а значит, имели длительную предысторию. О глубинных мифологических истоках песенного фольклора края свидетельствует традиционное обращение к Ладу, Ладе, Леле – покровителям мира, благополучия, согласия, любви; судьбоносным силам природы, растениям, животным. К примеру, в селе Мальцевка Корочанского района нами зафиксирован образец святочной комедийной сценки «Коза», по ходу действия которой она «умирает» и «воскресает». Сейчас трудно восстановить глубинный смысл обряда. По всей вероятности, в этой ритуально-игровой форме передавались древние представления о смерти как конце старого и «воскрешении» нового года, а потому – далеко не случайно наше представление о козе как символе плодородия: «Где коза ходит, там жито родит», «Где коза хвостом, там жито кустом», «Где коза рогом, там жито стогом». Об архаике традиционных обрядовых песен календарно-земледельченского цикла свидетельствуют напевы простейшего склада, построенные на повторности двухтрех интонаций или мелодических оборотов. В традиции «кликать Коляду», «гукать и провожать Мороза», «сеять из рукава» семена зерновых в «Красный» угол избы под архаичные песни-пожелания: «А дай, Бог, тому, кто в этом дому, ему рожь густа, рожь ужимиста», - по окончании которых колядующие перевоплощаются в наседок; похлестывать для здоровья освященной вербной веточкой детей и домашнюю живность под ритмизованные приговоры; в выпечке обрядовых «птюшек», «лестничек», 120 приготовлении ритуальной еды; в обилии мотивов, связанных с сельскохозяйственными работами – содержатся характеристичные свидетельства того, что в сознании наших предков святые христианского пантеона и языческие боги находились в довольно близком соседстве. Это свидетельствует о взаимодействии двух культур, их ассимиляции и в результате о формировании яркой этнокультурной художественной системы, нашедшей глубокое отражение, в частности в музыкальнообрядовом фольклоре края, декоративно-прикладном творчестве, в единой системе календарных и семейных праздников и обрядов, доминировании «алилешных» песен хороводного, плясового и свадебного жанров, в особой приверженности к исполнению различных ритмических украшений ногами во время «игры» скорых песен и, особенно в плясках. «Играть» песню по-белгородски – значит воспроизводить текст в соответствии с музыкальным ритмом, мелодикой, хореографической пластикой и драматическим действом. Сохранившиеся в образцах местного песенного фольклора, устного поэтического творчества, упоминания о «севряках», «смердах», «горюнах», «цуканах», «мамонах», «саянах», холопах, казаках, крестьянах, боярах, военнослужилом люде подтверждают мысль о восприятии и переработке на русской почве различных этнических традиций, актуализируя тезис о формировании народной художественной культуры края в аспекте ее полисоциальности, сословного фактора. В этой связи, применительно к песенному фольклору, для нас ценно заключение Н.М. Лопатина о том, что народная песня создавалась не исключительно простонародьем «в иных народных песнях видны следы образования их в среде боярской, в среде военнослужилых людей» [10, 66]. О сословном факторе формирования южнорусской песенной традиции, в частности, писала в своей статье «остатки боярских песен» Н.С. Кохановская, отмечая следы высокомерия, пренебрежительного отношения к низшему сословию смердов в песне «Отдал меня батюшка за смердова сына». Народное представление о сословной иерархии русского сообщества нашло отражение в тексте зафиксированной на территории края песни: Ищо што да таково На Руси у нас давно: Сам помещик, сам крестьянин, Сам холоп и сам боярин, Сам и пашет, и орет, И с крестьян оброк берет. По данным писцовых книг, в «Списках населенных мест» городов Белгородской засечной черты упоминаются «севрюки» и «горюны». Вполне вероятно, что именно эти этнические группы, некогда населявшие территорию края, и есть потомки древних северян, поселения которых находились в Путивльском уезде Белгородской (впоследствии Курской) губернии, а ныне – Сумской области. А.И. Соболевский считает их потомками старых северян, уцелевших от татарских набегов в северном Полесье [19]. Эти предположения обоснованы анализом говоров и народного костюма «горюнов», многие детали которого сохранили отзвук древнерусской традиции. Так, комплекс женской одежды включал в себя «чохву» (рубаха с длинными рукавами – ниже кистей рук), «поневу-плахту» с «хвартушкой», «наметку» (белое полотенце, которым укрывали голову). Девушки носили венки или «тканки» (парчовые или вышитые серебром полосы) с лентами, опускающимися на спину, а поверх – платки, к которым накладывались узкие венчики из гусиных перьев. Несмотря на многие сходства с культурой других народов (украинцев и белорусов), эти гипотетические потомки древних северян смогли сохранить свою самобытность вплоть до XX века [24]. Пока нет единого мнения ученых о происхождении другой этнической группы великорусов – «саянов», поселения которых были разбросаны в основном в северной 121 части курских земель. Однако исследование подтверждает, что существенным чертам говора «саянов» близок язык жителей Болховца и Карповки, которые весьма своеобразно произносят звуки «ц» и «щ», заменяя их звуком «с». Например, «улиса» – вместо «улица», «заяс» – вместо «заяц» и так далее. Такой диалект был характерен также для жителей слобод Жилой и Савино близ Белгорода. Отголоски этого говора сохранили старожилы ряда сел Грайворонского района (Пороз, Доброе, Почаево) и села Фощеватово Волоконовского района. Комплекс традиционной женской одежды «саянов» также свидетельствует о древности этой этнической группы, так как включает поневу (несшитую распашную), рогатую кичку, сарафан, «саян», «чепец» и «повязку» (головные уборы женщины и девушки), «коты» (грубые кожаные башмаки) и «черевики» (кожаные легкие туфли с «махорчиками»). По всей вероятности, саянские поселения в крае образовались в результате миграционных потоков в XVI–XVII веках из ближайших южнорусских городов. По мнению Р.И. Аванесова [1], «акающий» и «якающий» диалект, характерный для нашего края, сложился на его территории еще до монголо-татарского нашествия. В современных говорах сел Белгородчины он до сих пор выражается в яркой подчеркнутой форме диссимилятивного «аканья» и диссимилятивного «яканья». Как указывает диалектолог Л.Ф. Бузник [5], в фонетической системе южнорусского говора присутствует ряд архаичных черт («яканье»), почти полное отсутствие редуцированных гласных в безударных позициях. Неоднократно лингвистами отмечался тот факт, что в юго-восточной части Курской области (куда до 1954 года входила Белгородская область) встречаются говоры, для которых характерно произношение особых звуков («е» и «ие») в соответствии с древним «ять» [13]. В аннотации к граммофонной пластинке (1966 г.), посвященной искусству фощеватовского хора, А.В. Руднева отмечает, как местный диалект придает удивительное своеобразие тексту песен. Певцы произносят слова по-особому: вместо пошел – пышол, кукушечка – кукушачка, почему – пощяму, улица – улиса, цветочек – твяточек, малиновый – малиновай и так далее. Вплоть до XX века на территории районов, примыкавших к Воронежской и Курской губерниям, проживали «цуканы», названные так за характерное «цоканье» говора, замены звука «ч» на «ц» и наоборот («черква» вместо «церква», «целовек» вместо «человек»). Традиционный женский наряд цуканов также нес на себе печать глубокой старины – красная понева, рогатая кичка, длинный передник («запон»). Симпатиями у соседей великорусов цуканы не пользовались. Они презрительно называли их «хамами», «выворотными»: «...они мрачны, грубы и живут грязнее своих соседей. Их речь медлительна (как и походка), тон ее низкий: кажется, будто говорящие стараются прижать подбородок и нарочно говорить басом» [23]. И по сей день отголоски некоторых локальных этнических групп великорусского населения ощутимы в говоре местных жителей края. Например, в районах Белгородско-Курского региона – «евунов» с их характерным «ево», «каво», «чаво»: в Красненском и Губкинском районах – «щекунов», говорящих «що» вместо «что»; в Старооскольском, Алексеевском, Новооскольском районах – «ягунов» («каго», «яго», «ион» вместо «он»). И хотя диалектные особенности говора «щекунов» и «ягунов» не были столь отличны друг от друга, они сильно различались «... в наружности и больше всего в покрое одежды... Разность между щекунами и ягунами так велика, что они никогда не вступают в родственные связи друг с другом, не имеют дружественных отношений между собой...» [14]. Не вызывает сомнения и факт проживания во второй половине XVII в. в бассейне реки Корени (левобережного притока Северского Донца) в селах Ломово, Заячье, Мазикино, Свиридово, Тюрино, Новая Слободка Корочанского района древней группы великорусов – «мамонов», упоминаемых в исследованиях Л.Н. Чижиковой [25]. 122 Известно, что еще в середине XIX века этнические группы на территории края жили обособленно друг от друга и окружающего населения в силу этнических и социально-экономических факторов. Помимо различий в говоре, одежде, образе жизни, бытовом укладе они были выходцами из разных регионов России и принадлежали к разным слоям крестьянства. Так, упоминаемые нами «саяны», «горюны», «цуканы» и «мамоны» принадлежали к категории монастырских крестьян, то есть находились в крепостной зависимости у монастырей. Рядом жили помещичьи крестьяне и однодворцы со своим определенным социальным статусом, традициями, укладом жизни. По утверждению историка М.А. Тихомирова, вольная колонизация в крае предшествовала правительственной, монастырской, помещичьей. Изучая содержание грамот о составе населения первых военных городов на Белгородской засечной черте, Д.К. Зеленин установил, что на степную окраину Московского государства чаще всего попадали «сведенцы» – служилые люди из ближайших населенных пунктов. Диалектологи обнаруживают в южнорусских говорах некоторые общие черты с украинским и белорусским языком, что объясняется украинской и белорусской колонизацией южных рубежей Московского государства. «Памятники» этой культуры ярко прослеживаются и сегодня в народной одежде населения ряда районов области – Вейделевского, Валуйского, Волоконовского, отчасти Чернянского и Красногвардейского, где встречается вышивка красно-черными нитями. Как известно, в 1639 году в Короче, Белгороде, Валуйках, Коротояке, Урыве, Яблонове были поселены «черкасы» [4]. До сих пор в ряде регионов области их потомки составляют целые населенные пункты, которые говорят на ломаном украинско-русском языке. В 1652 году по приглашению царя Алексея Михайловича на Белгородскую черту прибыли Заднепровские казаки в количестве 1000 человек под руководством полковника Дзиньковского [6]. В связи с этим необходимо указать на массовый переход украинцев в пределы русских земель, который начался во второй половине XVI века, когда социально-религиозный гнет польско-литовской и украинской шляхты стал особенно жестоким. Миграция украинцев стимулировалась царским правительством, которое, будучи заинтересованным в укреплении южных границ, давало переселенцам в Белгородский край некоторые льготы. Таким образом, на протяжении XVII-XVIII веков в верховьях Ворсклы, Северского Донца, в бассейне рек Нежеголь и Оскол возникло много украинских поселений. Известно, что в 1670-х годах свободные земли в бассейне Ворсклы при устье речки Грайворонки отошли в вотчину митрополита Белгородского и Обоянского. Эту местность по призыву митрополита в течение трех лет заселили украинцы, основав слободу Грайвороны (позднее – уездный город Грайворон). Среди них преобладали выходцы из Правобережной Украины, Жаботина, Белой Церкви, Гадяча, Корсуни, Умани. Немало поселенцев было и из соседних слободских украинских полков – из Сум, Недрыгайлова, Ахтырки, Лебедина, Ворожбы, Суджи, Богодухова, Балаклеи; встречались выходцы и из русского Смоленска. В конце XVII – начале XVIII веков появился крупный массив украинских селений на юго-востоке края – бассейне рек Валуя (современный Валуйский район) и Айдара (современный Ровеньской район). Украинские поселения обычно располагались в массивах русских поселений «гнездами» или крупными зигзагообразными полосами. Безусловно, это способствовало смешению и взаимопроникновению двух культур, проявившиеся особенно заметно в устройстве крестьянского дома, в традициях кухни, диалекте, фольклоре, обрядах и праздниках. Однако многие самобытные черты традиционной народной художественной культуры края сохраняются в ярко выраженной форме и в настоящее время. На это обратил внимание еще А.И. Соболевский. В работе «Русский народ как этнографическое целое» исследователь указывает на то, что точных границ между тремя славянскими народами, как правило, не наблюдается: есть районы (пояса) переходные, где сочетаются 123 признаки и того, и другого народов. И тут же Соболевский вносит в свое заключение существенную поправку: «Точная граница может быть проведена только между великорусами и малорусами в тех местах, где и те, и другие – поздние пришельцы, где они столкнулись не раньше XVII столетия. Здесь у этнографа обычно не бывает никаких затруднений: одну деревню по ее языку и быту он может смело и решительно назвать великорусскою, а ее соседку, также на основании ее языка и быта, он называет малорусскою» [19, 12]. Это утверждение обосновывают и материалы музыкальноэтнографических экспедиций в села Белгородчины, свидетельствующие, что традиционная народная культура сохраняет свои индивидуальные особенности. Прямое украинское воздействие на нее ощущается только в более поздние исторические периоды. И, напротив, типичные признаки южнорусской традиции удалось зафиксировать участникам экспедиции Московской консерватории на территории Украины. Это еще одно из предположений о том, что только потомки славян-степняков могли принести с собой в южнорусские пограничные города традиции, корни которых уходят ко временам единства юго-восточных славян в эпоху образования Киевского государства. Существенным подтверждением этого предположения является и народная одежда края в композиции, загадочном орнаменте, широкой цветовой гамме которой отложилось родство человека с богатейшей природой края, опытом предковземлепашцев. Достаточно сказать, что основным типом женской одежды в крае была понева, упоминание о которой встречается в древнерусских рукописях. Находим и одно из ранних изображений поневы на браслете из рязанского клада XII века. Понева восходит к одежде исконно славянского земледельческого населения, которое занимало правобережье Дона и его притоки. Она была распространена по всей южнорусской территории. Аналогична точка зрения В.М. Щурова: «Род женской одежды типа поневы встречается у всех трех восточнославянских народов (запаска у украинцев, плахта у белорусов)» [26, 45]. Порубежный характер края определял единый образ жизни «служилых людей южнорусского пограничья ХVI-ХVII веков, основными занятиями которых были ратный труд и землепашество». Следы пребывания в крае «служилых по прибору» (крестьяне, «нетяглые охочие люди», посадская беднота, свободные «казаки») сохранились в названиях сел, деревень, полей: Стрелецкое, Казацкое, Пушкарное, Драгунка, Солдатское по существу они и составляли низший разряд служилого сословия (стрельцы, солдаты, пехотинцы и артиллеристы, пушкари, затинщики, кузнецы, плотники, воротники). Соответственно разрядам за свою службу и на время службы «служилые люди» получали жалованье и земельные наделы. По своему хозяйственному и служебному положению «служилые люди» порубежных городов мало чем отличались друг от друга и по сути приравнивались к «детям боярским». Однако традиции «детей боярских», входивших в разряд «служилых по отечеству», моральный вес которых среди служилого люда был значительным, оказали заметное влияние на развитие народной художественной культуры края. Отголоски этого влияния заметно ощутимы сегодня в говоре жителей ряда сел Алексеевского, Красненского, Красногвардейского и Новооскольского районов (наличие мягкого «к» в конце слова, например «печкя», «внучкю»), в поэтике песенного фольклора. Безусловно, определенное влияние на формирование народной художественной культуры края оказали и служилые люди «по прибору», обращенные в 1724 году указом Петра I в «однодворцев», владевшие землей по частному «четверному праву». Это выгодно отличало их от простых «экономических» крестьян и ограничивало проникновение в среду «четвертников» представителей других сословий. Поэтому наряду с выявлением целостной этнографической зоны края, обозначенной этнографами, лингвистами, фольклористами термином «южнорусская», целесообразно выделить и ее основные территориальные локусы: Белгородско-Курский, БелгородскоВоронежский, Белгородско-Оскольский, обусловленные этнографическими, природно124 климатическими особенностями, социально-бытовым и хозяйственным укладом жизни коренного населения. Синтез этих факторов способствовал формированию стилевой общности и единства народной художественной культуры края в целом и особого своеобразия каждого из трех вышеназванных регионов области. В этой связи надлежит уточнить реальное содержание категорий «региональное» и «локальное» применительно к исследуемой проблеме. Убедительными представляются рассуждения Б.Н. Путилова по этому поводу: «Традиционная культура в своем конкретном наполнении всегда региональна и локальна. Ее естественная, нормальная жизнь повязана с жизнью определенного, ограниченного теми или иными рамками коллектива, включена в его деятельность, необходима ему и регулируется характерными для него социально-бытовыми нормами. Поскольку этнический коллектив занимает определенное исторически сложившееся пространство, обладающее своими географическими, природными и иными характеристиками, то его традиционная культура региональна как в историкосоциальном, так и в пространственном отношении. Одно с другим, как правило, жестко связано» [17, 144]. Весьма интересна позиция ученого относительно второй категории – категории «локальное». В качестве центра традиционной художественной культуры в докапиталистическую эпоху он выделяет общину, которой в территориальном плане соответствует село (деревня). Здесь сосредоточена полнокровная общественная жизнь коллектива, равно как и его основная производственная деятельность, что позволяет говорить о целостной культуре села как системе регулирования социальной жизни и сохранения социального организма. В рамках общинной (сельской) локальности исследователь выделяет микролокальные традиции родовых коллективов и семей [17, 114], в которых народная художественная культура передавалась из поколения в поколение традиционным путем «из уст в уста», от старшего к младшему, от мастера к ученику, являя нам уникальные региональные песенные династии двух-трех поколений, достойными представителями которых сегодня являются О.И. Маничкина, Н.И. Маняхина, М.Т. Яковенко, В.И. Нечаев и многие другие талантливые певцы из народа, исполнительское мастерство и превосходное знание традиций которых обоснованно заслуживает профессионального статуса. Как показывает исследование, освоение фольклорных традиций происходило естественным путем в семье, которая выполняла все основные культурные функции: «она была производственной ячейкой; члены семьи сами производили для себя все, что необходимо для жизнеобеспечения; во многом она заменяла школу; в семье профессия и мировоззрение передавались по традиции; она была ядром социальной организации и контроля, ибо представляла собой общность, находящуюся под контролем общественного мнения окружающих; жизнедеятельность ее членов регулировалась обыденным правом (нравы, обычаи); наконец, именно она обеспечивала социально установленные формы досуга, являя собой своеобразный аналог современного клуба по интересам, регламентируемым утвердившимися обычаями» [2, 244]. Такой уклад жизни способствовал определенной замкнутости «консервации» традиций внутри определенного локуса, благодаря чему мы имеем сегодня уникальное явление в русской народной исполнительской практике – фощеватовское двуххорное пение каноном свадебных песен. До сих пор в России: ни в прошлом, ни теперь подобного исполнения зафиксировано не было, равно как и самобытного хореографического движения «пересек» - особой формы полиритмии, основанной на наложении двух или более ритмов в одновременном исполнении, бытующем до сих пор в БелгородскоВоронежском регионе; ансамблевой игры на «пищиках» (жалейка), кугиклах, дудках, балалайках, бытованием «говеенских» танков, календарно-ориентированных хороводных песен с ярким плясовым началом и самобытной хореографией («хороводы 125 с поясами» и «ширинки» - хороводы с рушниками); оригинальной спецификой календарных и свадебных обрядов, каждый из которых имеет свои местные особенности, а также совершенно определенными в каждом регионе области комплексами народного костюма (поневный и с андараком в БелгородскоВоронежском регионе, сарафанный – в Белгородско-Курском, «парочка» (юбка с кофтой) – в Белгородско-Оскольском). Таким образом, региональный подход в исследовании народной художественной культуры ведет нас в богатую область вариативности ее элементов, разветвленности традиций, множественности исторических типов их выражения, а вместе с этим – в сферу этнической истории в ее конкретике, сложности и загадочности. Безусловно, широкий спектр базовых вопросов этой проблематики сложен и многогранен, ввиду синкретичной, многофункциональной, ценностно-смысловой и сущностной природы всех её составляющих. Однако, именно это обстоятельство даёт нам возможность междисциплинарного социогуманитарного подхода к этим явлениям в пространственно-временной онтологии их ретроспективного анализа. Тем более, что ряд наук (филология, история, этнография, искусствоведение) в разные годы претендовали на всеобъемлющую роль в изучении языка, фольклора, культуры, как правило, вне контекста их продуктивного сопряжения. И тем не менее, судьбы языка, фольклора, культуры в трактовке наиболее дискуссивных проблем, их исторической перспективы нашли достойное отражение в плюрализме мнений, суждений, оценок и выводов представителей российской науки. Нельзя сбрасывать со счетов и тоталитарный идеологический фактор государственной власти, который явно не способствовал процессу осмысления феноменологии народной культуры как основы национальной идентичности в связи с идеей интернационализации, попыткой строительства «новой» культуры, жёстким стремлением обогатить народ «истинными» духовными ценностями преимущественно на основе культурного обслуживания и потребления культурных благ. Небрежное, скептическое, порой даже враждебное отношение к национальному языку, к народной культуре и особенно к фольклору в течение многих лет способствовало размыванию и утрате основ национального сознания, этнических традиций, национальных духовнонравственных ценностей и идеалов, так ёмко воплощенных в творениях народного гения, что, в конечном итоге, превратило несколько поколений россиян в людей антикультуры. Вот почему так жив интерес к родному языку, народной культуре, не прекращающийся с эпохи романтизма и выразившийся, в частности, в появлении и смене череды фундаментальных культурологических исследовательских школ ХIХ века (антропологической, мифологической, сравнительно-исторической и т.д.). Сегодня этот процесс приобретает ещё более заметный характер, становясь доминантой общественного сознания, его культурного развития. «Из-под глыб замшелой официальной идеологии вдруг стали пробиваться свежие удивительные голоса, толковавшие о необходимости национального возрождения, о возвращении к национальным корням и спасении России» [27, 156]. Ведь фольклорное миропонимание, как справедливо заметил А.С. Каргин, – это не просто сказки, пословицы, песни, а – «развёртываемая с их помощью универсальная картина мира, в которой человек определяет не только существующую систему координат, но и своё место и роль в этой системе. И что не менее важно – свои парадигмы действий в этой системе. Следовательно, фольклор не может не претендовать на универсализм и на самостоятельные оценки по отношению ко всем явлениям жизни общества и государства» [9, 6]. Таким образом, проблематику нашей темы мы можем рассматривать в ракурсе новой научной реальности как самостоятельного объекта научного исследования, учитывая глобальность общечеловеческих ценностей ХХ1 века, обеспечивающих не 126 только выживание, но и процветание рода человеческого, каждого отдельно взятого человека со своими уникальными способностями постоянного и безграничного развития, самосознания себя как личности, гармонизации человеческих отношений, направленных на объединение всех во имя блага каждого. Однако это научное прогнозирование цивилизации ХХ1 века основано на наших конкретных сегодняшних действиях по спасению окружающей среды, устранению эгоистического отношения власти имущих к нуждам простого человека, борьбе с преступностью и терроризмом, защите духовных ценностей, коими в первую очередь, по нашему мнению, являются родной язык, фольклор, национальная культура. И здесь со всей очевидностью обнаруживается необходимость их историкометодологического и эпистемологического (теория познания) анализа, ибо наука, одна из сфер человеческой деятельности, где абсолютная истина всегда относительна. Никто в этом процессе не обладает монополией на неё и любая претензия на истину может быть тут же оспорена и опровергнута с противоположной точки зрения. Это естественный момент диалектики любого знания, которое может успешно формироваться только тогда, когда само становится предметом специальных научных исследований, хорошо знает собственную историю, умеет критически анализировать пройденный путь и своё современное состояние. Безусловно, в контексте вышеизложенного, нам следует уточнить ключевые понятия, касающиеся рассматриваемой проблемы, поскольку в любой теоретической системе понятийно-терминологический аспект проблематики является её базисом. Один известный российский поэт писал: «Понятие … растяжимо, оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его». Наделять определённым смыслом – это и есть основное назначение любого словесного атрибута (от латинского «attribuo» – наделяю), трактуемого как «устойчивый отличительный признак, неотъемлемое свойство чего-либо» [3, 39]. Бесспорно, нельзя достигнуть какого-либо взаимопонимания и согласия, если мы вкладываем в слова и понятия разный смысл, противоречим сами себе. Так, ключевое слово рассматриваемой проблематики язык трактуется как важнейшее средство человеческого общения посредством речи, ввиду чего он неразрывно связан с мышлением, является социальным средством хранения и передачи информации, одним из средств управления человеческим поведением [21, 1586], что не будет противоречить значимости языка в контексте заявленной темы. Полагаем, в нашем философско-культурологическом дискурсе языковая коммуникация есть способ услышать друг друга, чтобы разобраться в условиях возникших противоречий, выявить механизмы их реализации. Поэтому вполне закономерно, на наш взгляд, осмысление понятия «язык» в значении семиотической (знаковой) системы, как кода познания бытия, означающего «совокупность знаков (символов) и систему определённых правил, при помощи которых информация может быть представлена (закодирована) в виде набора из таких символов для передачи, обработки и хранения (запоминания)» [20, 596] в одной из стуктурно-составляющих народной художественной культуры – фольклоре. Понятие «фольклор» мы воспринимаем, (учитывая некоторую терминологическую неустойчивость этого понятия, изначально означавшего «folklore»: «народная мудрость»), а затем в первую очередь, в отечественной фольклористике – искусство бесписьменной традиции того или иного этноса как «коллективное и основанное на традициях творчество групп или индивидуумов, определяемое надеждами и чаяниями общества, являющееся адекватным выражением их культурной и национальной самобытности» [11, 27]. И как отмечается в Международных нормативных актах ЮНЕСКО, этой авторитетной международной организации по вопросам науки, образования и культуры при ООН, к формам фольклора относится язык, литература, музыка, танцы, игры, мифология, ритуалы, 127 обычаи, ремёсла, архитектура и другие виды народного творчества. А само понятие «фольклор» в более широком смысле – как традиционная народная культура, которая является одной из подсистем более глобальной системы художественной культуры общества, включаясь в её структуру и взаимодействуя со всеми её образованиями. Таким образом, народная художественная культура не рассматривается ни как низший этап культурного развития человечества, ни как определённая ступень в развитии культуры, а анализируется как самостоятельный исторически обусловленный тип культуры, имеющей свои формы, механизмы, конкретно историческую и социальную стратификацию [8, 13]. И если на стадии нового и новейшего времени народная художественная культура функционировала и функционирует в виде одного из пластов культуры, то на определённых этапах истории (язычество, средневековье) народная художественная культура являлась универсальным пластом культуры всего общества. «Подходя к делу исторически, мы должны будем сказать, что для доклассовых народов фольклором мы назовём творчество всей совокупности этих народов» [16, 18]. Следовательно, народная художественная культура – это система, имеющая древнейшие корни, бытовавшая на разных этапах истории и функционирующая сегодня как один из самодостаточных пластов культуры общества, сохраняя свою ценностнополифункциональную универсальность и вневременную бытийственность, что позволяет нам говорить о фольклоре, представленном множеством составляющих (песенным, инструментальным, хореографическим, обрядовым, устно-поэтическим, декоративно-прикладным и др.) как уникальном феноменальном явлении, трактуемом как редкое, исключительное, «образование души нашего народа» [18, 63]. Таким образом, фольклор являет собой традиционную для этноса бытовую художественно-утилитарную деятельность, её результат, отразившие философскоэстетическое самосознание этноса, сложившееся в результате многовековой коллективной коммуникации и проявляющееся, в основном, в устной форме и бесконечной множественности индивидуально-личностных его вариантов. Именно это позволяет нам рассматривать фольклор как универсальное социоэтническое явление в ракурсе философско-культурологического контекста в нескольких аспектах: - как базисную основу для формирования этнической идентичности, осознания себя частью своего народа, этноса и – одновременно – человека мира; - как свода знаний о многовековом практическом и духовном опыте народа в системе «человек – семья – природа – общество»; - как полифункционального способа передачи этнокультурной информации, базовых общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов, формирующих экологию души и тела; - как художественного феномена, органично соединившего в себе традиционные виды народного искусства: песню, танец, музыку, обрядовое действо, игру, народную одежду и т.д. Бесспорно, все вышеназванные формы бытующего фольклора представляют собой совокупность ценностей, символов, идей, традиций, норм и образцов жизнедеятельности, знаковых систем, характерных для социальной общности и выполняющих функцию социальной ориентации и имеющих социокультурный и педагогический смысл лишь в контексте их выявления, освоения и трансляции в современный социум. Эта проблема всегда занимала отечественную научную мысль. Так, П.А. Флоренский признавался в том, что всю жизнь думал «об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его воплощении. Это вопрос – о символе» [22, 792]. В символе, по П.А. Флоренскому, заложена сущность явления, вернее, само явление и есть символ, соединяющий плоть и душу. «В 128 каждой жилке его плоти я видел и хотел видеть, искал видеть, верил, что могу видеть – душу, единую духовную сущность; и сколь тверда была моя уверенность, что плоть есть не только плоть, только костное вещество, только внешнее, сколь же тверда была обратная уверенность – в невозможности, ненужности, самонадеянности видеть эту душу бестелесной, обнаженной от своего символического покрова» [22, 792]. И если принять эту точку зрения применительно к проблеме этноса и языка фольклора, то так называемая душа народа (или этнический психотип) не может существовать вне вместилища, которым называется сам народ, его культура и его язык. Именно поэтому чаще всего национальная идеология и чувства фокусируются в языке фольклора, который осознается как главный этноразличительный признак, этническая ценность, феномен национальной идентичности. Достаточно назвать имена создателей «психологии народов» М. Лацаруса и Г. Штейнталя, исследования В. Вундта и А.А. Потебни. Взаимосвязь языка и этнической идентичности неоднократно декларировалась многими исследователями при анализе явления в различных аспектах: социолингвистическом, этносоциологическом, этнографическом, социальнопсихологическом, этнопедагогическом. Было установлено, что этническая (национальная) идентичность связана не только с реальным использованием родного языка как средства коммуникации, но и восприятие его как символа этничности, сохраняющей во времени жизненные связи с окружающей средой, общностью, землей, родом, семьей, традициями и обычаями предков, осуществляющей связь времен и преемственность поколений в процессе производства, хранения, потребления и распространения материальных и духовных ценностей материальной культуры. Традиционный народный костюм края – это также живая история, поэтическое предание, в котором оживает значительный и мудрый язык старинного орнамента, где отложилось родство человека с землей и небом, с чередой времен года, с их пестрой цветовой гаммой. Невольно вспоминаются и парящая птица, и Матерь Берегиня, и «Древо Жизни», с древнейших времен воплощаемые в местном «узорочье», подтверждая слова В.В. Стасова о том, что у народа орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии, а потому – каждая черточка, каждый мотив имели свое значение и свои функции. Ввиду этого народную одежду можно рассматривать как вещь и как знак, характеризующий человека, этнос, эпоху в ракурсе историкокультурологических, этнографических, социально-бытовых процессов. Для осмысления этого процесса обратимся к песне, записанной в селе Подсереднее Алексеевского района, воскрешающей в памяти образ традиционной женской одежды ХVIII века: У наших воротьев, у новых, у широких. Стояла Хведора с позументом понева. С нитком подпояска, с канителью завеска. Строченная кичка, золотая сорочка. Сама бела-румяна, еще личиком полна, а бровками черна. Молодец хороший Хведору займая, Да на ножку ступая, чулок белый марая. Молодец хороший, не замай ты Хведору При всем при народу, при честном хороводу. Язык этой фольклорной песни представил нам не только детали женского костюма: понева (юбка), подпояска (пояс), завеска (фартук), сорока (головной убор), но и поведал о высочайшем художественном мастерстве и вкусе его владелицы, ее социально-общественном статусе, ибо «сороку» носили только замужние женщины, однодворки. А заключительные слова песни являют нам морально-этический образец женственности, целомудрия, внутренней красоты, достоинства. 129 Окружающая природная и социокультурная среда осуществили «практическую» философию народного костюма, то есть его функциональность – многообразие видов: сезонной, будничной, праздничной, приспособленной к климату, хозяйственному укладу, семейному быту; конструктивность – предельная простота, доступность в изготовлении и экономичность в расходовании сырья. Непревзойденная декоративность народной одежды, то есть наличие вышивки, ткачества, кружевоплетения – еще одна характерная ее особенность, которая могла рассказать и о художественном вкусе владелицы, ее возрасте, имущественном положении семьи, материальном достатке, наличии земли, мужа, детей, особенностях характера, личностных качествах. В этом аспекте орнамент белгородских узоров выявляет нам первосмыслы знаков-символов, знаков-оберегов, напрямую связанных с почитанием культа земли, воды, растительности, солнца, ввиду чего располагался на определенных местах: жерелке (воротнике), пазухе, рукавам и обшлагам, по подолу. Считалось, что орнамент в виде креста, круга, геометрического треугольника, ромба, квадрата символизирует силы добра, разума, мира, жизни, а, следовательно, вышивались в области жизненно важных участков тела: головы, сердца, рук, ног, в тех местах, где одежда кончалась, что вполне согласуется с их исконным назначением – магическое заклинание, стремление воздействовать на мир, дабы уберечься от злых сил, несчастья и бед. Безусловно, не все знаки-символы, знаки-обереги сохранились на народной одежде ввиду особых геополитических, миграционных, социально-общественных процессов, влиянием массовой надэтнической культуры, глобализацией культуры, захлестнувшей современный мир. Однако, проведенные исследования, в том числе и авторские, изложенные в работе «Традиционный народный костюм Белгородчины: история и современность», дают достаточно полное представление «об изначальных орнаментальных формах, в соединении разрозненных единичных знаков в цельные художественные произведения орнаментального искусства» [15, 31], являя нам ценностно-полифункциональный феномен духовно-практической деятельности народа, выразитель его интересов и потребностей, стереотипов восприятия и мышления, рациональных и эмоциональных форм в системе соотношения коллективного и индивидуального, родового и социального, национального и общечеловеческого. Обладая сложными социокультурными функциями, системой механизмов обмена информацией между людьми, лежащей в основе коммуникативной функции, выражая сопричастность человека к какому-либо общезначимому событию, традиционная народная одежда имела обереговое, защитное, престижное, воспитательное значение. При этом главной оставалась эстетическая функция, которая определяла специфику этнокультурных функций: эмотивной, познавательноэвристической, этической, суггестивной, аксиологической, компенсаторной, гедонистической, канонической, прагматической и ряда других. Таким образом, русский народный костюм аккумулировал в себе духовный и практический опыт нации, ее поэтично-образное видение мира, обеспечиваясь трансляцией опыта и взаимодействия как с современниками, так и с последующими поколениями в социокультурном контексте. Еще более сложный мир условно-символических значений, традиционных действий, сопровождающих важные моменты личной и производственной деятельности человека, призванных способствовать его преуспеванию, благополучию, душевному и физическому здоровью аккумулирует в себе обрядовый фольклор. Это целостное этнокультурное явление, веками создаваемое народом и сохранившееся сегодня в социокультурном пространстве лишь в обрядовых формах поведения на личностном уровне в национальном менталитете. По структуре обряд – сложное, многофункциональное явление, включающее обычай, ритуал, художественные виды народного творчества, игровое действо, 130 фактически создающие событие: свадебный обряд рождает семью, похоронные ритуалы способствуют души усопшего, обряд крещения можно трактовать как ритуал включения новорожденного в человеческое сообщество и т.д. Поэтому понятие «обряд» связано со сложным духовно-практическим феноменом, не только обеспечивающим связь человека с окружающим его миром, но и преобразующим этот мир через обрядовое действо посредством «договора». «Этот договор определял меру и границу поступков человека, делал «зримыми» поступки мира природы, способствовал их гармоническому взаимодействию. Многократное повторение этого типа отношений со временем вылилось в особую форму действа, где традиционные предписания, как следует поступать и что делать в том или ином случае, стали его сутью» [7, 73]. Причем, это действо напоминало спектакль, игру, в которой каждый участник знал правила этой игры, однако мог и импровизировать. Именно это свойство, на наш взгляд, способствовало формированию обрядов, органично соединивших в себе магическое, культовое, анимистическое, синкретичное, личное и коллективное, национальные и общечеловеческие культурные значения и смыслы. При этом народ всегда выступал объектом и субъектом, создателем и хранителем этого необходимого и понятного ему действа, отражающего мировоззрение и миропонимание русского человека как воплощение его знаний, ценностей, норм и образцов жизнедеятельности. Резюмируя вышеизложенное, есть основание утверждать, что фольклор – явление конкретно историческое, созвучно реальной жизни, отражает ее, органично входит в ее плоть и дух. Не случайно во все времена фольклор помогал человеку в познании мира, природы, самого себя, адаптировал к жизни, запоминал, систематизировал и хранил знания, становясь источником прогресса. Он вбирал и передавал последующим поколениям нравственные законы бытия, моделировал и очеловечивал нормы и отношения между людьми, то есть формировал духовную, нравственную и эстетическую основу общества. Однако, восстанавливая и оживляя фольклорную культуру необходимо отбирать и даже моделировать лишь те ее образцы, которые представляют интерес, ценность, значимость и актуальность в контексте эстетических, нравственных и духовных реалий современности. Заключение В работе исследованы традиционные виды народной художественной культуры Белгородского региона в социокультурном хронотопе как полифункциональный ценностный ресурс современного социокультурного пространства, ибо новому времени нужен «Homo agents» - человек действующий, готовый к адекватному восприятию перемен во всех сферах жизнедеятельности общества, здесь и сейчас формирующий свой жизненный мир, культурный, интеллектуальный и духовный потенциал. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Список литературы Р.И. Аванесов. Проблемы образования языка русской (великорусской) народности // Вопросы языкознания. – Вып. 5. – 1955. А.И. Арнольдов. Введение в культурологию. – М., 1993. Атрибут // Толковый словарь иностранных слов в русском языке. – Смоленск: Русич, 2001. – С. 39. Д.И. Боголей. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. – М., 1987. Л.Ф. Бузник. Говор русских сел Дергачевского района Харьковской области: Фонетико-морфологическая характеристика. – Харьков, 1965. Г.М. Веселовский. Острогожск и его уезд. – Воронеж, 1867. М.С. Жиров. Народная художественная культура Белгородчины: Учебное пособие. – Белгород, 2000. – С. 73. А.С. Каргин. Народная художественная культура. – М., 1997. 131 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. А.С. Каргин, Н.А. Хренов. Фольклор и кризис общества. М.,1993. – С. 6. Н.М. Лопатин, В.П. Прокунин. Русские народные песни. – М., 1956. Международные нормативные акты ЮНЕСКО, 1983. – С. 27. В. Мошков. Некоторые провинциальные особенности в русском народном пении // Баян. – 1890. – № 4, 5. В.Г. Орлова. Классификация южно-великорусских говоров в свете современных диалектных данных // Вопросы языкознания. – 1955. – № 6. В. Покровский. Некоторые дополнительные сведения о жителях Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда, 1854. П.Д. Пономарев. Народный костюм Воронежской губернии. – Воронеж, 1997. – С. 31. В.Я. Пропп. Фольклор и действительность // Избр. статьи. – М., 1976. – С. 18. Б.Н. Путилов. Фольклор и народная культура. – СПб.: Наука, 1994. А. Радищев // Избранные сочинения. – М., 1952. – С. 63. А.И. Соболевский. Русский народ как этнографическое целое. – Харьков, 1907. Советский энциклопедический словарь / Гл.ред. А.М. Прохоров. – Изд.4-е. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 596. Советский энциклопедический словарь. - М., 1982. – С. 1586. П.А. Флоренский. Имена. – Харьков, 1998. – С. 792. М.Г. Халанский. Народные говоры Курской губернии // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. – СПб., 1904. – Т. ХХV. Л.Н. Чижикова. Русско-украинское пограничье. – М., 1988. Л.Н. Чижикова. Традиционная женская одежда русских в Белгородской области / Институт этнографии // Ролевые исследования 1977 года. – М., 1979. – С. 9. В.М. Щуров. Южнорусская песенная традиция. – М.: Сов. композитор, 1987. А. Янов. Русская идея и 2000 год // Нева, 1990. № 9. – С.156. FOLKLORE CULTURE OF BELGOROD REGION: AN EXPERIENCE OF ETHNOGRAPHIC AND PHILOSOPHICAL-CULTUROLOGICAL RETHINKING M.S.Zhirov1), O.Y.Zhirova2), 1) 2) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia, e-mail: [email protected] Belgorod State Institute of Arts, Korolyova st., 7, Belgorod, 308034, Russia, ул. Королева, 7 The article presents the retrospective, philosophical and culturological analysis of the popular art culture of Belgorod region in its ethnic and historical diversity of genres, types and forms. The author regards the culture in such aspects as: genesis and evolution, genre nature, acsiological universalism, overtime ontology. It is claimed that traditional forms of existing in Belgorod region folklore is the harmonic synthesis of material and mental values, symbols, ideas, traditions and norms, sign systems which all have social, cultural and pedagogical meaning only in the context of its revealing, introvertion and translation into the modern society. Key words: popular art culture, folklore, language, tradition. 132 УДК 130.1 «ТЕКСТ» И «РЕАЛЬНОСТЬ»: РЕЛИГИОЗНЫЕ СТРАТЕГЕМЫ ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ С.М. Климова1), 1) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 Статья «Текст» и «Реальность»: религиозные стратегемы философского мышления» посвящена сопоставлению средневековых мыслительных и духовных практик с религиозно-мировоззренческими моделями начала и конца XX века. В этот период произошла «окончательная отмена» традиционной для философии оппозиции Бытия и Сознания, ее трансформация в лингвистическую оппозицию Языка и Реальности или текста и реальности. В статье подробно рассматриваются различные точки зрения на происхождение и развитие данной оппозиции в культуре, анализируется семиотизация религиозных установок средневековья и современности, исследуются дискурсивные пути Богопознания, «символическая» природа Божественного Слова. Средневековая философия/богословие выработали своеобразный логический принцип снятия оппозиции Бога-Мира в учении ортодоксального богословия, подробно рассмотренный в статье. Особое место эта тема занимала в культуре Серебряного века, которую можно определить как языковую по преимуществу, имеющую свое основание в тотальном культе слова. В статье большое внимание уделено языковому сознанию представителей данной эпохи, и в частности, идеям В.В. Розанова. Ключевые слова: текст, реальность, язык, философское мышление, религиозные стратегемы. Введение Умберто Эко в своем знаменитом эссе «Средние века уже начались» наряду с разнообразием оригинальных сопоставлений современной и средневековой эпох, удивительно точно обнажил поразительную общность между современными мыслительными схемами различного рода структуралистских и постструктуралистских логик и средневековыми формами мышления, раскрывая данное своеобразие через понятие «реальность». Он выделил исторический и логический подходы к постижению (дескрипции) реальности, связанные с разными проектами «восстановления» средневековой ментальности в осмыслении современного мира, официальный образ которого идеологически уже давно девальвирован, а практически отвергнут многими из-за его антигуманной сущности. Мысль о правомерности сопоставлений подобного рода отражена и в книге одной из крупных современных исследовательниц С. С. Неретиной «Тропы и концепты», обнаружившей реальную возможность (и необходимость) рассмотрения средневекового мышления как «стратегемы» современного. Указанные реминисценции отнюдь не единичны. Всякий раз, когда современное (как синоним новоевропейского) сознание попадает в ловушку собственного рационализма и формальное признание правомерности других логических стратегий по сути не «снимает» проблему понимания – познания - жизни, возврат к средневековым формам мышления становится универсально-необходимым способом реконструкции основ гуманизации бесчеловечного мира. Возвращение к средневековым мыслительным и духовным (зачастую отождествляемым с религиознонравственными) практикам в конце XX в, можно сопоставить с интересом к религиозной проблематике в начале того же века. Попробуем разобраться в этот ситуации. XX век, «окончательно отменив» традиционную для философии оппозицию Бытия и Сознания, перекодировал ее в лингвистическую оппозицию Языка и Реальности или еще конкретнее: текста и реальности. Напомним, что слово «реальность» образовано от лат. res – и в переводе означает вещь, дело. Именно так, «по-латински» многие ее и понимают, добавив сюда эпитет жизнь. Отнестись к реальности как вещи и одновременно манипулировать, действовать, обращаться с реальностью как с вещью, иногда осмысливая свои действия (рефлектируя на них), вот 133 и все, на что хватает очень многих современных людей. Пожалуй, самостоятельно многие не ответят на вопрос о том, что такое реальность, но вряд ли усомнятся в ее объективности, данности и смысле. Но и ученый действует, оперирует словом «реальность» как вещью, лишь более наукообразно рефлектируя по этому поводу. Реальность «в традиционном естественнонаучном понимании есть совокупность всего материального вокруг нас, окружающий мир, воспринимаемый нашими органами чувств и независимый от нашего сознания»[1]. В таком весьма распространенном понимании заложено явное противоречие тезиса, согласно которому «данное в ощущениях не зависит от нашего сознания», хотя скорее от нашего сознания не зависит то, что не дано нам в ощущениях, все ощущаемое вряд ли способно проскочить мимо него. Едва ли сегодня кто-то будет утруждать себя средневековой загадкой о реальности существования камня, на который никто не смотрит, и по поводу которого никто не высказывается. Совершенно очевидно, что разговор об объективности, обратимости и необратимости понятий «реальность» и «текст» невозможен вне субъекта. При этом нужно учитывать, что данные понятия - это точки зрения на объекты, а не свойства самих объектов (А. Пятигорский). Сами объекты ничто и не доступны нам, они не имеют никакого отношения ни к реальности, ни к тексту, ибо все функционирует лишь благодаря воспринимающему и отражающему их субъекту. Ни материальность, ни объективность, ни существование вне сознания не помогут в определении сути реальности. Ибо все, что мы называем реальностью, культурой, наукой, миром чувств и т.д. есть ни что иное, как система знаков – семиозис человеческого бытия. «Мы не можем разделить мир на две половины. И собрав в первой книги, слова, ноты, картины, дорожные знаки, Собор Парижской Богоматери, сказать, что это – тексты, а собрав во второй яблоки, бутылки, стулья, автомобили, сказать, что это – предметы физической реальности»[2]. Фактически в той же логике рассуждал В.С. Библер, доказав тождественность понятий «текст» и «реальность», размышляя о специфике того и другого как основаниях логики и мышления, доказывая невозможность их различения друг от друга. Ю.М. Лотман выделяет два подхода в описании реальности и текста. Первый рассматривает тезис: «мир есть текст», второй: «мир не есть текст». В первом случае природа обретает образ книги с вариативным автором и семиозисом, а ее освоение превращается в акт чтения. Во втором случае, мир не имеет никакого смысла. И тогда человек превращает не-текст в текст путем культурации – преображения. Исследователь определял культуру как «пучок семиотических систем», складывающихся в определенную иерархию, систему текстов. Текст от реальности отличает наличие или отсутствие правил или смыслов – прагматического начала. Собственно культурная деятельность заключается в том, что ее языки используются для переведения участков реальности в семиотические системы, в тексты. Жизнь становится текстом в связи с необходимостью объяснения ее скрытого смысла или придания ей этого смысла, проживающим жизнь субъектом. «Превращение жизни в текст – не объяснение, а внесение событий в коллективную (в данном случае национальную) память» [3]. Культурация реальности есть деятельный синоним слова «превращения», придания смысла индифферентному природному бытию – не-тексту. Многочисленные размышления Ю.М. Лотмана о существовании внетекстовой реальности вызывают ощущение внутренней неудовлетворенности, не только потому, что практически невозможно вообразить жизнь, отличающуюся от ее выражения в знаковой форме. Реальность давно и прочно утвердилась в нашем восприятии как синоним слова «культура», которая устроена таким образом, что слово и текст в ней господствуют, а сама «индифферентность» есть ни что иное, как именование «смысла», о котором невозможно рассуждать вне логики, организуемой текстом (словом, языком, мыслью). В любом знаке смысл всегда подразумевается, как подразумевается и некто, 134 кто этот смысл придает или открывает в нем. Другой вопрос заключается в постижении дилеммы: правомерно ли считать слово, язык или текст сутью культуры или ее свойствами-характеристиками. Как указал Г. Фреге: «смысл – это путь, каким люди приходят к имени», вне которого невозможна человеческая жизнь. Мы не можем элиминировать идею знаковости природы, разве только тогда, когда физически элиминируем собственное пребывание в ней. Но до этого момента мы не перестаем рассуждать и о потустороннем «семиотически», придавать ему разнообразные смыслы, описывать в различной системе знаков. Именован нами и тот, кто является основателем смысла, как бы мы его не называли: Бог, законы, порядок, человек, при этом, как в основание, мы упираемся в понятия творца и творения, проясняемые через понятие творчества. Более того, общей чертой новоевропейского сознания является восприятие мира сквозь призму слова/текста, не только по аналогии с христианским мировоззрением, но и благодаря фундаментальной общности между ними. Таким образом, проблема оказалась стара как мир, ведь… «В начале было Слово и Слово было у Бога, И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин,1, 1-5). Сложнейшая из всех, идея Слова-Бога, стала объектом раздумий и понимания как эллинизированных евреев, так и христианизированных греков уже в первые века формирования нового религиозного мировоззрения и богословия, возникшего, как известно, на стыке античной и ветхозаветных мыслительных и идеологических парадигм. Слово, имея огромную вариативность, позволяющую определять его и как неизреченный Логос, и как Разум, и как Икону, безусловно, связывает Его и с идеей Книги, доминирующей в сознании мира со времен ее первых овеществлений в культуре [4]. Средневековье среди прочих своих стратегий описаний Творца и Мира/Творения как Его имманентно-трансцендентного антипода, широко использовало понятие «книги» в качестве источника информации, способа обучения (насколько это возможно) и дешифровки – перевода или герменевтического толкования и одновременно способа понимания – экзегезы. Раз есть Книга, значит, есть и Автор-Создатель и Читатель. Книга – это текст, и, следовательно, в ее основе лежит теория знаков или, говоря современным языком, семиотический подход. Любому тексту, по законам семиотики, можно задать как минимум три вопроса: о синтаксисе (наука о сочетании знаках), о семантике (о знаках-значениях) и о прагматике (о смысле) [5]. При априорном признании недоступности, невыразимости Творца-Бога в знаке в то же время средневековый человек не сомневался в том, что всё в мире есть Его плоть, Его знаки, результат Его деятельности. И эти знаки в христианском сознании укладывались в четкую иерархию или «лествицу», ступени познания, приближающие человека к Творцу. Его знаки обладали для человека либо синтаксическими, либо семантическими, либо прагматическими смыслами. Его знаки - символы Творения, овеществления или во-площения (терминологией распоряжается эпоха). При этом сам Он всегда за пределами этих знаков, и Его главным Знаком становится символическое (условное) представление о Нем как Выразителе Невыразимого. Творец – имманентнотрансцендентен творению. Его имманентность позволяет говорить о Нем как о Создателе «книги», превратившим весь мир в текст. Его трансцендентность не допускает авторства над ним и, следовательно, превращения Его самого в текст, который кто-то способен прочесть. Остается лишь один шанс в Богопознании – посмотреть на него изнутри Им сотворенного/воплощенного. Речь идет о материализации духа в теле, будь то Христос, человек или природа. Книга стала особым универсальным знаком такого воплощения. В терминологии современного языкознания ее можно определить как метафору, представляющую собой вещественную форму выражения невещественной сути божественного Слова-Замысла. Средневековое восприятие любого слова было не 135 только (и зачастую не столько) познавательным, сколько сакрально-магическим и мистичным одновременно. Слово, помимо прямого назначения, имело и герметичные (тайные) смыслы, обладало «двухмирной» природой, чертами символа, о котором позже рассуждала русская философская мысль в лице П. Флоренского, С. Булгакова, А. Лосева и др. Оно стало «мостом» между феноменальным и ноуменальным миром, так как несло в себе все черты того мира, о котором «говорило», и того, от имени которого оно говорило. «То, что было произнесено, не исчезает; чтобы произнести все, не надо говорить одно вслед за другим: все извечно и одновременно» [6]. Слово нельзя однозначно приравнять к экзегезе – извлечь из него прямой смысл. Ибо оно таинственно-мистично и в тоже время сверхсубъективно. С точки зрения религиозного мировоззрения человек в Слове и через слово раскрывает лишь то, что открывает ему Господь. Таинственное не подчиняется законам ratio, пытающимся поймать и «остановить» мгновение. «Климент Александрийский прямо уподобил зримое словесному: говоря о том, что Христос вочеловечившись, принял образ «невзрачный» и лишенный телесной красоты, он отмечает: «Ибо всегда следует постигать не слова, а то, что они обозначают» [7]. Таким образом, очевидно, что метафоричность средневекового мышления не позволяет обнаружить смысл проговариваемого полностью, выразить мысль адекватно в слове или любом другом знаке. Вещи и знаки этого мира устанавливали человеку таинственный предел. Он прекрасно осознавал условность любого символа, его непроговариваемую значимость, которая в терминах современной науки была названа интенсионалом (в данном случае - синоним смысла). Средневековые стратегемы мышления две главные книги - Книгу Природы и Книгу Священного Писания - считали вполне сопоставимыми и одинаково метафоричными. Природу можно считать в большей степени мистико-синтаксической, чем наполненной прагматичными смыслами, несмотря на бесконечный, никогда не прекращавшийся в человечестве процесс ее познания. Интерпретированные таким образом тексты этих двух книг стали глобальными метафорами религиозного сознания, превращаясь в универсальные (самодостаточные) способы организации жизни по религиознонравственным законам, а не нейтральными объектами герменевтического постижения. Августин предостерегал не только от соблазнов плоти, но и от соблазнов и искушений, «которые рядятся в одежду знания и науки», делая греховным даже самое страстное и казалось бы бескорыстное служение науке. Именно поэтому христианство так осторожно было по отношению к возможностям познания, открываемым разумом или дарованным Богом. Важно было не только логически понимать, но и мистически проникать в тайны бытия, получить высшую санкцию на свои открытия. Ибо абсолютно ясной для христианина было истина о том, что все нами постигаемое есть движение к Богу, а это равнозначно движению к Жизни, и смысл пребывания человека на земле заключается в том, чтобы понять это. «Когда я прильну к тебе всем существом моим, исчезнет моя боль и печаль, и живой будет жизнь моя, целиком полная Тобой, писал Августин, ясно и отчетливо направляя стремление человека в познании Высшего к сердечному – любовному проникновению в него. – Ясно сознаю я, Господи, что люблю Тебя: тут сомнений нет.… А что же такое этот Бог? ... Он Жизнь жизни твоей» [8]. Отголоски этих слов явно звучат в тоске Ф.М. Достоевского по «живой жизни» – по фактически уничтоженному рационалистическим мировосприятием XIX столетия духовному пониманию экзистенциальной сути Бога в безбожном мире пустых слов и стершихся смыслов. Специфика тоски иррационального человека иррациональной эпохи XIX – нач. XX веков заключалась в том, что его представители («философия жизни») философствовали как бы изнутри самой жизни, целиком отождествляя себя с ней, а для средневекового философствующего субъекта Жизнь рассматривалась с большой буквы, как реальность, пребывающая вне человека, знак воплощения Высшей, вне самой жизни находящейся реальности-Вещи – Бога. Его особый статус Вещи-Слова становится причиной, говорящей о каждой сотворенной вещи и о себе самом. Эта идея 136 подчеркивает онтологичность Слова, его абсолютный бытийственный смысл для христианина. Бог есть точка, в которой все соединены и в тоже время Он имманентнотрансцендентен миру, и Бог и Мир направлены на Другого (друг на друга) или других, и в этом заключена их субъектность. В этом же смысле Слово, которое отражает Его суть мистично или апофатично по природе. Таким образом, одной из фундаментальных идей христианства становится акт Боговоплощения в Слово, «предвечно рожденного от безмолвной первоосновы бытия Бога Отца, момент встречи Слова и Безмолвия переживается особенно остро, так как знаменует собой явление третьей ипостаси Троицы – Бога Духа святого» [9]. Средневековая философия/богословие выработали своеобразный логический принцип снятия оппозиции Бога-Мира в учении об антиномизме катафатического и апофатического богословия. Разговор о Боге-Слове подразумевает для средневекового сознания разговор об апофатике, или «неизглаголонности» слов и Слова. Апофатика есть, по сути, отвержение мира, теоретическая разновидность аскезы, способ указания на невозможность вербального выражения невербальных интуиций внеположенной человеку реальности (в терминологии средневековья - концептов). Аскеза, как экзистенциальное выражение апофатики, касается не Бога, а поведения самого человека. Отвержение мира происходило не на основе его неприятия, а из-за его несовершенства по сравнению с совершенством Высшего. Совершенства этого мира есть лишь метки-«тени», указующие на скрытое от человека Абсолютное Совершенство того мира. Бог в средневековом сознании определен как «Вещь» (Августин), которая не дана ни для какого обозначения, не является ничьим знаком, абсолютно непознаваема и невыразима полностью. «А каким образом Ты сказал? Так ли, как тогда, когда из облака раздался Твой голос: «Это Сын мой возлюбленный?». Этот голос прозвучал и отзвучал; заговорил и умолк. Слоги прозвучали и исчезли: второй после первого, третий после второго и так по порядку до самого последнего, после которого наступило молчание. Из этого явствует, что их произвело движением своим создание Твое временное, но послужившее вечной воле Твоей, – и эти слова Твои, сказанные во времени, наружное ухо сообщило разуму, который внутренним ухом прислушивается к вечному словцу Твоему. И он, сравнив те, во времени прозвучавшие слова, с вечным словом Твоим, пребывающим в молчании, сказал: «это другое, совсем другое, эти слова меньше меня, да их вообще и нет, они бегут и исчезают; Слово же Бога моего надо мной и пребывает во веки» [10]. Августин обнажает диалектику слова и молчания, одновременно наглядно демонстрируя невозможность выражения Бога в языке. Слово таит молчание, которое одно «красноречиво говорит». И все же размышление об апофатике возможно лишь на фоне постоянной коммуникации – всевозможных попытках описания Бога в слове и речи. Апофатика внутренне-имманентно связана как с состоянием молчания – с Ничто (исихастский опыт), с полной невыразимостью Вещи, которая ни есть никакая вещь, Слово, которое ни есть никакое слово, так и с понятием «внутреннего человека, внутренней речи и соответственно внутреннего уха, глаза, вкуса и т.п.». «Мы говорили: «если в ком умолкнут представления о земле, водах и воздухе, умолкнет и небо, умолкнет и сама душа и выйдет из себя, о себе не думая, умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и все, что проходит и возникает, если наступит полное молчание… если они, сказав это, замолкнут, обратив слух к Тому, Кто их создал, и заговорит Он сам, один – не через них, а прямо от Себя, да услышим слово Его, не из плотских уст, не в голосе ангельском, не в грохоте бури, не в загадках и подобиях, но Его Самого, Которого любим в созданиях Его, да услышим Его Самого, - без них, - как сейчас, когда мы вышли из себя и быстрой мыслью прикоснулись к Вечной мудрости, над всем пребывающей» [11]. Фактически Августин описал состояние близкое к 137 исихастскому опыту, в котором переживание, внутреннее молчание–стояние перед Высшим сочетается с внешней активностью, коммуникацией и социализацией. Апофатическое богословие установило фактические границы познания. Творец недоступен познанию, так как Он не является объектом и с Ним невозможно экспериментировать (эксперимент – необходимое условие познания). Его нельзя «расшевелить» и в тоже время Он не поддается никаким мыслительным операционным воздействиям. Практически единственным адекватным способом рассуждения о Нем стал, предложенный великим Аристотелем: рассматривать Его как неподвижное, вечное, все созидающее и абсолютно запредельное нашему пониманию-знанию – НАЧАЛО, как ВЕЛИКОГО АВТОРА Сущего, «замысел» которого человек стремится познать в доступных для его него формах. Такое отношение легко укалывалось в схему античного научного мировоззрения, для которого созерцательность была высшей формой познания. Такое понимание вполне сопоставимо со средневековой моделью познания как «смотрения на вещь». И в этом смысле экзегетика есть лишь предварительный этап на пути к пониманию, на пути к встрече с самой ВещьюТворцом. Цель понимания – не обращенность к тексту с его объектным смыслом, а прорыв к самому Субъекту-Вещи, экстатический прорыв души к Богу, овладение смыслом в акте си-нергии – со-творчестве. Сегодня уместно уточнить средневековую парадигму мысли и указать, на то, что книжный свиток, постепенно разворачиваемый Автором перед читателем, расширяет схему Бог-Мир до триады: Бог-Мир-Читатель, размышляет о субъекте и как о части книги (твари) и как о читателе (со-творце) одновременно. Современный человек понимает, что Бог, о котором некому думать и говорить, «равнозначен» образу камня, реальность существования которого недоказуема, так как «если бы не было ни одного сознания, то тогда кто же мог бы сказать: «Вот камень лежит на земле»? И не было бы слова «камень». И слова реальность тоже не было бы… Словом, мы не можем определить, что такое реальность в современном смысле, если будем держаться за помочи, за материальность и независимость от сознания» [12]. Но и не держась за материальное, человек в постижении Высшего не может выбраться из тисков «реальности», ищет материальных следов Его существования-сущности. И это происходит вовсе не из-за человеческой ограниченности, но скорее, благодаря его двойственной природе, позволяющей сопрягать в своем восприятии чувственное и рациональное, видеть следы духовного в материальном и наоборот. Проблема была бы навсегда неразрешимой в рамках средневековой парадигмы, если бы Плоть не стала «со-участницей выразимости Бога», живым свидетелем его во-площения в вещественном бытии. XVII век стал переломным во всех смыслах слова. Первой научной попыткой перекодирования тотальной идеи Творца (креационизм) в идею творчества (рационализм) и началом стремительного разрушения устойчивой для всего средневековья дилеммы сакрализованного сосуществования двух книг: «Первотекста» Священного Писания и «Книги Природы» стало формирование известной оппозиции Природы (как естественного начала) и Культуры (как искусственного). Процесс Чтения/прочтения-познания, а также процесс авторства-созидания нового, также подменил средневековую идею Автора-Творца Первотекста огромным множеством авторов текстов-законов и авторов-интерпретаторов Книги Природы, постепенно не только изолировавших Творца от его творения, но и изъявших Его из этого процесса в ходе подмены Его «неизглаголанных» возможностей собственными мыслительными способностями. Одновременно с этим был постепенно перетрансформирован и закон Творения-Откровения в формы многочисленных открытий «объективных» законов «объективной», вне нас существующей реальности. Чем более возвышался человек в своих глазах, тем больше реальность становилась объективной, а мир независимым ни от чего, в том числе и от морали и религии. Апофатическое сознание средневековья 138 было изъято из анализа как мистическое и хаотическое, иррациональное, затрудняющее процесс познания. Молчание было отождествлено с мышлением, обдумыванием или замыслом, а слово стало реализацией «огромных возможностей» (если не безграничных) человеческого разума. Человек в одночасье превратился в «мыслящий тростник», который теперь больше стал бояться природных стихий, чем гнева Божьего, при этом, взлелеяв удивительную гордыню по поводу собственного преимущества, заключенного в способности мыслить исключительно научно (логично). Наука XVIII века, обнажив рационалистическую пропасть между Богом и миром, отчуждает их друг от друга до конца в концепции антиномизма И. Канта, утверждавшего, что мир человека воплощен в языке, на котором невозможно ничего сказать о Боге и его атрибутах. «Мир вещей в себе» и «мир явлений» настолько антиномичны, что наука предпочитает честно признаться в неспособности мыслить трансцендентный мир, в нежелании продолжать бессмысленные попытки поиска адекватного языка его описания. Фактически И. Кант разорвал представление об имманентнотрансцендентном Боге, «слил» точку «над» с самой плоскостью, поставив мир и Бога в положение симметрично-противоположных и непересекающихся миров, вышел за пределы «трехмерного» пространства мира, назвав инобытие «вещью в себе», абсолютно автономной по отношению к миру, данных нам явлений. И если средневековье учило о молчании, мистицизме воплощенного слова, то рационализм просто развел их в разные стороны, успокоив уставший пытливый ум, очертив сферу рассудка лишь доступными ему законами и сделав веру лишь следствием врожденной (или социальной) моральности человека. И в этот момент Сознание и Бытие окончательно перестают оппонировать друг другу, и мир науки попадает под магическое влияние понятий реальность, слово-текст, разум и смысл. В то же время слово теряет магические и сакральные характеристики того ноуменального начала, которое всегда в нем присутствовало. Впрочем, точно также как и природа. Нет больше «храма», но все становится «мастерской», а подмастерьем может стать любой, даже Господь. Слово претендует на статус адекватного отражения реальности. И по законам инверсии подменяет собой эту самую реальность. Тварь, возомнившая себя творцом – тенденция всей нигилистической традиции немецкого теоретизирования XIX столетия – была воплощена в практику жизни русскими «философами», религиозно преклоняющимися перед любым словом как перед истиной, подобно тому, как все русские всегда преклоняются перед любой инструкцией (любым симулякром) как перед сутью самой жизни. Ни разум, ни логика, ни диа-лог, но текст «победил» реальность и перестроил ее по образу и подобию дискурса. Особое место рассмотрение данной проблематики имело в культуре Серебряного века, которую можно определить как языковую по преимуществу, имеющую свое основание в тотальном культе слова. Но в отличие от христианского культа Божественного Слова, на который они, безусловно, опирались как на первознание, «новое религиозное сознание» русских идеологов культуры замкнуло мир на слово, а слово на самое себя. Приоритет принадлежал течениям, объединенным в понятие «модернизм». «В символизме и абстракционизме Бердяев усматривал разрушение культуры, поскольку слово замыкается лишь на самом себе и не выходит к трансцендентным ему смыслам. Такой историцистский подход к определению культуры через словесность сузил границы словесного горизонта культуры, не позволил ему увидеть более широкий – христианский контекст определения культуры через слово» [13]. Н. Бердяев в «Русской идее» выделил три источника духовного перелома своей эпохи: возрождение западнического радикализма в форме марксизма; религиознофилософскую публицистику, критику и беллетристику представителей нового хилиастического сознания; расцвет русской поэзии. В культурном ренессансе начала 139 XX века, в период «богостроительства» тоска по Высшему стала особенно острой и интимно-личностной. Апокалиптические и мистические настроения захлестнули интеллектуальное общество. Как отмечал А. Блок: «Источник и декаденства, и классицизма, и реализма – один; имя ему – Бог» [14]. Совершенно очевидно, что имя «Бог» уже никого не может обмануть. Ведь речь шла не о трансцендентном Творце, а об имманентных творцах и творческих актах, всевозможных проектах пересотворения (почти по Марксу) мироздания. Ожидание близкого вселенского конца было сопряжено с «симметричным» предчувствием грядущего «Бога или дьявола». Кто «родится» в горниле грядущих перемен – Божественное Слово или дьявольское наваждение – было одинаково безразлично для певцов мировых пожаров и революционных зорь. «Диалогический фон философской логики, ее неосознаваемый диалогический источник – внутреинтеллектуальная игра рассудка, разума, интуиции, продуктивного воображения – все это к концу XIX века распалось и без остатка редуцировалось до рассудка, или в других вариантах, - до внелогических стихий» [15]. «Глубинная» религия искала свое «глубинное основание» в новом и вечном преобразовании – искусстве и творчестве, направленном на созидание нового языка культуры. Философия, поэзия и реальность слились в одно мистическое мировосприятие. Эмоциональной почвой, на которой выросла уникальная русская литература XIX века и уникальная русская философия начала XX, безусловно, первоначально была русская классическая поэзия, задавшая все последующие идейные ориентиры эпохи. Поэзия вторгается в процесс познания как единственный «адекватный язык» описаний, используемый для разрешения неразрешимых проблем культуры. По этому поводу есть прекрасное высказывание Гарольда Блума: «Есть одна удивительная черта,… которая часто проявляется в дискурсе девятнадцатого и двадцатого века о человеческой природе и об идеях: дискурс замечательным образом становится прозрачным, если мы заменяем “личность” на “поэму”, или “идею” на “поэму”» [16]. Идея-поэма – это создание нового типа дискурса, который обрел свою конкретизацию на пути сращивания двух различных процессов. С одной стороны, сформировался мир книжных людей и книжной культуры западного, в основном немецко-романтического, толка. Поэты потребовали для поэзии того места, которое традиционно занимали религия и философия, а в эпоху Просвещения — наука, опыт, эксперимент. С другой стороны, русские мечтатели и интеллектуалы имели как бы «двойное самосознание» (Б. Успенский): европейское и русское. Запад для них всегда был культурным ориентиром (почвой) и объектом идеализации, а Россия — полным антиподом европейской просвещенности (идеей) и объектом мифологизации. Поэзия, а затем русская литература будили и формировали мир интеллигентских переживаний, страстное отношение к жизни, ее идеализм. Метафизической основой эмоциональности явилась поэтически представленная религиозность интеллигентского мировосприятия, аккумулирующая в себе многие элементы переосмысления духовности с точки зрения тогдашнего рационализма и спиритуализма и при этом практически целиком опирающаяся на христианский дискурс. «Христианские черты, воспринятые иногда помимо ведома и желания, через посредство окружающей среды, из семьи, от няни, из духовной атмосферы, воспитанной церковностью, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции. Ввиду того, однако, утрачивается вся действительная противоположность христианского и интеллигентского душевного склада…» [17]. Серебряный век можно представить как поле дескриптивной борьбы за создание приоритетного дискурса [18], претендующего на «адекватное» отражение реальности. И этот дискурс воспринимается не только как особого рода организованный текст, а как текст-творение, претендующий не на отражение, а на пере-сотворение реальности, им описываемой. В этот период сформировалось три типа описаний: религиозный (мечтатели-философы), этический (мечтатели-радикалы), эстетический (мечтатели140 словесники), а их творцы стали восприниматься в «жертвенной» терминологии: «святые»-философы, «святые»-герои и «святые»-писатели или творцы слова. Слово русских писателей обладало силой и мощью и подчас религиозным воздействием, вполне сравнимым с воздействием мистического слова святых отцов православной Церкви. В Серебряном веке стал доминировать религиозный дискурс и при трактовке истории России, русского народа, самодержавия, крестьянской общины и т.д., но не строго канонически, а в рамках исторической и индивидуальной рефлексии. И по закону «отражения идей», произошла натурализация идей, когда не реальность, не объективный ход развития истории, не объект выступили первоосновой формирования дискурса, но, напротив, выбранный дискурс стал основой переформирования реальности по законам языка, ее описывающего. И в этом процессе осуществлялся процесс мифологизации как самого объекта, так способа исследования. Мифотворчество стало доминантой мироописания, соединив в себе и науку, и религию, и поэзию. Русская философия славянофильского толка рождалась как попытка совмещения православного и светского дискурсов таким образом, чтобы первый не мешал, а помогал выражать идеи второго. По сути, мы имеем дело с глобальной перекодировкой традиционных христианских и библейских текстов в соответствии с поэтапной их трансформацией в философствующее сознание эпохи и создание концепта русской интеллигенции. Уникальность, однако, заключалась и в том, что христианский язык получил новое оформление (мифологическое) и лег в основание литературных и публицистических текстов, сформировавших философские мифы славянофильства, а русская философия обрела свою привлекательность, только благодаря близости ее языкового аппарата художественному или литературному. Философско-литературный (а затем и любой художественный) текст обрел каноническую незыблемость и форму мифологического первообраза, претендуя на то место, которое до этого занимал другой текст – Библия. Новый дискурс рождался в ходе спекулятивного использования предыдущего религиозного языкового каркаса для озвучивания новой истории и описания новых героев. Старые слова, метафоры и смыслы, умирая, возрождались в новом языке культуры, становясь фоном индивидуального мифотворчества: философского, литературного, публицистического. Литература и философия занялись «строительством» языка, в котором привычные понятия, освобожденные от традиционных смыслов, обретали новую жизнь и становились причиной рождения нового типа людей, каких никогда еще не было в русской культуре. Речь идет, прежде всего, о нашей страстной интеллигенции, которая взяла на себя миссионерскую функцию «спасительницы» русского народа, бессознательно идентифицировав свою жизнь (переживания) с героизмом, а героизм с понятием религиозной святости. В ходе этого движения текстов и созданных на их основе людей-текстов, самому христианству суждено было «раствориться» как мифу или сказке и уступить место иному мифотворчеству и иным святым. Религиозный словарь предыдущей эпохи стал источником и платформой рождения новых смыслов, заключенных в прежнюю оболочку слов и понятий. И не понятия «убивают» людей, а люди «убивают» понятия (Рорти). И самый главный результат метаморфоз подобного рода заключался в том, что «возвращение» Бога в русском религиозном ренессансе не означало первоначального (средневекового) восстановления непроходимых границ между Творцом и его энергиями, созерцательной практики «смотрения на Вещь», а, напротив, вело к их активному стиранию, в результате которого старые слова обрели новый «филологический» статус: Бог стал таким же «текстом», как и порожденный им мир культуры. Возможность такой метаморфозы стала очевидной в процессе активного введения личности в провиденциалистски осмысливаемый ход истории. В сознании русских интеллектуалов исчезает религиозное сознание, но сохраняется религиозность как специфический 141 настрой души, связанный с представлениями об их особой миссии на земле; специфической этикой поведения, в рамках которой, чаще всего, и озвучивается понимание «творца», заключенного в особом образе жизни и идеях, в настоятельной потребности в мифотворчестве. На рубеже веков культура самым причудливым образом соединила в себе мистику, эротику, политику и философию, прежде всего в дискурсе, а затем и в практике преобразования самой жизни по законам дискурса. Произошел процесс глобальной мифологизации реальности в полном соответствии с главнейшей функцией мифа быть инструментом для преодоления противоречий сознания и «противоречий картины мира» [19], которые невозможно разрешить в рамках иных форм. Влияние русского печатного (литературного и публицистического) слова было настолько роковым и значительным, что сразу же после революции 1917 года В. Розанов писал: «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России нет нелитературного происхождения. Трудно представить себе.… И, однако, – так» [20]. Если правомерно использовать подобное сравнение, то правомерно уточнить, что в «убийстве» принимала участие и русская философия, и русская литературная критика, питавшиеся от корней русской литературы и составляющие с ней единое целое, и публицистика и поэзия, то есть вся книжная и эстетическая [21] культура XIX века. Мы вполне осознаем сегодня, что литература не имеет никакого отношения к референции и не говорит от имени никакой реальности. Герои ведут себя не в соответствии с логикой жизни, логикой здравого смысла или формальных законов, но по закону дискурса — литературного повествования. Только дискурс заставляет героя быть таким, а не другим. Трагедия же нашей интеллигенции, нашей литературы, ставшая причиной трагедии всего народа, заключается в том, что, привыкая жить в литературном мире, реальных людей и реальную жизнь они воспринимают как «текст», которым можно манипулировать, играть, переконструировать по законам дискурса, подгоняя живые (обывательские) миры под миры своих особых (поэтических и идейных) переживаний/реконструкций мира. Отсюда так много смертей (убийств и самоубийств) на идейной и безыдейной почве, но практически всегда под влиянием печатного слова в середине XIX / нач. XX вв. В.В. Розанов по этому поводу (и одновременно по поводу русского терроризма) писал: «И “историю русской литературы” давно было бы пора обставить этими могилками, этими “крестами” в своем роде: посмертными предсмертными записочками, признаниями и дневниками самоубийц и убийц.… И между тем, тут столько таланта» [22]. На этом фоне бесконечных попыток теоретических/практических пересотворений реальности, одним из немногих, сумевших освободиться от тотального «ига» слова, стал блестящий представитель российской литературы и философии Василий Васильевич Розанов. С одной стороны, он – типичный представитель эпохи и человек вполне книжный, с другой стороны, его гений явно не книжного происхождения, ибо, по собственному признанию, читал он мало, так как чтение мешало думать и мечтать. Он раньше многих понял роковое значение семиотизации жизни, превращения ее в «придаток» знаков, слов и символов. Семиотизацию он описал как мифологизацию, показал способность мифа к натурализации, то есть представление искусственного – знакового статуса предмета в качестве его сущности. Посвятив жизнь поиску природы понимания и взаимопонимания, мыслитель обнаружил невозможность решения данной проблемы, в ходе создания какого бы то ни было текста. Его первый трактат «О понимании» совершенно закономерно оказался не нужен ни публике, ни самому автору, которому было суждено преодолеть в тексте оковы самого текста, в слове само слово, открыв новую литературную форму – «опавшие листья». Он прекрасно понимал, что незнаковое, то есть не имеющее обусловленного или вновь создаваемого смысла восприятие жизни на уровне 142 понимания, невозможно. Поэтому он создавал тексты, великолепно демонстрирующие функционирование знаков и смыслов только в рамках самого текста. Трагедия его современников, отразившаяся в том в числе и в оценке самого философа, заключалась в том, что в тексте они видели реальность («саму жизнь») и в словах искали «принципы»: мировоззрение, мораль, идейность. Василий Розанов всегда был «по ту сторону» морали, гномического выбора («правдив, но не нравственен»), жажды справедливости как переделки реальности. Его тексты содержат в себе разнообразные культурные смыслы и коннотации, которые выявляются лишь в процессе диалога, конфронтации, спора, пародии, и т.д., вводят нас в лингвистическую реальность и «выводят» из мира этических, социальных, политических отношений и исторических и современных ассоциаций. Описывая реальность иронически, играя с ней как с дискурсом, он всегда отдает себе в этом отчет, указывая на творческий компонент своих текстов как на смыслообразующий. Его статьи нельзя оценивать с точки зрения исторической и фактологической достоверности. Можно попасть впросак, если ссылаться на Розанова как на историка, египтолога, или «талмудиста». Идти за дискурсом-мечтой – «да», сверяться с первоисточниками – «лень и неохота». В его дискурсе слово, предмет и действие «схвачены» одновременно, а концептуальное пространство является полифункциональным символом, по сути, мифологическим. Мировоззренческая позиция философа носит дискурсивный, а не социально-политический характер. В своей логике-тексте он «безвольно» следует за дискурсом, а не за идеей fix, и это следование и есть его авторская «позиция». С другой стороны, именно В. Розанов поставил вопрос о понимании, не укладывающемся в рамки знака, не сводимом к тексту, и какой бы то ни было семиотизации. Нельзя сделать текстом «Бога» - мир неовеществленной сущности, другого человека или частную жизнь всего человечества. Парадокс заключается в том, что, утверждая это «нельзя», философ разрешает себе ввести в философию ранее запретную тему частной жизни. Он создает и новый тип понимания, имманентный как частным проблемам (объектам его философствования), так и найденному мыслителем методу их анализа. И впервые в русской философии появляется новый «герой»-обыватель и «герой»-философ «обывательской жизни», его субъективный мир, провозглашаемый как мир истины, и его субъективная логика, названная им «логикой жизни». «Я» – собирательный образ обывателя – многотысячной армии его читателей и оппонентов, людей, предпочитающих жизнь искусству, реальность бытия — осознанию этой реальности в мышлении и тексте. Донести до читателя существо интимности/естественности, чрезвычайно сложно, ибо для этого необходимо сорвать все привычные и шаблонные «одежды» литературности слов, фраз, жанра, стиля и найти новую форму передачи мысли, в которой была бы преодолена традиционная. Научиться за словами, идеями и эмоциями вскрывать глубинные пласты существования – вот задача автора, задача новой литературы и философии новой эпохи. В этой литературе не должно быть самого страшного, того, с чем беспощадно боролся автор, – проституирующей (продажной) публичности названного, увиденного, прочувствованного. В работах последних предапокалиптических лет сложился специфический розановский жанр и дискурс, благодаря которым стало возможным обнаружить в его работах установку на принципиальное различение двух типов философии — публичной и интимной. Публичная (общепризнанная, претендующая на фундаментальные, конечные истины) философия привязана к здравому смыслу и воспринимает дискурс и употребление слов как синоним и гарантию самой реальности. Интимная философия, стремилась отразить всеобщность субъективности. Реализация подобного рода замыслов привела к созданию особого типа философского текста. Философ-Розанов принципиально меняет ракурс своего исследовательского интереса и представляет собой уникальный философский тип мыслителя своей эпохи, не похожий ни на Ф.М. Достоевского, ни на В.С. Соловьева, ни на кого бы то ни было еще. 143 В.В. Розанов превратил прозу жизни в философию, показав российским «журденам», как нужно говорить о философских вопросах. Тем самым он определил и круг, и характер самих вопросов, и «уронил философию на землю» в процессе разоблачения ее заоблачной метафизической «пустоты». Розановский словарь создан для самоописания, абсолютно доступного любому из нас. Недаром он считал своими со-авторами сотни своих безвестных корреспондентов и известных оппонентов, чьи письма и отзывы он постоянно включал в свои статьи как имманентные структурные элементы. Многие сегодня готовы интерпретировать его тексты и в тоже время все попытки заканчиваются тем, что исследователи лишь пересказывают (что очень занимательно) или переписывают самих себя цитатами из Василия Розанова. Обнажиться до состояния «безкожности», до первобытной наготы и означает возвращение к жизни, к которой стремится интимная философия Розанова. Реализация подобного рода замысла и привела к созданию особого типа философского текста [23]. Тексты-носители данной философии должны предавать не концепты, а непосредственные индивидуальные смыслы. В центре розановского структурирования находится проблема взаимосвязи и взаимопроникновения множества позиций и сознаний во внутреннюю ткань текста, формирование его уникального смысла. Высшим достижением на этом пути стал особый текст-дискурс «опавших листьев», имманентной составляющей которого стали различного рода обстоятельства, вызвавшие к жизни тот или иной «лист». Это вехи и хронотопы состояний человеческой жизни, опредмеченные в слове-тексте и соотносящиеся с тем или иным моментом жизни души. Розановский семиозис включил и сферу мелодической пунктуации: специфическую систему пробелов, мелизмов, точек, тире - и использование курсива, фотографий и т. д. Размышления В. Розанова о знакообразовании связаны со стремлением передать читателю неуловимые изменения и течения внутреннего я, души человека, которые выливаются в слово, заранее не прогнозируемое, и мысль, заранее не придуманную. В негативной форме он указывает на задачу невозможной, хотя и желаемой попытки зафиксировать непрерывный поток сознания-переживания, существующий в человеке в постоянно кристаллизующейся мысли/слове. Остановить мгновение, сделать его зеркалом вечности — задача новаторского подхода, предвосхитившего искания литературы и философии XX века. Проблема перехода внутренней речи во внешний текст-письмо, способность уловить этот переход, и есть реализация своего предназначения как писателя и одновременно — реализация той задачи, которую всегда ощущал в себе философ воли Божьей, придающей смысл всему происходящему и не происходящему на земле. В интимной философии В.В. Розанова происходит перекодирование судьбы святого, строящего свой монастырь, в судьбу писателя, строящего новый язык культуры и литературы. Энергия мысли, внутренней речи, эмоции должна переходить в «божественную» энергию слова-текста. Новый текст, максимально приближенный к пониманию интимности, сути души, овеществлению внутренней мелодии, становится разновидностью молитвы, суть которой и заключается в словесном овеществлении внутренней энергии обожения, презентации во внешнем слове внутренней молитвы – умного делания. Таким образом, критерий выбора жизненных и дискурсивных предпочтений оказывается внутри важнейшей оппозиции: естества и безвестности жизни, которые он определил как ее святость: синоним интимности и «живожизни»: молчания, дела, церкви, любви, деторождения и искусственного мира тщеславных идей и устремлений, разрушаемых ресентиментной моралью мира слов, идей-иделогий, мира подавляющего публичного слова. Жизнь души исчезает, как только воплощается не только в печатное, но в принципе, любое публичное слово. Этот процесс трагичен, считает В. Розанов, ибо великая литература, как и великие темы, закончилась вместе с «победой» изобретения «дьявола» Гуттенберга, а язык не нашел таких выразительных 144 средств, чтобы передать всю сложность чувств, идей, мысли и порождающих их жизненно-эмоциональных-речевых ситуаций. Поэтому и вся литература стала «бранделясом», пустословием или политической «агиткой». Этот тон сопряжен с дескрипцией антитезы таланта (стремления писать, открывать новое, прославиться) и обычной повседневной жизнью друга и «около друга», находящихся в ауре религиозной тишины семьи и молитвословия. Слово – кожа – тщеславие – славословие – как любимый дьявольский грех и молчание – обыкновенная жизнь человека: будь то малограмотная жена-друг, бабушка, священник Устьинский или высокообразованные Флоренский или Рцы. Обыкновенная жизнь, основанная на духовных ценностях, становится источником внутренней святости как чистоты (состояние безкожности) и святости как самоотдачи всем, христианского смирения. Сам писатель находится в вечном состоянии выбора, который отражен в ритмическом рисунке его тональности: молитвословие сменяется славословием и т. д. Он выбирает – они живут. Молитва (как особое душевно-духовное состояние) обретает высшее напряжение в акте полного отрицания слова – «исихастском» молчании; она снимает своим религиозно-интимным тоном повседневной жизни страстное эгоистическое слово, претендующее на доминантную роль «душолога» (игра слов: душа-душить); превращает тщеславного писателя в создателя «священного писания». Молитва – это сердцевина и оправдание светских ритмов – без нее пошлых и развратных, в ее присутствии святых и жизнетворящих начал. Таким образом, молитва — это водораздел и мера бытия, отделяющая святость жизни от ее страстности. И острием ее «разрезания» мира становится диалектика молчания и слова, исихии и прозрения внутренних интенций бытия. Молитвенный ритм жизни – настрой на духовность как состояние души есть обретение нового (отказ от славы) смысла жизни. Сложная игра смыслов проявилась в сближении и отталкивании семантических комплексов молчания и слова-речи, которые зафиксированы самой коммуникативной ситуацией, погруженностью текста в обстоятельства его рождения. Молчание и слово переплелись в тексте как пример органического взаимодействия и синтеза духовно-религиозного и социально-бытового аспектов человеческого бытия. Розановский ритм текста представляет собой уникальную попытку проникновения в душевный мир человека. Четкий ритм молитвословия пересекается с идеей, высказанной Ф. Достоевским, о человеческом сердце как поле борьбы Бога и дьявола, перекодированной в розановском тексте в антитезу молитво-словия и славо-словия. Заключение Поводя небольшой итог, можно с уверенностью отметить насущную потребность в осмыслении опыта изучения средневековых мыслительных структур для современного сознания. Повторяемость стратегий средневекового философского разума в духовных исканиях и опыте мыслителей Серебряного века в начале XX века позволяет не только обнаружить неиссякаемый религиозно-дискурсивный субстрат отечественного философствования, но и описать его специфику для аналогичных процессов, происходящих в современной жизни конца XX века. Разговор о словетексте и реальности-жизни особенно необходим сегодня, в эпоху практически тотального забвения важнейшей гуманистической идеи отношения к человеку как к цели, а не как к средству, уничижение самозначимости и самоценности человеческого существования, подмены ценности жизни ценностями слов и культом идей. Список литературы 1. Руднев В. Реальность // Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. – М., 2003. С.379. 2. Там же. – С. 10. 145 3. Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры // Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб., 2000. - С. 398. 4. Как известно, человечество пережило три информационные революции, тесно связанные с изменением формы и содержания ее овеществленного начала – книги. Во II веке, в лоне христианской церкви, книга поменяла форму и из свитковой (свиток как синоним вечности) превратилась в прототип современной – обретя форму сшитых в одно тетрадей (синоним времени). Вторая революция – наступила вместе с известным изобретением Гуттенберга, а третья – с эпохой Интернет. 5. Подр. См.: Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры // Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб., 2000. 6. Августин. Исповедь. Книга XI. Глава VII. 7. Лотман Ю.М. Риторика – механизм смыслопорождения // Семиосфера. - СПб, 2000. –С. 183. 8. Августин Аврелий. Исповедь/Августин Аврелий. Исповедь: Абеляр П. История моих бедствий: пер. в латыни. – М., 1992. - Кн.X. Далее все сноски по данному изданию. 9. Григорьев А. А. Артикуляция бытия культуры//Теоретическая культурология. – М., 2005. - С. 217. 10. Августин. Книга XI. Глава X. 11. Там же. – Книга IX. Глава XI. 12. Руднев В. П. Реальность // Энциклопедический словарь культуры XX века. – М., 2003. – С. 380 13. Неретина С.С., Огурцов А.П. Универсализация словесности // Теоретическая культурология. – М., 2005. –С. 225 14. Блок А. Дневник / Подг. текста А. Л. Гришунина. – М., 1989. – С. 34. 15. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. – М., 1991. – С. 97. 16. Цит. по: Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. – М., 1996. – С. 54 17. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество//Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Репринт., 1909. – М., 1990. - С. 30 18. Понятие дискурса избрано нами не случайно. Мы опираемся на лингвистические представления, определяющие дискурс «как сложное коммуникативное явление, включающее помимо текста и ряд внелингвистических факторов (установки, цели адресатов, их мнения, самооценки и оценки другого)» См.: Неретина С.С. Огурцов А. П. Дискурс // Теоретическая культурология. – М., 2005. – С. 253. 19. Levi-Strauss C. The Structural Study of Myth // Journal of American Folklore. 1955. Vol. 68. Р. 428–445. 20. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. – М,, 2000. – С. 43. 21. Нельзя забывать о роли и значении русского реалистического искусства «святых» 60-х годов даже для современного мировоззрения. Об этом, например, говорит название (и содержание) выставки «Святые шестидесятые», которая прошла в декабре 2002 года в Русском музее в Санкт-Петербурге. 22. Розанов В. В. О психологии терроризма // Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе. – М., 1996. – С. 547–548. 23. Подр.: Климова С. М. Проблемы поэтики Достоевского-Розанова-Бахтина // Человек. - №3. – 2004. – С.55-58. 146 «TEXT» AND «REALITY»: RELIGIOUS STRATEGIES OF PHILOSOPHICAL THOUGHT S.M.Klimova1), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia The article “Text and Reality: the religious strategies of philosophical thought” compares medieval intellectual and sacred practices with religious and world outlook models of an early and late XX century. In that period of historythere occurred the “final abolition” of the traditional philosophical opposition of Being to Consciousness. It transformed to the linguistic opposition of Language to Reality or of text to reality. In the article the various points of view on an origin and development of the given opposition are examined; the semiotisation of religious predispositions of the Middle Ages and the present is analysed, as well as the discursive ways of the cognition of God and the “symbolical” nature of divine Word. The medieval philosophy/theology elaborated the peculiar logical principle of elimination of the opposition of God to World in the doctrine about the antinomism of cathaphatical and apophatical theology which is scrutinized in the article. This subject attracted special attention within the culture of Silver Age, that may be defined as predominantly linguistic, for it had its root in the total cult of word. In the article is devoted a lot to the linguistic consciousness of representatives of the given epoch, especially to ideas of V.V. Rozanov. Key words: text, reality, language, philosophical thinking, religious strategies. 147 УДК 17.023 Л.Н. ТОЛСТОЙ И КАНТ: ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ МОРАЛИ М.Л. Клюзова1), 1) Тульский государственный педагогический университет, 300026, г. Тула, проспект Ленина, 125, e-mail: [email protected] Статья посвящена сравнительному анализу моральной философии Л.Толстого и И.Канта. Модели обоснования морали, предложенные Л.Толстым и И.Кантом, представляют собой главный предмет научного исследования. Ключевые слова: мораль, Толстой, Кант, обоснование морали. Кант и Толстой – знаковые фигуры в духовной истории человечества. Их нравственно-философские искания стали кульминацией на пути последовательно рационального обоснования морали и, одновременно, оказались беспрецедентной проверкой прочности позиций самого разума, претендующего на роль учредителя и распорядителя человеческой жизни. Очевидное идейное родство и соразмерность масштабов кантовской и толстовской моралистики позволяют не только с полным на то основанием поставить рядом имена немецкого философа и русского мыслителя, но и выявить на их примере фундаментальные закономерности эволюции самосознания европейской культуры в целом. Постановка вопроса о возможности и пределах сопоставления толстовской трактовки морального разума с кантовской, «практической», его интерпретацией отнюдь не нова для отечественной этико-философской традиции рубежа XIX-XX столетий. По меньшей мере два ее ведущих представителя – Л.Шестов и Н.А.Бердяев – проявляют к данной проблеме особый интерес, трактуя ее, при этом, с диаметрально противоположных позиций. Так Л.Шестов со свойственной ему безапелляционностью расценивает обращение Толстого к кантовской «Критике практического разума» как нечто противоестественно-несоответствующее самому духу толстовского философствования, уверяя, что «практические выводы» Канта «так мало гармонируют с запросами гр.Толстого», что его «странная симпатия» к кантовским идеям трудно объяснима [1]. Н.А.Бердяев же не менее категорично ставит Толстого в один ряд с Кантом, неоднократно подчеркивая внутреннюю близость их этических позиций, которые носили, по его определению, сугубо «законнический», автономный характер. «И Кант и Толстой, – убежденно заявляет Н.А.Бердяев, – выросли на почве христианства, но при всем их свободолюбии они означают законническое перерождение христианства», являющееся прямым следствием предпринятой ими обоими попытки максимально последовательно рационализировать мораль и «очистить нравственный закон от элементов магических» [2]. В этой связи было бы чрезвычайно интересно выяснить, кто же из двух философов оказался ближе к истине, ибо за этой, на первый взгляд, частной проблемой анализа параллельности толстовской и кантовской аргументации рациональной природы человеческой нравственности скрывается извечный вопрос об обоснованности претензий разума на роль единственного в своей самодостаточности морального законодателя и судьи. Обращение к этому классическому для европейской этики сюжету в подобном компаративном контексте требует предварительно отметить, что первое знакомство с творчеством великого немецкого философа состоялось у Толстого весьма поздно, и потому осознание им смысла и значимости кантовских идей всецело пало на последнюю треть его жизни. Этим обстоятельством вполне объясняется то, что, нередко прибегая как к прямому воспроизведению, так и к оригинальному 148 переосмыслению ключевых положений кантовской метафизики нравственности, Толстой не столько корректирует с их помощью свои этические построения, сколько выбирает и приспосабливает «под себя» определенные кантовские идеи, при необходимости органично встраивая их в уже вполне сложившуюся к тому времени собственную систему нравственно-философских представлений. В письме к Н.Н.Страхову (16 октября 1887 года) Толстой сообщает, что «читал и прочел в первый раз «Критику практического разума» Канта», а также объясняет причину своего столь запоздалого обращения к его трудам, греша в первую очередь на то, что «лет 25 тому назад поверил этому талантливому пачкуну Шопенгауэру ... и так ... поверил, что старик заврался и что центр тяжести его – отрицание», что «и жил 20 лет в таком убеждении, и никогда ничто не навело меня на мысль заглянуть в самую книгу». Однако непосредственное обращение Толстого к кантовским текстам все же состоялось, и глубокое осмысление им масштабности и важности заложенных в них идей заставляют великого русского мыслителя осознать всю недопустимую ошибочность своего прежнего отношения к Канту. «Ведь такое отношение к Канту, – резюмирует он, – все равно что принять леса вокруг здания за здание. Моя ли это личная ошибка или общая? Мне кажется, что есть тут общая ошибка» [3]. Однако Толстой не просто выражает здесь свое недоумение по поводу нелепости и досадности собственного заблуждения, но и вскрывает его глубинную причину, состоящую, по его убеждению, в том, что «Кант считается отвлеченным философом, а он – великий религиозный учитель» [4]. Тем самым Толстой с искренним удивлением обнаруживает в спекулятивности гносеологии Канта и формализме его моралистики ту фундаментальную зависимость, которую позднее с афористической точностью сформулирует А.Швейцер: «В любом религиозном гении живет мыслитель-моралист, и каждый сколько-нибудь глубокий философ-моралист в какой-то мере религиозен» [5]. В этой виртуальной точке пересечения нравственной и религиозной рефлексии и происходит символическая «встреча» немецкого и русского мыслителей, прямым следствием которой становится избрание Толстым в качестве эпиграфа к своему программному трактату «О жизни» знаменитого фрагмента из заключения к кантовской «Критике практического разума»: «две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». При первом же прочтении «Критики практического разума» Толстой четко выделяет для себя те кантовские идеи и выводы, которые показались ему наиболее важными и верными. Все они могут быть сведены к трем основным смысловым блокам, в рамках которых и происходит глубокое осмысление Толстым ведущих положений философской системы Канта: во-первых, это кантовское решение проблемы свободы воли, с необходимостью влекущее за собой признание и попытку обоснования бессмертия души и бытия Бога; во-вторых, представление о несомненной приоритетности «практического разума» по отношению к «теоретическому разуму», с одной стороны, и об очевидном превалировании этики Канта над всеми остальными разделами его философской системы, с другой, объясняющее явную избирательность толстовского подхода к содержанию последней, и, в-третьих, обоснование абсолютности морали через утверждение всеобщности и безусловной необходимости нравственного закона, выступающего в форме категорического императива и реализующегося посредством механизма долженствования. Сам Толстой определяет круг сформулированных выше вопросов следующим образом: суть «основного положения, к которому пришел Кант...», пишет он в известном письме к Н.Н.Страхову, состоит в признании того, что «наша свобода, определяемая нравственными законами, и есть вещь сама в себе (т.е. сама жизнь)...», а потому усматривать «всю заслугу» Канта только в «Критике чистого разума», как и поступает большинство представителей послекантовской философии, значит, по мнению Толстого, полностью уподобиться 149 человеку, который «не видит совсем храма, который построен на расчищенном месте, а видит только расчищенное место, весьма удобное для гимнастических упражнений» [6]. Таким образом, предпринятое Кантом критическое исследование «чистого разума» Толстой продолжает считать бесполезным отвлеченно-теоретическим, нарочито спекулятивным философствованием, не иначе, как «праздной игрой ума» [7]. Данное обстоятельство исследователи-толстоведы зачастую относят исключительно на счет слабой осведомленности русского мыслителя в вопросах гносеологии. Однако в этом заключена и подлинная сила толстовского интеллекта – его способность угадывать и схватывать во всем именно главное. Так, в кантовских построениях он четко выделил их конечную цель – учение о практической применимости разума. В результате, глубоко проникнувшись его духом, Толстой готов был полностью согласиться с Кантом в том, что чистый «практический» разум является более авторитетной и значимой интеллектуальной инстанцией, нежели «теоретический» разум, ибо опора первого на всеобщий моральный закон позволяет ему постигать объективную реальность того, что спекулятивному разуму представляется совершенно непознаваемым. Учитывая все это, неудивительно, что, в целом, содержание «Критики чистого разума» оставляет Толстого равнодушным, за исключением двух наиболее широко известных кантовских выводов: о субъективности пространства и времени и о принципиальной непознаваемости «вещей в себе». Причем оба они подвергаются сугубо этической интерпретации в рамках нравственно-философского учения Толстого, который, к тому же, совершенно определенно отказывает кантовскому агностицизму в идейно-философской оригинальности. Неоднократно высказываемая Кантом «основная ... мысль о ... вещи самой в себе, – рассуждает Толстой, – совершенно верна и известна всем религиям..., только проще, яснее выраженная» и напрямую относимая ими к одному единственному предмету – исходному и всеобъемлющему понятию «Жизнь», выступающему как то «основное понятие, из которого ... выводятся многие, если не все другие понятия...». В виду этого, жизнь, согласно Толстому, не может быть определена и познана разумом человека, но при этом последний априори содержит в себе исходное представление о ней. «Это априорное знание, – пишет Толстой, – заключается в одном: я живу = есть мир, есть существующее, объединенное мною и необъединенное мною. Все это знание ... заключено в одном: я живу и все, что составляет это знание, 1) не может быть познано разумом и 2) без этого знания не может существовать ни одного разумного понятия». Следовательно, используя кантовскую терминологию, можно сказать, что жизнь решительно выводится Толстым из области явлений, и объективно рассматривается им в качестве не «феномена», а, скорее, «ноумена», т.е. с явственно звучащими нотками агностицизма. «Времени и пространства нет, – уверяет Толстой, – и то и другое необходимо нам только для того, чтобы мы могли понимать предметы». Однако жизнь не принадлежит к кругу подобных, т.е. чувственно постигаемых, явлений, ибо «истинная жизнь человеческая происходит вне пространства и времени», а потому она в основе своей принципиально непознаваема для человека, который может лишь сознавать ее проявление в себе как «стремление к благу, достигаемому подчинением своей личности закону разума» [8]. Но как при таком положении вещей становится возможным подчинение жизни людей некому высшему универсальному закону, если каждый ее участник руководствуется лишь сугубо личными, субъективными восприятиями и потребностями собственного существования? Этот предельный вопрос становится для Толстого той центральной, экзистенциально значимой проблемой, при разрешении которой он прямо прибегает к помощи Канта. Исходные к тому предпосылки Толстой обнаруживает в кантовском разделении мира природы и мира свободы. Последнее приобретает у Толстого форму дихотомии ложной (телесно-чувственной) и истинной (духовно-разумной) жизни. Человеческая жизнь, разъясняет Толстой, представляет собой неразрывное соединение двух видов 150 существования: одно из них – «ложное», протекает во времени и пространстве и полностью детерминировано природной необходимостью, ибо «включает в себя ... существование животных и растений (организмов) и существование вещества», в котором «человек не может принимать участия», поскольку в этой сфере он не свободен; другое – «истинное», «происходит вне пространства и времени» и открывает простор для реализации подлинной свободы человека, т.к. его «человек делает сам», будучи в качестве разумного существа абсолютно независим как от своей животной природы, так и от всего чувственно воспринимаемого мира. В подобном контексте становится очевидным, что исходным пунктом нравственно-философских построений и Канта, и Толстого оказывается поразительно сходно трактуемое ими понятие свободы. Человек, вполне соглашается с Кантом Толстой, – это существо, которое всецело подчинено необходимости в одном отношении и поистине свободно – в другом, и потому «нет настоящего противоречия между свободой и естественной необходимостью одних и тех же человеческих поступков», а любые разговоры о непримиримости противоречия между необходимостью и свободой всего лишь результат весьма распространенного заблуждения, которое «происходит от смешения личности, индивидуальности ... с разумным сознанием». «Разумный человек, – подчеркивает Толстой, – не может жить только для своего тела», ибо «он знает, что он личность, а потому знает, что и другие существа – такие же личности, как и он, знает все то, что должно происходить от отношений этих личностей». Отсюда следует, что только осознавая себя в отношении к другим, человек выступает как моральный субъект, обладающий несомненным преимуществом «вневременной воли», реализуемой им в царстве свободы [9]. Тем самым ход толстовских рассуждений ясно обнаруживает их очевидную ориентированность на кантовское понимание свободы «как свойства воли всех разумных существ», которое полностью переносит нас в «умопостигаемый порядок вещей», иначе называемый еще «умопостигаемым (интеллигибельным) миром» [10]. При этом, в сравнении с Кантом, Толстой существенно расширяет основу этой изначально автономной воли за счет помещения ее в недра самой жизни, обретающей, в данном контексте, характер необходимого условия подлинной свободы человека как субъекта морали. Таким образом, главная заслуга «гениального Канта», резюмирует Толстой, состоит в том, что он прямо ставит «свою этику независимо от своей метафизики», т.е., по сути, утверждает неизбежную автономию морального закона и принципиальный приоритет «практического разума» по отношению к «теоретическому» во всех спорных вопросах между ними [11]. Иными словами, признавая важнейшим достижением Канта его этический априоризм, устанавливающий исключительную автономию морали, Толстой стремится окончательно утвердить безусловное преимущество автономной этики как наиболее адекватного способа обнаружения и объяснения истинной природы человеческой нравственности. В виду этого необходимо подчеркнуть, что, хотя Толстой далеко не столь последователен в своих выводах насчет априорности природы моральных обязанностей человека, чтобы считать его этическое учение очередной разновидностью кантианства, одно можно утверждать наверняка – если Толстой ведет речь о разуме, то имеет в виду исключительно его «практическую», т.е. «этическую» применимость, иначе говоря, разум, в интерпретации и Толстого, и Канта, изначально «этичен». С.Л.Франк очень точно подметил это, напрямую восходящее к кантовской традиции, «исключительно этическое направление» учения Толстого, проявляющееся, как его неизменное «влечение рассматривать и решать все вопросы под углом зрения «практического разума» [12]. Исходя из этого, высший безусловный закон жизни людей именуется Толстым именно «законом разума» и представляется ему неотъемлемым ядром нравственного сознания человека. Основные требования данного закона, указывает Толстой, нельзя внушить человеку извне, поскольку они изначально пребывают в его разуме, а точнее, даны человеку вместе с его разумом, ибо «мы все не 151 только знаем его, но только разум один и знаем». Подобные рассуждения Толстого равносильны утверждению априорности и безусловности нравственного закона, который «в себе ... мы знаем ... как то, что сами должны совершать», а потому у человека просто не может быть никаких сомнений в том, что сам «разум – это тот закон, по которому должны жить неизбежно разумные существа – люди» [13]. Толстой явно делает ударение на слове «должны», усматривая в механизме долженствования, один из наиболее достойных и, потому, предпочтительных видов мотивации человеческого поведения. Однако возвышенно-строгий пафос кантовского ригоризма все же не столько убеждает, сколько пленяет Толстого, подчеркнуто акцентирующего в кантовском понимании долга, главным образом, его перфекционистский аспект. «Сознание, что могу, потому что должен, – особо подчеркивает Толстой, – открывает в человеке глубину божественных дарований, которая дает ему почувствовать, как священному пророку, величие и возвышенность его истинного назначения». И хотя, на первый взгляд, кажется, что Толстым всецело разделяются ключевые деонтологические позиции Канта, на деле это не совсем так: декларативно принимая кантовское представление об этической приоритетности и безусловности долга как наиболее адекватного способа реализации требований морального закона, российский мыслитель в основном сосредотачивает свое внимание на его противопоставленности эвдемонистическому и утилитаристскому способам нравственной регуляции, равно как и традиционным теологическим попыткам обусловить нравственный характер поступков людей обещаниями загробного воздаяния. «Понятие о долге во всей его чистоте, – повторяет Толстой за Кантом, – не только несравненно проще, яснее, понятнее для каждого человека на практике и естественнее, чем побуждение, ведущее свое начало от счастья ... , но и перед судом обыкновенного здравого смысла оно гораздо могущественнее, настойчивее и более обещает успеха, чем все побуждения, исходящие из своекорыстия...», а также из того «ложного предположения, что побуждение, выведенное из понятия долга, будто бы слишком слабо и отдаленно, а что сильнее действует на душу близкое побуждение, проистекающее из расчета на выгоды, которых надо ждать отчасти в этом, а также и в будущем мире за исполнение закона. Между тем как сознание человеком в себе духовного начала, вызывающее отречение от своей личности, гораздо сильнее всяких наград побуждает человека к исполнению закона добра» [14]. Нетрудно заметить, что именно в антиэвдемонистической парадигме последнего замечания сосредоточен главный смысл всего высказывания. Толстому явно представляется несколько искусственным кантовское сведение всего многообразия проявлений нравственного бытия человека исключительно к педантично-строгому исполнению «морального закона», ибо, помимо долженствования, существует и иной, гораздо более совершенный, тип нравственной регуляции, коим является Любовь. И если долг велит человеку действовать, пусть максимально, но только согласуя свои устремления с позицией окружающих его людей, то любовь прямо «влечет его к тому, чтобы отдать свое существование на пользу других существ» [15]. Здесь налицо очевидное этико-аксиологическое несоответствие между самодисциплинирующей сущностью долга и самоотверженностью истинной Любви. Этика же Толстого исходит именно из абсолютной приоритетности Любви по отношению ко всем возможным нравственным регулятивам человеческой жизни, той Любви, которая задает истинный стандарт человеческого отношения как к тем, кто равен ему, т.е. ко всем другим людям без исключения, так и к тому безусловному и бесконечному началу, которое неизмеримо выше его, т.е. к Богу. И хотя Кант, в принципе, ориентирует человечество на тот же самый идеал высшего нравственного совершенства (гарантирующий всеобщее счастье «этический общественный строй»), что и Толстой, последний идет гораздо дальше своего предшественника. Русский мыслитель, дополняя кантовское представление о долге всеобъемлющей категорией Любви, по сути, преодолевает таким 152 образом принудительность, «насильственность» и формальность первого жизненной конкретностью и самоочевидностью последней, рассматриваемой им в качестве того высшего сверхрационального начала, которое наделяет человека величайшей способностью к непосредственному созерцанию духовно-нравственной Истины и интуитивному выбору морально верного образа действий. То есть, на деле, Толстой всерьез задумывается над возможностью в перспективе напрямую, без посредничества, установить связь между свободой и всеобщим счастьем, разрушив постепенно, по мере осознания человечеством онто-этической приоритетности Любви, тот буфер безусловного долга, который был возведен между ними Кантом. Следовательно, объективно ближе Толстому все же оказывается не строго-ригористическая кантовская формула «долг ради долга», а более свободно-универсальный принцип «добро ради добра и всеобщего единения людей в любви», наиболее адекватно отражающий желание мыслителя показать, что отнюдь не отвлеченная принудительность абсолютного долга, но лишь внутренняя устремленность к добру может служить единственно возможным основанием необходимости следовать всеобщему нравственному закону, характеризуемому Толстым как «закон жизни», «закон разума» и «закон добра». Весьма символично, что этот «высший нравственный религиозный закон» непосредственно связывается российским мыслителем с категорическим императивом Канта. Его общеизвестную формулировку Толстой воспроизводит следующим образом: «Поступай так, чтобы ты мог сказать каждому: поступай так же, как я». Однако несложно заметить, что из трех основных формулировок категорического императива Толстой избирает именно ту, содержательная импликация которой наиболее отчетливо свидетельствует о свободе и нравственном равноправии людей, в одинаковой мере и без всяких исключений подчиненных единому моральному закону. Тем самым, мыслитель, однозначно подчеркивая, что нравственную состоятельность человеческий поступок приобретает только в качестве индивидуально свободного акта доброй воли, объективно развивает кантовское представление о свободе как о возможности делать то, что считаешь должным, независимо от внешних условий. Подобная самодетерминация, или автономия, в кантовском ее понимании, приобретает у Толстого, особое значение, ибо позволяет наиболее удачно, с его точки зрения, преодолеть дилемму рациональности и свободы через обоснование «свободной зависимости», которой, по сути, и задаются все необходимые человеку нравственные цели, равно как и оптимальные способы их жизненно-практической реализации. В сущности, эта ключевая комбинация независимости и зависимости как «негативной» и «позитивной» свободы, составляющая основу кантовской концепции автономии, становится той определяющей рационально-этической конструкцией, которую почти без изменений воспроизводит Толстой в рамках своей нравственной философии. Кантовская идея о «самозаконности» человеческой воли, определяющей свободу человека как разумного существа и выступающей в форме «разумной воли», становится и для Толстого «несущей опорой» грандиозного здания человеческой нравственности. Именно Кант помогает Толстому окончательно утвердиться в мысли о том, что человека следует рассматривать как разумного и, следовательно, свободного субъекта, способного, неизменно сохраняя свою автономию, подчиняться требованиям «практического» разума; именно Кант подводит его к отчетливому осознанию того, что единственно подлинной основой нравственных обязанностей человека может служить лишь «понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех» [16]. Таким образом, между кантовским и толстовским рационализмом обнаруживается очевидная преемственность. Толстой очень чутко улавливает в отвлеченно-рассудочном философствовании Канта не только стремление преодолеть объективную ограниченность теоретических возможностей разума посредством «практического» его применения, но и скрытую, не получившую надлежащего 153 развития, попытку свести подлинную функцию разума исключительно к тому, чтобы сделать волю человека доброй. Если разум, с точки зрения Канта, с необходимостью обнаруживает, что он, по сути, несостоятелен как инструмент теоретического познания, поскольку, отрываясь от почвы опыта, неизбежно ведет к антиномиям, то вполне логичным было бы предположить следующее: остается только одна сфера, в которой творчески-созидательный потенциал «разумной рациональности» оказался бы полностью и органично востребован и раскрыт, и это сфера морального сознания и нравственной деятельности людей. И именно эта ключевая кантовская идея оказывает решающее влияние на формирование исходных установок этического рационализма Толстого. Русский мыслитель по праву оказывается прямым наследником кантовской традиции абсолютизации морали через установление рационально обусловленной всеобщности нравственного закона. При этом, убежденность Толстого в абсолютности морали столь глубока и самоочевидна, что его, наверное, искренне удивила бы просьба предоставить какие либо дополнительные доказательства своей уверенности. Это означает, как замечает А.А.Гусейнов, что поскольку «тайна абсолютности морали заключена во всеобщности морального закона», то «абсолютное и есть мораль» [17]. Но абсолютное, по самому своему определению, не может иметь никаких иных оснований, кроме тех, которые наличествуют в нем самом, следовательно, признание за моральным законом абсолютного статуса полностью снимает необходимость его рационального обоснования. В этой точке последовательно рациональная аргументация абсолютности морали, достигая логического апогея, по сути, обращается в свою противоположность, а именно, в этическую критику разума. Рациональная апология человеческой нравственности переходит в оправдание разума перед лицом абсолютной и самозаконодательствующей природы морали. Так, всецело разделяемая Толстым кантовская убежденность в необходимом наличии абсолютной морали, не требующей дополнительного санкционирования со стороны познающего разума, оказывается подлинным основанием кардинальной переоценки статуса последнего. Именно в своем стремлении максимально последовательно обосновать автономную природу человеческой нравственности наш разум неизбежно обнаруживает свои собственные пределы. В результате, предпринятая Кантом всеобъемлющая рациональная критика морали окончательно превращается у Толстого в критику и оправдание разума с позиций абсолютной морали. И в этом наиболее наглядно проявляются мужество и честность Толстого как мыслителя, который «когда нужно было ... не боялся и сам разум привлекать к суду» [18]. Это означает, что, столкнувшись с невозможностью последовательно рационального объяснения человеческой нравственности, Толстой, фактически, признает, что мораль не умещается в границах познающего (контролирующего) разума, у нее – свой разум, благодаря которому человек способен, осознавая собственную онтологическую ограниченность и нравственное несовершенство, действовать так, будто он является носителем универсального начала, всецело подчиняющего его эмпирическое бытие абсолютной причинности – всеобщему моральному закону. Эта моральная интерпретация разума разворачивается у Толстого до подлинных масштабов этико-эпистемологического и, отчасти, онтологического переосмысления самой сущности и целей человеческой рациональности, в контексте которого познавательная функция разума утрачивает свою абсолютную ценность, а этика обретает, наконец, независимость от гносеологии. Подобная позиция, однако, отнюдь не тождественна иррационализму, отрицающему саму разумность человеческих поступков как таковую. Напротив, разум, по сути, утрачивая исключительность статуса незаменимого инструмента познания действительности, приобретает свободу морального действия и самые широкие критические полномочия по отношению к эмпирической реальности в целом. Однако, инициируя поиски духовно-нравственной истины, разум не может сам открыть ее, ибо не в состоянии вместить всей ее полноты. Есть что-то еще, вынужден признать Толстой, 154 имеющее до- или внерациональную природу и являющее собой открытый вызов самодостаточной человеческой интеллектуальности. Для Толстого таким началом становится вера, понимаемая им как некая «сила жизни» или непосредственное «сознание жизни». И Толстой не был одинок в своих исканиях и сомнениях. Начиная с Сократа, для которого подобным началом стал его «даймонион», действующий за пределами рациональной детерминированности человеческого поведения, и вплоть до Канта, честно признававшего, что понимание того, как «чистый» разум может стать «практическим», выходит за рамки возможностей человеческого разумения, в европейской философии отчетливо прослеживается тенденция ограничения компетенции разума посредством его этической критики. В этом ряду Толстой оказывается фигурой, чье появление было предрешено самой внутренней логикой развития моральной рефлексии от Сократа до Канта. Толстовское учение становится, в одно и то же время, вполне закономерным итогом эволюции моралистики классического европейского рационализма и ее сущностным преодолением универсальной этикой Любви. Список литературы 1. Шестов Л. Добро в учении гр.Толстого и Ф.Ницше (Философия и проповедь) // Шестов Л. Избр. соч – М., 1993. С. 72, 70. 2. Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. – М., 1993. С. 95, 90. 3. См.: Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 19. – М., 1985. С. 152-154. 4. Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 22. – М., 1985. С. 250. 5. Швейцер А. Культура и этика. Философия культуры. Часть вторая // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. С.104. 6. Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 19. – М., 1985. С. 153. 7. Толстой Л.Н. Путь жизни. – М., 1993. С. 322. 8. См.: Толстой Л.Н. О жизни // Толстой Л.Н. Избр. филос. произв. – М., 1992. С. 424, 462; Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 62. – М., 1953. С. 246-247; Толстой Л.Н. Путь жизни. С. 322. 9. Ср.: Толстой Л.Н. О жизни. С. 462; Толстой Л.Н. Путь жизни. С. 322, 301; Толстой Л.Н. О жизни. С. 462-463; Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 22. – М., 1985. С. 184. 10. Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4(2). – М., 1965. С. 291-292; Кант И.. Указ. изд. Т. 4(1). С. 361. 11. См.: Толстой Л.Н. Религия и нравственность // Толстой Л. Н. Избр. филос. произв. – М., 1992. С. 127-128. 12. Франк С.Л. Лев Толстой и русская интеллигенция // Франк С.Л. Русское мировоззрение. – СПб., 1996. С. 441. 13. Толстой Л.Н. О жизни. С. 449-450. 14. Толстой Л.Н. Путь жизни С. 383-384. 15. Толстой Л.Н. О жизни. С. 478. 16. Ср.: Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 20. – М., 1985. С. 569; Толстой Л.Н. Путь жизни. С. 89, 216; Кант И.. Указ изд. Т. 4(2). С. 270; Толстой Л.Н. В чем моя вера? // Толстой Л.Н. Исповедь В чем моя вера? – Л., 1991. С. 319. 17. Гусейнов А.А. Мораль и разум // Разум и экзистенция. – СПб., 1999. С. 260. 18. Шестов Л. На страшном суде (Последние произведения Л.Н.Толстого) // Шестов Л. Соч.: в 2.т. Т. 2. – М., 1993. С. 129. TOLSTOY AND KANT: THE PROBLEM OF GROUNDED MORAL M.L.Kluzova1), 1) Tula State Pedagogical University, 300026, Tula, Lenina av., 125, Russia, e-mail: [email protected] The article is dedicated to the comparative analysis of the moral philosophy of L. Tolstoy and I. Kant. The models of the basis of the moral, offered by L. Tolstoy and I. Kant, are the main subject of the scientific research. Key words: morality, Tolstoy, Kant, morality grounding мораль. 155 УДК 303.442.4 ИДЕОЛОГИЯ В ПОЛЕ ИСКУССТВА: ВОЗМОЖНОСТИ КРИТИЧЕСКОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА Е.А.Кожемякин1), 1) Белгородский государственный университет, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] В статье рассмотрены возможности и пределы исследования идеологической составляющей искусства средствами критического дискурс-анализа. Рассмотрена проблема исследовательской позиции при изучении идеологии и обоснована дискурсивная природа идеологии. Искусство, рассматриваемое в терминах теории Бурдьё, полагается как поле, характеризующееся наличием определенного рода символических отношений, практик и агентов. Идеологический корпус, содержащийся в искусстве, имеет коммуникативно-семиотическую форму и может быть изучен с позиций дискурс-анализа. Описываются общие методологические допущения дискурсного анализа идеологической составляющей искусства, раскрывается логика исследования и обосновываются возможности данной методологии. Ключевые слова: дискурс-анализ, идеология, теория поля Бурдьё, искусство, символическая система, социальные практики, регуляция повседневной жизни. Представленная работа посвящена изучению возможностей и пределов исследовательских попыток анализа содержаний и функций идеологии в поле искусства. В контексте данной задачи представляется необходимым сделать несколько исходных допущений и пояснений, к развернутой аргументации в отношении которых мы обратимся ниже. Во-первых, идеология понимается нами как упорядоченный набор идей, знаний, представлений и образов, используемых для воспроизводства и поддержания социальных отношений доминирования и подчинения. В контексте искусства этот корпус имеет коммуникативно-семиотическую форму и может быть изучен с позиций критического дискурс-анализа. Во-вторых, искусство описывается нами в терминах поля, то есть искусство характеризуется наличием специфических позиций, диспозиций, практик и агентов, что позволяет рассматривать его как, с одной стороны, надисторический и надконтекстуальный и, с другой стороны, как неоднородный феномен. В-третьих, и это является одним из наиболее принципиальных допущений, символические отношения в поле искусства предполагают (скрытые) властные отношения, реализующиеся преимущественно в языковых практиках и ориентированные на воспроизводство определенного социального порядка и конструирование жизненного опыта агентов. Таким образом, анализ поля искусства предполагает задачу выявления механизмов распространения отношений доминирования-подчинения, что ориентирует исследователя на анализ идеологической составляющей в искусстве. Искусство располагает богатым набором ресурсов символически-знакового характера, которые могут быть узурпированы идеологией в социальных интересах определенных групп. Попытки исследования проблем идеологии в поле культуры и искусства неизбежно сталкиваются с одной трудностью: это вопрос дефиниции исследуемых феноменов, в частности культуры и идеологии. И, видимо, дело даже не в том, что исследователь вынужден делать выбор в пользу одного из определений (только у понятия «культура» их более 600), а в том, что этот выбор, независимо от своего содержания, от степени обоснования, объективирования, анализа, будет в 156 определенной степени имплицитным. Предпочтение тому или иному определению культуры отдается исследователем, принадлежащим определенной культуре и выполняющим определенные культурные практики. Дефиниция идеологии выбирается исследователем, являющимся носителем определенной идеологии. И даже несмотря на то, что сегодня благодаря ряду работ [34, 5, 6] подобные методологические позиции подвергаются жесткой самоверификации, вопрос «объективирования объективирующего» все еще остается открытым. А сколь уж речь идет не об обыденном опыте, а о научно-исследовательской деятельности, проблема становится более актуальной, постановка вопроса – более радикальной: возможно ли объективное исследование идеологии с помощью научного аппарата, если допустить, что наука также является идеологией или находится в особых реляционных отношениях с ней? Данная ситуация отягощается тем фактом, что ответ на вопрос о сущности культуры и искусства будет самым явным образом зависеть от ответа на вопрос о сущности идеологии. Уместно вспомнить опыт анализа идеологии Карлом Мангеймом. Как пишет Клиффорд Гирц, «чем больше он сражался с этой проблемой [т.е. проблемой выработки свободного от оценочного отношения понятия идеологии – Е.К.], тем глубже утопал в ее двусмысленностях, пока, подчиняясь логике своего исходного постулата (подвергнуть социологическому анализу даже и собственную точку зрения), не пришел - как хорошо известно - к этическому и эпистемологическому релятивизму, который не удовлетворил его самого. И поэтому, после Мангейма, работы в этой области … применяли набор более или менее остроумных методологических приемов, чтобы избежать того, что можно назвать … парадоксом Мангейма» [7]. В последствии, в качестве попыток беспристрастного анализа идеологии было предпринято следующее: внеинституциональная позиция исследователя, применение метода «двойной игры» (подчинение правилам идеологического конструкта с целью апробирования неразрешимых идеологией ситуаций), деконструкция собственной точки зрения, безличные исследовательские процедуры, междисциплинарные исследования и пр. Динамика изменений способов понимания и описания идеологии релевантна динамике метаметодологических (а зачастую и откровенно метафизических) позиций в социально-гуманитарных науках. Исследователей интересует идеология в ситуации «обострения положения» последней: имеется в виду, что вопрос идеологии тогда становится проблемным, когда сама идеология становится (социальной) проблемой. Идеология как проблема имеет исключительно дискурсивный (в фукианском понимании) характер. Подобная дискурсивность предполагает если не четкое обозначение границ поля возможных рассуждений об идеологии, то «установление маркеров», указание на наличие подобных границ. Видимо, именно поэтому коннотации самого понятия «идеология» бинарны: либо идеология постулируется как нечто тираническое, репрессивное, «сильное», а потому крайне негативное, либо идеологию понимают как сущность легитимирующую, оправдывающую и требующую оправдания, «слабую», а значит, как нечто скорее позитивное. Первая позиция представлена целым спектром работ от Маркса до ван Дейка, в традициях которых принято давать дескрипции идеологии как дискурса формирования, конструирования, пере-создания и противопоставления: реальные факты не устраивают идеологов, действительность «нейтрализуется» посредством создания новой, альтернативной реальности. Идеология создает новые, «правильные» инстанции взамен тех, что признаются устаревшими, бесполезными, опасными или несправедливыми. При этом происходит своего рода самосимуляция идеологии, при которой реальность (или же традиционное положение дел) объявляется идеологией «неверной», которая должна быть ликвидирована в пользу «верной» идеологии. «Ложное сознание» замещается «истинным» либо репрессивно, либо косвенно. Поворот в интерпретации сущности и механизма идеологии был осуществлен именно благодаря предположению 157 о косвенном характере функционирования идеологических аппаратов, проявляющемся не в прямом, а опосредованном сигнификативном воздействии на людей. Речь идет об идее Альтюссера о том, что идеология формирует отношение людей к условиям их реального существования [23, 24]. Индивидам кажется, что они самостоятельно делают выбор в пользу идеологических аппаратов; люди формируют свою субъектность в зависимости от характера сообщенных им ожиданий. Смещение исследовательского акцента с субъекта на объект идеологии позволило говорить о втором варианте понимания идеологии. Данная вторая позиция, представленная работами Фуко, Лаклау, Муфф, Фэркло и др., нивелирует понятие идеологии, сводит его к дискурсу легитимации, представляющему фактическое положение как основанное на праве, традиционное преимущество как естественное превосходство. Идеология теперь предстает как способ описания, как вид интерпретации, который может быть использован людьми в зависимости от его доступности им. Доступность же определяется метанарративом социального опыта. По Лаклау, сознание может быть «ложным» только при условии наличия истинной идентичности социальных агентов. Однако открытым остается вопрос о связи «метанарратив социального опыта – идеология»: существуют ли не зависимые от идеологии поля, в которых разворачивается дискурс о собственном опыте? есть ли возможность неискаженного, «истинного» социального или индивидуального действия? кто является субъектом метанарратива? возможны ли самоописания Я, описывающего идеологические структуры? Более существенными вопросами в рамках исследования идеологии в поле искусства являются следующие: каковы «пределы» действия идеологии? до которого момента идеология остается «эффективной»? возможно ли символическое «сопротивление» идеологической интерпелляции агентов в поле искусства? Насколько «тотальной» может быть идеология в поле искусства? Не претендуя на исключительность нашего исследования и осознавая собственную «ангажированность», мы не ставим целью разработку нового определения или однозначный выбор одной из существующих дефиниций идеологии. Более рациональным в данной ситуации нам представляется определить границы исследуемого предмета посредством описания его центробежных сил. В вышеописанных исследовательских стратегиях познания идеологии можно выделить по крайней мере одно общее допущение: существуют агенты и «жертвы» идеологии. В таком контексте тактика интерпретации идеологии подразумевает следующий тезис: идеология есть процесс и эффект установления смысловых, ценностно-нагруженных отношений между повседневностью («символическими значениями первого порядка») и неким корпусом идей и представлений («символическими значениями второго порядка»). Данная сентенция уже содержит, несколько проблемных звеньев. Во-первых: кто является носителем, агентом идеологического воздействия? Признавая, что идеология есть нечто внешнее по отношению к нам, практически все исследователи, тем не менее, расходятся в мнении о субъектах идеологии: по Фуко, это социальные институты, ответственные за историю; по Марксу - правящие классы; по Альтюссеру - «недовольные» социальные группы, выражающие отношение к условиям существования; по Кожеву - «тираны и философы»; по Жижеку – мы сами. Но, как бы мы не определяли агентов идеологии, важным остается акцент на содержании идеологического воздействия, реализующегося в идеологическом (нормирующем) дискурсе - контролирующем и корректирующем деятельность адресата. Иными словами, индивидуумы (вос)производят отношения доминирования-подчинения, будучи включенными в специфичные дискурсивные практики. Эффектом подобного включения является конструирование субъекта идеологических отношений. Идеология в таком контексте инкорпорирована в социальное взаимодействие и актуализуется в 158 определенном контексте дискурсивной практики. Агенты и «жертвы» идеологии сами воспроизводят свою субъектность, интерпеллируя себя в символическое поле дискурса. Альтюссер полагал, что мы всегда занимаем предназначенную для нас субъектную позицию и, таким образом, становимся субъектами идеологии. «Опыт показывает, что практические обращения в телекоммуникации таковы, что они всегда доходят до адресата: тот, к кому обращаются словами или свистом, всегда осознает, что зовут именно его» [24; 174]. Во-вторых, проблема исследования идеологии выражается также в следующем вопросе: каковы ограничения действия идеологии в поле «первичных символических значений» и в сфере творчества и искусства, понимаемом в семиологическом контексте как риторическая деятельность по трансформации базовых смысловых значений. Возможный ответ на данный вопрос мы можем найти у Пьера Бурдье, который относил процесс создания социальных (культурных) символов непосредственно к сфере власти. «Символическая власть» понимается Бурдье как интерпеллирующая деятельность, осуществляемая с помощью знаков, символов, которые способны производить социальные отношения [4; 90]. Причем производство подобных отношений осуществляется с помощью дискурса: «Известно, что любое использование силы сопровождается дискурсом, нацеленным на легитимацию силы того, кто ее применяет» [4; 194]. В данном случае мы выходим на проблему усиления семиотической компоненты механизма создания социального порядка и жизненного опыта. Идеологический дискурс как средство легитимации власти обращается к тем структурам, которые обусловлены культурой. Идеология, с точки зрения Бурдье, предоставляет индивиду возможность «неизбежной импровизации бытовых стратегий» versus «механической цепи обязательных поступков», причем такая импровизация направлена на поддержание идеологического смысла на бытовом, повседневном уровне с помощью своего рода «символического капитала». Таким образом, идеологический дискурс, по мнению Бурдье, проникает на более глубокие вербальные уровни – уровни обыденного культурного сознания. «Система производства культурных благ… выполняет, по самой логике своего действия, идеологические функции – в силу того, что механизмы…остаются скрытыми»; и далее: «самые верные идеологические эффекты – это те, которым для своего осуществления требуются не слова, а … замалчивание» [5; 263]. Несколько иное понимание дискурсивного измерения идеологии и культуры представлено в теории Михаила Михайловича Бахтина. Как считает философ, не только диалогичность культуры, но и монологичность идеологии предполагает полифоничность, «множественность самостоятельных и неслиянных голосов». Но, если в отношении полифоничности культуры (и искусства) можно утверждать, что каждое коммуникативное событие «отражает ближайшее маленькое социальное событие», то полифоничность идеологии создает, конструирует социальные события. Культурное пространство в понимании Бахтина – это бесконечность диалога, потенциальная незавершенность дискурса, метафорически представленная «карнавализацией» отношений, в которой стираются грани между идентичностями: «Карнавал не созерцают – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден».[1; 12] Карнавализм культуры и повседневности связывается Бахтиным не с доминантами идеологического дискурса, не с тоталитарным «говорением», а с бесконечностью или, точнее, незавершенностью отношений, характеризующих повседневность. Подобный выход за пределы довлеющего монологического нормативного пространства сопровождается, как уже было отмечено, деструкцией границ идентичности: в попытке «услышать и быть услышанным» личность готова определять себя как угодно. Приоритетом отношений в культуре является не характер и содержание человеческой деятельности, а функциональность личности – то, как она 159 себя сможет повести в целях развития диалога с Другим. Функции диалога и представляют собой базисные основания регуляции поведения человека. Эти идеи парадоксально развиваются в теории дискурса Ван Дейка. Любой текст, по Ван Дейку, имеет достаточно жесткую структуру в зависимости от коммуникативных позиций говорящего, ситуации, обстоятельств, позиции слушающего и т.д. Подобная структура задается идеологией, контролирующей образование, трансформацию и применение социальных когниций. В любых текстовых структурах обнаруживают себя макроструктуры, которые организуют тот или иной тип дискурса в единое целое. «Макроправила – это правила редукции информации, и правила ее организации. Большие последовательности сложных семантических структур, таких, как предложения, изображения, пейзажи, сцены и действия, не могут быть должным образом обработаны без обращения к каким-либо структурам более высокого уровня. … если большие последовательности семантических структур такого рода могут быть сведены с помощью макроправил в несколько … макропозиций и если такие макроструктуры являются достаточной базой для дальнейшего понимания дискурса, тогда может быть выполнена исключительно сложная задача упорядочивания семантических данных».[10; 28]. Таким образом, идеологический дискурс в нашем понимании может быть описан как тот самый механизм упорядочивания когнитивных процессов в мышлении человека. Идеологический дискурс, носителем которого являются, по Ван Дейку, в первую очередь, масс-медиа, «предписывает не столько «что» люди должны думать, а то, «как» они должны думать». Семантическое поле идеологии невариативно, что ведет к безальтернативности нижележащих, личностных коммуникативных (и речевых) структур: «Ввиду отсутствия альтернативных механизмов интерпретации люди практически не в состоянии вырабатывать контрдоводы» [10; 48]. Интересно, что овладение людьми «контрдоводами» в русле данной традиции может быть понято как расширение «идеологического» горизонта, поскольку «альтернативные механизмы интерпретации» принадлежат иной идеологической системе. В этом случае мы укажем на одну из важных проблем анализа дискурса идеологии – нормативные дискурсы различных идеологий находятся в состоянии конфликта, т.к. альтернативность оценок (или «интерпретаций» в контексте лексики Ван Дейка) предполагает образование собственно интерпретаций, что противоречит природе идеологического воздействия. Лимитированность действия идеологии, границы семантического поля идеологического дискурса обусловлены именно «направленностью на Другого» по Бахтину. Спонтанность повседневной коммуникации, стихийность «бессмысленных» речевых актов, безграничный творческий потенциал искусства указывают на иную функциональность «низших дискурсивных конструктов» - утверждение личностной идентичности в коммуникации. Дискурсивная практика в поле искусства и повседневности, на взгляд Ван Дейка, лишь формально, грамматически или ситуативно может быть спрограммирована идеологией. Далее мы обратим внимание на потенциал собственно критического дискурсанализа как метода изучения механизмов распространения и конструирования властных отношений при использовании риторических ресурсов искусства. Критический анализ дискурса берет свое начало в работах Мишеля Фуко, который определял дискурс как экспрессивную форму человеческого поведения, предполагающую использование языка, как устного, так и письменного, с целью воспроизводства и создания значений и целей, с целью конструирования социальнозначимого знания, здравого смысла, а также с целью поддержки истины и власти. Фукианское представление о дискурсе неизбежно предполагает анализ метанарративных образований, обладающих потенциалом (вос)производства порядка социального характера. Развивая идеи Фуко, Н. Фэрклоу и Т. Ван Дайк 160 проанализировали дискурсивные способы инкорпорирования образов, практик и языка в «социальное и личное тела», равно как и специфику функционирования дискурсов как инструментов власти, предполагающей установление и распространение отношений подчинения и доминирования как внутри социальных групп, так и на уровне межгруппового взаимодействия. Дискурс как средство распространения и воспроизводства социального порядка предопределяет то, чьи интересы должны превалировать и то, кто будет занимать более привилегированное социальнополитическое положение в определенном культурном контексте. Дискурс приобретает институциональную форму, становясь «дискурсивной формацией», что подразумевает инструментальное и стратегическое использование языка и практик как в отношении корпуса письменных, так и устных текстов; дискурс представляет собой способ использования языка в конкретных социальных условиях для достижения экономических, политических и социальных целей. Дискурс всегда зависим, с одной стороны, от социокультурных влияний и, с другой стороны, от экономических интересов, исходя из которых он производится и распространяется [10]. Таким образом, критический дискурс-анализ базируется на идее о том, что властные режимы производят дискурс, легитимирующий те социальные и социокультурные значения, которые могли бы обеспечить защиту их интересов. Критический дискурсанализ располагает методическими возможностями «вскрытия» и интерпретации условий и способов производства доминирующего дискурса. Он представляет собой разновидность анализа «скрытых и прозрачных структурных отношений доминирования, дискриминации, власти и контроля, представленных в языке» [36]. Основываясь на традициях критической лингвистики, критический дискурсанализ базируется на представлении о языке не как об обычном средстве коммуникации, а как о способе упорядочивания социальной деятельности. Иными словами, язык конституирует социальное действие, представляя собой пространство создания и изменения смыслов. При этом, одним из наиболее значимых с этой точки зрения полем реализации этой функции языка (наряду с полем массовой коммуникации и повседневности) является, на наш взгляд, искусство, подразумевающее совокупность практик, в том числе языковых, предполагающих активную деятельность по трансформации и интерпретации «базовых смыслов». В подобном, конструкционистском по своей сути, измерении искусство как поле реализации символических корпусов не отражает реальность, а создает ее. Дискурс носит агентивный характер, то есть обладает потенциалом конструирования реальности за счет создания определенного порядка значений и связанных с ними предписаний. Итак, идеологический дискурс в поле искусства в традициях исследовательских практик описывается и как структура, предполагающая иерархию отношений и значений; и как практика, подразумевающая создание, интерпретацию и распространение необходимых значений; и как способ говорения, направленный на воспроизводство жизненного опыта и поддержку (установление) социального порядка. Данные способы описания и изучения дискурса позволяют подтвердить правомерность выделения таких двух основных типов дискурса, как институциональный (в нашем случае - идеологический) и бытовой (в том числе повседневный), причем оба эти типа дискурса выполняют идентичные функции, то есть каждый из них имеет отношение к конструированию, воспроизводству и актуализации: - идентичности; - отношений; - означиванию. В нашей работе мы ограничимся схематичным описанием механизмов и элементов идеологического дискурса в искусстве. 161 Вслед за Т. ван Дейком и Дж. Томпсоном к основным механизмам идеологического дискурса, наиболее актуальным для поля искусства, мы относим следующие: а) механизм реификации (отношения доминирования могут быть установлены и поддержаны за счет репрезентации положения вещей как закономерного, исторического порядка; факты, образы, идеи представляются такими, как если бы они были перманентными, естественными и не зависящими от временных контекстов); б) механизм легитимации (рационализация и универсализация положения вещей; репрезентация как представление фактов в качестве законных и требующих легитимной поддержки вне зависимости от специфичных условий); в) механизм фрагментации (категоризации) (выделение фактов из определенной группы на основе произвольно взятого признака; репрезентация на основе акцентуации уникальности, непохожести и, соответственно, противопоставление объекта группе иных объектов); г) механизм унификации (стандартизация положения вещей; символическое конструирование форм единства); д) механизм прототипизации (выделение объекта из группы как типичного; репрезентация на основе наделения представителя «типичными», «характерными» чертами группы). Перечисленные механизмы не исчерпывают всего многообразия дискурсивных стратегий и тактик, используемых для трансляции тех или иных смыслов, значений, идей и образов; однако, именно эти пять механизмов представляются нам наиболее распространенными в контексте идеологизации при использовании ресурсов искусства. Критический дискурс-анализ предполагает выявление не только механизмов конструирования, распространения и поддержания отношений доминирования и подчинения, но и обнаружение и анализ основных элементов дискурса, к главным из которых следует отнести следующие: - пропозиция (основные утверждения дискурса); - импликатура («внутренний» план пропозиции; план «содержания»; корпус высказываний, скрытых от адресата, но необходимых для трансляции и «проектируемой» интерпретации, в которой заинтересован адресант); - экспликатура («внешний» план пропозиции; план «выражения»; материальная сторона высказываний, транслируемых в дискурсе); - референция (обращение к прецедентным текстам; репрезентация на основе использования экстрадискурсивных элементов, то есть тех, которые не относятся к содержанию самого дискурса). В отношении идеологического дискурса целесообразно также выделить такой дискурсивный элемент, как идеологемма, представляющую собой мельчайшую значимую единицу идеологического языка (например, «красный», «сознательность», «акула империализма», «беззаветно предан делу Ленина-Сталина», «возрождение духовных ценностей» и т.д.). В качестве материала дискурс-анализа нам представляется адекватным выбор таких артефактов искусства, как агитационные, пропагандистские, рекламные плакаты; данный выбор обусловлен рядом причин. Во-первых, тексты т.н. «пропагандистского паблик-арт» характеризуются воспроизводством напряжения между институциональностью и повседневностью: с одной стороны, плакат транслирует идею, предполагающую безальтернативное прочтение аудиторией; с другой стороны, «вторжение» плаката в повседневное пространство зачастую «оформляет» последнее, дополняет его определенными смыслами. В этом принципиальное отличие использования плаката от материалов СМИ в качестве инструмента трансляции идеологии: тексты СМИ воспроизводят границу между собой и повседневностью за счет ряда средств - пространство, тираж, время, 162 доступность, потребительские интенции и т.д., в то время, как плакат исключает подобные границы, будучи встроенным в рутинную сферу, будучи доступным везде и каждому, игнорируя намерения аудитории на потребление той или иной информации. Во-вторых, плакат представляет собой крайне конденсированный текст, вмещающий в себя необходимое и достаточно многообразное количество значимых элементов; смысловая нагруженность плаката уникальна, что и представляет особый интерес для качественного анализа. Таким образом, дискурс-анализ текстов «паблик арт» (в частности, плакатов) предполагает следующую логику: - кто говорит (выявление автора, актора, идентификации читателя с голосом (так, например, на рис.1 очевидно конструирование идентичности посредством соотнесения с гражданством СССР, причем акцент ставится на гражданине как хозяине дома); - что говорится, что утверждается (выделение пропозиции, экспликатуры); Рис. 1 - как говорится, с какими целями и с какими средствами (выделение механизмов идеологического дискурса, идеологем, импликатуры); - где и когда говорится (определение контекста дискурса). В целом, следование такой логике анализа плаката как текста, равно как и корпуса плакатов как дискурса об определенном идеологически значимом предмете, позволит выявить «чистое значение» содержания идеологического дискурса и выявить особенности властных отношений, поддерживаемых и воспроизводимых с помощью плакатов. При этом необходимо учитывать специфику дискурса в пропагандистском паблик-арт, характеризующуюся следующими чертами: - ритуализация событий; - повторяемость представляемой информации и самого текста плаката; - воспроизводство знания; - оценочность. В целом, анализ идеологического дискурса как текстов «паблик-арт», так и иных произведений (как массового, так и элитарного) искусства позволяет обнаружить достаточно специфичный дискурсивный конфликт: это своего рода напряжение между дискурсом идеологии и дискурсом повседневности и культуры. Конфликт между идеологией и культурой неизбежен, перманентен, динамичен. Культурное Рис. 2 знание приобретает форму социального символа в процессе идеологического влияния (например, «самолеты» - это не просто средство передвижения, а символ 163 определенного образа жизни (см. рис 2); «Ленин» - не просто политический деятель, а символ мирового пролетариата (см.рис.3)). Ситуация однозначности разрушает состояние культуры, создает эффект оценки и нейтрализует интерпретации. Стратегия идеологии – зафиксировать, а значит «присвоить». Стратегия культуры – выразить, а значит «сделать общим». Неоднозначность, диалогическая обусловленность дискурсивных средств выражения идеологических максим в сфере искусства предполагает «постистолкование» (насколько корректным будет являться трансформация герменевтического понятия «предистолкования»), или достраивание смысла высказывания-единицы нормативного дискурса в границах доступного символического и прагматического пространства, или – дискурсивную практику индивида. Собственно дискурсивная практика в таком понимании не имеет предела, поскольку превращение идеологической оценки в культурную интерпретацию порождает столько смыслов, сколько индивидов способны их поддерживать. Рис. 3 Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 1. Предпринимая попытки анализа поля искусства, акцент может быть поставлен на изучение ее как дискурсивного поля взаимодействия между идеологией и повседневностью и как индикатора интенсивности и характера подобного взаимодействия. 2. Существует взаимосвязь между типом идеологического воздействия и содержанием поля искусства. 3. Механизмы идеологической реификации, легитимации, прототипизации, фрагментации искусства являются условием регуляции повседневной жизни представителей той или иной культуры. Список литературы 1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1990. 2. Бурдье, П. Начала / Пер. с фр. - М.: Socio-logos, 1994. 3. Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики. – М., СПб., 2005. 4. Бурдье, П. Социология политики. – М., 1993. 5. Бурдье, П. Практический смысл. – СПб.: Алетейя, 2001. 6. Водак, Р. Язык. Дискурс. Политика. – Волгоград: Перемена, 1997. – 139с. 7. Гирц К. Идеология как культурная система // www.nlo.magazine.ru/philosophe/27 8. Дейк, Т.А. ван. Вопросы прагматики текста // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8: Лингвистика текста. – М., 1978. – С. 259-336. 9. Дейк, Т.А. ван. Принципы критического анализа дискурса // Перевод и лингвистика текста. – М., 1994. – С.169-217. 10. Дейк, Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. 11. Делез, Ж. Логика смысла. – М.: Академия, 1995. 12. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390с. 13. Купина, Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. – Екатеринбург, Пермь, 1995. – 143с. 164 14. Магидович, М. Поле искусства как предмет исследования // Новое литературное обозрение. - №60. – 2003. 15. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДК «Гнозис», 2003. – 280с. 16. Мосс М. Социальные функции сакрального // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. – М., 1996. 17. Мочник Р. Субъект, который должен верить, и нация как нулевой институт // Критика и семиотика. – Вып.3-4 – 2001. – С.33-66. 18. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – Киев, 2001. 19. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М., 2001. 20. Руднев В. Прочь от реальности. – М.: Аграф, 2000. 21. Усманова, А.Р. Текстуальные стратегии // Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис: Книжный дом, 2001, с.824. 22. Фуко, М. Археология знания. – СПб.: Университетская книга, 2004. 23. Althusser L. Reading Capital. L., 1970. 24. Althusser, L. Lenin and philosophy and other essays. – N.Y., 1971. 25. Austin, J.L. How to do the things with words. – Oxford, 1962. 26. Baudrillard J. Simulacres et simulations. – P., 1981. 27. Bourdieu P. La distinction: Critique sociale du jugement de gout. – P., 1979. 28. de Certeau M.. The Practice of everyday life. Cmb., 1984. 29. Fairclough N. Discourse and text: linguistic and intertextual analysis within discourse analysis // Discourse and society. 1992. N.3 P. 192-217. 30. Geertz C. The interpretations of cultures. NY, 1978. 31. Jameson, F. Postmodernism, or The Cultural logic of Late Capitalism (Duke University Press, 1991). Pp. ix-xxii, 1-55, 297-418. 32. Lash, S. Sociology of postmodernism. L., N.Y., 1990. 33. Mannheim K. Ideologie und utopie. L., 1929. 34. Thompson, J.B. Ideology and modern culture. – N.Y., 1990. 35. Williams, R. Culture and society: Coleridge to Orwell. L., 1958. 36. Wodak, R. Disorders of discourse. – L., N.Y.: Longman, 1996. IDEOLOGY IN THE FIELD OF ART: PERSPECTIVES OF CRITICAL DISCOURSE-ANALYSIS E.A.Kozhemyakin1), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia, e-mail: [email protected] The paper deals with perspectives and limits of investigation of ideological elements in art by means of critical discourse-analysis. The problem of a researcher position is observed in terms of ideology studies, and the discursive character of ideology is grounded in the article. The art is regarded in terms of Bourdieu’s theory and supposed to contain certain symbolic relations, the same as practices and agents. Ideological body in the field of art has the communicative and semiotic form, and can be studied by discourse-analysis. The paper describes general methodological positions of the discourse-analysis of ideological elements in art, it also reveals the logics of a survey and grounds the perspectives of the methodology. Key words: discourse-analysis, ideology, Bourdieu’s theory of field, art, symbolic system, social practices, everyday life. 165 УДК 103.2 СОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФСКОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО С. А. Колесников, Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] В данной статье рассматривается вклад в развитие русской культуры Андрея Белого, отражается специфика его мировоззренческой позиции. Понятие эгокультура представляет собой попытку терминологически обозначить специфическую антропологию, присущую А. Белому. На примере философско-культурологического анализа романа Белого «Петербург» и его центрального персонажа Дудкина рассматриваются варианты практической сотериологии. Ключевые слова: сотериология, Андрей Белый, эгокультура, терроризм Вклад Андрея Белого в расширение сферы гуманистического значителен и своеобразен. Своей непростой личной судьбой он доказывал возможность реального воплощение «жизнетворческого» принципа. Белый – не просто писатель, это гуманитарное явление, знаменующее собой рубеж в русской литературе. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что русскую литературу можно разделять на «до» появления Белого и «после». Его творчество не массово, но оно свидетельствует о коренном изменении отношений между «искусством и действительностью», знаменует начало трагического и величественного ХХ века, новый подход к пониманию гуманизма «Он сам по себе – явление уникальное и феноменальное» – писал о Белом один из самых глубоких исследователей его творчества Л. Долгополов и с сожалением оговаривался, - «если бы мы освоили творчество Белого во всей полноте». Это немного печальное для талантливого поэта и писателя «если бы» сопровождает весь творческий путь Белого. Каких только определений не получал он: «пленный дух» (М. Цветаева), «гений, который он ухитрился загубить» (Н. Гумилев), «из посеянных им семян ни одно не взошло, не распустилось полным цветком» (В. Шершеневич), «человек с надрывом» (А. Луначарский), «клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий» (Б. Зайцев), «великолепный клоун» (И. Эренбург)… «Если бы» он был другим, «если бы» его философские трактаты больше напоминали философские трактаты, «если бы» его проза была больше похожа на традиционную прозу, «если бы», «если бы»… Но, если бы эти «если бы» воплотились, если бы исчезла «гениальная раскосость беловского взгляда» (Ф. Степун) – исчез бы сам Андрей Белый. Сам термин «эгокультура» - специфичен. В определении антропологокультурологической позиции А. Белого, как представляется, он занимает главное место наряду с понятием жизнетворчества. В краткой тезисной форме попытаемся обозначить некоторые вопросы, возникающие при осмыслении понятия «эгокультура» в целом и применительно к наследию А. Белого в частности. Понятие эгокультура, по нашему мнению, представляет собой попытку терминологически обозначить специфическую антропологию, присущую А. Белому, хотя подобный подход, как представляется, может быть применен и к творчеству иных мыслителей. Отдельные элементы, составившие принципиальные основы эгокультуры 166 уже были обозначены в кратком анализе «предшественников» и «последователей» идей Белого (в кавычках – потому, что очень оригинальными предстают взгляды Белого на культуру собственного «я»). Отношение к культуре как организму в современной культурологии – уже прочная традиция, достаточно вспомнить теорию цикличного развития культур О. Шпенглера, иных мыслителей, чьи отдельные позиции упомянуты выше Однако, нам видится, что возможен и обратный вектор рассмотрения сущности культуры: не только культуру, супракультуру, воспринимать как организм, но и организм, личность, может выступать как значимое культурное образование, изучение которого может происходить по уже сложившимся культурологическим законам. Если мы признаем культуру как «особую форму жизнедеятельности человека, качественно новую по отношению к предшествующим формам организации живого на земле» (Белик А. А.), причем такая культура обретает значение супракультуры, сверхкультуры, мегакультуры, то почему не применить этот же признак к эгокультуре как особой форме отношения индивидуума к своему «я», анализировать «я» как культуру, при этом снижая психологический акцент анализа и усиливая культурологический. Соединение терминов «эго» и «культура» видится также оправданным: «Эго», трактуемое в психоанализе как посредник между бессознательным и реальным, «эго», соединяемое с понятием «культура» как внешней, объективной действительностью, позволяет максимально точно определить сложную систему взглядов такого непростого мыслителя как А. Белый. Постоянный акцент Белого в произведениях на своем «я» нередко давал повод для обвинения в субъективизме, солипсизме и т.п. Но позиция писателя значительно мудрее: он исходит из сложнейшей структуры собственного творческого «я», эго, и пытается через самопознающее совершенствование формировать особую культуру, ориентированную уже вовне, на реальность. Рассмотрение синтеза «эго» и «культуры» представляется продуктивным еще и потому, что конечной целью каждой эгокультуры становится стремление к счастью, к гармонии. В этом еще один «спасительный» аспект теории «жизнетворческой эгокультур» А. Белого. Главной задачей эгокультуры Белого становится сохранение душевной целостности, спасение личности – и в этом, как представляется, основное общечеловеческое значение его позиции: спасая свою личность, он учит спасению других, предлагает свой вариант спасения иных эгокультур. В таком контексте мы может говорить о философии Белого как о философии спасения, осуществляемого с помощью различных «механизмов», рассматриваемых в диссертации, ведущим из которых является «жизнетворчество». По сути термин «жизнетворчество» получает новую интерпретацию в работах А. Маслоу: «Я убежден, что большая часть того, что мы в настоящий момент называем психологией, - это изучение хитростей, с помощью которых мы пытаемся избавиться от боязни абсолютной новизны, заставляя сами себя поверить в то, что будущее будет таким же, как и прошлое», и это еще одно доказательство актуальности антропологии Белого. Подобный подход позволяет говорить о структурной специфике эгокультуры, включающей: особенности способов поддержания жизнедеятельности эгокультуры, т.е. те самые механизмы спасения, которые изменялись по мере взросления личности и таланта рассматриваемого писателя; особенности построения отношений с внешним миром, уникальные модели выживания, создаваемые на каждом возрастном этапе, позволяющие преодолевать «возрастные кризисы»; характер взаимоотношений с другими эгокультурами, родственными или чуждыми, характер позитивных и негативных взаимосвязей, благотворно или деструктивно сказывающихся на развитии эгокультуры Белого; организационные формы, обеспечивающие цельность 167 эгокультуры (разорванность, «метельность», сознания являлась одной из наиболее сильных опасностей для писателя), реализующие себя в жизнетворчестве; формирование творческой личности, носящей имя Андрей Белый, как культурного явления (именно Андрей Белый, а не Борис Бугаев становится главным объектом анализа, Андрей Белый как культурное образование, а не как реальный человек); создание и функционирование идеальных сущностей, главных ценностей, определяющих этапы становления и перспективы развития конкретной эгокультуры, характер смыслополагающих ценностей, их онтология, генеалогия, проявление. Если применить структурные определения, данные культурологами супракультуре, к эгокультуре, то можно представить эгокультуру как «организованные повторяющиеся реакции» (Р. Линтон) на окружающую действительность, но и, добавим, на процессы, происходящие внутри эгокультуры (страхи, столь долго терзающие Белого, в частности, страх смерти, по мере роста мощи эгокультуры становится позитивным импульсом к творчеству). По ходу разворачивания интуитивносимволической деятельности эгокультуры формируются и «поведенческие результаты», имеющие уже не только субъективный, ограниченный характер, но несущие объективное, всеобщее значение (чем как не такими «результатами» являются художественные произведения Белого, являющиеся одновременно и механизмами борьбы с субъективным страхом и объективной художественной ценностью). Статус эгокультуры, на наш взгляд, очевиден: эгокультура преимущественно идеалистична, имеются определенные моменты солипсизма, значима, прежде всего, для конкретного индивидуума, но при аналитическом погружении в яркую эгокультуру, при внимательном рассмотрении каждой из таких эгокультур, в том числе и эгокультуры Белого, обнаруживаются «конструкты», имеющие художественную, терапевтическую, культурную и т. п. значимость для исторической реальности. Эгокультура, как представляется, и есть яркий пример той самой «особой субъективной реальности». Важное место в характеристике эгокультуры Белого занимает анализ ценностей, которые составляют сущностное ядро эгокультуры на том или ином хронологическом этапе развития, анализ динамики этих ценностей, а также деструктивных сил, препятствующих достижению этих ценностей. Одним из главных способов преодоления сложностей, возникающих перед эгокультурой, становится интуитивно-символическое жизнетворчество, совмещающее в себе все наиболее успешные механизмы спасения, механизмы, отбираемые Белым в ходе преодоления своих собственных страхов, и все более совершенствуемые в процессе борьбы с внутренней и внешней деструктивностью. Креативным воплощением теоретических предпосылок у Андрея Белого становится один из главных персонажей романа «Петербург» Александр Иванович Дудкин. Он как появляется в романе «незнакомцем с чернейшими усиками» (невольная ассоциация: Ницше!), так и исчезает до конца не понятный ни читателю, ни, видимо, автору. Эгокультура Дудкина – потаенна, но тем и интересна. Если Липпанченко – скопище зла, то Дудкин – вместилище всего туманного, еще не осознанного, ждущего своего «созревания» в сознании автора. В Дудкина «уходит» то, чему еще предстоит родиться, в нем виртуальное будущее эгокультуры самого Белого, темные пророчества самому себе, то, чем автор может стать, в чем ждущая его опасность. Зная об такой опасности, создав Дудкина, эгокультура Белого будет искать оптимальные пути спасения – и найдет: в «духовных», а затем в «исторических» мемуарах конца 1920-х-начала 1930-х гг. Неотъемлемыми чертами Дудкина становятся загадочность, герметичность, автономность его эгокультуры, и в тоже время ее крайняя незащищенность. Вся биография Дудкина, террориста, свидетельствует о немалых испытаниях, выпавших ему, испытаниях, призванных закалить эгокультуру. Но этот новый Рахметов странен: 168 он то ли сломлен, то ли всегда носил «трещинку» в сознании. Он может быть бесстрашен, ведь практически безбоязненно несет Дудкин «узелок» с бомбой через весь Петербург, разумно высказывая «попечение о судьбе узелка, могущего зацепиться за полено», но практически сразу суеверно его «лицо передернула судорога» при виде черной кошки, перебегающей дорогу. «Это движение свойственно барышням» акцентирует автор (не по себе ли зная?). Но тут же еще одна непоследовательность: за слабостью следует сила. Дудкин, возможно, как никто другой в романе умеет ненавидеть, но объект его ненависти зло в любом обличье. Если Липпанченко делает злодейство, то в этом его изначальная сущность, он зло само по себе. Дудкин же утверждает насилие во имя светлой, как ему представляется, цели, он вершит возмездие, а не сеет зло; вот только границы справедливого наказания и жестокости начинают расплываться в разорванном сознании Александра Ивановича. Объект «святой» ненависти (не здесь ли уточнении авторского понимания «святого безумия»?) Дудкина: «кто-то злобный, холодный, оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом», против него сжимает Дудкин кулак. Но еще одна «странность» в изображении террориста: как только ненависть его становится максимальной, тут же он превращается в «синеватую тень». Недеяние становится основным признаком Дудкина; в романе он, по сути, совершает один-единственный поступок – убивает Липпанченко – но этот поступок и есть наказание зла. Эгокультура Белого знает, что только таким должен быть герой, правда, зачем еще четко не понимает, спасительная роль Дудкина еще только сознается. Белый в «Петербурге» еще для себя окончательно не определил мотивы, толкающие страдающее сознание Дудкина на целеустремленный, поражающий своей энергичностью на общем фоне тотального сомнения, поступок. Вера в лучшее завтра, поддерживающая Дудкина в праведной ненависти – вот, что пытается разгадать в своем герое автор и обрести веру в будущее, но уже лишенное ненависти, ведь объект ненависти уже уничтожен героем. Святая ненависть, стремление отомстить за обездоленных, за тех самых «двух бедных курсисток», в упор устремивших на него взгляд, ожидающих от него защиты и отмщения – это укрепляет Дудкина, это дает ему право на действие. Но период гамлетовских сомнений еще не пройден, через своего героя эгокультура Белого «экспериментирует» над миром, отдает ему темную сторону ненависти, оставляя себе духовное право на деятельное преобразование мира. Гамлет и Раскольников одновременно возрождаются в террористе, но теперь их цель более благородна (а, может быть, и проще?): достижение не только личной цели, теперь счастливым, пусть и насильно, должно стать все человечество. При изображении духовных сомнений эгокультура Дудкина авторская эгокультура пытается нащупать оптимальный путь между сомнениями в праве на действие и опасениями в неправомерности, внегуманности этого действия. Дудкин – темная сторона деятельного оптимизма, но сам оптимизм еще не понятен, не известен Белому, а потому и образ Дудкина несколько двойственен, расплывчат. Поддерживает эгокультуру Дудкина вера в свою необходимость человечеству, это помогает ему перенести тяготы сибирской ссылки. Но, справившись с физическими испытаниями в Сибири, Дудкин оказывается разорванным трансцендентальным Петербургом. Правда, первоначально сила Дудкина не исчезает: он способен сохранить себя после того как мистический «глухой пушечный выстрел торжественно огласил Петербург…тени рассеялись. Только тень – молодой человек – не сотрясся и не рассыпался от выстрела». Итак, Дудкин и Империя – таковы изначальные оппозиции в романе. До этого катаклизмы, происходящие с героем, ограничивались пределами человеческой души, другие герои романа также вращаются в орбитах отдельных 169 эгокультур, и только через эгокультуру Дудкина возникает у автора возможность озвучить великую ноту вызова миру бездуховности и тотальной материальности. Но для самого автора, видимо, еще не совсем понятно, каким образом будет вести эту «войну» герой. Ведь врагами должны стать призраки – сенатор, Липпанченко, Империя – как воевать с несуществующим? Эгокультура Белого хорошо знает, что это самый трудный вид войны, и, кроме того, путь этой войны самый безвозвратный: чем глубже увязаешь в битве с иррациональным, тем меньше шансов вернуться в реальность. В этой войне не важной становится победа, здесь побеждает только тот, кто выжил. Выжил – значит, победил, ведь нет захваченных территорий, контрибуции, суда над руководителями, распределения трофеев. Остается: или целое, или раздробленное сознание. Суть противостояния в том, что призраки стремятся разрушить сознание, человек – сохранить его цельность. Но если процесс расщепления сознания начался – он не остановим. А потому на эту неминуемую, неотвратимую и безпобедную войну автор посылает героя, спасая себя; как будет вести себя герой в борьбе с призраками вряд ли до конца понимаемо Белым – он лишь созерцает за поступками героя и делает спасительные выводы, сам, оставаясь в стороне от прикосновения к призрачному. Эгокультура Дудкина выстраивается на противоречиях. Уже в первом, визуальном, столкновении с сенатором, он выказывает неодолимую силу, для Аполлона Аполлоновича это формулируется как «недопустимое», как невозможность «подвести» облик Дудкина «под любую существующую категорию». То, что олицетворяет сенатор, – тотальное зло – видит серьезную угрозу в эгокультуре Дудкина, в сенаторе появление Дудкина порождает «в груди ощущение багрового шара, готового разорваться на части» - это столкновение анти-вещества с веществом; должен, обязан произойти взрыв, после которого живых не останется. Но автор жить – желает. Тут же, как только мы видели «сильного» Дудкина, непреодолимую угрозу для бездуховного мира-призрака, он открывается как слабая, дезинтегрированная личность. Фраза «он – кинулся в бегство», по сути, эпиграф к большинству поступков Дудкина. Складывается впечатление, что герой не знает или забывает о своей силе. Его разорванное в лохмотья, а значит, максимально открытое сознание – беззащитно; в своей беззащитности сознание готово воспринимать чужие разговоры как свои собственные, составлять из обрывков разговоров, не касающихся абсолютно лично его, предложения, имеющие невероятное значение для судьбы Дудкина. Разорванность сознания героя четко проявляется в такие моменты: чужие слова, и это характерно для языкового восприятия Дудкина вообще, под воздействием надломленного сознания начинают «крошиться», из них вырываются отдельные слоги, а потом и звуки, чтобы сложиться в свой, особый смысловой ряд. Так, услышанное на Невском проспекте «Абл..ейка меня ки..исл..тою» превращается в Аблеухова; «пора…право» - в «провокацию», и тогда: «присоединением буквы ве и твердого знака изменился невинный словесный отрывок в обрывок ужасного содержания». Таков образ мировосприятия эгокультуры Дудкина: из невинности реальности он выводит ее виновность, ее ужасность. Вина, естественно, предполагает наказание, Дудкин видит себя как орудие неотвратимого возмездия. Автору остается только следовать за его ходом мысли, но все время помня, что впереди идет герой и первым, погибая, укажет на опасность; у автора всегда будет время спастись. Дудкин – «зонд», которым автор исследует наиболее опасные, болезненные «зоны» человеческого существования. Он погружает героя то в отчаянное одиночество, то в беспощадное к себе пьянство, то в фанатичную религиозность, то в сжигающий психологический самоанализ. Сознание героя обретает невероятную мобильность, но при этом оно разрываемо центробежными силами. Тело «отстает» от стремительного 170 сознания: «…сознание, отделясь от тела, как ручка машинного рычага, начинало вертеться вокруг организма» - и здесь важное предупреждение об опасности для авторской эгокультуры. Забывает Дудкин не только о своей силе, но и своем теле, о своем земном существовании – следствие прикосновения, погружения в призрачное – автор же, учась на примере героя, не забывает ни о чем. В отрицании гармоничного союза духа и тела скрыт трагический конец эгокультуры Дудкина, грядущую потерю адекватности выдают глаза героя, «поразительные глаза (вы такие б встретили ночью в московской часовне Великомученика Пантелеймона; вы такие бы встретили на портрете, приложенном в биографии великого человека» (читай – Ницше) и далее: в невропатологической клинике)». Это «далее» - погубит героя, но спасет автора от безумия. Сам герой не совсем четко осознает свои взаимоотношения с миром. В разговоре с сенаторским сыном Дудкин не обращает внимания на бытовой уровень общения, на поучительность речи Николая Аполлоновича – не в этом спасение, а в трансцендентальном. А отсюда нечеткость в определениях Дудкина: «Я путаюсь в каждой фразе; хочу сказать слово и вместо него говорю все не то». Дудкин говорит «не то», что ждет от него окружающая реальность, что вписывалось бы в бытовую парадигму ценностей. Герой, видевший «ту сторону», уже не способен воспринимать предметы и людей в их обыденном состоянии – они трансцендентальные символы: «Вдруг забываю, как называется обыденный предмет; затвержу: лампа, лампа: потом вдруг покажется, что такого слова и нет». Свет потусторонний затмил свет привычный в сознании Дудкина. С таким героем автору приходится быть очень осторожным – уж очень он опасен для реальности. Ярким признаком, на это надо обратить особое внимание, становится частое слово-сигнал «вдруг» - оно кричит о надвигающейся опасности, в нем треск приближающегося перелома сознания героя. «Вдруг» - пограничная веха между рациональным и иррациональным. И – снова герой изображается двояко: от кромешного молчания Дудкин «как к молчанию принужденные, от природы болтливые люди» переходит к безудержному словесному выбросу. В «роскошной приемной» дома Аблеуховых спектр целей эгокультуры Дудкина раскрывается: «круг чтений моих для вас дик: я читаю историю гностицизма, Григория Нисского, Сирианина, Апокалипсис» - и несопоставимость этих цели разрывает эгокультуру. На свет появляется – далеким эхом звучит голос Раскольникова – теория Дудкина о «ницшеанцах», превращающих «массу» в исполнительный аппарат. Но странно: теория, казалось бы, дублирующая уже известные социальноэтические теории о «вседозволенности», о «праве имеющем» и т. п., направленные на решение сугубо «земных» проблем, неожиданно в устах Дудкина приобретает трансцендентальную окраску. Террорист превращается в мистика, и тогда сознание «крошится»: «неделями я сижу и курю; начинает казаться: не то!». Тщетны саркастические, псевдо-рациональные реплики Николая Аблеухова – они просто не замечаются эгокультурой Дудкина. Все ближе внематериальные бездны – а кто в романе мог бы, кроме Дудкина, рассказать о них – главная тема «Петербурга». Ведь как бы ни хотелось автору спасти и сохранить цельность своей эгокультуры, все же тема иррационального, тема, создающая «Петербург», должна быть озвучена. Но проникновение в нее несет раздробленность сознания (на примере прошлого опыта Белый знает об этом), значит, другой, литературный герой, должен говорить о внебытийном, должен «замараться» в нем. И Дудкин обречено и неизбежно произносит: «Душа моя – точно какое-то мировое пространство; оттуда на все и смотрю». Автор теперь может идти вперед в мире иррационального, но только «прикрываясь» своим странным героем, как и он, увлеченный открываемыми трансцендентальными «перспективами». 171 Постепенно деформируется мировосприятие в романе: в желтой комнате Дудкина все окна – «вырезы в необъятности», двери квартир распахиваются в «межзвездное пространство»; в мире трансцендентального хотела бы существовать эгокультура Белого, но эгокультура зрелого писателя уже осведомлена об опасности такого мира. Трансцендентальный мир обез-человечен, там нет места искусству, любви, надежде, тихой грусти и личной радости. Жизнь в неземном мире – открыто это опять-таки через Дудкина – болезнь, «имя странной болезни еще не знаю, а признаки знаю: тоска, галлюцинации, водка, курение». Признав болезнь, пусть без имени, Дудкин пытается найти «лекарство» против нее, и тогда разговор с Николаем Аполлоновичем достигает кульминационной точки, нарастает пророческая способность Дудкина. Образ героя практически сливается с авторским, их тени совпадают – почти. По сути, герой впадает в пифийский экстаз, начиная прозревать невидимое. Оно, прежде всего, проявляется в трансцендентальных бликах на лицах человеческих: «…эдакая усмешка (какая, я этого, Николай Аполлонович, вам сказать не сумею)». Через лик, через «чело» Дудкин заглядывает в души: «такой собеседник способен не выполнить обещания… способен украсть и предать». Показательна защитная реакция сенаторского сына, а, значит, и правота Дудкина (автора?): «- А у вас нет!». «Есть» - следует безжалостный к себе ответ Дудкина. Безжалостность проявляется в знании о последствиях подобных разговоров, «прозрений»: «разговоры… всегда вызывали в нем грешное состояние духа… в ночь – по три кошмара». Выворачивающийся наизнанку Дудкин и исповедывающийся автор стремятся друг к другу в познании странного мира. Физиологический дискомфорт, алкогольная депрессия превращается в осознание личностной греховности, а за греховность – надо нести наказание. В контексте грядущего наказания проявляется еще одно «открытие» Дудкина – «веянья, охватившего умы» и названного им «общею жаждою смерти». В устах любого другого героя звучало бы слишком романтично, но глубоко исповедальный тон снимает напыщенность. Особый акцент придает потоку сознания Дудкина воспоминания современника Белого Н. Валентинова: «Однажды придя ко мне, Белый стал около стены, прижал к ней крестом поднятые руки и почти со слезами стал жаловаться: «Я распятый, я на кресте. Всю жизнь от рождения я должен страдать. Страдания мои никто не знает». Это – в реальности. А в романе Дудкин произносит: «Любимая моя поза, знаете, встать у стены, да и распластаться, раскинуть по обе стороны руки». Автор и герой – сливаются в едином страдании. И как вывод – замечание того же Н. Валентинова, никогда не относившегося сентиментально к Белому, и все же пронзенного этим страдание: «Я – решил; есть что-то мне неведомое, но очень большое, заставляющее Белого страдать… с ранних лет он стал мыслить себя неким страдальцем, распятым Дионисом». То, что было непонятно в Белом Н. Валентинову и ему подобным, пытается уточнить Л. Долгополов: «Он потому и не был понимаем… что все уже таило в себе стремление вырваться за пределы бытовой эмпирики». Эгокультура Белого находилась в сложнейшем положении: раскрыть себя она могла только в трансцендентальных символах, но символы во многом были непонимаемы, лишены познавательной определенности. Опять – положение «между», опять раскачивающиеся «трапеции» сознания… Таково же положение и героя Дудкина, который является не только «мозговой игрой», он реален в передаче авторских страданий, но и автор с помощью иррационального героя перестает быть только «материализованным телом» в своих страданиях; передавая страдания герою, он растворяется во внебытийной виртуальной толще романа. Видимо, вся атмосфера начала ХХ века способствовала появлению страдальцев, не способных вынести страдание самостоятельно, без разделения его с 172 кем-то – может быть, оттого, что «количество» душевной боли того времени значительно превосходило иные этапы человеческого существования (причина, по которой положение в современности иное, очевидно, в изменении отношения общества к воспитанию детей – стало меньше разрушенных судеб). Реакцией на нестерпимую душевную боль и стало появление «болящей» литературы «серебряного века». Страдающий талант в начале ХХ века – тяжело болен, спасаясь, вынужден творить; сейчас культурной терапией цивилизации, очевидно, найдены «болеутоляющие» средства, но расплатой становится исчезновение гениальных художественных произведений. «Петербург» - произведение, рожденное болью, но боль и поднимает его на необыкновенную творческую высоту. Дудкин, с его чрезвычайной ранимость, душевной чуткостью, наделен двойным зрением (еще один мало объясненный феномен, свидетельствующий о потаенности эгокультуры героя). Иногда он использует «реальное» зрение, когда он видит, например, в сенаторе «лишь жалкого старика», видит только внешнее, но уже через несколько страниц он – прорицатель будущего: «судьбы человеческие Александру Ивановичу осветились отчетливо: можно было увидеть, чему никогда не бывать: так – стало ясно; в судьбу свою он взглянуть побоялся». Автор «Петербурга» в свою судьбу взглянуть не «побоялся» - увидел в Дудкине ее трагическое приближение, и сделал так, что ей «никогда не бывать». «Странности» Дудкина, его необъяснимость по мере развития романного действия усиливаются, становясь многогранными и многослойными. Эгокультура Дудкина даже биологическое восприятие времени окрашивает эмоционально, точнее эмоция превращается в «очеловеченное» время, которым можно управлять по своему усмотрению: «Александр Иванович переживания переживал в обратном порядке, убегая за спину … переживания сегодняшних суток». Как и у других героев с потрясенным сознанием, у Дудкина тоже есть своя «точка отсчета» безумия, «точка», с которой «все началось». Имя ей – Гельсингфорс, слово, как и «вдруг», как и «ефраншиш», имеющее символичное значение для эгокультуры героя. С «Гельсингфорс» - «вдруг» все началось, на «ефраншиш» - «вдруг» все закончилось. Магические, кабаллические заклинания, лишенные смыслового значения, ничего не сообщающие в рациональном аспекте, загадочные для самого автора, в их «тени» проходит последний отрезок «разумной» жизни Дудкина. После «ефранщищ» придет то, чего так страшится автор, он отдает страшное слово герою и – спасается. Герой же, зараженный «вирусом» безумия», начинает безудержное падение: в падении «бьется» о Николая Аблеухова, затем о Липпанченко, последний удар о ШишнарфиеваЕфраншиш – и все поглощает темная гладь безумных глаз сумасшедшего, восседающего на трупе Липпанченко. Дудкину, казалось бы, открыты возможные методы сохранения цельности, он догадывается о них: «Мне бы строгое воздержание… Не читать Откровение» и т. п., но это рациональные, а значит, невозможные пути спасения. Автору известна малая польза от рациональных советов в области решения «конечных вопросов». Можно говорить себе, убеждать себя «теперь бы хинки» или «теперь бы да крепкого чаю с малинкою», но указания эти «слишком» разумны, чтобы противостоять разрушительному воздействию иррационального. Они могут помочь телу – не спасут душу. Не спасает Александра Ивановича ни «образок, изображавший молитву Серафима Саровского», ни «крестик под сорочкой» - это было бы просто. Дудкин еще не осознает всей непреодолимости своей гибели, еще инстинктивно пытается найти спасение – и бежит «прочь» от необъясненного себя к людям, «в грязноватый туман, чтобы слиться с плечами, с зеленоватыми лицами на петербургском проспекте». В 173 конце концов, все действия по самоспасению, предпринимаемые Дудкиным, обречены на провал – за ним все-таки приходит «ефраншиш». Автор знает о бессилии героя перед испытаниями, но он вынужден направить героя к ним, так как сам стремится избежать испытаний, разрушающих сознание», а потому последовательно «закрывает» все возможные для спасения героя пути. Так, стремление Дудкина «слиться с толпой» - иллюзия спасения, иллюзия сохранения целостности эгокультуры за счет потери индивидуальности. Этот путь уже проходил Белый в юности – он ведет в тупик. Таким же тупиковым является и другое средство спасения, используемое Дудкиным: забвение. Физическая усталость, позволяющая забыть духовные переживания, то, что предлагается героем: «от проспекта к проспекту, от улицы к улице – до онемения мозга, чтобы свалиться на столик харчевни, обжечь себя водкой, …чтобы не снились мороки» - уже также известно авторской эгокультуре. Забвение самого себя не несет спасения, это – лишь отсрочка приговора: после возвращения памяти боль обрушится с новой силой. И она наваливается на Дудкина в виде бреда, «погибельного молчания», «звуков, сплетенных из стенания времен» - и «губит без возврата». Дудкин самостоятельно, естественно, по воле автора, совершает непоправимую ошибку – он отказывается от открытой борьбы с наступающим безумием, загоняет страх безумия в подсознание, бежит от прямого сражения. Эгокультура Белого знает, что с безумием надо бороться «с открытым забралом», говорить о нем, превращая его в эстетическом озвучивании в «святое безумие». Только тогда – оно может отступить. Дудкин этого не делает, его девизом становится «Не хочется вспоминать», забвение – а потому он обречен. Уже не опасный террорист Дудкин, бежавший из суровой Сибири, а всего лишь «икринка икры» «влипает» в толпу Невского проспекта вместе с Николаем Аполлоновичем, выйдя на улицу. Дудкин еще находит в себе силы (откуда? – еще одна необъяснимость авторского отношения?) давать физиологические характеристики состоянию сенаторского сына: «Налетело на вас сотрясение – кровь бросилась к мозгу» (Дудкин и Аблеухов-младший после выхода из «желтого дома» словно меняются ролями: теперь уже Александр Иванович анализирует своего визави). Но силы уже не те, энергетика его эгокультура живет за счет «багажа» прошлого, перспективы развития – нет. Сети затягиваются, эгокультура Дудкина все ближе подходит к «ефраншиш». Бред становится формой экзистенции, личность утрачивает цельность, тело и звук перестают разниться, как перестают быть разными Дудкин и «ефраншищ». Заражение «бациллами ахинеи», разлагающих эгокультуру, свершилось – и Дудкин гибнет: «соединился он с ними,… вошла в него сила их, перебегает от органа к органу и, ища в теле душу, она понемногу овладевала им всем». И открывается бездна: «он себе самому показался лишь пойманным узником», бездуховное, без-душевное состояние губит его «без возврата». Он решает, с подсказки автора, сойти с ума, потому что сил справляться с разрывающей сознание болью, уже нет. Такой исход знаком эгокультуре Белого – он уже искал безответственности в безумии, правда, результат оказывался самый плачевный. По этому пути идет герой, чтобы навсегда закрыть его для автора. Герой, впав в сумасшествие, ошибся, автор – оказался прав. Спасение собственной эгокультуры через «заклание» эгокультуры персонажа – оригинальный терапевтический метод, найденный Белым. 174 SOTERIOLOGICAL ASPECTS OF PHILOSOFICAL AND CULTUROLOGICAL ATTITUDE A. BELIY S.A. Kolesnikov1), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya str., 78, Belgorod, 308000, e-mail: [email protected] This article is devoted of contribution of A. Beliy in development of Russian culture and reflection his attituding position. This conception “egoculture” is presented attempt terminological reflection of specific anthropology of A. Beliy. In this article is considered variants of practical soteriology A. Beliy on example his novel “Peterburg” and his central hero Dudkin. 175 УДК 316.74 ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К.Ю.Королёва1), 1) Белгородский государственный университет, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] Меняющиеся условия социальной реальности выдвигают новые требования к методологии исследований. Эвристические преимущества применения системного подхода к проблемам образования заключаются в возможности совмещения макро- и микросоциальных измерений социального института образования, а именно, в рассмотрении субъектов образования, структурных и институциональных элементов, образовательных процессов, ресурсов как интегрированной целостности. Системный анализ позволяет учитывать широкий спектр взаимоотношений и взаимозависимостей между внутренними элементами системы образования и внешними факторами, формирующими образовательное пространство, раскрывать действие механизмов компенсации, которые активизируются в условиях нестабильности социума, трансформации институциональной и социально-стратификационной структур общества. Применение системного подхода так же позволяет учитывать влияние внутренних факторов системы образования, которым соответствует микро уровню социальных процессов, индивидуальных когнитивных процессов, коммуникации, идентичности взаимодействующих субъектов. Ключевые слова: образование, системный подход, социокультурная детерминация Образование является одним из важнейших факторов, определяющих прогрессивное поступательное развитие общества. Обеспечивая процессы подготовки квалифицированных кадров, социальный институт образования формирует условия для поддержания и распространения научно-технического прогресса, интенсификации технологий, развития экономики. В современных условиях ускорения и глобализации социальных и экономических процессов, универсализации культуры, постоянного нарастания интенсивности потоков обмена информацией, увеличения роли знания практически во всех сферах человеческой деятельности, образование становится институтом, обеспечивающим конкурентоспособность и независимость государства в мире. Это обусловливает неиссякающий интерес к проблемам социального института образования со стороны социально-гуманитарных наук. Пройдя долгий путь развития, образование образца конца ХХ - начала ХХI века представляет собой сложную социокультурную систему, обладающую многоуровневой дифференцированной структурой внутренних и внешних социальных, экономических, нормативно-правовых взаимосвязей и взаимоотношений. Сохраняя в качестве номинальной функции социализацию личности, система образования вынуждена выживать в жесткой конкурентной борьбе с множеством институтов, участвующих в процессе социализации и формирующих информационное поле – среду функционирования образования. На протяжении последних тридцати лет многие страны мира, в том числе и Россия, осуществляют попытки реформировать системы образования. Исходные условия преобразований существенно отличаются, однако в направлениях планируемых изменений прослеживаются общие тенденции, а именно: принятие ряда экономических и правовых мер с целью расширения доступа к высшему образованию для широких масс населения; создание условий для формирования системы непрерывного образования на протяжении всей жизни (материально-технических, информационных, методологических и т.д.); 176 усиление многообразия предлагаемых форм организации учебного процесса и методик обучения с целью повышения эффективности, ориентация на личность обучаемого и его потребности, формирование партнерских отношений между педагогом и учащимся. Российские реалии реформирования имеют свою специфику, которая обусловлена как особенностями пройденного исторического пути, так и происходящими в стране экономическими и социальными преобразованиями. Трансформация институциональной и стратификационной структуры современного российского общества естественным образом сказывается на функционировании системы высшего образования. Поэтому анализ нынешнего состояния и перспектив развития образования требует учета влияния ряда объективных факторов – социальных, культурных, экономических, организационно-управленческих, а также субъективных факторов, связанных с изменением жизненной ситуации индивида: плюрализацией социальных ценностей, ростом неопределенности социальных отношений, связей, утратой чувства безопасности, обезличиванием социальных практик. Меняющиеся условия социальной реальности выдвигают новые требования к методологии исследований. На примере научных публикаций последних лет можно наблюдать, как модифицируются научные подходы к пониманию феномена образования и направления исследований образовательных процессов в социальногуманитарных науках, в частности, в педагогике, психологии, экономике и социологии. В социальной философии и теоретической социологии классические макросоциологические теории, выстроенные по принципу генерализации, игнорирования деталей, конкурируют с качественными подходами, акцентирующими внимание на неповторимости изучаемых феноменов, контекстуальной и ситуативной обусловленности социальных фактов и явлений, избежании каких бы то ни было обобщений, устремлении к спецификационному анализу. Все чаще находят применение междисциплинарные подходы, позволяющие использовать опыт и наработки смежных отраслей знания. В тоже время в социологических теориях среднего уровня, к которым относится социология образования, недостаточная теоретическая разработанность проблем компенсируется обильным использованием иллюстративного материала на основе эмпирических данных. Так, изучая проблемы образования, в отсутствие генерализирующих концепций социологи концентрируются на узких прикладных исследованиях, сосредотачиваясь на изучении отдельных феноменов и процессов, описании частных случаев, решении конкретных практических задач, не уделяя внимания важности построения теоретических обобщений. Безусловно, от этого страдают как уровень проводимых эмпирических исследований, так и социологическая теория, поскольку по отдельности ни разрозненные данные прикладных исследований, ни «оторванные от реальности» макросоциологические теории не всегда могут внести значимый вклад в понимание сущности проблем образования. В ракурсе вышеизложенного проблема формирования интегральной социологической концепции образования, которая позволила бы систематизировать имеющиеся теоретические и практические исследования, остается достаточно острой. Традиционно применяемые для анализа социального института образования структурно-функциональный, институциональный, конфликтологический подходы оставляют за пределами внимания проблемы взаимосвязи структурных компонентов и функций, реализуемых в рамках института образования, соотношение субъективного и объективного в образовательных процессах. Эвристические преимущества применения системного подхода к проблемам образования заключаются в возможности совмещения макро- и микросоциальных измерений социального института образования, а именно, в рассмотрении субъектов 177 образования, структурных и институциональных элементов, образовательных процессов, ресурсов как интегрированной целостности. Системный анализ позволяет учитывать широкий спектр взаимоотношений и взаимозависимостей между внутренними элементами системы образования и внешними факторами, формирующими образовательное пространство, раскрывать действие механизмов компенсации, которые активизируются в условиях нестабильности социума, трансформации институциональной и социально-стратификационной структур общества. Применение системного подхода так же позволяет учитывать влияние внутренних факторов системы образования, которым соответствует микро уровню социальных процессов, индивидуальных когнитивных процессов, коммуникации, идентичности взаимодействующих субъектов. В качестве дополнительного аргумента в пользу актуальности обозначенной проблемы можно отметить, что в социологической литературе недостаточно представлен теоретико-методологический анализ механизмов трансформации социального института образования как системы. В данной статье предпринята попытка раскрыть специфику и особенности функционирования адаптационных механизмов социального института образования как системы в контексте современных социокультурных изменений на основе как существующих в социологии теоретических подходов, так и применения междисциплинарных концепций. Влияние культурных факторов среды на образование, особенности функционирования системы, многообразие моделей достаточно широко представлено в культурологической, исторической, педагогической, социологической литературе (А.С. Ахиезер, А.Я. Гуревич, И.С. Кон, Ю.М. Лотман, С.Л. Рубинштейн, А.А. Пелипенко, В.С. Степин, А.Я. Флиер, И.Г. Яковенко и др.). Чтобы обосновать нелинейный характер социокультурной детерминации функционирования системы образования необходимо и саму культуру рассматривать сквозь призму системного подхода. В традиции парсоновской теории культура является органической средой функционирования общества – структурного измерения социального пространства и личности – субъекта носителя социальных отношений и связей, целью которой выступает интеграция всех социальных сфер. Разрабатывая системную модель общества, Т. Парсонс закрепил за культурой функции сохранения формы и снятия напряженности [1]. Развивая эту идею, сторонник системно кибернетического подхода немецкий ученый В. Бюль рассматривает культуру как способ – инструмент, обеспечивающий функциональную интеграцию разноуровневых элементов социальной организации. Отличительной чертой уникальной системы культуры является отсутствие единого жесткого контролирующего центра равновесия. Подвергаясь воздействиям среды, культура способна переходить с одного уровня на другой, ограничителями флуктуаций системы культуры служат ресурсы – их общий объем. Для адаптационной реакции культурной системы характерно отсутствие ярко выраженных целей. Миссия (предназначение) культуры состоит именно в самом процессе адаптации социума к осуществляемым как внутри него, так и за его рамками изменениями. Высокие адаптивные способности культуры обеспечиваются отсутствием иерархии и четких связей между элементами культуры [2]. Культура - это «система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [3]. Зачастую образование трактуется как вторичный по отношению культуре феномен – производное, частное, подчиненное явление, «в норме представляющее как бы краткое ее изложение, ее выжимку» [4]. Но и сама культура может быть 178 рассмотрена как вторичный феномен, продукт деятельности субъекта культуры – человека, а точнее человеческого сознания. Развитие и формирование личности как полноценного члена общества происходит под контролем системы образования. Система образования реализует культурогенезные функции через развитие сознания субъекта. В свою очередь, образование как социальная подсистема всегда оказывается вписанной в определенную систему культуры. Культура является одновременно и органической средой и продуктом жизнедеятельности человека. Рассмотрение особенностей взаимодействия личности, образования и культуры существенно затрудняет тот факт, что каждый из данных компонентов, в зависимости от угла зрения, может быть охарактеризован и как элемент внешней и как элемент внутренней среды системы образования. Чтобы избежать этой двойственности, можно анализировать функциональные связи элементов в измерениях, которые позволят дистанцироваться от попытки описать завершенную статичную иерархическую модель: временном, структурном (преломление процессов на уровне внутренней структуры каждого из элементов) и деятельностном (с точки зрения целей функционирования, результатов активности каждого из элементов). Обменные процессы системы образования со социокультурной средой можно в целом охарактеризовать как антропогенные нелинейные взаимодействия, целью которых выступает адаптация - поддержание равновесия социальной системы посредством изучения объективных условий действительности и оказании активного ответного воздействия на них через изменение внутренней структуры либо преобразование окружающей среды. Тесные связи элементов культуры и образования делают возможной экстраполяцию культурологических моделей для изучения динамики флуктуаций образовательной системы под влиянием социокультурных факторов. Модель, предложенная В.С. Степиным, ориентирована на описание процессов генезиса культуры. В ней учитывается тот факт, что «программы деятельности, поведения и общения, представленные разнообразием культурных феноменов, имеют сложную иерархическую организацию» [5]. Для характеристики состояния культуры в каждый данный текущий момент времени выделяются три морфологических уровня, отражающих хронологический порядок их становления: реликтовый – сформированный традиционными программами деятельности, актуальный – воспроизводящий сегодняшнюю деятельность и тип общества, и потенциальный образующий программы, генерированные за счет внутреннего оперирования знаковыми системами, цель которых – будущая активность, формирование предпосылок для последующих социальных и культурных изменений. Механизм обеспечения воспроизводства и развития культуры в системе образования можно описать следующим образом. Гибкость и адаптивность системы образования обеспечиваются единовременным отражением в ее элементах и способах трансляции всех трех компонентов культуры - реликтового, актуального и потенциального. Индивид становится социальным субъектом в процессе усвоения надбиологических программ деятельности, социального наследования. Трансформация общества всегда связана с продуцированием новых ценностей и жизненных смыслов. Источником изменений является человек, поскольку внутренняя многослойная структура личности способна обеспечить не только воспроизводство действующих моделей социальной активности, но и продуцирование новых объектов социальной, институциональной, символической природы. «Включаясь в деятельность, благодаря усвоению этих программ человек способен изобретать новые образцы, нормы, идеи, верования, которые могут соответствовать социальным потребностям. В этом случае, они подключаются к культуре и начинают программировать деятельность других людей. Индивидуальный опыт превращается в социальный, и в культуре появляются 179 новые состояния и феномены, закрепляющие этот опыт. Любые изменения возникают только благодаря творческой активности личности» [6]. Традиционные компоненты культуры обеспечивают устойчивость системы и социальное наследование, актуальные для данного этапа развития компоненты культуры будут являться традиционными с точки зрения последующих состояний социума, в то время как потенциальный компонент в случае возрастания адекватности новым социокультурным условиям займет место актуального. Во временном измерении эволюция (трансформация) системы образования может рассматриваться по аналогичной схеме. На каждом историческом этапе элементы системы образования содержат в себе традиционные, актуальные и потенциальные компоненты. На уровне субъектов образования можно говорить о том, что есть носители систем ценностей, моделей взаимодействия, когнитивных систем, соответствующих данным компонентам культуры. На уровне транслируемой информации – можно говорить о наличии определенных «пластов» опыта каждому, из которых присущи свои функции: традиционным – сохранение и поддержание стабильности системы, актуальным – текущая адаптация, потенциальным – «выращивание» продуцирование инноваций. Флуктуации системы образования происходят через усиление и ослабление влияния данных компонентов в данный момент времени. Например, доминирование традиционного компонента в образовании может привести к эффекту «отставания», спровоцировать возникновение кризисной ситуации, разрешение которой потребует уравновешивания путем усиления потенциального компонента. Выбор путей выхода из кризисных ситуаций лежит «на плечах» субъектов образования. Так творческие способности, стремление к саморазвитию, повышение эффективности собственной деятельности будут способствовать разрешению проблемы путем внедрения новых идей, ценностей, практик. Если же личностный, культурный, образовательный потенциал не позволяет генерировать адекватные новым условиям решения – идет возврат к традиционным идеям, ценностям, установкам, ранее доказавшим свою состоятельность. Суммирование данных противоположно направленных сил создает в результате актуальный компонент системы, соответствующий как реальным условиям, так и степени (уровню) развития субъектов. Иная модель - попытка описать весь спектр социокультурных факторов, влияющих на функционирование системы образования, была предложена А.А. Овсянниковым. Он представляет системную когнитивную модель взаимодействия образования и общества. «Система образования – это социальный институт, исполняющий функции по накоплению и передаче новым поколениям людей образцов поведения, знаний, умений, навыков, традиций» [7]. Анализировать механизмы и эффективность деятельности системы образования предлагается через совокупность каналов обмена ресурсами, институциональными элементами с другими социальными институтами и подсистемами. По сути, обрисованная схема представляет собой совокупность основной части структурных, организационных, институциональных элементов системы образования. Согласно концепции А.А. Овсянникова, как система, образование взаимодействует с социальными институтами государства, культуры, семьи, экономики, науки, образования, политики, религии, а также элементами актуальной среды, к которым он относит мировую систему (цивилизации, рынки), природу, этнический потенциал. Взаимодействие описывается через систему «входов» и «выходов» целеполагающих давлений. Выделяются пять групп давления на систему образования: 1) давление потребителей (госзаказ, рыночный механизм спроса, индивидуальные потребности и стратегии, условия доступа к образовательным ресурсам); 2) давление актуальной среды (совокупность ресурсов, институциональная среда, особенности текущих условий жизнедеятельности); 3) давление директивных 180 органов власти (к ним А.А. Овсянников относит законы, указы, политические установки и финансовые ресурсы), 4) давление органов управления образованием (директивы, ресурсы, контроль, информация), 5) давление педагогической студенческой и научной корпораций [8]. Необходимо отметить, что выписанные А.А. Овсянниковым по каждому из блоков давления элементы актуальной среды с точки зрения социологической методологии слабо детерминированы, и происходит смешение понятий разного уровня теоретического обобщения, отсутствуют четкая дифференциация функциональных взаимосвязей. Но есть в представленной системе и безусловный плюс, который поможет в раскрытии проблемы корреляции между наличными условиями жизнедеятельности, потребностью общества в социокультурном развитии и наличествующими моделями, механизмами функционирования образовательной системы. Такой положительной чертой является то, что обозначен наиболее широкий спектр продуктов обмена образования как системы и социума как совокупности взаимосвязанных, взаимозависимых, взаимодействующих подсистем: экономической, политической, культурной, а также прописан механизм изменения – адаптации системы образования. В процессе функционирования система образования испытывает множественные целеполагающие давления со стороны внешнего окружения: среды, потребителей, директивных органов власти, органов управления образованием, и внутренних элементов системы, представленных педагогической, научной и студенческой корпорациями. Ответной реакцией на данные давления – целеполагания, являются пассивные (приспособленческие) и активные (программные, направленные на разрешение проблемных ситуаций) воздействия на данную среду, которые представлены в виде производства, продвижения услуг и продуктов системы образования, воздействий на систему управления и структуры образования, лоббировании корпоративных интересов, формировании и поддержании внутренней регулятивной системы, включающей в себя ролевые и мотивационные структуры, стандарты селекции, правила доступа и распределения ресурсов, посильное участие в решении проблем актуальной среды. Эффективность системы образования оценивается по конечным продуктам – обратным реакциям системы на оказываемые давления. В направленности и степени влияния образования на образующие актуальную среду институты реализуется «социостроительная» задача системы образования – главная задача по созданию и воспроизводству социальных структур, институционального комплекса [9]. Необходимо принимать во внимание тот факт, что образование - открытая система, которая функционирует, вступая в разнообразные отношения с другими социальными подсистемами. Часть возникающих связей и взаимоотношений закрепляется путем институциализации, приобретает организационно-структурные формы, часть взаимосвязей существуют в форме неформализованных практик, моделей взаимодействия, создавая «люфты», необходимые для флуктуации системы под воздействием внешних воздействий и поддержания ее равновесности. В случае накопления изменений как внутри самой системы образования (трансформации структурных элементов, изменения субъектов образования и т.п.) так и интенсификации воздействия внешних условий, внутреннее разнообразие институциональных, морфологических элементов системы образования будет способствовать стабилизации ситуации через динамичную адаптацию к новым требованиям среды, обеспечивая тем самым дальнейшее развитие. Главная сложность описания системы образования состоит в том, что любой из элементов внутренней структуры социального института образования как системы либо внешней среды, представленной образовательным пространством, может быть рассмотрен и как необходимый для функционирования ресурс, и как объект, на 181 который направлена активность, и как конечный продукт деятельности данной системы. Например, на субъект - субъектном уровне образовательной системы ученики и учителя могут быть рассмотрены в качестве внутренних, необходимых для осуществления деятельности человеческих ресурсов, носителей определенных социальных отношений, капиталов, ценностно-нормативных систем. В тоже время, они являются потребителями, заказчиками образовательных услуг и прочих продуктов деятельности системы образования, выступая субъектами уже иных – экономических отношений, и в данном измерении выступают проводниками внешних по отношению к системе образования воздействий среды. И, наконец, в качестве социализированной личности, квалифицированного специалиста, сформированных трудовых ресурсов (производительных сил, человеческих капиталов) субъекты образования – ученики и учителя являются результатом деятельности системы образования. Аналогичную тенденцию можно проследить на уровне институциональном, где сложно четко функционально разграничить и дифференцировать взаимосвязи и взаимодействия социальных субъектов по определенным «полям». Политические институты, в частности, государство в качестве «заказчика» формирует определенную политику в сфере образования, посредством правовых механизмов (законодательной деятельности, стандартизации, сертификации, аттестации и так далее) лоббирует собственные интересы, в целях обеспечения суверенитета, экономической безопасности, и осуществляет функции контроля. В процессе обучения происходит социальное воспитание личности, система образования способствует репродуцированию ценностно-нормативных представлений и посредством формирования систем культурной компетентности оказывает влияние на всю институциональную систему общества. Экономические институты, с одной стороны, на организационном уровне обеспечивают функционирование системы образования. От степени развития и особенностей функционирования экономической системы зависит материальнотехническое, информационное обеспечение образовательного процесса. С другой стороны, система образования закладывает фундамент экономической деятельности через воспроизводство трудовых, информационных ресурсов, технологий, трансляцию и внедрение достижений в области науки. На институциональном уровне образование обеспечивает воспроизводство моделей экономического поведения, традиционных форм хозяйствования, оказывает влияние на формирование мотивационной системы. Если брать уровень метасистемы культуры, то общий объем информации о достижениях человечества в области науки, искусства, технологии, предопределяет как текущие условия функционирования системы образования, так и перспективы ее последующей трансформации, динамику и направленность изменений. С другой стороны, сама система представлений о моделях социальной активности, информация о человеческой деятельности, знания являются продуктами системы образования. Данная особенность системы делает проектирование «статичной» модели образования нецелесообразной и невозможной. Образование соответствует большинству признаков систем, выделяемых как в рамках общей теории систем, так и сторонниками системного подхода в социологической теории. К этим признакам относятся возможность реконструкции объекта посредством дифференциации на «систему» и «среду», целостность, внутренняя структура, эмерджентность, составляющих ее элементов, целеполагание, наличие механизмов саморегуляции и адаптации (оптимизации), устойчивость системы. Использование системного подхода позволяет конкретизировать объект исследования – образование, функционально отделить его от среды, разделить сферы компетенции с другими социальными подсистемами, определить сферы функциональной эквивалентности (совпадение функций системы образования с другими социальными системами, например – функция структурирования социального 182 пространства выполняется также экономической подсистемой, функция воспитания и социализации - семьей и так далее), выделить наиболее жесткие, устойчивые связи, обеспечивающие стабильное функционирование и самореферентность системы (способность к самовозобновлению); проводить анализ как статического, так и динамического состояния системы образования, рассматривать механизмы адаптации в условиях трансформации социального пространства, выявлять внутренние и внешние источники развития, изменения роли и функций образования. В тоже время, говоря о социальных системах различных уровней, нельзя описывать их как замкнутые, закрытые и статичные образования. Многообразие, полифукнциональность, внутренняя гетерогенность элементов социокультурной реальности, обеспечивающих целостность системы образования, не позволяют выписать и структурировать существующие между ними взаимосвязи по степени значимости с точки зрения поддержания устойчивости системы. Для адекватного описания системы образования целесообразно выделить следующие уровни функционирования: личность – как субъект носитель социальных отношений, система образования – как универсальный механизм социального воспроизводства и культура как социальная среда человеческой жизнедеятельности, и рассматривать особенности реализации образовательных функций и акцентировать внимание на специфике преломления процессов на каждом из этих уровней. Подобно другим подсистемам, образование взаимодействует, интенсивно обмениваясь информационными, материальными, человеческими ресурсами, культурными и институциональными объектами с социальной средой. Для поддержания стабильности любой открытой системе требуется наличие эффективных механизмов адаптации к воздействиям среды, изменениям внешних условий. Являясь когнитивной по своей природе системой, образование воспринимает, интерпретирует и отражает в направленности и качестве внутренней структурной трансформации, то есть в своих изменениях, во-первых, динамику и направленность процессов, происходящих в обществе, а, во-вторых, изменения происходящие на уровне индивидуальной, личностной экзистенции социокультурной действительности. Личность, система образования и культура тесно взаимосвязаны и поэтому изменяются синхронно, являясь коэволюционирующими системами. Причем данные процессы находят выражение не только в воспроизводстве актуальных условий действительности, но и в аккумуляции всей совокупности знаний о среде – природе, культуре, социальных отношениях. Это позволяет осуществлять выбор стратегии, поведения в условиях нестабильности, прогнозировать и проектировать будущую активность, адаптироваться на каждом из уровней - как на уровне индивида, так и самой системы образования, и уровне социокультурной системы как целого. Когнитивные способности социальных систем личности, образования, культуры, позволяют им путем увеличения внутренней разнородности выстраивать гибкие механизмы взаимодействия, согласования, координации. Открытость внешним воздействиям системы образования формирует широкое поле взаимодействия, на котором пересекаются интересы, цели общества и личности. Исполняя роль своеобразного буфера, система образования создает разнообразные механизмы – методики, технологии, формы организации учебного процесса, его содержательного наполнения, которые способны удовлетворить текущие и проективные личностные потребности субъектов образования - преподавателя и ученика. Изменение социокультурных условий создает предпосылку для изменений содержания и формы организации процессов образования. Реализация социокультурных детерминант в функционировании образования как социальной системы состоит в том, что любая действующая модель образования обусловлена 183 генетическими потребностями общества в необходимости реализации функции социального воспроизводства через развитие личности как субъекта образования. Ключевой (базовый) системообразующий процесс образования – коммуникация с целью трансляции социокультурного опыта. Влияние социокультурных детерминант на систему образования осуществляется в рамках данного процесса, поскольку именно им обусловлено и ему соподчинено все многообразие отношений, структурнофункциональных связей между элементами, субъектами системы образования. Элементы культуры формируют необходимую для функционирования системы образования символическую среду, которая, с одной стороны, позволяет упорядочивать внутреннюю структуру, регламентировать отношения и связи между субъектами образования, с другой активизирует деятельность системы образования, направленную на изменение, трансформацию, преобразование данных элементов культуры. Язык является основой коммуникации и конструирования, способом обмениваться информацией, выстраивать отношения понимания при оценке действий, событий. Безусловно, невербальные средства несут значительный поток информации, но язык как особая символическая система позволяет аккумулировать и транслировать индивидуальный опыт переживания, обнажать мотивы, создавать резервы для последующей познавательной активности как на уровне субъектов образования, так и способствовать наращиванию потенциала развития самой образовательной системы. В процессе обучения развиваются способности к интерпретации явлений окружающего мира в широком смысле слова: не просто формирование представлений о значениях, стоящих за определенными символами, действиями, событиями на основе интеллектуально–познавательной деятельности, но и развитие ценностного отношения к ним, посредством усвоения социального опыта. В данном ракурсе сама система образования образует поле взаимодействия культуры и индивида, конечной целью которого выступает гармоничное развитие и совершенствование социального потенциала, культурной компетенции личности. Направленность, характер взаимодействия субъектов детерминируется как рядом объективных факторов представленных элементами культурной среды, такими как определенные системы знаний, представления о нормах и правилах, смыслах и ценностях, добродетелях существующих в обществе, так и субъективных факторов, характеризующих степень индивидуального развития субъектов образовательного процесса – преподавателя и ученика. Существующие качественные (уровень социальной и профессиональной компетенции, объем знаний, опыт анализа и применения информации, моральные и этические качества) и количественные (количество лет, потраченных на обучение, опыт работы в определенной сфере, закрепленная в сертификатах оценка уровня подготовленности) различия в объеме культурного опыта, которым обладают субъекты, создают открытую ситуацию взаимодействия, направленность которого будет определяться представлениями об идеальных целях и результатах данного процесса каждого из субъектов. Для ученика высшей школы они будут сконцентрированы вокруг реализации его образовательного потенциала - цели его развития, уровня развития способностей к самопознанию и самообучению, мотивации, представлений о текущих и перспективных задачах деятельности. Для преподавателя – наравне с представлениями о должном результате процесса обучения, ключевых направлениях освоения информации, будут присутствовать, так же представления об оптимальных способах реализации данной цели: методах обучения, методологии и технологиях обработки информации для получения знаний, развития идей. В конечном счете, объектом взаимодействия субъектов образования является именно идея, образец, модель, ценность, которую необходимо освоить в процессе обучения/воспитания, точнее развитие способностей к вычленению данных «зерен» из общего потока информации. 184 Сформированное под влиянием социокультурных факторов, определенным образом организованное и структурированное образовательное пространство задает направленность, вариативность форм деятельности, отношений между субъектами. Педагог и психолог П. Рейманн писал, что «учение не должно отделяться от ситуативного контекста, то есть ситуация, в которой учишься, оказывает сильное влияние на результат получения знания» [10]. Элементы культуры, будучи органично включенными в систему образования, программируют, активно воздействуют как на саму систему образования путем ее качественного изменения, так и на субъектов образовательной деятельности через формирование механизмов селекции, контроля. Социальная значимость образования в культуре, определяемая доминирующей ценностно-нормативной системой общества, варьируется исторически. Любая система образования складывается под влиянием социокультурных условий, и призвана, не только быть механизмом подготовки и отбора индивидов для оптимальной организации, реализации и управления общественными процессами, но и механизмом социокультурной адаптации для индивида посредством удовлетворения потребностей личности в познании и развитии, через обеспечение надлежащих условий для раскрытия потенциала. Реагируя на внешние воздействия, система образования формирует многообразную, разнородную систему согласования социальных и индивидуальных потребностей, мобилизирует разнонаправленные усилия для достижения единой цели - социокультурного воспроизводства социума. Внешними показателями данной активности выступает поступательное совершенствование методов коммуникации и базирующихся на их основе технологий обучения, распространение и закрепление методик, ориентированных на личность обучаемого, особенности его жизненной ситуации (развитие «диалоговых», интерактивных методик обучения, расширение сферы дополнительного профессионального образования без отрыва от трудовой деятельности, нацеленного на развитие навыков самостоятельного получения знаний и так далее), постепенный переход от элитарного к массовому высшему профессиональному образованию, и в настоящее время акцент на развитии навыков самообразования, для совершенствования подготовки и успешной ресоциализации в течение всей жизни. Взаимное влияние социальных подсистем, изменение условий деятельности обеспечивало на разных этапах развития общества преобладание в системе образования разных моделей обучения. Действующие модели отражали функциональную целесообразность системы. Так, например, в эпоху античности в Греции в Платоновской академии была сформирована модель образования, в которой гармонично реализовывались функции социального «гражданского» воспитания, научного познания и разностороннего развития личности. Модель образования древнего Рима отвечала актуальным требованиям формирования правового государства. Основной круг дисциплин был сконцентрирован вокруг подготовки управленческих кадров, неслучайно наибольшее развитие получили правовые дисциплины и риторика. Возникшая в средние века в Европе система высшего образования, также своим становлением была призвана разрешить ряд важнейших проблем эпохи, среди которых можно отметить формирование новых моделей экономического поведения и подготовку квалифицированных специалистов для осуществления функций управления, реализации правовых гарантий интересов экономических слоев ремесленников и бюргеров [11]. Современное состояние условий жизнедеятельности и динамика социальных процессов выдвигают ряд требований к системе образования в плане поиска новых организационно-управленческих форм, качественного пересмотра содержательного наполнения образовательного процесса. Проблема культурной 185 сообразности системы образования встала наиболее остро на рубеже ХХ – ХХI веков. Интенсивные процессы модернизации и информатизации затронули практически все сферы общественной жизни. Трансформация экономической системы сопровождается становлением новых соответствующих ей социальных отношений и институтов, наблюдается ускорение темпа и рост интенсивности социальных процессов. Философы, социологи, экономисты заговорили о кризисе индустриальной культуры (цивилизации, социума) и зарождении новой постиндустриальной, информационной культуры (Д.Белл, Дж.Гвишиани, О.Тоффлер, Г.Шиллер, М.Кастельс, Э.Гидденс, Ю.Хабермас, У.Бек, Ж.Бодрийяр и др.), и увязали этот кризис с возрастанием роли знаний, изменением способов трансляции и применения информации - теоретическое знание начинает играть ключевую роль в экономической, политической сферах. Возникают качественно новые отношения между экономическими структурами наукой и технологией: кодификация теоретического знания, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологических новаций выступают залогом развития и процветания общества. В сложившихся условиях система образования принимает новые вызовы, связанные с изменением ее роли в процессах социальной адаптации людей. Культура как система макроуровня содержит в себе информационные структуры (состоящие из разнообразных символов, кодов), которые обеспечивают процессы воспроизводства, управления, саморегуляции, стабилизации социума. Поскольку образование выполняет функции посредника коммуникации, трансляции и поддержания многослойной системы культурных символов и норм, структурные и институциональные элементы системы образования должны соответствовать морфологическим и эпистемическим параметрам культуры, выступающей по отношению к образованию в качестве среды или мета-структуры, одной из подсистем которой является система образования. Доступность информации в современном мире создала иллюзию доступности знания, сделала процесс обучения более формализованным. Система образования не успевает адаптироваться. Информационно-технические средства и средства массовой коммуникации, позволяющие в мгновенья получить необходимую информацию, доминируют (лидируют) в процессе социализации и формировании взаимосвязей личности с окружающим миром. В случае, когда компоненты системы образования (структурные, институциональные) не соответствуют либо противоречат действующим ценностям и нормам культуры, имеет место кризис – нарушение баланса между условиями действия систем, ресурсами, необходимыми для поддержания стабильности. Потенциально данная ситуация нестабильности имеет два выхода. Первый исход состоит в следующем. Поскольку система образования выполняет функцию культурного изменения, которая заключается в генерация новых идей и знаний, технологий, воспроизводстве и обеспечении поступательного развития нормативно-ценностной структуры общества, накопление опыта (в широком смысле слова) может дать толчок развитию: эволюции (постепенному количественному изменению – росту инновационных моментов, который приводит к переходу в качественно новое состояние - развитию) или трансформации (качественному перерождению структурных элементов, с последующим изменением внутренних и внешних взаимосвязей и зависимостей) действующей системы. Тогда изменения в сфере образования и функционально связанной ней сфере науки могут послужить «первыми ласточками» более глубоких и кардинальных социальных и культурных изменений (здесь разводятся социальные как изменения социально-стратификационной структуры, социально – экономических, социально - политических отношений, а 186 культурные понимаются как изменения нормативно-символической среды – основы институциональной системы общества). Второй исход связан с проблемой соответствия системы образования накапливающимся изменениям в других сферах общественной жизни. Выступая посредником в коммуникативных процессах между обществом и личностью, система образования должна отражать актуальную ценностно-нормативную структуру, с тем, чтобы помочь индивиду моделировать, направлять свою активность, формировать цели своей жизнедеятельности. Если транслируемая информация носит «устаревший», «традиционный» - не соответствующий новым условиям жизнедеятельности и народившимся социальным практикам - характер, то система образования может блокировать поступательное развитие, служить своеобразным ингибитором культурноэволюционных процессов. В настоящее время система образования не способна удовлетворить потребности социума в трансляции новых ценностных ориентиров. «Пальму первенства» в данном направлении перехватили средства массовой коммуникации – динамизм процессов передачи, объемы обмена информацией, развитие технических средств, доступные формы кодировки и представления информации, ценностный плюрализм, свойственный современным СМК, в гораздо большей степени соответствует новому содержанию культуры, нежели консервативные модели, представленные образовательными системами. Даже в плане оказания индивиду помощи в преодолении функциональной неграмотности (т.е. нехватки опыта и знаний, необходимых для успешного осуществления повседневной деятельности, например такой, как умение ориентироваться на местности, голосовать, обращаться за различными видами помощи в государственные службы и т.д.), средства массовой коммуникации оставили систему образования далеко позади. Можно наблюдать попытки системы адаптироваться. В последнее время в высшей школе появляется множество новых форм организации учебного процесса, связанных, прежде всего, с отдалением системы высшего профессионального образования от государства. Во всем мире наблюдается тенденция к усилению автономии учебных заведений, как в экономическом плане, так и в вопросах кадровой политики, содержательного наполнения программ. Растет количество альтернативных (классическим) образовательных учреждений и организаций – всевозможных институтов, академий, университетов, развиваются направления специализированных международных образовательных программ, предоставляющих более гибкие условия получения образования, закладывающие основы для получения непрерывного образования на протяжении всей жизни, а также способствующие интенсификации профессиональной мобильности населения – программы профессиональной переподготовки, МВА и так далее. В традиционных учебных заведениях поощряется внедрение «авторских», инновационных, экспериментальных программ и методик обучения, все более активно используются в образовании технические средства обучения (оргтехника, компьютерные сети, проекторы), позволяющие использовать современные информационные технологии (прежде всего - программные средства) для решения учебных задач. Все эти изменения имеют своей целью создание целостной системы знания, которая сформировала бы новую, адекватную социокультурным условиям рациональность, мировоззрение нового типа, обеспечивающее реализацию социальноориентирующей функции в динамично изменяющихся жизненных ситуациях. Но это лишь одно из проявлений попытки системы образования адаптироваться, определить направления последующей трансформации, заложить основы новой модели образовательного пространства, чуткой к изменениям социокультурных условий. Другим индикатором кризиса адекватности системы образования 187 социокультурным условиям может выступать отсутствие четких приоритетов, ориентиров в направлении дальнейшего развития функциональных взаимосвязей системы образования и других подсистем и социальных институтов, в частности экономики, государства, идеологии. Путем увеличения содержательного и структурного многообразия система образования не только пытается приспособиться, но и усилить собственное влияние на ход и направленность трансформационных процессов в обществе. Например, изменения организационных форм учебного процесса, с одной стороны, нацелены на устранение коммуникационных барьеров между преподавателями и обучаемыми, а с другой, призваны увеличить ликвидность приобретаемых человеческих капиталов в условиях глобализации, то есть увеличить потенциальные возможности для социальной мобильности не только для отдельных индивидов, но различных профессиональных групп, и посредством этого расширить сферу влияния образования как системы на другие подсистемы общества. В конце ХХ века многие страны мира осуществляли попытки реформировать системы высшего профессионального образования по сходным направлениям: расширение доступа к высшему образованию, формирование системы непрерывного образования на протяжении всей жизни, усиление многообразия предлагаемых форм организации учебного процесса и методик обучения, ориентация на личность обучаемого и его потребности, формирование партнерских отношений между педагогом и учащимся. В российской и зарубежной периодической, научной печати встречаются дискуссии относительно наиболее острой проблемы системы высшего профессионального образования на современном этапе – проблемы сокращения периода амортизации знаний (устаревания) и их ликвидности. И разрешение данного вопроса лежит за пределами технического оснащения учебного процесса и экономических проблем, стоящих пред учебными заведениями. Ключ к проблеме содержится в рассмотрении целостной интегральной модели социальной системы образования в контексте культуры. Исходя из предложенной выше модели «личность – образование – культура», с учетом описанных моделей взаимной адаптации систем, можно увидеть выход из сложившейся кризисной ситуации в сохранении целостности образования как социальной системы через расширение возможностей осуществления выбора для субъектов образования, за счет увеличения многообразия внутренней структуры – расширения спектра образовательных услуг, развитие методик ориентированных, прежде всего, на овладение методами познания, развитие коммуникативных навыков, а также привитию ценностей и моделей поведения, способствующих формированию адекватной требованиям среды мотивации у субъектов образовательной системы (здесь в основном речь идет об обучаемых, поскольку именно изменение объема, структуры, качественной составляющей его культурной компетенции является целью образовательного процесса). Такая направленность учебного процесса, даже в динамично меняющихся современных условиях, способна повысить эффективность функционирования системы образования. Мотивация личной самореализации в совокупности с навыками самообразования и исследования позволят специалистам с высшим образованием более эффективно проходить этапы ресоциализации и адаптироваться в новых обстоятельствах. Основные задачи преподавателя в высшей школе будут формироваться вокруг в адаптации массива информации к интересам, целям, устремлениям учащихся, через поиск новых форм коммуникации, учитывающих многообразие как факторов социокультурной среды, так и проявлений внутренней многослойной структуры личности, которая, безусловно, оказывает влияние на избрание образовательной стратегии, а, следовательно, и на эффективность протекания адаптационных процессов. 188 Список литературы: 1. См. Парсонс T. Система координат действия и общая теория систем дейтсвия: культура, личность и место социальных систем// Американская социологическая мысль. - М.: Изд-во МГУ, 1994, С.448-464. 2. См. Рой O.M. Исследование социально-экономических и политических процессов. - СПб.: Питер, 2004. С. 75-77. 3. Степин В.С. Культура// Новейший философский словарь. – Мн.: Изд. В.М. Сакун, 1998, С.344. 4. Марру А.И. История воспитания в античности (Греция) – М.: Греко-латинскимй каб. Ю.А. Шичалина (пер с фр.), 1998, С.11. 5. Степин В.С. Культура// Новейший философский словарь. - Мн.: Изд. В.М. Сакун, 1998, С.345. 6. Там же, С.346. 7. Овсянников А.А.Система образования в России и образование России// Мир России, 1999. - № 3. - С. 76. 8. Там же, С. 79. 9. Там же, С. 76-86. 10. Цит. по Шван Г. Информационный банк или формирование граждан? Будущее университета // Университетское управление, 2001. - №2 (17). - C. 69-78. 11. Захаров И.В., Ляхович Е.С. Миссия университета в европейской культуре. - М., 1994. - С.201. EDUCATION IN SOCIAL AND CULTURAL EXPANSE: SYSTEM APPROACH K.Y.Korolyova1), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya str., 78, Belgorod, 308600, e-mail: [email protected] The article is devoted to the theoretical analysis of education in cultural expanse. Changing conditions of social reality put requests for new methodological approaches to social research. Traditionally social institution of education is considered in the frameworks of structural functionalism, human capital and conflict theories. Implementation of system approach provides better possibilities for combining macro and micro structural dimensions in educational institution research, to be exact, for considering subjects of education, structural and institutional elements, educational processes, resources as an integral entirety. Besides system methodology gives an advantage to take into account the wide range of exterior factors that organize educational space, and it also helps to reveal an impact of the compensation mechanisms that become active in circumstances of social instability, and also of stratification and institutional structures transformational processes. Key words: education, system approach, sociocultural determination 189 УДК 316.74 ЭКОЛОГИЯ ИМЕНИ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ Д.А.Кулабухов1), М.А.Кулабухова2), 1) 2) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 С незапамятных времен имя является мельчайшей, приобретающей подчас свой потаенный смысл единицей передачи информации. Сохранившись в периоды кризисов и потрясений, имя как знак стало универсумом экологии культуры, способным обеспечить естественное развитие ноосферы как сферы разума, добра и красоты. В век революций и мировых войн, а затем в эпоху стремительного создания информационных систем имя становилось обладающим определенной репутацией знаком, средством воплощения и отражения культуры нации и цивилизации, вечной антиномичной константой, с одной стороны, подобной таким, как Земля, Огонь, Вода, Воздух, Дерево, Дом, Город, Дорога, Мать, Человек, с другой стороны, их называющей. По мнению авторов данной работы, имя - это не только уникальный способ словесного обозначения, а значит и сохранения всех явлений бытия, но и в пространстве самой культуры, в творческой лаборатории художника - средство отражения культуры нации, уникальный способ типизации, создания обобщенных образов, нациологем. С незапамятных времен имя является мельчайшей, приобретающей подчас свой потаенный смысл единицей передачи информации, той одной социокультурной данностью, которая, как гласит текст загадки, «всем нужна». Постепенно личное имя (синонимы: рекло, назвище, прозвище, название, прозвание, проименование), первоначально «служащее для обозначения отдельного человека и данное ему в индивидуальном порядке для того, чтобы иметь возможность к нему обращаться, а также говорить о нем с другими» [1, 4], приобретало свою историко-культурную репутацию, особый сакральный смысл, становясь константой культуры, феноменальным знаком ноосферы как сферы разума, добра и красоты, как воплощения нравственно-ценностной парадигмы. Каждая эпоха нашла свое теперь уже узнаваемое отражение в именослове, где и знаки далекой старины: Бажена, Богдан, Болеслава, Борислав, Бронислава, Велимир, Велислав, Влада, Власта, Всеслав, Голуба, Горазд, Горислава, Любава, Любомир, Рада, Храбр, Чеслава [1], - и знаки Страны Советов: Авангард, Баррикада, Большевик, Герой, Красноармия, Ленина, Мироктябрь, Октябрина, Полярий, Рев и Люция, Револен, Серпимолот, Сопромат, Сталина, Тракторина, Трибунал, Чельнальдина (2). Не исчезнув даже в периоды кризисов и потрясений, революций и мировых войн, в эпоху массового истребления человека (каким стал ХХ век), имя как знак культуры стало универсумом ее экологии, способным сохранять культуру народа и человечества, вечной антиномичной константой, с одной стороны, подобной таким, как Земля, Огонь, Вода, Воздух, Дерево, Дом, Город, Дорога, Мать, Человек, с другой стороны, их называющей, а потому превалирующей над ними, тем более во времена стремительного создания информационных систем, в основе функционирования которых значительную роль выполняет именослов. Имя - это не только уникальный способ словесного обозначения всего сущего, сохранения всех явлений бытия, но и - в пространстве самой культуры, в творческой лаборатории художника - средство отражения культуры нации, уникальный способ типизации, создания обобщенных образов, нациологем. Так, особым сакральным знаком, обозначающим ведущие качества человека, его самобытную национальную сущность, принадлежность как к определенному времени, культуре, государству, так и к бытию, космосу, становится имя в произведениях отечественного искусства ХХ в.: например, 190 мать человека, историю жизни которой, и праведницы, и грешницы, запечатлевает в фильме «Зеркало» А.Тарковский, должна быть названа (и не только по аналогии с именем матери кинорежиссера) Марией. Отсутствие же имен, которые заменены «нумерами», в романе-антиутопии Е.Замятина «Мы» мотивирует появление послушного и пассивного «мы» (в котором угадывается безликая, серая, страшная масса, толпа), как и наличие псевдоимени – такого нового и безликого, как Полиграф Полиграфович (герой повести М.А.Булгакова «Собачье сердце», «новый человек», появившийся на свет в православное Рождество, но взявший себе имя в честь вымышленного «святого», а также Дня полиграфиста) – знак дьявола. В творчестве практически каждого художника имя - один из уникальных способов отражения, осмысления истории и воплощения национальной культуры, свидетельства чего находим в знаковых произведениях культуры ХХ века – романах И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» и М.А.Булгакова «Белая гвардия». В русской литературе отношения И.А.Бунина и М.А.Булгакова столь необычны, сколь неповторимы их индивидуальности и судьбы. Родство двух писателей, принадлежавших к разным поколениям дворянско-интеллигентской России, проявляется в близости мироощущений и мировоззрений, в почти одновременно высказанных этими авторами единодушных оценках социально-политических, социально-культурных событий и явлений. Двух никогда не встречавшихся мастеров слова сближает их единомыслие, отразившееся в трагический период порубежья в лирико-философском осмыслении действительности, в уникальных по жанровой природе, непохожих произведениях – романах «Жизнь Арсеньева» и «Белая гвардия». Истории человека и семьи в романах Бунина и Булгакова пересоздаются в истории типичных по отношению к авторам современников, жизнь которых совпала с катастрофичным началом ХХ века. Это оказывается возможным благодаря художественному вымыслу, мера которого, в зависимости от индивидуальности писателя, его принципов, замысла, может меняться, тем не менее, он, вымысел, всегда остается в произведении средством типизации, рождения - на основе извлечения из суммы реально данного основного его смысла - «живого» художественного образа. Особым средством отражения культуры нации, уникальным способом типизации, создания обобщенных образов, лишенных по воле автора многих биографических черт, является выбор имени, которое, как правило, подчеркивает то или иное типическое качество, указывает на общее значение, социокультурную роль вымышленного героя, нередко только отчасти связанного со своим прототипом. Имена героев романов Бунина и Булгакова, безусловно, выбраны далеко не случайно. Подчеркивая некий мессианский характер своих главных героев, «обреченных» судьбой и авторами романов на созерцание и осознание причинно-следственных связей жизни государства и человека, писатели вполне осознанно, на наш взгляд, наделяют их одним из самых распространенных и любимых в России имен, которое носили один из первых царей династии Романовых (Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим) и его потомок, убиенный в 1918 г. наследник престола Российского, а также один из знаменитой троицы «молодых» богатырей, едва ли не самый среди них мудрый, Алеша Попович и чрезвычайно популярный в православной державе Божий человек, житие которого было известно повсеместно. Имя Алексей (греч.), буквально означающее «защитник» [3, 17], по нашему мнению, позволяет Бунину не просто в очередной раз указать на несовпадение между автором и героем его произведения, но и обозначить национальную, социально-культурную принадлежность, истинную общерусскость выдуманного героя-рассказчика, который в летописи «душевной жизни <…> начиная с младенченства, первых смутных впечатлений, до юности, исполненный самых поэтичных и самых тревожных дум и чувств» [4], защищает неразрывную связь человека с его корнями, истоками, близкими и далекими людьми, Россией и в итоге доказывает извечное значение нравственных основ бытия, власть его неписаных законов, защищая право 191 человека на жизнь и смерть, радости и горести, открытия и потрясения, на любовь и земное счастье. Булгаков нарекает старшего Турбина Алексеем не только в романе «Белая гвардия», но и в пьесе «Дни Турбиных». И офицер, врач Алексей Турбин в романе, и кадровый военный, полковник Алексей Турбин в пьесе предстают как типичные защитники старой России, Городов и Домов ее, не просто исполняющие приказы, достойно следуя своему долгу, но и глубоко осознающие свое предназначение и ответственность за судьбы близких людей, соотечественников, которые безраздельно вверяют Алексею (врачу — больные, командиру — подчиненные) в пору хаоса и неверия свои настрадавшиеся тела и души. Очевидно, ведущая — защитная — функция Алексея, героя романа Булгакова, предопределяет его чудесное спасение, ставшее наградой за его незлобивость, милосердие и грядущее избавление страждущих от мировых зол. Выбор имен возлюбленных героев двух романов также предопределен и мотивирован потребностью авторов создать обобщенный образ всегда пленительной, притягательной и зачастую недосягаемой женщины, играющей в судьбе мира и человека роковую роль. Так, имя любимой Алеши Арсеньева - Гликерия, означающее «сладкая» (3, 36), во многом предначертывает, предваряет неизбывное влечение к этой женщине героя романа, демонстрирует желание Бунина создать идеальный образ земной женщины, утрата которой — даже в слове — вызывает неистребимое чувство горечи, оттого что герой «такую силу любви, радости <…> такую телесную и душевную близость <… > не испытывал ни к кому никогда» [5]. Имя порочной, таинственной, черноглазой спасительницы Алексея Турбина Юлии заведомо использовано Булгаковым, который, избегая имен первой и второй собственных жен: Татьяна и Любовь, — пытается обозначить двойственную природу женщины: благословенной и демонической. «Светлые завитки волос и очень черные глаза» [6, 342] принадлежат загадочной женщине, «относящейся к роду Юлиев» [3, 125], окруженной огнем, разожженным ею в печке, золотом эполет в романах, светом «сальной свечки в шандале» [6, 362], непостижимой, непохожей на других, и потому особой царственной и недосягаемой. Достаточно мотивирован и авторский выбор имен близких Арсеньева и Турбина, зачастую не связанный с именем прототипа того или иного героя. Так, создавая пленительный, родственный образам матери и Бунина, и Арсеньева, всепрощающий, чадолюбивый образ матери своих героев, Михаил Булгаков вполне осознанно отказывается от следования биографическим данным. Писатель считает мать Турбиных уже покойной, тогда как Варвара Михайловна Булгакова в описанную в романе пору счастливо выходит замуж. Описывая физическую смерть матери Турбиных, Булгаков, по нашему мнению, и выражает свое неприятие нового брака Варвары Михайловны, и обозначает извечную, непреходящую потребность каждого в матери, называя «светлую королеву» [6, 179], образец милосердия и вселенской любви Анной Владимировной. Данный пример имянаречения красноречиво доказывает стремление писателя обозначить как типичные материнские качества (а в переводе с древнееврейского Анна означает «милость, благодать» [3, 20], так и особую ее религиозность, связь не только с предками, но и с небесным покровителем Города Владимиром. Вполне естественен, по нашему мнению, выбор имен сестер и братьев героев романов Бунина и Булгакова. Избавляющийся от автобиографических деталей, Бунин в своем итоговом романе отказывается от использования подлинных имен своих родных сестер (Мария (восточносл., «любимая») [3, 71] и Александра (греч., «защитница») [3, 17], обращаясь к именам Ольга (сканд., «святая») [3, 83-84] и Надежда (рус., «надежда») [3, 79], благодаря значению которых автор, описывая детство, самые безмятежные дни человеческого существования, подчеркивает на эзотерическом уровне святость, безгрешность, беззаботность первого, и едва ли не самого счастливого, периода человеческой жизни. 192 Парадигму имен близких Арсеньева и Турбина могут продолжить имена «Георгий» (греч., «земледелец») [3, 35) и «Николай» (греч., от сочетаний слов со значениями «победа» и «народ») [3, 8]), которые в романе Бунина являются и наиболее распространенными, в отличие от имен братьев Бунина «Юлий» (лат., римское личное и родовое) (фамильное имя) [3, 124] и «Евгений» (греч., «хорошего рода, благородный») [3, 41], и способами максимальной типизации образов молодых дворян (любопытно, кстати отметить, что брат Арсеньева Георгий-«земледелец», народоволец, борец за счастье тех, кто возделывал землю (Курсив наш.- Д.К., М.К.), заведовал в Полтаве земской статистикой). Булгаков, сужающий круг близких Турбина, ограничивается созданием образа младшего брата, которого, как и одного из своих родных братьев, в романе назвал Николаем. Юный Николка является типичным юным защитником народа, уверенного лишь в победе, что доказывает осознанный выбор автором имени того, кто на самом деле ради общей идеи и победы (Николай — «побеждающий» [3, 1]), скорее всего погибнет. Отношение к героям романов конкретизируется посредством наделения их распространенными именами, имеющими вполне определенные и вполне соответствующие их носителям значения. Ничем не примечательный, хитрый и трусливый муж Елены Турбиной Сергей Тальберг носит «римское родовое (фамильное) имя» [3, 9]), как, соответственно, и родовые черты прибалтийских немцев. Обладатель поцарски величественного голоса, бывший лейб-гвардии уланского полка поручик, давний блестящий воздыхатель Елены Шервинский, безусловно, должен обладать царским, львиным именем «Леонид» (что по-гречески означает «подобный льву») [3, 6], которым и удостаивает своего героя Булгаков. Окопный офицер Мышлаевский, абсолютно уверенный в своей правде и временности хаоса, за которым неизбежно наступит порядок, не может именоваться иначе, чем Виктор — «победитель» [3, 29]. А вот предтеча большевизма Шполянский, в отличие от своего прототипа Виктора Шкловского, назван Михаилом, что по-древнегречески значит «равный Богу» [3, 7]), тогда как «мерзости в нем как в тысячелетнем дьяволе» [6, 416]. Таким образом, Булгаков, вероятно, пытается представить обобщенный тип двуличного человека, зачастую скрывающегося за внешней — обманчивой — маской приличий. Но обычно имя героя прямо отсылает нас к его ведущему — довольно типичному, распространенному качеству. Например, Ирина НайТурс в романе Булгакова, как и ее имя Ирина, действительно несет «мир» [3, 54], успокоение, а ее брат Феликс Най-Турс, чье латинское имя истолковывается как «счастливый» [3, 110], действительно счастлив, как офицер, командир, защитивший отступивших по домам юнкеров-мальчишек, оттого «значительно стал радостнее и повеселел в гробу» [6, 407]. В романах Бунина и Булгакова, имя, эта, по мнению П.А.Флоренского, «тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность», становится не социальным знаком, выделяющим человека как отдельную личность, а эстетическим, философским фактором избавления судьбы героев от биографических подробностей жизни их прототипов, служит духовным знаком, обозначающим качества личности, парадигму духовно-нравственных ценностей, особенности истории народа и вероисповедания каждого из его представителей, принадлежность человека к эпохе, государству, равно как и к бытию, космосу. В пространстве культуры эта «тончайшая плоть» (П.А.Флоренский) выступает как одна из составляющих Космоса, как фактор сохранения «нравственной оседлости» (Д.С.Лихачев) личности и народа, как константа жизни каждого человека, нуждающаяся в сохранении, как и сама культура. Cписок литературы 1. Суслова, А.В. О русских именах / А.В. Суслова, А.В.Суперанская. - Изд. 2-е, испр. и доп. – Л.: Лениздат, 1991. – 220 с. 193 2. Мезенцев, Р. Идеологические имена / Р.Мезенцев // Родина. - 1992. - №№ 11-12. С. 116 - 117. 3. Федорова, М.В. Русские имена в XX веке. Краткий словарь / М.В.Федорова.Белгород, 1995.- 128 с. 4. Крутикова, Л.В. "Жизнь Арсеньева" - итоговая книга И.А.Бунина / Л.В.Крутикова // Бунинский сборник (Материалы научной конференции, посвященной столетию со дня рождения И.А.Бунина).- Орел, 1974.- С.28. 5. Бунин, И.А. Собрание сочинений: В 9 т.- М.: Художественная литература, 19651967.- Т. VI.- С. 288. 6. Булгаков, М.А. Собрание сочинений: В 5 т.- М.: Художественная литература, 1989-1990.- Т.I. – 623 с. THE ECOLOGY OF NAME HOW FHENOMEN OF CULTURE D.A. Kulabuchov1), M.A. Kulabuchova2), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya str., 78, Belgorod, Russia, 308000 Belgorod State University, Studencheskaya str., 14, Belgorod, Russia, 308000 2) Name is a way of information transfer. Going through the periods of crises and upheavals, name became such thing of culture's ecology, that could provide development of sphere of intellect, kindness and beauty. During the ages of revolutions and world wars, and the during the epoch of quick creation of informative systems, name has being become a sign, a mean of creation and reflection of nation's and civilization's culture, such things as Earth, Fire, Water, Air, Tree, Home, Town, Road, Mother, Man. In authors' opinion, name is not only a unique way of word signification and preservation of all life phenomena, but it is a way of reflection of national culture, it is a unique way of creation of general images. 194 УДК 316.723 ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ПОСТИЖЕНИЯ РОМАНТИЗМА В ОСМЫСЛЕНИИ ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ МИФА И МУЗЫКИ КАК ГНОСЕО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ А.В. Михайлюта1), А.Н. Мошкин2), 1) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 2) Белгородский государственный университет, 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14 Статья посвящена выявлению закономерностей, отражающих динамику формообразования основных парадигм философского анализа процесса постижения человеком мира при гносео-аксиологической реконструкции философско-романтического концепта в осмыслении идейно-эстетических традиций мифа и музыки. Ключевые слова: парадигма, романтизм, миф, музыка, гносеология, аксиология, концепт. Введение Анализ как мыслительная процедура разложения целого на части и обусловленная им дифференциация процесса освоения человеком мира представляют необходимый компонент в структуре познавательной деятельности. Однако подобное ограничение не позволило представить в философии вопросы теории романтизма как многогранного явления в строго однозначном разрешении. Уже с начала формирования романтизма как художественного метода и философского направления намечается тенденция в качественном разнообразии принципов построения и развития философско-романтического концепта у представителей различных течений романтизма. Вместе с тем, увлеченность аналитической составляющей, характерная для европейской культуры, начиная с XVII века, выразившаяся сперва в идее автономной философии и далее в превращении науки в самодостаточную сферу с последующим ее делением на все более узкие и специализированные области, оборачивается утратой целостного взгляда на мир и забвением главной цели любой деятельности – раскрытия человеческого в человеке. «Культура есть язык, объединяющий человечество» [1], и не случайно проблемы философии, мифа и музыки, в отдельности занимавшие умы мыслителей в разные периоды человеческой истории, находится сегодня в центре внимания своей взаимосвязи, ведь осознание необходимости конструктивного диалога в этих сферах человеческой деятельности является общей тенденцией изменения глубинного содержания познавательной проблематики в современной духовной культуре самого понимания природы и предмета философии. «В последнее время в философской литературе новую парадигму философствования стали называть самоутверждающей, аффирмативной (от лат. Affirmation – утверждать). Деятельность людей все более происходит в созданном ими же очень сложном мире, где нельзя провести четких различий между субъективным и объективным» [2]. Из-за этого часто действия в желаемом направлении, ведут к непредсказуемым результатам, опровергающим задуманное. Исторически романтика как изначальная базовая «интенциональная форма» постижения, обладая, по сути, статусом «эпистемы» предполагает цельное, дорефлексивное «схватывание» мира (в модусе «естественной точки зрения» на бытие – бытие сущего) в повседневной жизни. Романтика выражается в определенной душевно эмоциональной настроенности отдельной личности, в стремлении к некоему идеалу в отрицании статичности повседневного бытия. Стало быть, постижение здесь скорее оказывается еще не «процессом внутри» человека, а предшествующим всякой рефлексии способом действия в мире. В силу принципиальной открытости спонтанным динамическим (качественным) изменениям, повседневное постижение непредсказуемо 195 и не может быть адекватно формализовано, а также не может быть опосредованно каким-либо «уже имеющимся» знанием о мире. Однако, само постижение такого типа возможно благодаря укорененности постигающего человека и человечества в целом в непредсказуемое взаимное созидание человека и мира, вовлеченности человека в процесс актуального осуществления бытия. Таким образом, романтику относят и к отдельным принципам восприятия действительности как устремленность в определенную перспективу, как мечта об идеале прекрасного – порыв к свободе человеческого духа от сковывающих условий бытия. В данной связи немецкий романтизм, сформированный на этих принципах вызывает познавательный интерес современников к тому, что еще не воплощено в жизни в виде готовых произведений искусства – процессам творчества, в которых романтики переживают «разорванность» жизни в современном им обществе. Подобные переживания у романтиков обычно связаны с некоторым идеалом в жизни, чувственно воспринимаемым, но в полноте своей строго не рационализируемым – внутренним миром человека. Поэтому чувственность становится перманентной по отношению к разуму, определяя базовую интенциональную форму «восходящим» вектором своего изменения, поскольку пользуется синтетическими художественными образами, сконструированными по законам мифологического жанра без стеснения строгой рациональностью мышления. Противоречивость феномена романтизма такова, что обнаруживает диалектическую природу в простирающем своем эстетическом, идейно-философском влиянии до наших дней. Осмысление данного влияния на такие сферы человеческой деятельности как миф и музыку представляет актуальный не только теоретический интерес в исследовании происхождения и сущности музыки, но и, прежде всего, духовно-практический интерес. В современной культуре сознательно используют символику традиционных и современных мифологических систем. Данное обстоятельство указывает и на то, что накопленные философско-культурологические и гуманитарные идеи в исследовании мифосознания не потеряли своей актуальности и репрезентативности. Таким образом, мифологическое мышление переживает века. «Миф проходит через всю историю человечества. И не собирается исчезать» [3]. Между мифологическим сознанием и сознанием более поздних эпох нет разрыва, провала. А современный познавательный интерес к подобным культурологическим и гуманитарным идеям позволяет проводить исследование мифологии в измененном культурном контексте как конструктивного образа, присущего зрелым стадиям культуры. А. Ф. Лосев обнаруживал особую логику мифомышления [4]. Вместе с тем, понимание того, что «миф полон всякого рода аффектов, эмоций» [5], не позволяет нам рассматривать мышление только как рассудочный, исключительно «холодный», абстрактно-понятийный процесс. Особенность мифомышления по отношению к рационально-дискурсивному способу мышления состоит, прежде всего в том, что в нем абсолютно преобладают не «связи истинности» (отношения субъектных представлений к их предметному содержанию), а внутренние связи между аналитически неразложимыми концептуальными фрагментами мифа повествования, что и порождает господство в нем ассоциативного способа упорядочивания мыслительного материала. Мифологическое мышление есть человеческое мышление. Мифологическое сознание есть основание всей человеческой культуры, мышления, логики. Это не теоретическое и не научное сознание, хотя рациональный уровень отражения здесь присутствует. Миф есть чувственное сознание, которое имеет логику своего порядка. Мысль и чувство – две области сознания человека, гармония которых всегда была высшим идеалом человека. Чувства – язык природы, шифром к которому отнюдь не являются слова. Но именно эмоциональная составляющая в слове ориентирует нас не на объяснение, а на понимание. Зачастую фонетическая сторона слов играет роль в 196 большей степени, чем их значение, ибо позволяет нам почувствовать смысл, который нам видится в отношениях, связях между событиями и их выражениями [6], а потому способ выражения, задающий тип языка может быть любым. Основными типами языка, с помощью которых романтики наиболее адекватно выражают свои идеи, определяющие основной принцип восприятия, первоначально обусловленный в различных мифах, являются музыка и поэзия. И поскольку все происходит на границе между вещами и предложениями, стало быть «понимание посредством слов означает осуществление попытки раскрытия внутренней природы вещей, сущего» [7]. Сущее едино и его многосторонность представляется нам в обыденном языке как нечто устойчивое, целое. Но даже эмоционально-окрашенная диалогическая речь не может адекватно представить целостность романтического чувства, ибо по строю своему призвана расчленять представления, то есть быть члено-раздельной. В этом основной способ и главная трудность передачи представления: мы фиксируем отдельные стороны единого, противопоставляя их друг другу, превращаем единое целое в ряд обособленных элементов. Именно поэтому, особенно в немецком романтизме любое мыслевыражение выражает не мысли, а только лишь их обусловливание. Философия взяла от мифа то, что поддается рационализации и, вместе с тем, лучшие умы Греции признали, что подлинная мудрость человеку недоступна. Иными словами, философия понимается нами как открытое и свободное трансцендирование мысли. Немецкие романтики заключали ее смысл скорее не в том, чтобы обладать истиной, а в «бытии к истине» – перманентная рефлективность, за пределами которой остается только область последней тайны бытия, постижимой уже не только с помощью автономного разума. Один из способов такого опосредованного понимания предполагает описание образов вещей, независимых друг от друга, однако парадоксально единых в своей противоположности. Опосредованное, значит посредством чего-либо, в свете иного – просветленного сознания. Поэтому смысл образов в таком состоянии сознания всегда двойной, исключающий возможность наличия только формального «здравого смысла» с его причинно-следственной логикой. Такая двусмысленность всегда обусловлена раздвоением цели. Стало быть события в мифе никогда не являются причинами друг друга; скорее они вступают в отношения квазипричинности, некоей нереальной призрачной каузальности, которая бесконечно вновь и вновь проявляется в этих двух смыслах. Данное обстоятельство указывает на то, что интенциональность первична по отношению к языку, то есть язык выводится из интенциональности. Вместе с тем, собственно интенциональность не тождественна осознанности: «Многие осознанные состояния не являются интенциональными, и многие осознанные состояния не осознаются» [8]. Сущность идеи является через свой знак в мифе, музыке, но помимо воли и желания самого субъекта. Знаковый характер того, что можно считать в данной ситуации знаком (или языком), субъекту дан лишь вторично – благодаря тому, как он понимается другими. Не случайно миф (от лат. – предание, сказание) есть все же коллективная традиция. Как ни парадоксально, но исследования в области семантики (отношение знаков к реальности) и прагматики (отношения знаков к их пользователям) показывают, что знак является первоначально «знаком для других», и лишь в силу этого «для меня самого». По сути, центральной проблемой истолкования подобного чувственного самоопределения является вопрос перевода бессознательных содержаний на запредельный для них язык сознания посредством выражения скрытого знания, воплощенного в нас как способ видения. Таким образом, возможны различные типы семиозиса, в том числе и такие, в которых знак обладает как бы потенциальным значением. Иными словами, миф, музыка не может пониматься только как код, как система знаков. Наиболее адекватным, по нашему мнению, способом рациональной формы 197 отражения целостности миропонимания посредством романтического мировосприятия жизненного мира, является диалектика. Алгоритм диалектического истолкования усматривается нами во множестве способов передачи (указания) смысла (логоса), сплетенных из необозримого количества культурных кодов – символов, заимствований, реминисценций, ассоциаций, цитат, отсылающих к жизненному опыту. Однако глубокая противоречивоть феномена немецкого романтизма и в том, что специфика романтического восприятия не позволяет нам судить с достаточной достоверностью о том, что говорящий и слушающий полностью отдают себе отчет в том, какие именно оттенки смыслов могут вспыхивать на каждой отдельной грани раздробленного отчуждаемого опыта. Осознание этого и позволяет фиксировать уже такие особые состояния сознания, как дискурсы. А подобная речь, как и человеческая душа, нуждается в подробной расшифровке, ведь слово не умирает, а умирает лишь означаемое в слове. Признаваясь, например, в любви или ненависти, романтики влекутся к вдохновенному (логосу) и волей-неволей пытаются уловить то выраженное словом событие, в котором мелькнула искра вдохновенности. Гносеологические корни диалектического мышления в мифе представлены в аксиологическом допущении многосущности предметов, возможности оборачивания любого принципа в его противоположность посредством объединяющей различные предметы скрытой силы. На уровне абстрактно-теоретической рационализации при анализе мифа в отрыве от развития общей культурной ситуации во взаимосвязи с религией и наукой мифомышление ограничивается оборотнической логикой: все во всем. Наряду с этим, нельзя не отметить важное свойство мифа, отмеченное Ф. Х. Кессенди, в неразличении субъекта и объекта, их синкретичности, благодаря которой мифологизирующее сознание отождествляет образ и предмет [9]. Благодаря этому, в мифе желаемое отождествлялось с возможным, идеальное и реальное еще не противопоставлялись друг другу, существуя слитно и нераздельно. «миф… объединяет человека с миром, утверждая его неотъемлемость и родство со всем миром» [10]. Таким образом, сконструированные мифологические образы представляют собой смыслообразующие феномены, ключом к которым являются собственная риторическая программа мифа, его стилистика, архетипика и символика. Мифологические образы не просто знаки мудрости и т.п., а сами по себе есть проявление мудрости, как живые, чувственно ощущаемые [11]. Наряду с перечисленными свойствами, миф выполнял социально-практическую функцию, сущность которой заключается в обеспечении единства и целостности коллектива. Современные исследователи, вслед за Ф.Х.Кессенди, выявляют также интегративнорегулирующую (социально-практическую) функцию мифа [12]. Миф есть образец, который показывает, как поступать в том или ином случае: как строить, как плыть, как воевать и т.д. Традиционное понимание мифа в широком смысле предполагает антропоморфизированный фантастический вымысел, объясняющий происхождение и сущность окружающей действительности [13]. Миф для человека, его создавшего и в него верившего, жившего им, есть сумма аксиом об основных началах всего существующего. Миф служил своего рода матрицей памяти, куда заносились и откуда брались на «вооружение» все знания. В узком смысле миф есть «религиозный вымысел, основанный на вере в сверхъестественные существа и силы» [14]. Образцы в мифе – это проявление сверхмерной силы богов и богатства их энергии – переносятся на людей. Преодоление «разорванности» сознания в культурно-историческом контексте специфических форм идеологий (религии, искусства, музыки и т.д.) осуществляется нашими современниками в концепции определения мифа исходным пунктом их генезиса: «...мифология скрепляет еще слабо дифференцированное синкретическое единство бессознательно-поэтического творчества, первобытной религии и зачаточных 198 донаучных представлений об окружающем мире» [15]. Здесь объем понятия «мифология» ограничивается более абстрактным «первобытным сознанием», выявляя содержательный аспект его формационной специфичности. Эти идеи развиваются в ряде работ, посвященных наличию взаимосвязи мифа и других типов мировоззрения [16]. Наряду с этим, существует противоположная позиция, выработанная в 30-е годы XX столетия, которая опираясь на идеи концепции формообразовательного процесса, содержавшиеся в естественнонаучных и философских работах Гете и в философии мифа Шеллинга [17], выступила против идеи синкретичности мифа. Мифотворческое сознание она определяла как всецело «дорелигиозное», в котором мифологемы равноправно реализуются и в слове, и в обряде, и в музыке, и в вещах. «Сакрализация мифа состоит не в прикреплении его к тому или иному культу, но в том, что он подвергается каузализации и этизации при тщательном сохранении всей его традиционной структуры» [18]. Таким образом, в мировой и отечественной философии, культурологии и гуманитарных науках в целом создан фундаментальный теоретический базис для осмысления мифа и мифологического сознания. Вместе с тем, проблема соотнесения мифа и музыки приобретает особую актуальность в искусстве ХХ–ХХI веков и становится предметом изучения не только музыкознания, но и культурологии, семиотики, философии, психологии. Интерес к мифу в такой взаимосвязи во многом обусловлен поисками праэлементов современного сознания, в чем проявляется характерная для нашего времени тенденция – признание специфичности и равноправности различных культур и эпох и в то же время осознание того, что связывает воедино картину мира. Современное понимание мифа стремится в корне отличаться от старого, классицистического, которое «видело в мифе нечто донельзя формальное, лишенное жизненности» [19] в своей схематичной интерпретации. Классификация осуществлялась предельно просто: если в тексте упоминается Зевс или Ифигения, или Демон, можно спокойно говорить о мифе. Такой подход к изучению мифологии в литературе привел бы лишь к составлению индексов, учитывающих все упоминания имен такого рода [20]. Постепенно этот взгляд воспринимается исследователями как более далекий от подлинной сущности мифа. Постепенно осознается, что «мифологичны какие-то изначальные схемы представлений, которые ложатся в основу самых сложных художественных структур» [21]. Это наиболее современный взгляд на миф. С другой стороны, с помощью мифа представляется возможным решение, так называемых, вечных (не только в силу своей неисчерпаемости) вопросов. Их вечность (например, вопрос о смысле жизни и призвании человека) обусловлена также особым социальным и культурным значением этих вопросов. В мифе внеисторическое прошлое трактуется как символический первообраз тематики, значимой во все времена. Как известно, в центре мифа лежит утверждение фундаментальных законов космического и социального порядка, их незыблемости и абсолютной устойчивости. Эти законы образуют изначально незыблемый кодекс поведения, определяющий существование человека в мире. Поэтому и вопросы, на которые миф призван дать ответ, имеют общезначимый и всеобъемлющий характер – это вопросы жизни и смерти, устройства мироздания, и т.д. Их решение в мифе имеет принципиально «закрытый» характер, ответы на фундаментальные вопросы являются окончательными. Социальные и духовные кризисы в обществе ХХ века привели к осознанию этих вопросов в их наиболее острой форме. Поскольку современные теоретические модели не позволили избежать такие исторические катаклизмы, то неудивительно, что их разрешение устремлено к существующим тысячелетия объяснительным мифологическим моделям. Таким образом, оказывается возможным понять функции мифа уже в контексте ценностных координат ХХ века. Очевидно, что разрушение устойчивых этических 199 ориентиров, смещение нравственных категорий, не могло не привести к перестройке самосознания человека. Миф оказывается здесь воплощением вневременных и внеиндивидуальных ценностей, этическое совершенство которых не требует какойлибо проверки. Благодаря этому, именно в мифе и видится универсальный способ раскрытия основных проблем и противоречий современности. Это относится, прежде всего, к художественной культуре. Напряженность творческих поисков, принципиальный плюрализм эстетических направлений в ХХ веке является особым качеством самой мысли, разбивающейся в индивидуальности авторских сознаний и множественности точек зрения. Миф же предоставляет единую точку зрения, внеличностный взгляд на мир, позволяя, таким образом, создать относительно твердую позицию в художественном его осмыслении. Когда речь заходит о проблемах мифологии, многие исследователи вспоминают великого немецкого композитора Рихарда Вагнера – гениального художника, интуитивно почувствовавшего значимость мифа для современной культуры, сознательно его исследовавшего, что позволило ему воспроизвести структуру мифа на языке музыкально-поэтического искусства. Творчество Вагнера представляет уникальный материал для современного осмысления феномена мифологического мышления, способного функционировать в различные исторические периоды. Миф для Вагнера стал способом интеллектуального освоения мира, ставшего одной из основ драматургического рельефа своих опер. С этого ракурса мы приблизимся к раскрытию проблемы «миф и музыка». Благодаря Вагнеру миф стал обязательной частью общекультурного фонда, потребовал активного отношения к себе в художественной жизни, оказался втянутым в современное творчество, явно или скрыто повлиял на установки и произведения (музыка, поэзия, театр, кинематограф) многих художников ХХ века. Основоположник структурализма Клод Леви-Стросс, успешно применивший музыку при анализе мифологии, отмечает, что «именно Вагнер – неоспоримый отец структурного анализа мифов (и даже сказок, например, «Мейстерзингеры»)… Вагнер был первооткрывателем того, что подобный анализ мог быть первоначально произведен посредством музыки. Когда мы склоняемся в пользу того, что анализ мифов сравним только с анализом большой партитуры… мы только делаем логический вывод из того вагнеровского открытия, что структура мифа раскрывается средствами музыки» [22]. И миф, и музыкальное произведение являются языковой деятельностью, возвышающейся над реализованной речью, требующей для своего выражения временной протяженности. Но музыка и мифология нуждаются во времени для того, чтобы его отвергнуть. Мифология занимает среднее положение между языком музыки и связной речью, поэтому, чтобы понять мифологию, ее следует изучать с точки зрения музыки и речи. Музыка открывает индивиду его физиологические и психологические корни, а мифология – корни социальные. Проблема соотношения музыки и образа может быть рассмотрена на материале работы К.Леви-Стросса «Сырое и приготовленное» (первая часть тетралогии «Мифологики»). Здесь автор ставит задачу выйти из оппозиции логически понимаемого и чувственно воспринимаемого, в попытке найти некоторый срединный путь. Структурируя свой текст, автор использует музыкальные термины для поименования отдельных глав и разделов. Его толкование включает такие подразделы, как «Соната хороших манер», «Фуга пяти чувств», «Кантата опоссума». Обоснование этого приема приводит его к необходимости сделать пространное отступление на тему осмысления музыки, ее функционирования в социуме и культуре, ее отношения к другим видам искусства. Сравнивая музыку и миф, Леви-Стросс приходит к выводу об их структурной сущностной близости, что, с его точки зрения, оправдывает привнесение музыкальной терминологии в работу философского характера. Автор пытается доказать, что музыкальное произведение в процессе своего создания, 200 существования и восприятия кардинальным образом отличается от произведений других видов искусства, не имеющих такой же степени родства с мифом. Исследователь полагает, что структура мифа раскрывается средствами музыки и следующим образом аргументирует свой подход: Во-первых, и миф, и музыка являются языковой деятельностью, которая в каждом случае по-своему возвышается над реализованной речью и требует для своего выражения временной протяженности. Это отношение ко времени довольно своеобразно: кажется, что музыка и миф нуждаются во времени, – но только для того, чтобы его отвергнуть. Внемузыкальное, физиологическое время слушателя – это время диахроническое, потому что оно необратимо. Лишь музыка превращает отрезок времени, потраченного на прослушивание, в синхронную и замкнутую в себе целостность. «Прослушивание музыкального произведения в силу его внутренней организации останавливает текучее время; как покрывало, развеваемое ветром, оно обволакивает его и свертывает. Только слушая музыку и только в то время, когда мы ее слушаем, мы приближаемся к чему-то, похожему на бессмертие» [23]. Таким образом, мы видим, что музыка напоминает миф; подобно ему, она преодолевает антиномию исторического, истекшего времени и перманентной структуры. Во-вторых, подобно музыкальному произведению, миф действует исходя из двух континуумов. Первый из них внешний, причем для музыки — это неограниченная последовательность физически воспроизводимых звуков, из которых каждая музыкальная система черпает свою гамму. Другое проявление составляют исторические случайности, которые образуют теоретически неограниченный набор, откуда каждое общество черпает ограниченное число событий, подходящих для создания своих мифов. Второй континуум — внутреннего порядка. Он помещается в психофизиологическом времени слушателя, факторы которого очень сложны: периодичность церебральных волн и органических ритмов, способность памяти и возможности внимания. Музыка обращается не только к психологическому времени, но и к времени физиологическому, органическому, которое в мифологии не столь существенно. Так, музыка использует органические ритмы и делает значимой прерывность, которая в противном случае оставалась бы в скрытом состоянии, как бы погруженной в длительность. В-третьих, двусмысленный еще в партитуре, как книга, замысел композитора, как и замысел мифа, актуализируется через слушателя и слушателем. Миф и музыкальное произведение выступают как дирижеры оркестра, а слушатели — как молчаливые исполнители. Бодлер как-то высказал глубокую мысль о том, что хотя каждый слушатель воспринимает музыкальные произведения в только ему одному свойственной манере, однако установлено, что музыка вызывает сходные мысли в разных головах. Иначе говоря, то, что музыка и мифы затрагивают в слушателях, — это общие для них ментальные структуры» [24], — к такому выводу приходит Леви-Стросс. В-четвертых, непостижим и многозначен процесс создания и музыкальных произведений и мифов. Однако, музыка, как считает Леви-Стросс, ставит более трудные проблемы, потому что мы не знаем всех ментальных условий музыкального творчества. И среди всех языков только музыкальный язык объединяет противоречивые свойства быть одновременно умопостижимым и непереводимым, что превращает музыку «в высшую тайну науки о человеке, сущность которой эта наука пытается раскрыть и которая является ключом к прогрессу этой науки» [25]. В ходе размышлений Леви-Стросс приходит к выводам о более высоком, по сравнению с мифологией, положении музыки в культуре. Объединяя мир культуры и мир индивида с его внутренними физиологическими ритмами, музыка осмеливается идти дальше и природы и культуры. 201 Это объясняется ее необычайной способностью одновременно воздействовать на разум и на чувства, вызывать одновременно и идеи, и эмоции, погружать их в единый поток, где они уже перестают существовать отдельно друг от друга, разве что как свидетели и собеседники. На фоне такого воодушевления, — пишет Леви-Стросс, — мифология выступает лишь как слабая имитация. Однако именно в ее языке обнаруживается наибольшее число общих черт с языком музыки, «и не только потому, что с формальной точки зрения их роднит очень высокий уровень внутренней организации, но и в силу более глубоких причин…» [26]. Идея К. Леви-Стросса имеет большое методологическое значение, так как касается глубинного, абстрактного аспекта общности мифа и музыки. В работе «Миф и значение» Леви-Стросс возвращается к теме связи между мифом и музыкой. Он приводит пример темы из оперы Рихарда Вагнера. Каждый раз тема, полное значение которой повторяется, становится более понятной, так как каждая ступень накладывается на другие, складываясь в ряды таким образом, что становится возможным увидеть, какие различные явления темы раскрываются в совокупности. Аналогично значение мифа нельзя обнаружить, просто читая последовательные повествования, а необходимо накладывать друг на друга похожие мифические события одного повествования и сводить каждый итоговый «узел» к общему знаменателю. Связи между этими узлами и составляют логику мифа. Положение музыки между мифом и речью обусловлено тем, что она действует одновременно и на разум, и на чувства, апеллируя как к логическому, так и к эмоциональному восприятию. Это свойство музыки важно для автора, так как с его помощью музыка становится не только объектом, но и способом анализа. Будучи связана с неким синтетическим типом восприятия, она может представляться как ракурс, под которым может исследоваться поставленная нами проблема. Музыка также, хотя и является искусством ориентированным прежде всего на суггестивную область человеческого восприятия, не только характеризует эстетический уровень самосознания общества, но и отражает особенности социально-философской деятельности человека. Это происходит благодаря тому, что музыка относится к временному типу искусства и ее востребованность напрямую связана с насущными проблемами человека в определенной социально-культурной формации. Начиная с античности, существуют две основные особенности интерпретации музыки: с прикладной точки зрения, то есть музыкальное искусство лишено рациональных образов и благодаря этому схоже с психикой человека, реагирующей на явления окружающего мира, вследствие чего музыке подвластно управление эмоциями человека (с точки зрения эстетики пифагорейцев, например), и далее, его физическим здоровьем, так как состояние гармонии предполагает единство материального и духовного, в данном случае эмоционального. Во-вторых, с точки зрения социальноисторической, то есть музыка отражает историко-социальные особенности того или иного общества, характер восприятия человеком насущных мировоззренческих проблем, раскрывает особенности самосознания в той или иной эстетической традиции. Сопряжение таких понятий, как музыка и философия, может вызвать, на первый взгляд, некоторое недоумение. И дело даже не в том, что философское и музыкальное сознание якобы не совместимы; как раз степень абстрагирования как нельзя лучше сводит их там, где чистое мышление проявляет свою независимость от средств выражения. Но когда встает вопрос об оформлении результатов чистого философствования то, как утверждал Павел Флоренский, наиболее приемлемым оказывается обращение к математике и кристаллографии, то есть к дисциплинам, требующим перевода в языковой ряд. Таким образом, язык, в конечном счете, и определяет, насколько философское содержание музыки может быть выявлено и, в свою очередь, до какой степени тот или иной лингвистический контекст в состоянии 202 перекодировать явления, организованные по законам иной знаковой системы. В этом плане чрезвычайно интересно, насколько выводы философов, не оперирующих музыковедческой терминологией, соотносимы с обобщениями музыковедов, обращенных к звуковому ряду, насколько философское сознание тех и других не только оформляет новые искания в музыке, но и предваряет, предсказывает философско-культурологический контекст музыкального развития. Всякое сознание и мышление, в конечном счете, есть специфическое отражение бытия или, говоря более общо, функция действительности. Философия есть наука, то есть, прежде всего, мышление. Следовательно, по мнению А.Ф. Лосева, она должна исходить из непосредственной данности бытия в сознании, а также из оформления этого сознания на основании данных действительности. Только установив музыкальный предмет, как он непосредственно дается в человеческом сознании и как он в дальнейшем мыслительно оформляется, мы можем претендовать на скольконибудь научный подход в области философии музыки [27]. В этой связи большой интерес представляет философия музыки Ф.Ницше и, в частности, его работа «Рождение трагедии из духа музыки», являющейся одним из первых его произведений. Можно назвать два вектора, на пересечении которых локализуется данное произведение немецкого мыслителя. Это – Рихард Вагнер и Артур Шопенгауэр. Влияние Вагнера носило при этом скорее экзистенциальный оттенок. В то же время, онтология искусства Шопенгауэра, в которой он отводит совершенно уникальную роль музыке, почти дословно в ряде мест воспроизводится Ницше. По мнению Шопенгауэра, музыка оказывается не в ряду других видов искусств, а стоит особняком, выполняя иное предназначение. Музыка есть некий аналог воли, ее непосредственная объективация. Более того, по мысли философа, мировая воля объективируется двумя способами: как реальный мир представления и как мир музыки. Именно через музыку можно непосредственно соприкоснуться с мировой волей, без посредников-«идей». М. Хайдеггер перечисляет пять тем, наиболее значимых в работах Фридриха Ницше [28]. Это – нигилизм, переоценка ценностей, воля к власти, вечное возвращение и сверхчеловек. Можно добавить еще несколько сюжетов, чтобы адекватно и полно отразить самое существенное в творчестве «ниспровергателя кумиров»: антихристианство, Заратустра, ценностный перспективизм, аморализм и, конечно, ту сюжетную линию, которая представлена в «Рождении трагедии из духа музыки», а именно аполлоническое и дионисийское начала. Певец Диониса, как называл себя Ф.Ницше, никак не мог относиться с симпатией к христианству. Яркое неприятие христианской морали – один из лейтмотивов его творчества. «В христианстве, – отмечает Ницше, – на первый план выходят инстинкты угнетенных и порабощенных; в нем ищут спасения низшие сословия» [29]. Основной ориентир Ницше – возрастание жизненной силы, соответствие развития живого существа приросту воли к власти. Мораль должна согласовываться с волей к власти, ориентироваться на возрастание жизненной силы, и тогда то, что служит приросту воли к власти, – является добром, а то, что препятствует – злом. Здесь у Ницше речь идет не о человечестве вообще, не о толпе рода человеческого, а об индивиде. Это существенно, так как христианство выступает глашатаем воли толпы, а не глашатаем воли индивида. Поэтому, по мнению Ф.Ницше, мораль христианства не способствует инстинкту роста индивида, а ведет к деградации, порче породы, когда уменьшается жизненная сила индивида. В связи с этим, христианство, по мнению Ницше, это деградация, прикрытая «святыми именами», ибо проповедует ценности, которые приводят к ослаблению воли. Именно мораль толпы, мораль бессильного и мстительного христианина ориентир атаки Ницше. Мораль должна служить не толпе, не государству, а тем людям, которые повелевают и идут вперед. Эти героические личности являются аморальными по своей сути, так как пишут и вырубают новые ценности. Таким образом, Ницше не аморален, а иноморален. 203 Упразднение прежних ценностей Ницше заставляет усомниться в «доброкачественности» предыдущих ориентиров. Более того, он констатирует некую усталость культурного пространства Европы, декаданс и связанный с ним нигилизм. Но нигилизм Ницше – это не нигилизм одряхлевшей и обессилевшей культуры, а нигилизм силы и улучшения породы, нигилизм, преодолевающий осуждающие оценки и способный подготовить новые ценности. Ницше не только выявляет ценность ценностей, но и предлагает свою систему меры, систему координат, которой можно мерить если не все существующее, то по крайне мере самого человека. Эта мера – возрастание воли к власти, улучшение человеческой породы. То, что согласуется, «однонаправлено» движению воли к власти – то является ценным, значимым. Соответственно, необходима деструкция, разрушение всей системы современной ему европейского культурного пространства – христианства, декаданса, философии, политики, демократии и т.д. Таким образом, моральные ценности, значимые для Ницше, несовместимы с традиционными для европейского общества ценностями. Рупором идей Ницше является Заратустра, ведущий по маршруту, конечная цель которого – сверхчеловек. Его путь к сверхчеловеку – это путь постоянного самоопределения, отказа от прежних ценностей. Человек, по мысли Ф.Ницше, изначально антикультурен, он – природное существо, а культура создана для подавления и порабощения человека. Только благодаря культурным запретам, созданным обществом, моральным и правовым нормам и принципам искусства формируются социальные мифы и создаются иллюзорные мечты о гуманизме, справедливости и свободе, которыми спекулирует западная культура. Запреты, вмешательство разума ограничивают естественные стихийные инстинкты человека и из-за этого человек становится больным существом, отрицающим самого себя. Только сверхчеловек может отбросить все табу, мешающие ему жить, осознать трагическую красоту нового бытия. Он порывает с обществом, реализует свою личную свободу и достигает единства жизни и смерти, характерного для культа античного бога Диониса, и движет им только воля к жизни. Дионис – это избыток, нарушение всякой меры, безмерное, взрывное буйство; символизирует ужас и восторг, нарушение принципа индивидуализма, отрицание различий, воплощает тенденцию к единству. В противоположность Дионису Аполлон – это выражение покоя и порядка. Он – мера, ничего лишнего, золотая середина, олицетворение разделения, воплощение принципа индивидуализма. «Аполлоновское» и «Дионисийское» – различные виды художественных сил, заключенные в самой природе, в том числе и в природе человека. Эти начала прорываются из природы через человека как художника, творца. Человек, по мнению Ницше, только «подражатель» и проводник имеющихся в природе сил. «Аполлоновский» образ мира подобен образам, возникающим в сновидениях, иллюзиях, грезах. «Дионисийский» порождается демоническими силами, подобен образам, вызванным состоянием опьянения, а потому это мир иррациональных образов. Поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисийского начал. С этими двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связана противоположность в происхождении и целях, которая встречается в греческом мире между искусством пластических образов – аполлоническим – и непластическим искусством музыки – искусством Диониса. Эти два различных стремления действуют рядом друг с другом, чаще всего в раздоре друг с другом и взаимно побуждая друг друга к новым и более мощным порождениям, чтобы в них увековечить борьбу указанных противоположностей, соединенных только словом «искусство» [30]. Музыка Аполлона и муз характеризуется как успокоительная и уравновешивающая гармония в отличие от искусства Диониса, буйного божества сил природы и его служительниц – вакханок. Еще в немецком средневековье, охваченные той же «дионисической» силой, носились все возраставшие толпы, с пением и плясками, с места на место. В этих 204 плясунах св. Иоанна и св. Витта мы узнаем вакхические хоры греков. В человеке звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом, он сам шествует восторженный и возвышенный – такими он видел во сне шествовавших богов. Лучшими первоисточниками классической литературы для характеристики музыки, связанной с Аполлоном и музами, являются Гомер, Гесиод и гомеровские гимны. У Гомера певцы занимают самое почетное место. Яркое изображение того, что такое греческие музы, мы находим в самом начале «Теогонии» Гесиода. Здесь они вечно проводят время в прославлении земных певцов и поэтов, мудром и пророческом воспевании всего прошедшего, настоящего и будущего. Здесь уже отмирает прежняя архаическая и оргиалистическая терминология. Музыка превращается в уравновешенную, беззаботную и сладострастную гармонию. Это, в отличие от оргиалистической архаики, можно назвать классикой. «Титаническим» и «варварским» представлялось аполлоническому греку действие «дионисического» начала, хотя он и не скрывал от самого себя своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями. Аполлон не мог жить без Диониса. Фактически Аполлон – бог человеческих иллюзий, гармонии, порядка, красоты. Дионис – бог правды жизни, ее страданий, неистовств, экстазов. Но он же – бог художественных откровений, опьяняющей силы творчества, приобщения к истокам бытия. Если Аполлон – это утверждение, то Дионис – это отрицание, но отрицание творческое, несущее новую истину. Говоря о своей дионисийской натуре, Ницше имел в виду радость уничтожения старого во имя блаженства творения нового. Дионисийское – не хаотическое, не разрушительное, а, наоборот, в полном соответствии с этикой Ницше, служащее жизни. Дионисийское – жизненное, биологическое, генетическое, предельно многообразное, спасительное для победы жизни над смертью. Еще Дионис – выражение мощи мировой воли, стихийное творчество этой воли, первоисточник свободы жизни и творчества. Если аполлоновскому началу жизни соответствует гармоническая музыка, то дионисийскому – музыка диссонансная. В «Рождении трагедии…» Ницше славит Аполлона и Диониса, но его отношение к праотцам искусства далеко не равное. Хотя оба начала жизни-искусства необходимы, симпатии Ницше явно на стороне стихии жизни, полнота которой выражена дионисийством. Высокое искусство – это соединение двух божественных начал. Торжество одного из них опасно вырождением, падением человека. И вновь Ницше подчеркивает «развращающее» влияние восторжествовавшего Аполлона: искусство утрачивает жизненную полноту, человек становится орудием манипуляций, личность утрачивается. Соответственно аполлоновскому и дионисийскому началу существуют две равноправные эстетики: красоты, обуздывающей хаос, и стихии. Дионисийское начало, как более древнее по сравнению с миром дельфийского бога, необходимо для существования красоты: стихийное, демоническое стоит выше гармонического и пластического. Красота включает в свой корпус все силы жизни, прежде всего всю мощь хтонического бытия, включая музыку. Искусство – высшее выражение воли к могуществу, приоритетная ценность, открывающая человеку возможность овладеть миром. Музыкальность для Ницше эквивалентна самой сущности мировой воли, мировой жизни, мировой красоты, которые жаждут «бытия в звуках». Музыка, по мнению Ф.Ницше, есть высшее выражение дионисийского духа, аффективного постижения жизни. В музыке находит свое выражение сила страстей, чувство возрастающей мощи и полноты. Ницше считал музыку средством, соединяющим сознание человека с праосновами бытия, проясняющим мировое становление. Если у Вагнера музыка осуществляет намерение поэта, выражая сокровенный смысл поэзии, то есть она вторична по отношению к слову, то для Ницше она – главный источник художественности и одновременно выражение смысла бытия. Музыка придает жизни 205 ощущение самодостаточности и одновременно углубляет понимание ее природы. Музыкальный восторг Ницше считал наисильнейшей эмоцией жизни. Именно в музыке, соединении музыки с игрой видел Ницше символ и образ самовозвышающейся жизни. «Всех богов оттолкнул он в своем одиночестве, лишь одного он не может лишиться: музыка для него нектар и амброзия, освобождающая душу и дарующая вечную юность» [31]. Искусство Вагнера, как известно, связывает романтический и современный подход к мифу. С немецкими романтиками Вагнера во многом роднит общая проблематика, сходные мотивы и пути освоения мифа, формирование новых, предвосхищающих современные о нем представления. В тоже время вагнеровский подход к мифу сильнее устремлен в будущее, он сильнее и активнее предсказывает современные представления о мифе. В поисках единства и границ мифа и музыки, условно различаем, во-первых, профессиональное музыкальное искусство Нового времени, предлагающее своеобразную интерпретацию мифа; во-вторых, явление «мифологического неоархаизма», реализующее закономерности архаического мифологического мышления во всей их полноте. Первое целиком принадлежит сфере культуры, поскольку базируется на функциональной системе тонов, соотнесенных друг с другом по высоте, и связь с исходным природным континуумом в ней, по существу, не выражено. К примеру, соотношение музыкального стиля Р. Вагнера с мифологическим началом выявляет следующие характерные черты: преодоление номерной структуры и создание сквозного развития крупных оперных сцен; симфонизация оперы, как стремление к всеохватности; полифонизация оркестрового пространства: взаимообусловленность регистра, тембровых сочетаний, фактурной плотности изложения и тонального развития создает подлинные единения средств выразительности; развитие гармонии как смыслонесущего начала оркестра: длительные энгармонические модуляции вызывают ощущение безостановочного развития, свойственного мифологическому понятию времени; проявление смысловой логики и динамики в развитии лейтмотивов, образование единого семантического поля рождают высшее архетипическое единство. В первую очередь, Вагнера и романтиков различает оценка мифа и истории: у романтиков они еще не разграничены, для Вагнера эти явления прямо противоположны. Вагнер искал вечные основы, определяющие человеческую сущность, его интересовал «миф вообще». В отличие от романтического вагнеровский миф не конкретно национален, но вне- и наднационален [32]. Вагнер достиг той ступени, на которой национальнохарактерное исчезало, оттенки любых различий стирались, и проступало то всеобщее, изначально мифическое, что в ХХ веке было названо архетипическим. Однако нас интересует не столько влияние, которое искусство Вагнера оказало на современную культуру, но, прежде всего то, как воплотились его идеи и представления о мифе в музыкальной драме. Тетралогия «Кольцо нибелунга» занимает центральное место в творчестве Вагнера. Здесь он не только выходит к метамифологическим представлениям. Характерно признание композитора: «С наброском «Тристана и Изольды» я словно бы и не удалялся из круга поэтических и мифологических представлений, возбужденных во мне работой над «Нибелунгами». Великая связь всех подлинных мифов раскрылась во мне в моих занятиях и дала ясно увидеть чудесные вариации, ею порожденные. Одна такая вариация с восхитительной непреложностью выступила передо мной в отношении Тристана к Изольде, если провести параллель с Зигфридом и Брюнгильдой… Из одного мифологического отношения возникли два, на первый взгляд, различных. Между тем они тождественны… [33]. 206 Миф определяет драматургию «Кольца», важнейшие ситуации, приемы, схемы, взаимодействие музыки и слова. По своей жанровой природе тетралогия – миф. В повествовании тетралогии проявляются метко схваченные Вагнером особенности космологического описания. «Кольцо» - это миф о мироздании, о начале и конце его, о времени, это музыкальная космогония. Начало тетрагонии, рисующее космическую бездну, ничто, зияние, - это начало музыкальной космогонии. Более того, здесь слышится и угадывается не только мифическая музыка, но начало самой музыки, сам миф музыки. Космологические образы тералогии – Оголь-Лонге, Рейн, порожденные бездной, и Эрда-Судьба, обладающая знанием бездны, этого бесконечно противоречивого и творческого первоначала, – связаны между собой. Эта связь воплощена в известных интонационно-ассоциативных музыкальных сближениях, в родстве и сходстве темы Эрды и темы Первоначального состояния, а также в психологической сопричастности тем Огня и Сна. Тема Эрды-Судьбы иногда воспринимается как тема Мирового Ясеня, является его символическим заменителем. (Мировой Ясень – представитель «центра мира» в космологических текстах) [34]. Мировой Ясень организует пространство тетралогии: около него ведут свой рассказ всеведущие Норны, неподалеку от него расположен утес спящей Брюнгильды. Ясень связан с системой запретов-предписаний. Из его побега сделано копье Вотана, хранящее руны договоров. Само состояние Ясеня рисует все стадии и повороты в жизни мира – его рождение, расцвет (создание копья), старение (сохнущий ствол, разрубленное копье), смерть (гибель мира в пламени ясеневого костра). Так проявляется в тетралогии действие космологического «центра мира». Вагнер основывает архитектонику и драматургию тетралогии во многом на тех образах и состояниях, которые характерны для мифологического повествования. Стихии Воды (Рейна) и Огня, состояние Сна определяют важнейшие моменты: начало и конец, все сцены тетралогии, связанные с мотивом Эрды-Судьбы. Состояние Сна (первосна) тесно связано со всякими пророчествами и предвидениями, нередко совершаемыми во время пробуждения. Выход из вещего сна рождает пророчество. Это – еще один атрибут мифопоэтического мышления. Язык пророчеств смутен и неясен, слова загадочны, но в них таится объяснение связи, скрытой в происходящем. Так проявляется тема меча, внешне совершенно не связанная с ходом действия, но выражающая сокровенные мысли Вотана («Золото Рейна»). У Вагнера, как и во многих мифах, «памяти противостоит забвение, которые соотносятся как жизнь и смерть» [35]. Зигфрид, забывший Брюнгильду, и Брюнгильда, потерявшая Знание, становятся подвластны мраку, царству тумана – Нибельгейму. Отныне Зигфрид теряет свободу, становится обреченным на гибель, о чем постоянно напоминает связанная теперь с ним тема проклятия кольца. Тетралогия схватывает такую структурную особенность мифа, как номинационность. Язык мифа – это язык собственных имен. По словам А. Ф. Лосева, «миф есть развернутое магическое имя» [36]. «Общее значение собственного имени в его предельной абстрактности, подчеркивают Ю.М.Лотман и Б.А.Успенский, – сводится к мифу… Миф персонален (номинационен), имя – мифологично [37]. Мифологическое называние вещи или лица – действие особое. Это не причисление предмета к определенному классу, но выявление его сущности, самости, его узнавание, отождествление с самым сокровенным, то есть действие магическое. Вагнер угадывает это качество мифа. Так, Вотан, заклинающий и призывающий Логе, заклинает и призывает тем самым огонь. Логе – имя, оно значит «огонь». Вагнеровские герои могут называть вещь или лицо, не имевшие до сих пор имени, - в этом случае называние рассматривается как акт творения. Так Вотан нарекает замок, построенный великанами, Валгаллой, так Зигмунд называет обретенный меч Нотунгом. 207 Самыми сложными представляются действия оппозиции «память – забвение» и «золотое кольцо – любовь». Вагнер допускает невероятные переключения внутри их: так, отказ Брюнгильды вернуть кольцо является выражением ее любви к Зигфриду, но предательством по отношению к отцу, то есть отречение от любви. Поэтому это действие влечет за собой возмездие – «злую казнь богов». Верность Зигфрида братской клятве оборачивается изменой Брюнгильде, отречением от любви и ведет к гибели Зигфрида. Вагнер, искусно пользуясь мифологическими оппозициями, психологически осложняет отношения героев, устанавливая между ними все новые и новые связи, постепенно все более их изменяя, оборачивая противоположностью себе и двойником – другому. Психологическая связь, накапливание ассоциаций, обрастание смыслами – внешне запутанные – осуществляются Вагнером в высшей степени целенаправленно: все возникающие комплексы обусловлены сюжетом, первоначальный единичный смысл обогащается в этой сети бесконечных взаимных комментариев. Вагнер углубляется в миф, связывая слой за слоем, элемент за элементом. Заключение Так, миф определяет наиболее общие закономерности драматургии в тетралогии, в которой Вагнером была достигнута «всеобщая связь явлений». В целом, определен фундаментальный теоретический базис для решения проблемы соотношения мифа и религии. Вместе с тем, попытки теоретического осмысления соотношения мифа и музыки явно тяготеют к проблемной антиномии, несмотря на то, что философия «производит» в категориальных формах идеи позднего немецкого романтизма, которые обретают наряду с логическими адекватное, образное и эмоциональное выражение. В широком смысле слова, понимая под эпистемой все возможные способы освоения человеком мира, взаимосвязи мифа и музыки можно придать эпистемологический статус. Взаимосвязь мифа и музыки как базовая «интенциональная форма « постижения представляет собой такой слой, который: с одной стороны, – постоянно предопределяется воспроизведением противоречий между иными базовыми «оформленными интенциями» постижения (взаимосвязи философии и мифа, мифа и религии и т.д.), а с другой, – предопределяет все другие возможные оформленные интенции постижения в отдельности и в «смеси». Кроме того, следует отметить, что данная «интенциональная форма» постижения музыки и мифа с учетом гносеоаксиологических установок философско-романтического концепта способна оказывать влияние на другие возможные оформленные интенции постижения в отдельности и в новой взаимосвязи. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Список литературы Флоренский П.А. У водоразделов мысли/Сост. игумена Андроника (Трубачева) и др.; Вступит. ст. С.С. Хоружего; Историограф. очерк игумена Андроника (Трубачева); Примеч. С.С. Аверинцева и др. // Там же. – Т.II. – с. 346. Желнов В.М. Эпистемология в конце XX века (основные парадигмы: закономерности становления и эволюции) – Автореф. на соиск. уч.ст. к.филос.н. – М.:МГУ, 1999 г. – С.3 Гулыга А.В. Искусство истории. – М., 1980. – С.10. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. – М.: Учпедгиз, 1957. – С. 591–592. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 592. См.: Досократики. Доэлеатовский и элеатовский периоды .– Мн.: Харвест, 1999. – С. 231–234 208 7. Кузнецов А. В. Диалог рационального и чувственного в парадигме языка // Человек. Язык. Культура.: Межвузовский сборник статей. Выпуск 6. – Курск: Изд-во Курск. Гос. Ун-т, 2006. – С. 34. 8. Серль Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык. – М., 1987. – С. 98. 9. Кессиди Ф.А. От мифа к логосу. – М., 1972. – С.43. 10. Гурьев Д.В. Становление общественного производства. – М.: Политиздат, 1973. – С.16–17. 11. Кессиди Ф.А. От мифа к логосу. – М., 1972. – С.42. 12. См.: Лосева И.Н. Различение мифологии и религии как форм общественного сознания // Известия СЕНЦ ВШ. Обществ. Науки. – М., 1983. – №1. – С. 46–51. 13. Шахнович М.И. Первобытная мифология и философия (предыстория философии). – Л.: Наука, 1971. – С. 18–19. 14. Там же. – С. 19. 15. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – С.163. 16. Угринович Д.М. Искусство и религия (Теоретический очерк). – М.: Политиздат, 1982. – С.272; Римский В.П. Миф и религия: проблема генезиса и культурноисторической специфики. – Белгород: Крестьянское дело, 2003. – 200 с.; Токарев С.А. Религия и мифология // Мифы народов мира. – Т. 2. – М.: Сов. Энц., 1982. – С. 260. 17. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – 2-е изд.; испр. И доп. – М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 1998. – С. 281. 18. Там же. – С.118. 19. Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.-Г.Юнга и закономерности творческой фантазии // О зарубежной буржуазной эстетике. – М., 1972. – Вып.3. – С.112. 20. Там же. – С.112. 21. Там же. – С.116. 22. Леви-Стросс К. Фрагменты из книги «Мифологики»/Пер. с франц. // Семиотика и искусствометрия. – М., 1972. – С.27. 23. Леви-Стросс К. Мифологики. В 4-х тт. Т. 1. Сырое и приготовленное. – М.-СПб.: Университетская книга, 1999. – С.28. 24. Там же. – С.43. 25. Там же. – С.31. 26. Там же. – С.45. 27. См.: Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. – М., 1994. – С.315–332. 28. См.: М. Хайдеггер. Европейский нигилизм. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/EvrNig_index.php 29. Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей; [пер. с нем. Под общ. ред. Ф. Зелинского и др.]. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – С. 442. 30. См.: Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (Предисловие к Рихарду Вагнеру) // Соч.: В 2 т. – М., 1990. – Т.1. – С. 57–157. 31. Гарин И.И. Ницше. – М., 2000. – С.722. 32. Лобанова Н.М. Рихард Вагнер // История эстетической мысли. – М., 1987. – С.292–293. 33. Вагнер Р. Статьи и материалы. – М., 1974. – С.44–45. 34. См., например: Топоров В.Н. О космологических источниках раннеисторических описаний // Ученые записки Тартусского государственного университета: Труды по знаковым системам. VI. – Тарту, 1973. Вып.308. С.114– 115. 35. Там же. – С.116. 209 36. Лосев А.Ф. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // Вагнер Р. Избранные работы. – М., 1978. – С.239. 37. Лотман Ю.М., Успенский Б.А.Миф-имя-культура // Ученые записки Тартусского государственного университета: Труды по знаковым системам. VI. – Тарту, 1973. – Вып. 308. – С.283, 288. INTENTIONAL FORM OF COGNITION OF ROMANTISM IN EXPLORING IDEAL AND AESTHETIC MYTH AND MUSIC TRADITIONS AS A GNOSEOAKSEOLOGICAL PROBLEM OF THE PERSON А.V. Mihalyuta1), А.N. Moshkin2), 1) Belgorod State University, Preobrazhenskaya str., 78, Belgorod, Russia, 308000 Belgorod State University, Studencheskaya str., 14, Belgorod, Russia, 308000 2) The article deals with the revealing of laws of dynamics of forms of main philosophical paradigms for analysis of human cognition of the world. The author regards the aspect of gnoseo-akseological reconstruction of philosophical and romantic concept in exploring ideal and aesthetic traditions of myths and music. Key words: paradigm, romantism, myth, music, gnoseology, akseology, concept. 210 ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ III. ТЕОЛОГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ УДК 930.85 ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БЛАГОТВОРЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ РУСИ Е.П. Белоножко1), А.М. Капустина2) 1) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] 2) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 В данной статье осуществлена попытка выявить и проанализировать ценностно-мотивационные основы благотворения в Древней Руси. Проблема мотивации благотворения в целом, и мотивации благотворения в Древней Руси, в частности, является весьма актуальной и мало исследованной. Исследование представляет собой философский анализ древнерусских памятников литературы, исторических исследований. Отмечено, что мотивация благотворительности в Древней Руси тесно связана со спецификой русского отношения к богатству и феномену нищенства. Выделены основные мотивы благотворительности в Древней Руси: прагматический, мотив духовно-нравственного совершенствования, христианские мотивы: сотериологически-эсхатологический, любовь к Богу и ближнему, мотив «сакрального пиетета», социально-политический. Ключевые слова: мотив, милосердие, ценностно-мотивационные основы, сотериологический мотив, эсхатологический мотив, благотворение. Введение История Древней Руси во многом совпадает с историей принятия и утверждения христианства и христианской системы ценностей в русском обществе. В связи с этим, многие дореволюционные авторы начало развития благотворительности связывали исключительно с введением христианства на Руси, так как в христианстве к тому времени уже были сформулированы основные императивы «теории милосердия». Однако ряд современных исследователей отмечает, что ещё до принятия христианства на Руси существовали богатые традиции взаимопомощи у славян, обусловленные специфическими культурно-историческими условиями и доминирующими ценностями древних славян[10,5-6; 22; 28]. В традиционной славянской культуре были выработаны основные идеалы, нормы и правила жизни людей, которые, несмотря на многочисленные трансформации с течением времени перешли в мировосприятие русского народа. О.С. Осипова отмечает: «Ценностная сторона в мироотношении народа непосредственно связана с общественным, коллективным сознанием или представлениями»[11] . Э. Дюркгейм предложил понимание коллективного сознания как обладающую собственным бытием совокупность верований и чувств, общих для членов данного общества. Он подчёркивал, что системы ценностей имеют коллективное происхождение. В свою очередь, коллективное мышление преобразует мир под воздействием созданных им идеалов; под идеалами мыслитель понимал основные социальные явления: религию, мораль, право, экономику, эстетику, которые есть «не что иное, как системы ценностей, следовательно, идеалы»[5, 302-303] . О.С. Осипова называет эти идеалы ценностными коллективными идеями, утверждая, что важнейшие славянские коллективные идеи связаны с понятиями единства Мироздания, всепроникающей божественности взаимообусловленности и относительности всех явлений, которые преломляются во множестве частных идей: одухотворение природы, предание о происхождении людей как сынов и дочерей богов, приоритет коллективного начала над личностным, патриотизм, верность долгу, чести и справедливости[11, 200-211] . Исследователь 211 отмечает приоритет этических ценностей у славян, жизнь которых подчинялась достаточно строгим императивам, задававшим нормы морали и нацеленным на достижение социальной гармонии. Историки находят корни сострадательного отношения к ближнему, столь распространенного на Руси, еще в обычаях древних восточных славян. Так, С.М. Соловьев отмечал, что в отличие от воинственных германцев и литовцев, избавлявшихся от «лишних, слабых и увечных» сородичей и истреблявших пленных, наши далекие предки были милостивы к старым и малым соплеменникам, а также к пленным, которые по прошествии известного срока могли вернуться в родные места или «остаться жить между славянами в качестве людей вольных или друзей»[24, 97] . Восточные славяне привечали и любили странников, отличались редким гостеприимством Человеколюбие, незлобивость, открытость души у наших предков формировались под влиянием основных видов их деятельности хлебопашества, скотоводства, ремесленничества, а также затянувшегося дольше, чем у других народов, родового общественного устройства. Этому способствовала и сама среда обитания, те географические и природно-климатические условия, в которых они находились в результате естественноисторических процессов передвижения и расселения народов. Современный исследователь социальной работы М.В. Фирсов отмечает: «…философия жизни языческой общности вызывала к жизни определённые формы поддержки и защиты. Реципрокные и редистрибутивные социальные связи, направленные на сохранение единого пространства жизнедеятельности, важного для всех его членов, создали особый нерв социогенома, и его архитипические формы существования, сложившиеся за многие столетия, стали основой для христианской модели помощи и поддержки нуждающимся»[29, 24-25] . Христианская система ценностей растворила в себе славянские «ценностные коллективные идеи», что повлекло за собой её неизбежную трансформацию и, как следствие, своеобразное преломление христианского идеала мотивации благотворительности. Как отмечает Т.Е. Покотилова: «…древнерусская благотворительность стала результатом рефлексии древнерусского общества в процессе создания и развития своей культурной среды на этапе усвоения русским обществом адекватной усложнявшимся общественным отношениям религиозной идеологии – православия»[22, 26] . Как известно, значительную часть православной этики занимает учение о любви к ближнему и милосердии, призывавшее выполнять дела милосердия в качестве главного средства спасения души. В силу закономерной монополии и функциональной обязанности православной церкви проповедовать христианское учение о любви к ближним, древнерусское общество пользовалось руководством церковной иерархии в выполнении дел милосердия. Данное руководство осуществлялось по трём направлениям: воспитание нравственных побуждений к благотворению через проповедь учения о любви и милосердии; воспитание паствы примерами собственного милосердия в среде иерархов; практическая работа по организации призрения через собственные структуры за счёт церкви, государства, общин, братств и милостыни. С утверждением христианской системы ценностей добродетельным начинает считаться тот, кто следует нормам, закреплённым в христианской традиции: «Се суть душевная дела добрая: кротость, смирение, послушание, доброучение, покорение, легкосердье, безгневье, милость, любовь, немногоглаголание, покаяние и прочая: поклон, пост, милостыня…»[17, 23-24]. Целью жизни при этом считается обожение, которое интерпретируется как онтологическое явление, поскольку понимается как бытийственное изменение всего человеческого естества, «возвращение» человека в первоначальное состояние единения с Богом, который сотворил его добрым. 212 Анализ церковной литературы назидательного характера и летописей позволяет восстановить картину мотивации благотворения – в древнерусских источниках получила отражение своеобразно воспринятая система христианских ценностей. «Поучение к братии» архиепископа Новгородского Луки Жидяты содержит этикосоциальные призывы: «Будете смирении кротци.… Не завиди, не клевечи.… Не суди брата ни мыслию… З братом не буди ино на сердци, а ино в устех.… Под братом ямы не рой.… Не молвити срамна слова, ни гнева на всяк день имети… Мзды не емлите.… Не до пианства.… Не ядите скверна»[23, 88]. Характерно, что рекомендации носят характер отрицания, доминирующая установка - «не навреди» (это ветхозаветный принцип, в Новом Завете – «возлюби»), то есть автор сочинения ориентирован на ветхозаветные регламентации, что, в целом, является показателем восприятия христианства древнерусским обществом вообще. Речь идёт о процессе специфического синтеза язычества и христианства в русской культуре. Правила осуществления благотворения требовали подавать «вовремя необходимое»[18, 545] и быть милостивым ко всем. Киево-Печерский Патерик заповедует: «Милостив будь, христолюбец, не только со своими домочадцами, но и чужими... Если будет иной веры, еретик и латинянин, любому помоги и от бед избавь»[16, 617], подчёркивая тем самым неограниченный круг адресатов милосердия. Древнерусскими авторами отмечалась особая сила милостыни, её место среди других добродетелей. Владимир Мономах в «Поучении» говорит, что сам «Господь показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать: покаянием, слезами и милостынею»[23, 62]. В Прологе милостыня ставится выше других добрых дел. Пролог как бы собирает и представляет в милостыне, словно в одном целом, идеальные черты христианина, его богоугодной жизни. В статье «О звании сильных» Изборника 1076 года автор призывает творить милостыню, так как это воля Божья, и вознаграждением будет Царство Небесное, он формулирует древнерусский вариант библейского «Блаженны милостивые…», тем самым, акцентируя внимание на «спасительном», сотериологическом аспекте милосердия. Особое значение в плане осмысления древнерусским духовенством проблемы мотивации благотворения имеют труды Феодосия Печерского (1036-1074). Он сам выступал активным общественным деятелем: его житие сообщает, что он помогал бедным, защищал вдов и сирот. Ему принадлежат поучения: «О казнях Божиих», «О тропарных чашах», «О терпении и любви», «О терпении и милостыне», «О терпении и смирении», «О хождении к Церкви и о молитве». Ф. Печерский, как и ряд других авторов своего времени, обращает внимание на библейскую притчу о десяти мудрых девах и пяти неразумных, в которой для последних закрылись двери Божьего человеколюбия, поскольку они масла милостыни не принесли. Тем самым он подчёркивает значение милостыни в духовной жизни человека. «Милование» сострадание, сочувствие, милосердие он считает одной из важнейших христианских добродетелей, за которую следует воздаяние Бога (наследование Царства Небесного). Таким образом, мыслитель отмечает сотериологический мотив милостыни. Для большей действенности наставлений о милостыне и конкретном воплощении ее в жизнь приводилось множество примеров. Так, в житиях святых необходимым признаком, доказывающим благочестие святого, жизнь которого описывается, было, творение им дел милосердия. О преп. Феодосии рассказывается, что, когда ему дали хорошие одежды, он недолго носил их, «будто какую-то тяжесть», а вскоре снял их «и отдал нищим», сам же «оделся в лохмотья, так их и носил»[6, 99], он же подавал пример помогать нуждающимся непосредственно делами. Дидактизм древнерусской литературы повлёк за собой обращение к примерам (выполнявшим воспитательную функцию), подчёркивающим как сотериологический аспект мотивации помощи ближнему, так и его прагматический мотив 213 (предполагается, что Господь воздает милующему уже здесь, на земле). В КиевоПечерском Патерике повествуется, что подвижнику обители Иоанну за его милость к нищим Господь чудесным образом удвоил богатство, которое сын его Захария отдал на нужды обители. «На серебро же и золото это поставлена была церковь во имя святого Иоанна Предтечи, в память Иоанна я сына его Захарии, так как на их золото и серебро была она построена». В Синайском же Патерике рассказывается, что Господь также в несколько раз умножил серебреники язычнику, отдавшему по совету жены-христианки небольшую сумму взаймы христианскому Богу - для нуждающихся[16,129]. Здесь очевидна параллель с ветхозаветной мотивацией благотворения, где акцент ставился именно на прагматической мотивации, о чём речь шла в предыдущем параграфе. Максим Грек (1470-1556) рассматривает «милосердие» как индивидуальный путь спасения в канонах Иоанну Крестителю, подчеркивая его сотериологический аспект. М. Грек выступает с критикой монашества за то, что, не имея сострадания, они угнетают крестьян, призывает возлюбить убогих и нищих, вдов и сирот, обличает богачей, не помогающих бедным. Он критиковал показную помощь как несоответствующую христианскому идеалу. М. Грек обращал внимание в своих проповедях на людей свободных от стремления к обогащению, исполняющих евангельские заповеди, «посредством которых скоро и удобно достигается ими самая главная добродетель – любовь к Богу и ближнему своему»[18, 477]. Особенную требовательность он проявлял к монахам: «вместо постов великих и бдений лучше бы человеколюбие показа к нищим»[2,124]. Данным требованием Максим Грек вступает в некоторое противоречие с православной традицией, однако, оно характеризует ценностные ориентиры Древней Руси. Здесь, показательно то, что милостыне он отдаёт предпочтение перед молитвой и постом. Вероятно, мыслитель этим выражением не пытался принизить значение этих действий, он скорее выступал только против показного благочестия, за которым скрывались грубые нравы, бесчеловечность. Мыслитель сетовал, что смысл подлинного милосердия чужд ревнителям показного благочестия. Более поздний памятник «Домострой» (XVI век) предлагая подробное описание дел милостей материальных и духовных: «…и недруга накорми…, поспеши с открытым сердцем и чистой совестью к больному, к страждущему, вглядись в его беду, скорбь, нужду… прощай искренне кающегося и исправляющегося, никого не оскорбляй…»[19, 75] также акцентирует внимание на необходимость их положительной мотивации. Т.Е. Покотилова отмечает, что учение о братолюбии и милосердии трактуется русскими проповедниками специфично: милостыне наряду с самим фактом крещения придаётся такая «спасающая» сила, что покаяние, пост, лишение, все другие религиозные таинства уходят на задний план[22, 26] . В условиях двоеверного синкретизма, ставшего следствием тесного соприкосновения нового мировоззрения с дохристианской культурой, происходят определённые изменения, как в содержательной части христианского вероучения, так и связанных с ним представлениях, в том числе взглядах на мотивацию благотворения. Здесь речь идёт о том, что христианские идеалы получают «более земную» интерпретацию, что проявляется в редукции всего спектра идеальной (должной) христианской мотивации благотворения к мотиву искупления с помощью милостыни. Это проявляется в том, что древнерусские авторы гораздо чаще пишут о спасительной силе именно милостыни, а не любви к ближнему и подлинного милосердия. Так, пытаясь осмыслить проблему милосердия, древнерусские авторы используют следующие понятия: «милосердие», «милость», «милование», «милостыня». Наблюдения М.В. Фирсова за семантическим изменением этих понятий позволяют также сделать вывод о том, что в XI - XII вв. названные понятия не были дифференцированы и являлись тождественными[29, 46]. 214 Относительно быстрое укоренение в мировоззрении православного населения мысли о том, что щедрая и регулярная милостыня – решающий и достаточный, наряду с крещением, фактор, обеспечивающий «спасение», Т.Е. Покотилова связывает с овеществленностью, относительной простотой в осуществлении и быстротой исполнения данного «очищающего» акта, понятного и притягательного для бывших язычников, а также его близостью не ушедшим еще совсем в прошлое традициям братства и равенства, свойственным родоплеменным отношениям[22, 26] . Доказательством тому – частые и щедрые благотворительные раздачи денег великими князьями, начиная с Владимира I, носившие, как показывают источники, не показной, а обрядовый характер. Примеры князей вызывали адекватные действия в древнерусском обществе: в летописях и житиях святых дела милосердия предписываются всем лицам, выделявшимся из среды своих современников особыми нравственными качествами. Однако укоренение нищелюбия не означало смягчения нравов древнерусского общества. Так, митрополит Макарий (Булгаков) (1816-1882) описывая историю русской церкви большое внимание уделяет состоянию веры и нравственности русского общества в рассматриваемые периоды. Он также отмечает милосердие и щедроты князя Владимира, его детей – Бориса, Глеба, Ярослава и других князей. Однако, говоря, что милосердие к бедным и страждущим было одной из господствующих добродетелей того времени, автор сетует на то, что «несравненно больше мы видим тогда примеров немилосердия и несострадательности к ближним, даже жестокости и бесчеловечия»[8, 310], которые составляли главный нравственный недостаток своего времени. Скорее всего, автор в данном случае имел ввиду тот факт, что церковь и государство пытались приобщить верующих к делам милосердия, декларировали милосердие как высший нравственный принцип, однако чаяния церкви не всегда совпадали с реалиями жизни древнерусского общества. Именно спецификой мотивации благотворения Т.Е. Покотилова объясняет отсутствие стройной системы благотворительности в период с X по XVII века на Руси. Основными причинами этому были, во-первых, позиция церкви в понимании истинно христианской благотворительности: правильной и плодотворной, по мнению теологов и иерархов, она могла быть при свободном совершении её по побуждениям религиознонравственным, по истинно христианской любви к ближним, которая сопровождается осознанием их существенных потребностей, материальных и духовных. Во-вторых, и это ляжет в основу специфики традиций российской благотворительности, укоренение в общественном сознании понимания милостыни как самого серьёзного, наряду с крещением, «спасающего» акта в жизни православного[22, 27]. Позиция церкви, которая обосновала принцип оказания помощи по духовно-нравственным побуждениям, но без выяснения обстоятельств и причин нужды, приводила к развитию профессионального нищенства. Создание системы благотворительности не могло входить в планы русской православной церкви, так как для церкви важнее было воспитать любовь к Богу и ближнему, милосердие. В основе её огромной собственности лежал со времён церковного Устава Владимира I краеугольный тезис: «Церкви богатство - нищих богатство». Нищенство, возникшее в условиях социальноэкономического неравенства и множившееся в Древней Руси, благодаря многочисленным социальным и военным катаклизмам, получает с приходом православия статус святости, зачастую превращаясь из причины и основного объекта древнерусской благотворительности в её следствие. Выступавшая с проповедью получения вечной жизни за счёт раздачи своего имущества в пользу бедных и в свою пользу, русская православная церковь в сочетании с взращенными ею обычаями государей, бояр и богатых людей устраивать по случаю разных семейных событий общие трапезы и раздачи денег для нищих и убогих, способствует, таким образом, преимущественному развитию благотворительной помощи в её самой примитивной форме, - подаче копеечной или «ручной» милостыни, несущей в себе элементы 215 случайности и неразборчивости. Всё это, в сочетании с неразвитостью экономики, частыми войнами, повторявшимся голодом влекло за собой появление и количественный рост притворного или профессионального нищенства. Проблемы отношения к нищенству, их индульгентного принятия в общественное пространство как особой социальной группы, своеобразной культуры нищелюбия тесно связаны с мотивацией благотворения в Древней Руси. Трансформация христианского императива «Возлюби ближнего...» в древнерусское нищелюбие обусловила не только комплекс социальных проблем, связанных с феноменом профессионального нищенства, но и повлияла на мотивацию благотворения. Позиция В.О. Ключевского относительно мотивации благотворения неоднозначна. Историк отмечал, что любовь к ближнему в Древней Руси полагали, прежде всего, в подвиге сострадания к страждущему, её первым требованием признавали личную милостыню: «Человеколюбие на деле значило нищелюбие». Причем благотворительность была не столько средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: в ней больше нуждался нищелюбец, чем нищий: «Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слёзы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, несмотря на его слёзы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то чувство, которое называется человеколюбием»[30,76]. Древнерусский благотворитель, «христолюбец», менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования». Здесь историк отмечает доминирующий мотив древнерусской мотивации благотворения – мотив духовнонравственного совершенствования, фактически отрицая мотив гражданской ответственности, прагматические мотивы. Вместе с тем, В.О. Ключевский акцентирует внимание и на сотериологической мотивации - нищий для благотворителя был лучший богомолец, в подтверждение своих слов автор приводит поговорку: «Нищий богатым питается, а богатый нищего молитвою спасается». Таким образом, он понимает благотворение как «спасающий акт» в жизни православного христианина. Обратимся к попыткам осмысления феномена нищенства древнерусскими мыслителями. Можно обозначить две точки зрения на эту проблему. Так, М. Грек рассматривал нищенство как институт социального воспитания, необходимый для гармонизации отношений всех слоёв общества. М.В. Фирсов обращает внимание на то, что в качестве примера древнерусский мыслитель приводит западное нищенство. Приводя примеры о добровольном нищенстве как монашеском подвиге, он раскрывает «технологию», «способ подаяния». Сбор милостыни осуществляется по определенной системе: «...обходят дома, находящиеся на одной улице, и просят Господа ради хлеба на братию»[29, 77] . Но главной особенностью западного нищенства является то, что к нему добровольно приобщаются богатые и благородные люди — стержень христианских традиций и института нищенства. «Это бывшие прежде благородные и богатейшие люди, которые, подражая господней нищете, добровольно делаются нищими и не стыдятся послужить нуждам своей обители, без ропота и раздумий»[29, 77]. М. Грек мечтал о своеобразной культуре нищенства как культуре равенства и справедливости, воспитывающей у всех членов общества благородные чувства, то есть он идеализировал нищенство. Другой взгляд на нищенство, попытка оценить его со светских позиций принадлежит Епифанию Славинецкому. Сочинение «Слово о милости и кии просящих достойни суть милости, кии же ни» Епифания Славинецкого — одно из первых светских представлений о сущности милосердия. В основу милосердия им положен принцип богоуподобления и любви к ближнему. Автор широко понимал общественное призрение, выделяя в нем три уровня поддержки: помощь духовную, помощь инсти- 216 туциональную, «нищепиталище долгое», и помощь традиционную, «нищепиталище общее». Впервые Епифаний Славинецкий рассматривал «людей церкви», нищих не только как заступников перед всевышним, но и как тунеядцев, обманом промышляющих и спекулирующих на добрых чувствах христиан. Для того чтобы профессиональное нищенство не распространялось, автор предлагал молодым и здоровым предоставлять работу и «иные рукоделия». Он разработал теорию борьбы с нищенством и помощи нуждающимся. В проекте учитывался тот факт, что не все могут обращаться за помощью, поэтому необходимо направление ее нуждающимся. Большое место уделяется превентивным мероприятиям против нищенства. Такая эволюция взглядов от идеализации нищелюбия к попыткам его критического осмысления неслучайна. Несмотря на то, что нищелюбие было призвано воспитать «навык и умение любить человека» на практике оно становилось основой как социальных, так и духовно-нравственных проблем. По нашему мнению, именно тезис «Человеколюбие на деле значило нищелюбие» объясняет такие парадоксы нравственной жизни русского общества, когда дворянин, помещик мог творить милостыню, активно помогать церкви, при этом считая нормой жестокое отношение к ближним (крестьянам). В капиталистический период этот поведенческий стереотип получил отражение в деятельности предпринимателей, которые с одной стороны активно жертвовали нуждающимся, а с другой - жестоко эксплуатировали рабочих, в том числе, женский и детский труд. Интересно то, что в основу благотворения автором положен принцип любви к Богу и ближнему, но, вместе с тем, он впервые предлагает дифференцированный подход к нуждающимся вопреки церковному принципу подачи милостыни. Вместе с тем, с усвоением христианских ценностей феномен тайной милостыни получал значительное распространение в Древней Руси и в дальнейшее время, что доказывает доминирование религиозных мотивов помощи ближнему над прагматическими, своекорыстными. Л.А. Тульцева понимает под тайной (тихой) милостыней «русский православный обычай тайной раздачи милостыни сиротам, вдовам и другим страждущим»[27, 90] . Автор поясняет - на окне избранного дарителем дома он незаметно оставлял свечи, холст, продукты, деньги. Никто никогда не знал имени милостынника, т.е. того, кто творил или раздавал милостыню. В этом заключалась суть обычая, который на практике был своего рода ступенью к индивидуальному нравственному подвижничеству. Е.Л. Дубко даёт следующие характеристики тайным благодеяниям, в нашем случае - речь о тайной (слепой) милостыне: «…раритет, казус, парадокс, перверсия морального сознания, мистериозный продукт процесса десекуляризации морали, таинственный акт…, тип взаимопомощи среди простых людей, элемент культуры бедности, прививка против тщеславия…, небольшая ниша для деятельной добродетели в ожесточившемся мире, коллективистское начало…»[4, 73] . Автор отмечает, что тайные благодеяния базируются всегда на религиозных чувствах. Одним из факторов мотивации древнерусской благотворительности является специфическое отношение в русской культуре к нищенству, связанное также с благоговейным отношением к увечным, больным людям, страдающим от тяжелых недугов, имеющим ограниченные возможности для жизни и деятельности в неприспособленном для них окружении. В традиционной языческой, а позднее и в православной культуре им было уготовано особое место. Л.А. Темникова отмечает: «Так же, как отличались их внешний вид и поведение от остального сообщества, так же, и их положение в социокультурном хронотопе было не обычным, не профанным, земным и мирским, но сакральным, окрашенным в священный цвет печатью Бога»[26, 15-16]. В связи с тем, что люди, болезненно отличающиеся своим видом и поведением, вызывали и у окружающих священный (сакральный) трепет, благочестие (пиетет), 217 готовность броситься им под ноги, поделиться с ними своим последним добром, Л.А. Темникова называет это побуждение мотивом сакрального пиетета [26, 15-16] . Специфическое отношение к богатству на Руси, сформировавшееся под влиянием православных ценностей, на наш взгляд, также выступает как фактор мотивации благотворительности, так как богатство возлагало особую ответственность за судьбу ближнего. Н.Я. Данилевский одним из определяющих духовных параметров русской цивилизации называет нестяжательство, преобладание моральных приоритетов над материальным[3, 58], вероятно, поэтому рассуждения о милосердии, милостыни - в контексте осуждения сребролюбия, богатства. «Милость», «милосердие» - обязанность всех людей, в особенности - людей состоятельных. Ведь с одной вороны христианство утверждает добровольную нищету (Мф. 19; 16-21). Но с другой стороны уже ранние Отцы Церкви, и, в частности, Климент Александрийский, начинают истолковывать эту проблему в духовном плане, как проблему прежде всего внутренней жизни, привязанности человека к миру. Так, в слове о святых преподобных отцах Феодоре и Василии сказано: «как мать всему благому есть нестяжание, так и корень и мать всему злому сребролюбие.». Лествичник говорил: «…кто не любит богатства, Господа возлюбит и заповеди его сохранит»[16, 571] . Итак, богатство не цель, а орудие, с помощью которого можно угодить Богу. В сочинении «Наказание богатым» Изборника 1076 года человеку, удостоившемуся богатства от Бога, предписывалось отдать его неимущим, прощать чужие долги, осуществлять благотворительную деятельность тем самым, осуществляя один из основных принципов картины мира Древней Руси – принцип справедливости. М.В. Фирсов отмечает: «Принцип взаимной любви, доброты и милостыни выступает здесь универсальным и абсолютным условием упорядочения абсолютно всех сфер и уровней социальных отношений, единственным средством гармонизации последних, основной базой, на которой должно быть основано все происходящее в общественной и личной жизни»[29, 39]. В данном контексте очевидна параллель с ветхозаветным принципом правды-справедливости. Авторитетные представители церкви не только декларировали принципы христианского отношения к богатству, но и примером своей жизни их доказывали. О святителе Новгородском Ионе (ум. 1470) сказано: «Он получаемое богатство не для себя копил, но отдавал в общественное имущество всех живущих с ним, принося этим помощь обители»[23, 83] . Максим Грек о таких людях писал следующее: «Они не пекутся о том, как приобрести в изобилии имения, и богатства, и стада разного скота или большие земные сокровища, золото и серебро. Одно у них в изобилии богатство и сокровище неистощимое - прилежнейшее хранение и исполнение всех евангельских заповедей, посредством которых скоро и удобно достигается ими самая главная добродетель - любовь к Богу и ближнему своему... Непрестанно посвящают себя служению людям»[18, 477] . Стихи покаянные второй половины XVI века также свидетельствуют о соотношении богатства и милосердия, любви к ближнему в системе нравственности: О житье моём, житье клирошанина, / Призадумался я, недостойный…/ О безумная скупость! / О нелюбовь к ближнему! / Красуясь и кичась Богатством больше мирских людей, / Странников и бедных людей не милуя, / Но и обижая…[20, 150] . В этом отношении интересны и теоретические размышления Ермолая-Еразма Полоцкого и Иосифа Волоцкого. Иосиф Волоцкий защищал идею сильной и богатой церкви, связывал ее не с самодостаточностью церкви как таковой, а с ее «социальными задачами». Иосиф Волоцкий стремился к богатству (не личному, а ИосифоВолоколамского монастыря), не во имя стяжания, а во имя расширения возможностей для творения благотворительных и Богу угодных дел. Для окрестного населения монастырь всегда являлся источником хозяйственной помощи[9, 338] . 218 Ермолай-Еразм утверждал противоестественность почитания «богатства», злата, серебра, поскольку это противоречит сущности человека, сотворенного по образу и подобию Божию. Он критиковал вельмож, «насилующими коварствы обогате», деяниями своими угождающими дьяволу, а потому «душу же имуще от насильства темну» [29, 73] . Критикуя богатых, социальное неравенство, он обращается к достаточно распространенной идее возмездия или «праведного суда», в результате которого Бог «отыимет власть его». В этом видятся «милости» Бога. Но Ермолай-Еразм в своих размышлениях идет дальше, к всеобщему равенству на основе истинного покаяния богатого и принятия последним нищеты «как честнейшее богатство». Тем не менее, имеются и другие пути спасения и христианского равенства между людьми. Безусловным фактором он считает милостыня как средство достижения гражданского равенства. Но оно возможно тогда, когда подающий «низща» и «странна» не только смиренно, но «возлюбише» и «не оскорбише» ее подает, ибо в последнем случае он в смирении своем достигает прощения. Автор обращает внимание на то, что милостыню нельзя творить «у инаго убога же во вражду взял еси». В этом отношении нарушается принцип равенства и любви к ближнему. Развивая эту идею дальше, Ермолай-Еразм обосновывает ее в канонах христианского социального гуманизма, где помощь оказывать необходимо не только бедным и нищим, но и к представителям других религий, к врагам. Видя в социальном равенстве высшее предначертание, когда помогая другому, Бог помогает тебе, «имать бо истинную надежду Бога, иже не оставит его гладана и нага», он тем не менее критикует современную ему церковь, которая «соблюдает злато и серебро и мшел надежи ради снедей и риз» [29, 74] . Достаточно сильным побуждением к благотворению в Древней Руси был социально-политический. Побуждением к помощи нуждающимся здесь являются не личные религиозные убеждения, а осознание необходимости этих мер для поддержания стабильности государства и укрепления своей власти. Тема ответственности и обязанности заботиться о подданных была поднята ещё в Ветхом Завете, например, в обращении царя Давида к Соломону. В Древней Руси впервые тема «милостивой» деятельности и ответственности правителя за свои поступки появляется у Нестора в «Повести временных лет». По словам Нестора, вся ответственность за бедствия на Руси лежит на ее правителях. Но когда они следуют заветам церкви, происходит расцвет Русской земли. Эти положения раскрываются в трудах Иллариона, где в качестве аргументов он приводит факты из жизни князя Владимира. Илларион (сер. XI в.) – митрополит Киевский, оратор, писатель, церковный деятель в «Слове о Законе и Благодати» раскрывает учение о богоустановленности власти, в контексте которого отмечает, что мирское правление должно строится на принципах милосердия. Рассматривая княжение Владимира Святого как «образцовое», митрополит Илларион выделяет несколько причин: «закон был предтече и служителем благодати и истины», отказ от идолопоклонства, принятие «спасительного учения». Эти главные стороны его общественного реформирования, а также «щедроты и милостыни», творимые князем и особо хранимые в памяти народной, привели к социальной стабильности. В своей совокупности социальная деятельность князя Владимира построена на основе христианских представлений о милосердии, а потому и считалась идеалом и образцом для подражания следующим правителям. Следуя христианской теории о богоустановленности власти, древнерусские мыслители обращают внимание князей на необходимость соответствовать своему статусу – быть подобными милосердному Богу. Так, Ф. Печерский в посланиях к князю Изяславу призывает его быть милостивым по отношению ко всем людям независимо от их веры и национальной принадлежности. Забота о народе, о социально ущербных слоях общества – тема, поднимаемая Владимиром Мономахом, Даниилом Заточником. Для призрения князьям рекомендуется выделять десятину из своих доходов. Будучи помазанниками Божьими, представители власти должны вершить суд не только 219 по справедливости, но и милосердно, ибо «елей они принимали как символ человеколюбия Божия». Милосердие в этом случае является непременным атрибутом власти, ее свойством. Государство, предоставившее церкви с X века монополию на благотворение, к XVI веку, как институт, наиболее заинтересованный в создании действенной системы помощи нуждающимся и ограничении нищенства, в условиях становления и укрепления самодержавной власти со времён Стоглавого Собора 1551 года предпринимает попытки инициации и проведения в жизнь мер по созданию системы организованного призрения. Иван IV, Борис Годунов, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич в период от созыва Стоглавого Собора по поводу желательности организованного призрения до принятия в 1682 году первого указа по борьбе с нищенством на фоне его дальнейшего роста, особенно в условиях смуты, смены династий, не переломили, тем не менее, в русском обществе традиций в отношении к смыслу и способам оказания благодеяния. Более того, именно государи и их семьи первыми эти традиции соблюдали, устраивая регулярные раздачи щедрой царской милостыни. В связи с этим, Иван Пересветов в «Большой челобитной» (XVI век) говорит о заботе о социально уязвимых слоях населения не только как о христианском догмате, но и как об общем условии «социальной политики». Так, милосердие необходимо государю, ибо оно способствует сохранению его доброй славы. Поддерживать нищих в тяжелый для них час необходимо поскольку «и они будут в тяжелый час твоей опорой. Так ты сохранишь свой закон и укрепишь свое царство». Рассказывая о государственном управлении молдавского царя Константина, Пересветов обращает внимание на то, что обнищание воинства, переход его и другую социальную группу приводят к государственным конфликтам, «так что впустил в свое царство междоусобную войну своих вельмож и во всем прогневал Бога» [29, 75]. Иван Пересветов, негативно относящийся к правлению Бориса Годунова, анализирует действия императора Тита применительно к российским условиям. «Вдовствующее» состояние московского государства он видит прежде всего в том, что «выгнав из города» «скитающихся по миру нищих», в злобе, своей правитель восстал «на самого Бога». Отсюда все беды и социальные потрясения, которые обрушиваются на Московское государство. Причем в своей притче он говорит об ответственности власти за свои поступки, нарушающие извечные христианские законы справедливости, призывает к ответственности и преемственности в политических реформах власть держащих, чтобы они не оставляли народ один на один со своими проблемами, подобно оставшейся после мужа вдовы, «которая находится во власти своих же собственных рабов» [29, 77] . Новое рациональное начало в делах милосердия, благотворения как основы внешнего порядка находит отражение в Посланиях Федора Карпова. Государственное управление должно включать в себя и определенные «милости». Именно на сочетании «правды» и «милости» достигается социальная, стабильность, - защита нуждающихся, «слабых», контроль «бесчинных». Именно таким должно быть государственное управление, а следовательно, мир и порядок в обществе. «И это все делается правдой, и милостью, и истиной. Из-за милости ведь правитель и князь поданным весьма любим, а из-за истины его боятся. Ибо милость без правды есть малодушество, а правда без милости есть мучительство, и оба они разрушают царство и всякое общежитие. Но милость, правдой поддерживаемая, а правда милостью укрощаемая, сохраняют царю царство на многие дни». Имеется в виду распространенная концепция божественного «справедливого возмездия», которое наступает, когда правитель нарушает христианские законы справедливости. Иван Пересветов, негативно относящийся к правлению Бориса Годунова, анализирует действия императора Тита применительно к российским условиям. «Вдовствующее» состояние московского государства он видит 220 прежде всего в том, что «выгнав из города» «скитающихся по миру нищих», в злобе, своей правитель восстал «на самого Бога». Отсюда все беды и социальные потрясения, которые обрушиваются на Московское государство. Причем в своей притче он говорит об ответственности власти за свои поступки, нарушающие извечные христианские законы справедливости, призывает к ответственности и преемственности в политических реформах власть держащих, чтобы они не оставляли народ один на один со своими проблемами, подобно оставшейся после мужа вдовы, «которая находится во власти своих же собственных рабов» [29, 78] . Итак, в XVI веке «милосердие» возводится в ранг государственных добродетелей, которые, в свою очередь, являются необходимым условием для сохранения «закона и укрепления царства». Заключение Таким образом, мотивация древнерусской благотворительности основывалась, вопервых, на двух системах ценностей – древнеславянской и христианской. Во-вторых, проблема мотивации благотворения в Древней Руси была тесно связана со спецификой русского отношения к феномену нищенства и к богатству. Можно выделить следующие мотивы благотворения в Древней Руси: - прагматический, основанный на реципрокных и редистрибутивных связях, находивший свою реализацию в общинной взаимопомощи у славян. Ценности – справедливость, коллективизм; - мотив духовно-нравственного совершенствования; - христианские мотивы: 1) сотериологически-эсхатологический мотив, особенно следует выделить искупление; 2) любовь к Богу и ближнему, обусловливающая милосердие, сострадание; 3) мотив сакрального пиетета, то есть мотив специфического отношения к нищенству, людям, страдавшим тяжелыми недугами как к богоизбранным людям, молитвенным ходатаям; - социально-политический мотив – это побуждение, основанное на стремлении сохранить или распространить свое влияние в обществе. Список литературы 1. Горский, В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХI- начала ХII в. - Киев: Наукова думка, 1988. – 212 с. 2. Громов, М.Н. Максим Грек. - М.: «Мысль». 1983. 199 с. 3. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа. - М.: Древнее и современное. ГУП Чехов. полигр. комб., 2002. – 548 с. 4. Дубко, Е.Л. Всегда ли добрые дела надо делать в тайне? // Вестник Московского университета. 2003. № 4 С. 73-81. 5. Дюркгейм, Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. - М.: Канон, 1995. – 349 с. 6. Изборник: (Сборник произведений литературы Древней Руси). – М.: Худож. лит., 1969. – 800 с. 7. Ключевский, В.О. Добрые люди древней Руси. - М., 1915. – 30 с. 8. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История русской церкви. Кн. 2. - М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 1995. – 702 с. 9. Миронов, Г.Е. История государства Российского: Историко-библиографические очерки. XIX век. - М.: Издательство «Книжная палата», 1995. – 383 с. 10. Нещеретний, П.А. Исторические корни и традиции развития благотворительности в России. - М.: Издательство «Союз». 1993. – 31 с. 221 11. Осипова, О.С. Жизнь в системе традиционных ценностей древних славян и русского народа // Жизнь как ценность. Сборник статей.- М., 2000. // Режим доступа: http: //filosof.historic.ru./books/item 12. Осипова, О.С. Славянское языческое миропонимание. Философское исследование // Волшебная гора. 1997. № 6. С. 200-211. 13. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Выпуск первый. / Под ред. проф. А.И. Пономарёва. - СПб.: Издание журнала «Странник», 1894. – 200 с. 14. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Выпуск третий. / Под ред. проф. А.И. Пономарёва. - СПб.: Издание журнала «Странник», 1897. – 228 с. 15. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы: XI – начало XII века. (Выпуск 1). / Сост. Д.С. Лихачёв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1978. – 413 с. 16. Памятники литературы Древней Руси. XII век. (Выпуск 2). / Сост. Д.С. Лихачёв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож.лит., 1978. – 704 с. 17. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. (Выпуск 3). / Сост. Д.С. Лихачёв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1981. – 616 с. 18. Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. (Выпуск 6). / Сост. Д.С. Лихачёв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1984. – 768 с. 19. Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. (Выпуск 7). / Сост. Д.С. Лихачёв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1985. – 638 с. 20. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. (Выпуск 8). / Сост. Д.С. Лихачёв, Л.А. Дмитриев. – М.: Худож. лит., 1986. – 640 с. 21. Православная вера и традиции благочестия у русских в 18-20 веках. Этнографические исследования и материалы. - М.: Наука, 2002. – 469 с. 22. Покотилова, Т.Е. Благотворительность в социальной истории дореволюционной России: мировоззрение и исторический опыт: Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук (07.00.02) / Т.Е. Покотилова. - Ставрополь, 1998. - 39 с. 23. Скурат, К.Е. Православные основы культуры в памятниках литературы Древней Руси. – М.: Изд. дом «Покров», 2003. – 128 с. 24. Соловьёв, С.М. Сочинения. Кн. 1. История России с древнейших времён. – М.: Мысль, - Т. 1. 751 с. 25. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М., 1995. 26. Темникова, Л.А. Благотворительность в контексте духовного развития общества: Автореферат диссертации на соискание степени кандидата социологических наук (22.00.06) / Л.А. Темникова.- Белгород, 1996. 30 с. 27. Тульцева, Л. А. Тайная милостыня // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII – XX веках. Этнографические исследования и материалы. – М.: Наука, 2002. – С. 90 – 100. 28. Фирсов, М.В. Социальная работа в России: теория, история, общественная практика: Автореферат диссертации на соискание степени доктора исторических наук (07.00.02.) / М.В. Фирсов. – М., 1997. – 59 с. 29. Фирсов, М.В. История социальной работы в России. - М.: Владос, 1999. – 246 с. 30. Флоренский, П.А. Христианство и культура. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2001, - 672 с. 222 VALUE AND MOTIVE BASIS OF CHARITY IN ANCIENT RUSSIA E.P.Belonozhko1), A.M. Kapustina2), 1) Belgorod State University, Preobrazenskaja St., 78, Belgorod, 308000, Russia, e-mail: [email protected] 2) Belgorod State University, Preobrazenskaja St., 78, Belgorod, 308000, Russia. The article deals with the attempt to reveal and analyze value and motive basis of charity IN Ancient Russia. The problem of motivation in general, and also of motivation in Ancient Russia, is rather actual and not much explored. The survey is the philosophical analysis of ancient Russian literature documents and historical researches. The motivation of charity in Ancient Russia is tightly linked to the specifics of Russian relation to the richness and poverty. The main motives of charity in Ancient Russia are pragmatic, spiritual and moral, Christian, soteriological, eschatological, love towards God and people, sacral piethesis, social and political. Key words: motive, charity, values and motives, soteriological motive, eschatological motive. 223 УДК 321.1 НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ В ВИЗАНТИЙСКОЙ МОДЕЛИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ Т.М.Пенская, Белгородский государственный университет, 308007. г. Белгород, ул. Студенческая, 14, e-mail: [email protected] В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой формирования и развития византийской модели императорской власти и ее особенности. В основу работы было положены результаты исследования соотношения в этой модели двух начал – «небесного» и «земного», которые олицетворяли соответственно римско-эллинистическую и иудео-христианскую концепции верховной власти, каждая из которых своими корнями уходила в далекое прошлое. Отмечено, что попытка византийских мыслителей соединить два этих начала, разных по природе и сложных по своей внутренней структуре, привела к противоречивости самой византийской модели императорской власти. Показано, что сами византийцы, осознавая эту противоречивость, попытались найти выход из этой ситуации, обработав доставшуюся им в наследство римскую политическую модель в христианском духе. При этом они разделили императора как человека, облеченного верховной властью, и Императора, управляющего земным царством подобно тому, как Господь управляет царством небесным. Ключевые слова: Византия, византийская религиозно политическая мысль, церковь и государство в Византии Ей, царю непобедимый, Око мира, свет вселенский, Всех владык хвала и слава, Всех царей краса и диво! Фотий. Похвальное слово христолюбивому владыке Василию [1,40]. Мы не случайно избрали в качестве эпиграфа к этой статье отрывок из панегирика, сочиненного патриархом Фотием в честь императора Василия I Македонянина, основателя Македонской династии. Возникшая на руинах Риской империи империя Византийская ан протяжении большей части Средневековья выступала в качестве живого олицетворения славы и традиций «Ветхого Рима», образцом для подражания и предметом одновременно и почитания, и ненависти со стороны окружавших ее варварских государств. Осознано или нет, но практически все они в своей политике так или иначе стремились подражать империи, воспроизводить в своих условиях ее институты, и в особенности властные структуры. Как отмечала отечественный медиевист З.В. Удальцова, «…вплоть до создания на Западе империи Карла Великого варварские королевства – пусть номинально – признавали верховную власть константинопольского императора; варварские короли почитали за честь получать от него высшие имперские титулы и пышные инсигнии своей власти, при дворах западных правителей чеканили монеты, имитирующие византийские солиды. Долгое время многие правители Юго-Восточной и Западной Европы стремились подражать обычаям и нравам византийского двора, использовать систему 224 византийского государственного управления и дипломатии в качестве образца при создании административного аппарата в своих странах» [2, 98]. В первую очередь это касается верховной власти, власти монарха, так как христианское учение исходило из того, что монархия является идеальной формой правления, отражением небесного единовластия. И, естественно, что Византия, унаследовавшая частицу того идеального монархического государства, возникшего в результате слияния Римской Империи и христианской Церкви при императоре Константине (который быстро превратился в почти мифическую фигуру, идеального, образцового императора), выступала, как было отмечено выше, в качестве образца. Изучение византийской модели власти монарха представляет поэтому значительный интерес как с точки зрения политологической как образца, на который равнялись варвары, формируя свою систему государственных институтов и свою религиознополитическую доктрину. Анализ византийской модели императорской власти помогает, т.о., лучше понять особенности складывания средневекового мировоззрения. Итак, Византия была монархией, и император занимал в политической системе Византийского государства совершенно особое, центральное место – как совершенно справедливо указывал отечественный византинист Г.Г. Литаврин, «…государство в средние века персонифицировалось в личности монарха…» [3, 328], и для византийцев Империя прежде всего представала в образе константинопольского императора, василевса всех ромеев. По этому поводу русский историк Н.А. Скабаланович совершенно справедливо заметил, что «…основой византийской государственности была идея авторитета, полного подчинения человеческой личности государству, частного общему. Применение этой идеи отразилось в Византии крайностями централизации; интересы государства сузились, из провинций перешли в столицу, из столицы во дворец и здесь воплотились в лице императора…» [4, 257]. Касаясь проблемы предыстории византийской модели верховной власти, можно отметить, что, как и в случае с идей Империи, в основе византийской концепции верховной власти лежало уходящее корнями в античную эпоху, а, точнее, во времена эллинизма, представление о верховном правителе как о «божественном муже» (θείος α’νήρ). Здесь необходимо отметить, что представления о верховном правителе как о «божественном муже», сакральном характере его власти было свойственно отнюдь не только одним византийцам. Оно было свойственно практически всем средневековым обществам. Так, характеризуя основные положения концепции королевской власти в средневековой Европе, французский историк М. Блок отмечал, что «…представления о короле, как о священной фигуре, исполненной особых сил, сочетающей в себе как религиозное отношение, так и магически-мистическое, было по сути определением социально-политической роли королей, они были «вождями народа», thiudans, пользуясь старинным германским словом» [5, 374]. При этом, как указывал французский лингвист Э. Бенвенист, в индоевропейском мире еще в глубокой древности сложились различные представления о царе и царской власти. На его окраинах, менее всего затронутых процессами переселения народов на рубеже бронзового и железного века, а именно в кельтском, латинском и индоарийском мирах царь, верховный правитель являлся божеством, тогда как у греков и германцев – человек, получивший царскую власть от верховных богов вместе с соответствующими ее атрибутами (хотя следы божественности царя прослеживаются и у греков). К примеру, в древнеиндийских «Законах Ману» говорилось: «Даже если царь – ребенок, он не должен быть презираем думающими, что он только человек, так как он – великое божество с телом человека» [Законы Ману. VII. 8]. Гомеровские же цари вовсе не являлись таковыми – в лучшем случае они были сыновьями богов от земных женщин. Как отмечал французский исследователь, «…более «современное» и более «демократическое» представление о царской власти, которое заявило о себе в греческом и германском обществе, должно было возникнуть там независимо. Оно не 225 сопровождается общими названиями, в отличие от Индии и Рима, которые чрезвычайно консервативны в этом отношении… Именно там сохраняются наиболее традиционные установления, наиболее архаичные представления, соответствующие религиозной организации, которые поддерживают коллегии жрецов… Напротив, в центре Европы великие переселения народов смели древние структуры… Для индо-иранцев царь есть божество,… но гомеровский царь всего лишь человек, который получил царское достоинство от Зевса вместе с подчеркивающими это достоинство атрибутами» [5, 261, 263]. Тщательный анализ византийской религиозно-политической теории показывает, что в ней прослеживаются следы обоих языческих подходов к оценке царской власти, но переработанных в духе христианской традиции. Вместе с тем нельзя не отметить то обстоятельство, что попытка совместить несовместимое при присущем византийскому обществу пиетету перед древностью, традицией неизбежно вела к определенной нестыковке, противоречивости византийской модели царской власти. Для первохристиан император никак не мог быть живым Богом или хотя бы полубогом, поскольку Господь мог быть только один, и царство его было «не от мира сего». Однако с самого начала они рассматривали его как ставленника Господа, исполнителя его предначертаний. Апостол Павел в своем послании к римлянам писал, что «…начальник есть Божий слуга, тебе на добро…Он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое …» [Рим 13, 4]. Таким образом, даже языческий император для христиан был не просто человеком, но носителем власти, поставленным самим Господом, которому надлежит повиноваться не за страх, а на совесть. Император, как уже говорилось выше, предстает исполнителем Божественной воли, даже если сам он не верит в Него и в его всемогущество. Однако до тех пор, пока император не стал христианином, а Империя – христианским государством, проблема выбора между Богом и императором, между Империей и Церковью, между долгом гражданина и верой оставалась острой, неоднократно приводя к конфликтам между властью и христианами. Разрешить противоречие можно было только одним путем – «спустить» императора с небес на землю, но вместе с тем придать ему особый статус, возвышающий его над любым смертным – статус не только избранника Господа, но и его наместника на земле. Однако разрешить эту проблему оказалось сложнее, чем можно было представить, хотя бы в силу того, что в этом вопросе столкнулись две древние и мощные традиции – античная греко-римская обожествления государя и иудейская, восходящая к ветхозаветным царям, идея верховного правителя как наместника Бога на земле. Кроме того, даже эти традиции были неоднородны по своей сущности, неся внутри себя следы как глубокой древности, так и относительно недавнего прошлого. Например, можно предположить, что греческая традиция восприятия царской власти включала в себя по меньшей мере два компонента – восприятие царской власти как дарованной Зевсом конкретному человеку и в то же время еще более древний контекст божественности как самого царя, так и его властных прерогатив. Не случайно Э. Бенвенист выдвинул тезис о коренном различии смыслов, вкладываемых древними греками в термины βασιλεύς и Fάναξ. Он же указывал и на прослеживающуюся определенную преемственность картины мира эсхатологического иудаизма и через него христианства и иранских представлений о ней [5, 255, 259-260]. Представления относительно особых отношений императора и богов, как было отмечено прежде, были распространены в Римском государстве с самого начала его существования. Еще Гай Юлий Цезарь подчеркивал, что происхождение его рода Юлиев восходит к самим богам, почему «…наш род облечен неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги, которым подвластны и сами цари…» [Sueton. Iul. 6]. И он не только заявлял об этом, но и подтверждал действиями – как отмечал Светоний, помимо почестей, превосходящих 226 всякие разумные пределы, «он даже допустил в свою честь постановления, превосходящие человеческий предел: золотое кресло в сенате и суде, священную колесницу и носилки при цирковых процессиях, храмы, жертвенники, изваяния рядом с богами, место за угощением для богов (выделено нами – П.Т.)…» [Sueton. Iul. 76]. Однако примечательно, что эти сверхчеловеческие почести не вызвали у римлян противодействия, более того, как подчеркнул римский писатель, после смерти Цезарь «…был сопричтен к богам, не только словами указов, но и убеждением толпы (выделено нами – П.Т.)…» [Sueton. Iul. 88]. Убит же Цезарь был вовсе не за желание уподобиться богам, а по подозрению в стремлении присвоить себе царскую власть. Преемники Цезаря последовали его примеру. Так, обожествлению были подвергнуты Октавиан Август, Клавдий, Веспасиан и Тит, Гальба возводил свой род по отцу к самому Юпитеру, а по матери – к супруге критского царя Миноса Пасифае. Все это не вызывало никакого сопротивления и неприятия среди римлян. Более того, они сами нередко выступали инициаторами причисления императоров к богам. Так, по сообщению Флавия Вописка, автора жизнеописания императора Аврелиана, войско, узнав о смерти Аврелиана, направило сенату письмо, в котором потребовали от сената причислить покойного к богам, что и было сделано сенатом [SHA. Aurel. XLI. 2, 13]. Таким образом, обожествление императоров в Риме стало скорее обычаем, традицией, нежели редким исключением, событием, из ряда вон выходящим. И такое отношение к возведению казалось, смертного человека в ранг божеств вовсе не было привилегией исключительно грубого и необразованного плебса. Античные интеллектуалы подвели под обожествление смертных своего рода разумное, рациональное объяснение. Как говорил лакедемонянин Тиндар, ссылаясь на Платона, «безначальный и вечный бог» является «отцом и создателем мира и всего прочего имеющего рождение» от присущего этому богу «рождающего начала». Следовательно, «…нет ничего странного, если бог, сближаясь не так, как человек, а какими-то другими объятиями и прикосновениями, преображает смертное тело и оставляет в нем божественный зародыш…» [Plut. Mor. VIII. I. 3]. Итак, культ императора как бога или, по меньшей мере, полубога, достаточно твердо устоялся в римской политической традиции и не вызывал антипатии, отторжения в обществе. Очевидно, что в этом сыграли свою роль как приверженность римского общества традициям, его консервативность. Однако нельзя и сключать и влияние более поздних интеллектуальных изысканий античных мыслителей. Конечно, как было уже отмечено выше, первохристиане не могли воспринимать императора как Бога и поклоняться ему или его гению. В принципе, будучи вполне лояльными гражданами Империи, они молчаливо соглашались с существованием императорского культа, но лишь до тех пор, пока перед ними не вставал выбор – или вера, или исполнение гражданского долга, который, в частности, заключался в поклонении императору. Как правило, их выбор был однозначным – вера стояла на первом месте. Именно отказ от поклонения императору был одной из причин, почему христиане, в отличие от других восточных сект, подвергались гонениям. Как отмечал А. Шмеман, римская религия «…представляла собой до мелочей разработанный ритуал жертвоприношений и молитв, культ, имевший прежде всего государственнополитическое значение. От соблюдения его зависело благосостояние Империи, «благорастворение воздухов», победа над врагами. Пускай это был всего лишь символ, в который почти никто не верил в эту смутную эпоху. Другого символа для выражения и сохранения единства, для воплощения своей веры в самого себя Рим не имел… И от всех своих подданных Рим требовал только одного: внешнего участия в этом государственном культе как выражения лояльности, как подчинения себя римским ценностям и включения в римскую традицию…» [6, 50]. Естественно, что отказ исполнять требования властей, пусть даже и в религиозной сфере, означал мятеж, бунт, что неизбежно вело к соответствующим санкциям со стороны государства. 227 Однако положение постепенно меняется к концу III в. н.э. по мере распространения христианства в Империи и роста числа христиан, среди которых становится все больше не только плебеев, но и людей из высших слоев общества. Стоит согласиться с мнением А.Д. Рудокваса, указывавшего, что среди этой массы новообращенных было весьма немало людей «с весьма неустойчивым мировоззрением и смутным понятием о доктрине христианства». Это обстоятельство вкупе с тем, что наиболее стойкие приверженцы «чистого» христианства понесли наибольшие потери в годы гонений, обусловили возможность «даже тех компромиссов, которые были бы немыслимы для христиан в более ранний период». Естественно, что изменяется и отношение христианской интеллектуальной элиты к императорскому культу – «…она переходит от равнодушно-индифферентного отношения к императорскому культу к его восприятию и приспособлению к реалиям "христианской империи", заимствуя терминологию и часть доктрины этого культа, но корректируя ее для приспособления к общей системе христианской теологии. Это было тем легче, что стройной догматики как цельной системы императорский культ не имел» [7]. Превращение христианства при Константине Великом сперва в одну из разрешенных наряду с другими культами, а затем, уже при Феодосии Великом – в господствующую и единственную религию Империи вовсе не означало, что прежнее языческое отношение к императору как к Богу немедленно отмерло и ушло в прошлое. Исследовавший эту проблему по отношению к поздней Римской империи А.Д. Рудоквас отмечал, что переход от язычества к христианству в поздней Римской империи осуществлялся не революционным, а эволюционным путем, и это, в свою очередь, обусловило «…выживание в течение достаточно долгого времени многих культурных феноменов, немыслимых в последующую эпоху безраздельного господства церкви и церковного мировоззрения» [8]. В полной мере это коснулось отношения к императору и императорскому культу как одного из неотъемлемых атрибутов его как политического и религиозного института поздней Римской и ранней Византийской империи. В новых условиях, несмотря на то, что христианство стало господствующей религией, тем не менее, языческие тенденции в императорском культе не только не умерли, но и продолжили свое существование. На первых порах они носили ярко выраженный характер – так, по сообщению римского историка Секста Аврелия Виктора тот же Константин учредил культ рода Флавиев в Африке [Aur. Vict. De Caes. XL. 28]. Примечательно, что если Виктор писал о Константине как об императоре, которому, если бы не отдельные черты его характера, «…было недалеко до бога» [Vict. De Caes. XL. 15], то Евтропий прямо писал, что равноапостольный император, приготовивший себе гробницу посредине 12 гробниц-кенотафов апостолов [См.: Euseb. Vita Const. IV. 60), был причислен к богам [Eutr. Х. 8.2]. Иовиан, согласно сообщению того же Евтропия, «по благоволению императоров, которые ему наследовали (а ими были арианин Валент и кафолик Феодосий Великий, нанесший последний удар по язычеству как официальному культу – П.Т.), был причислен… к Богам…» [Eutr. Х. 18.2]. Смешение языческой традиции и христианских новшеств наглядно демонстрируют и данные нумизматики. – так, на монете императора Анастасия (491518 гг.) изображена богиня Виктория Августа с крестом в руке! [14] Следы языческого по своей сути императорского культа отчетливо прослеживаются в известном труде жившего на рубеже IV/V вв. писателя Флавия Вегеция Рената «Краткое изложение военного дела». Так, например, описывая обряд военной присяги, которую давали зачисленные в легионы новобранцы, Вегеций писал: «Они клянутся именем Бога, Христа и Св. духа, величеством императора, которого человеческий род после Бога должен особенно почитать и уважать…». В этом нет ничего необычного – все поставлено в очередности строго в соответствии с христианским вероучением, и император стоит после Бога и его ипостасей. Однако 228 следующая фраза полностью выпадает из этого ряда: «Как только император принял имя Августа, ему, как истинному и воплощенному Богу (выделено нами – П.Т.), должно оказывать верность и поклонение…». И хотя далее снова следует пассаж, выдержанный в христианском духе: «И частный человек и воин служит Богу, когда он верно чтит того, кто правит с божьего соизволения» [Veget. II. 5], однако императорские imago, под которыми легионеры идут в бой, именуются Вегецием «божественными и подлинными знаменами» [Veget. II. 6]. Но если от этих писателей мирян требовать строжайшего следования христианским канонам было достаточно сложно, то как быть тогда со свидетельствами, казалось бы, таких заинтересованных в придании соответствующего «правильного» облика императорам христианской Римской империи людей, как церковные историки. Они также показывают на страницах своих трудов смешение языческой и христианской традиций. Так, арианский историк Филосторгий указывал, что христиане, жители Константинополя, «…образ Константина, стоявший на порфировом столпе,… чествовали жертвами, возжением свечей и курением, молились перед ним, как пред Богом, воссылая к нему умилостивительные прошения о предотвращении бедствий…» [9. II. 17]. Но даже если предположить, что Филосторгий преднамеренно исказил факты, будучи приверженцем еретического вероучения, то что тогда говорить о Евсевии Кесарийском. Этот апологет Константина, родоначальник жанра церковной истории, сообщал, что приглашенный ко двору Константина «…один из служителей Божьих осмелился лично назвать его блаженным и говорил, что он и в настоящей жизни удостоился автократического над всеми владычества, и в будущей станет царствовать вместе с Сыном Божьим (выделено нами – П.Т.)…» [Euseb. Vita Const. IV. 48]. Евсевий попытался примирить языческую традицию обожествления императора и христианское вероучение. И снова, как и в случае с концепцией взаимоотношений Империи и Церкви, он стал основоположником нового прочтения учения об императоре как главе христианского государства. Основы новой концепции он изложил в двух своих сочинениях – биографии Константина и панегирике в честь тридцатилетия правления императора. Главная идея, которую с присущим ему красноречием отстаивал Евсевий – император, конечно, не Бог, но он и не простой человек. Он – земное подобие Бога, своего рода Луна, отражающая лучи, истекающие от дневного светила: «… он отпечатлен по первоначальной идее великого Царя, и в своем уме, как в зеркале, отражает истекающие из нее лучи добродетелей» [Euseb. De laudibus Const. 5]. Управляя своей державой император, о чем уже говорилось выше, берет за образец самого Господа и его порядок управления всем сущим. Более того, Евсевий, пытаясь совместить языческий императорский культ и христианскую доктрину, едва ли не делает из Св. Троицы квартет, практически ставя на одну доску Господа и императора. Подчеркивая сверхчеловеческое естество императора, его непосредственную связь с Богом и его уподобленность Господу, он писал: «Единородное Слово Бога непрерывно соцарствует своему Отцу от безначальных веков в неисчислимые и бесконечные века, а друг Его, получивший свыше мудрость царствования и укрепляемый названием, одноименным Богу, владычествует через долгие периоды годов. Спаситель всех приготовляет своему Отцу благоприятными все небо, мир и вышнее царство, а друг Его приводит к единородному и спасительному Слову подвластных себе жителей земли, и через то делает их готовыми для того же самого царства» [Euseb. De laudibus Constantini. 2]. Правда, осознав опасность дальнейшего следования по данному пути, он не стал доводить идею до логического завершения, оставив ее незавершенной. Евсевий остановился на развилке, не решаясь сделать окончательный выбор. Однако впоследствии византийская мысль доработала представления Евсевия, придав им более приличествующий христианской доктрине вид. Из скрытых в концепции Евсевия 229 потенций византийские книжники выбрали то, что больше соответствовало именно древнегреческой идее царя как человека, наделенного от Бога властью и соответствующими ее атрибутами. Отсюда естественным образом вытекала идея, ставшая одной из основополагающих в византийском мировоззрении и миропонимании. С. Рансимен описывал ее сущность следующим образом: «Царь – не Бог среди людей, но наместник Бога. Он не является воплотившимся логосом, но он стоит в особых отношениях с логосом. Его особенно избрал Бог, он вдохновляется Богом, он друг Божий, он толкователь Слова Божия» [10, 153]. Следовательно, можно предположить, что греческие мыслители поздней античности и раннего средневековья попытались примирить противоречащие друг другу конструкции царской власти, содержащиеся как в иудео-христианской, так и греко-римской (точнее, римскоэллинистической) традициях. В истинно православном, христианском государстве, каким мыслила себя Византийская империя, император никак не мог быть обожествлен, ибо на земле и на небе не могло быть одновременно два Бога. Господь был один, и император теперь выступал не как живой бог, а как «избранник Господа». Как писал Евсевий, «…слугу своего единый и единственный Бог взял одного и облек его в божественное всеоружие против многих (выделено нами – П.Т.)…» [Euseb. Vita Const. I. 5]. Император выступал теперь как посланник Господа, его заместитель (‛ύπαρχος), исполнитель божественных предначертаний. «Бог – Пантократор («Вседержитель») – глава и небесного и земного порядка, император – космократор – властитель в земных делах…» – так характеризовал Г.Л. Курбатов главную идею византийской политической доктрины [11, 44]. Представления об особых отношениях между Господом и его избранником не только сохранились, но и получили дальнейшее развитие. Подчеркивая особый характер взаимоотношений императора и Господа, император Константин VII в наставлении своему сыну писал: «…Вседержитель укроет тебя своим щитом, и вразумит тебя твой создатель. Он направит стопы твои и утвердит тебя на пьедестале неколебимом. Престол твой, как солнце, – пред ним, и очи его будут взирать на тебя, ни одна из тягот не коснется тебя, поскольку он избрал тебя, и исторг из утробы матери, и даровал тебе царствие свое как лучшему из всех, и поставил тебя, словно убежище на горе, чтобы несли тебе дань иноплеменники и поклонялись тебе населяющие землю…» [12, 35]. Но и это еще не все. Из учения Евсевия Кесарийского следовало, что особа императора как Божьего избранника является священной, а его власть – своего рода священнодействием, так как, отмечал С. Рансимен, «…его (императора – П.Т.) глаза возведены горе, поскольку он ждет указания Божьего. Следовательно, его надо окружать таким почетом и славой, какие подобает земному подобию Божью» [10, 153]. Подобно Богу, император возвышался над всеми рядовыми смертными, и пышный придворный церемониал еще более подчеркивал его недоступность и удаленность от мирской суеты. Все, что было связано с императором – его дворец, придворный совет, казна, опочивальня, одеяния – все было священным, и всякое покушение на что-либо из принадлежащего императору было не просто воровством или изменой, а святотатством. Не случайно одним из символов мятежа было переобувание претендента на престол из обычной в красную обувь, которую мог носить только император. [13, VII. 1]. Император Константин Багрянородный в своих поучениях сыну подробно изложил византийскую концепцию сакральности императорских одеяний и регалий. Он писал, что «…эти мантии и венцы… изготовлены не людьми, не человеческим искусством измышлены и сработаны, но, как мы находим запечатленным словами заповедными в древней истории, когда Бог сделал василевсом Константина Великого, первого царствующего христианина, он послал ему через ангела эти мантии и венцы…, и повелел ему положить их в великой божьей святой церкви, которая именем самой истинной мудрости божьей святою Софией нарекается… Мало того, есть и заклятие 230 святого и великого василевса Константина, начертанное на святом престоле божьей церкви, как повелел ему Бог через ангела, что если захочет василевс ради какой-либо нужды или обстоятельства, либо нелепой прихоти забрать что-либо из них, чтобы употребить самому или подарить другим, то будет он предан анафеме и отлучен от церкви как противник и враг божьих повелений…» [12, 55, 57]. И снова мы здесь встречаемся с древним наследием. Как Бог, Царь не нуждается в особой атрибутике для подчеркивания своего сакрального статуса и особенного, божественного характера своей власти. Однако для царя как избранница Божия, человека, которому Господь вручил властные полномочия, таковые атрибуты просто необходимы для того, чтобы подчеркнуть его отличия от простых смертных, обделенных вниманием Господа. Но иначе быть не могло, ведь при Юстиниане оформляется не только идея симфонии, но и другая, ставящая императора на порядок выше любого простого смертного. Вскоре после вступления на престол Юстиниана диакон храма св. Софии Агапит преподнес новому владыке Империи, «божественнейшему и благочестивейшему царю нашему Юстиниану (выделено нами – П.Т.)» свое сочинение о власти императора и его обязанностях. В этом свитке, включавшем в себя 72 параграфа, содержалась весьма примечательная мысль, уходившая своими корнями в языческое прошлое Рима (и даже еще глубже, во времена, когда еще существовала единая индоевропейская языковая общность) – «существом тела царь равен всем людям, а властью своего сана подобен владыке всего, Богу. На земле он не имеет высшего над собою (выделено нами – П.Т.)…» [14, 39]. И не случайно, что при Юстиниане, преисполненного сознанием величия императорской власти и сана, византийский придворный церемониал, установившийся в общих чертах во времена Диоклетиана, был усовершенствован и еще более усложнен. «Жизнь двора замкнулась при Юстиниане в сложный этикет, в котором многое прибавилось к старому наследию в соответствии с личными свойствами императора и императрицы. Один образованный и ученый современник, магистр двора Петр, составил целый трактат о придворных обычаях, в котором давал точное описание отдельных церемоний для руководства преемникам по должности...» – писал русский византинист Ю.А. Кулаковский [14, 41]. В дальнейшем придворный церемониал продолжал развиваться и совершенствоваться в сторону еще большей пышности и величия как способа подчеркнуть величие и могущество императора. Описание пышных приемов, которые устраивали императоры, неоднократно встречаются на страницах византийских хроник [15, III]. Пышность и величие официальных приемов были призваны продемонстрировать гостям могущество и несокрушимость избранной Богом Империи. Сохранились свидетельства, отражающие психологический эффект, который оказывал величественный византийский церемониал на неискушенных в таких вопросах варваров. Так, готский историк Иордан, описывая визит готского короля Атанариха в Константинополь по приглашению Феодосия Великого, сообщал о реакции простодушного германца: «…Бросая взоры туда и сюда, он глядел и дивился то местоположению города, то вереницам кораблей, то знаменитым стенам. Когда же он увидел толпы разных народов, подобные пробивающимся со всех сторон волнам, объединенным в общий поток, или выстроившиеся ряды воинов, то он произнес: «Император – это, несомненно, земной Бог, и всякий, кто поднимет на него руку, будет сам виноват в пролитии своей же крови»…» [Iord. Get. 143-144]. Сами императоры прекрасно понимали весь эффект от пышных церемоний и приемов и активно использовали его в отношениях с варварскими посольствами и правителями. И снова сошлемся на источники. Хрестоматийным стал эпизод с посещением послов киевского князя Владимира Святославича Константинополя и их отчетом перед князем об увиденном в имперской столице: «И придохом же въ Греки, и ведоша ны, идеже служать Богу своему, и не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такаго вида ли красоты такоя, и не доумеемъ бо сказати; токмо то 231 вемы, яко онъде Богъ с человеки пребываеть, и есть служба их паче всех стран. Мы убо не можемъ забыти красоты тоя, всякъ бо человек, аще вкусить сладка, последи горести не приимаеть, тако и мы не имамъ сде быти…» [16, 49]. Несмотря на полулегендарный характер рассказа, тем не менее, не подлежит сомнению сильнейший моральный эффект, производимый византийским церемониалом, призванным подчеркнуть мощь и величие Империи и ее главы, императора, на варваров. Потому то даже на закате Империи императоры все равно стремились следовать традиции, стремясь ослепить блеском придворного церемониала как потенциальных союзников, так и врагов. Достаточно указать на описание приема, устроенного в честь сельджукского султана Кылыч-Арслана II императором Мануилом Комнином [17, 5. 3]. Очевидно, что и византийское простонародье также преисполнялось, с одно стороны, чувством собственной ничтожности перед лицом наместника Бога, окруженного великолепной свитой (достаточно привести такой пример – императрица Феодора, отправляясь на лечение на воды, взяла с собой свиту, насчитывавшую не много ни мало 4 тыс. чел. [18, 144], а с другой стороны – гордостью за свою державу, во главе которой стоит избранник Божий. Все подданные императора, от самого знатного и влиятельного сановника, даже если он и был реальным обладателем власти при марионетке-императоре, до последнего пастуха или крестьянина, были обязаны воздавать властителю земного Царства «богоравные» почести [См., например: Procop. Hist. Arc. XV. 15-16]. Пышный церемониал сопровождал императора повсюду, и не только во дворце, но и за его пределами. Выход императора из дворца превращался в чрезвычайно пышную и величественную процессию, сопровождаемую славословиями и громадным скоплением народа [Cм., например: 19. IX-X]. Придворные церемонии также были обставлены не менее торжественно и во многом были сходны с порядком богослужения [4, 269-270, 272-273], и нарушение этого порядка фактически приравнивалось к святотатству и подлежало серьезному наказанию. 84-е правило св. апостол гласило: «Аще кто досадит царю, или князю, не по правде: да понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да будет извержен от священного чина: аще же мирянин, да будет отлучен от общения церковного» [20, 30]. Это правило было подтверждено и позднее, в «Синтагме» Матфея Властаря [21]. Величественный и блистательный придворный церемониал настолько вошел в плоть и кровь византийцев, что они не могли и помыслить существование императора без них, и мятежники, претендовавшие на императорскую диадему, в знак подтверждения своих претензий, также следовали традиции, окружая себя многочисленной свитой и церемониалом. Именно так поступил, к примеру, поднявший мятеж против императора Михаила VI Исаак Комнин. Направленный к нему в качестве императорского посла Михаил Пселл оставил прекрасное описание приема, который устроил Исаак императорским посланцам [22. XXIII-XXIV]. Неумелое же подражание придворному церемониалу только вызывало насмешку и подтверждало незаконность претензий мятежника на трон. Рассказывая о попытке Феодора Комнина стать императором в Фессалониках, византийский историк Георгий Акрополит отмечал, что «…провозглашенный императором, Феодор повел дела по-царски, назначил деспотов, великих севастократоров, протовестиариев – словом, весь царский штат. Но плохо знакомый с внутренним строем царского двора, он ввел у себя порядки болгарские или, лучше, варварские. Тут не было ни чина, ни благолепия, ни древних обычаев, соблюдаемых при дворах» [23, 21]. Казалось бы, все предпринятые выше меры, призванные подчеркнуть особый статус императора, его приближенность к Богу, его отличие от рядовых смертных должны были гарантировать ему долгое и безмятежное царствование. Однако при всем при том священность императорского сана, сакральность его власти ни в коей мере не обеспечивала императору спокойной жизни. Ни один император не мог чувствовать себя вполне уверенно на троне – длинная череда византийских монархов, отошедших в 232 мир иной вследствие дворцового переворота, свидетельствует в пользу этого. И причин тому было несколько, и заключались они прежде всего в той самой противоречивости конструкции императорской власти, о которой мы говорили ранее. С одной стороны, в Византии так и не сложилась традиция наследственной передачи верховной власти. Конечно, брат, сын или племянник императора, особенно если они еще при жизни государя были официально объявлены соправителями, имели больше шансов, чем другие претенденты, занять трон. Однако даже «порфирородность» отнюдь не гарантировала безболезненность процесса передачи власти, и вот почему. Во-первых, еще раз подчеркнем, что в византийской религиозно-политической доктрине четко различались Император и император. Между ними существовала примерно такая же взаимосвязь, как между иконой и портретом. Поднимая на пьедестал Императора, византийцы вместе с тем отделяли символ, форму от их реального наполнения. «Божественным» и полновластным являлся не каждый данный император, – писал по этому поводу А.П. Каждан, – но василевс «вообще» как воплощение самого принципа императорской власти» [24, 119]. По существу, в византийском общественном сознании на пьедестал возносился Император как своего рода символ Империи, земного Царства как подобия Царства Небесного, но не конкретный грешный человек, который по воле Господа стал Императором. И любой грек, где бы он ни находился, всегда помнил об этом. Примечателен пример, который приводит византийский писатель V века Приск Панийский. Встреченный им в лагере Аттилы грек в беседе с Приском произнес весьма характерные слова: «Законы хороши, и римское общество прекрасно устроено, но правители портят и расстраивают его (выделено нами – П.Т.), не поступая так, как поступают древние» [25, 491-492]. Критика поступков конкретного императора или его свержение вовсе не означали, что византийцы против самой идеи Императора. Без него Царство земное не мыслилось вовсе точно также, как Царство небесное без Господа. «В теории империя представлялась сообществом свободных граждан, а император – главой и служителем этого сообщества. Идея долга императора действовать на благо всех подданных делала возможной критику его поступков (выделено нами – П.Т.)…» – писал по этому Г.Г. Литаврин [26, 24]. Во-вторых, если император – избранник Божий, если он правит по воле Бога, то в воле Бога его и сменить. Господь сам выбирает того, кто достоин занять престол, и сын императора или любой другой его родственник вовсе не обязательно будет преемником отца на константинопольском троне. «Теоретически это оправдывалось следующим образом: император правил, – отмечал А.П. Каждан, – опираясь на божественную помощь; коль скоро Бог перестал его поддерживать и нашел другого избранника, права прежнего императора теряли всякое значение; наоборот, удачливый узурпатор – это слуга Божий, выразитель божественной воли, достойный почестей и славословия» [24, 118]. Одним словом, «мятеж не может кончиться удачей – в противном случае его зовут иначе», и мятежник, получается, далеко не всегда виноват в том, что он выступил против законной, на первый взгляд, власти. Все в руке Божьей, писал Иоанн Киннам, «…что однажды определено Промыслом, того никак нельзя расстроить и разрушить человеческими соображениями…» [17, 2.2], и с ним согласен Михаил Палеолог, будущий император, а пока великий хартулларий, заподозренный императором Феодором II Ласкарем в стремлении к узурпации короны: «Кому Бог дает царствовать, тот не виноват, если позовут его на царство» (выделено нами – П.Т.) [27, 1.9]. Более того, как отмечал Н.А. Скабаланович, честолюбивый, решительный и смелый человек был просто обязан обратить свое внимание на престол, поскольку его качества волей-неволей возбуждали подозрение у царствующего императора. Избавиться от угрозы опалы и преследования можно было только одним способом – 233 занять трон [4, 258-259]. И что с того, что мятежник на время мятежа становился вне закона и подлежал смертной казни и отлучению от Церкви – в случае успеха и возведения на трон это не имело никакого значения. Помазание на царство очищало узурпатора, снимало с него все грехи. Как отмечал Б.А. Успенский, смысл помазания, вероятно, заключался в том, что этот обряд воспринимался «… как частичное обновление крещения…, на престол всходил как бы новый, т.е. обновленный человек…» [28, 12]. И снова необходимо подчеркнуть, что узурпатор выступал вовсе не против Императора, а против конкретного человека, занимавшего трон и от которого Бог отвернулся, лишил его своего покровительства. Тем самым мятеж (в случае успеха) утрачивал характер апостасии, святотатства, а, напротив, становился зримым свидетельством благоволения Господа к тому, кто решился исполнить его волю. И если на Западе король или император всегда оставался фигурой сакральной и в известной степени неприкосновенной, даже если утрачивал трон и власть, то в Византии все обстояло совсем иначе. Свергнутый Император переставал быть таковым, а превращался даже не в человека, а в отверженного, от которого отвернулся сам Бог и с которым победитель может то, что считает нужным. Печальная судьба свергнутого Андроника I Комнина тому яркий пример. Византийский историк оставил яркое описание жестокой казни, которой константинопольская чернь подвергла свергнутого императора [29, 2. 12]. По этому поводу С.С. Аверинцев писал, что жестокое, порой публичное умерщвление экс-императоров вовсе не означало, «…что для византийца не было ничего святого; самым святым на земле для него являлась сама империя… Империя очень свята и свят императорский сан; но саном этим должен быть облечен самый способный и самый удачливый, а если это узурпатор, пожалуй, тем очевиднее его способности и его удачливость… Византиец считал, что в политике Бог – за победителя. Своей державе византиец верен во веки веков, но своему государю – лишь до тех пор, пока уверен, что особа этого государя прагматически соответствует величию державы…» [30, 336-337]. До этого мы говорили преимущественно о связанных с Богом, «небесных» деталях византийской модели императорской власти. Но в силу отмеченной выше противоречивости этой модели в ней присутствовала и достаточно мощная «земная» составляющая. Для того, чтобы укрепиться на троне, легитимизировать свою власть, византийский император должен был заручиться еще и поддержкой трех столпов Империи – народа, синклита и армии [См., например: 31. I]. Эта традиция вела свой отсчет еще со времен Римской империи, когда новый император принимал бразды правления, получив поддержку сената, преторианцев и римского плебса. В принципе можно согласиться с мнением Г.Л. Курбатова, отмечавшего, что отсутствие традиции наследственности императорской власти и в Риме, и в Византии как наследнице Рима может быть объяснена, исходя из прежней римской республиканской традиции. «Римское право видело в императорах магистратов-исполнителей imperiuma – права распоряжаться и заставлять подчиняться, делегированного народом», – писал историк [11, 35. См. также: Dig. I. IV]. Правда, в византийской традиции выбор сената, армии и народа был дополнен еще и явными признаками благоволения Господа к кандидату. Однако так или иначе, вне всякого сомнения, корнями своими эта «выборность» императора уходила в гомеровскую эпоху, в те времена, когда царь был всего лишь человеком, получившим от богов свою власть, но от этого вовсе не ставший божеством, когда власть гомеровских басилеев оправдывалась не столько их происхождением, сколько их заслугами перед народом. Недаром в «Илиаде» Гомер вложил в уста ликийского царя Сарпедона знаменательные слова: Сын Гипполохов! За что перед всеми нами нас отличают Местом почетным, и брашном, и полной на пиршествах чашей В царстве Ликийском и смотрят на нас, как на жителей неба? 234 И за что мы владеем при Ксанфе уделом великим, Лучшей землей, виноград и пшеницу обильно плодящей? [Il. XII. 310-314] Об этом же, кстати говоря, указывал Агамемнону Ахилл, обвиняя его в том, что микенский царь желает похитить его награду, «подвигов тягостных мзду, драгоценнейший дар мне ахеян...» [Il. I. 162]. В известной степени можно говорить о том, что византийская политическая модель повторяла гомеровский идеал общественно-политического устройства, который, говоря словами отечественного эллиниста Ю.А. Андреева, может быть выражен как некий «общественный договор», основой которого является «…гармония взаимоуравновешивающихся интересов народа и «вождей». «Вожди» защищают народ и поддерживают среди него добрые обычаи и справедливость. Народ платит им за это дарами, почестями и повиновением…» [32, 176]. Этот «общественный договор» (на эту же особенность византийского мировоззрения, имевшей своей предшественницей античную идею города-государства, в котором власть зиждилась на согласии всех граждан полиса, указывает и К.В. Хвостова [33, 125]), в котором власть императора зиждилась на Божественном промысле, волеизъявлении армии, народа и его лучшей части – синклита, после завершения процесса христианизации Империи был дополнен еще и мнением клира во главе с патриархом. Его голос в случае возникновения проблем с престолонаследием был достаточно весом и не мог не учитываться императором. В конечном итоге «…византийские императоры… заботились о том, чтобы вступление их на престол было признано не только предшественником-императором, – отмечал эту особенность византийской политической системы Н.А. Скабаланович, – но и подданными. Степень заботливости обусловливалась вескостью одного из реагентов: если император, по воле которого преемник занимал престол, пользовался значительным авторитетом, то и восполнять его волю согласием подданных не было особенной надобности…; наоборот, если авторитет предшественника был незначителен, а тем более если преемник вступал на престол помимо воли предшественника, то согласие подданных оказывалось необходимым и притом в больших или меньших размерах…» [4, 262]. Пренебрежение интересами какой-либо из этих групп могло дорого стоить императору. Так, Михаил Пселл указывал, что главной ошибкой Михаила VI, которая привела его в конечном итоге в монастырь, стало пренебрежение интересами армии, тогда как синклит ни в чем не знал от него отказа [31. I].В особенности важной была поддержка армии, голос которой оказывался в конечном итоге решающим при выборе императора. Как писал французский византинист Ш. Диль, анализируя дворцовые перевороты как одну из характернейших черт византийской политической жизни, отмечал, что «…главную роль в них играет армия. Это большая сила; в тяжелых обстоятельствах Византия именно от нее ждет опасения. Именно армия посредством своего рода pronunciamentos возвела на трон некоторых из наиболее выдающихся императоров Византии, как, например, Ираклия, освободившего империю от тирании Фоки, Льва Исавра, положившего конец жестокой анархии начала VIII в., Никифора Фоку, прославившего империю в X в., Алексея Комнина, спасшего ее от кризиса конца XI в.» [34, 63-64]. Характерно, что перед своей кончиной Иоанн Комнин назначил преемником своего младшего сына Мануила, нисколько не опасаясь того, что старший сын Исаак, известный своим вздорным характером, находился в столице. Для умирающего императора значительно более важным представлялось заручиться поддержкой войска, нежели столичной черни и синклита [31. I – II]. Таким образом, можно заключить, что, несмотря на то, что воспринятая византийской политической мыслью из позднеримской и раннехристианской идеологии идея императора как избранника Божия и исключала всякий определенный раз и навсегда порядок престолонаследия, тем не менее, светская традиция 235 наследования власти через назначение соправителя и наследника, полученная в наследство от Рима (и в какой-то степени от древней Греции) предполагала учет мнения армии, синклита, народа и клира. Прот. Иоанн Мейендорф метко заметил, что отсутствие определенной процедуры передачи власти от императора к императору было не случайным – «…было ощущение, что и строгий легитимизм, и демократические выборы ограничили бы Бога в свободе избрания его помазанника» [35, 305]. Еще раз подчеркнем, что все это вместе взятое делало византийскую модель императорской власти сложной, неоднозначной и противоречивой. Попытка совместить несовместимое, найти некий компромисс между привычными, вошедшими в плоть и кровь традициями «Ветхого Рима» и нововведениями, присущими «Риму Новому» не прошли даром. «С одной стороны, – писал А.П. Каждан, – византийское право представляло императора как наместника Бога, как обладателя всей полноты власти в стране, как полновластного господина своих рабов-подданных. С другой стороны, оно ограничивало его отсутствием наследственности престола, подчиняло его законам и строгой традиции церемониала…» [24, 119]. Император одновременно был и господином, dominus’ом, и рабом, причем рабом не только Господа, как и самый последний из его подданных, но и рабом Традиции, преступить которую он был не вправе, если он хотел соответствовать идеальному образу Императора. Очевидно, что внутренне сами византийские книжники осознавали эту противоречивость и, естественно, попытались найти выход из этого неестественного положения. Этот выход они увидели в следующем. Для византийцев Божественным и полновластным являлся не конкретный василевс как человек, а сам Император как символ, как воплощение верховной власти. Указывая на тот факт, что средневековое общество являлось обществом, для которого мир был исполнен символизма, Ю.М. Лотман отмечал, что оно «…было обществом высокой знаковости – отделение реальной сущности явлений от их знаковой сущности лежало в основе его миросозерцания…» [36, 158, 159-160]. Божественность и всевластие императора определялось тем, что он выступал как персонификация всей колоссальной государственной машины Империи, представлявшей собой чрезвычайно формализованную, безжизненную, неодухотворенную машину, настоящего Левиафана, в котором не было место конкретному человеку, личности. Ценность представляла не человек сам по себе, а та социальная роль, тот символ, который он олицетворял. «Главной в знаке считалась функция замещения. Это сразу же выделяло его двуединую природу: замещаемое воспринималось как содержание, – писал далее Ю.М. Лотман, – а замещающее – как выражение. Потому замещающее не могло обладать самостоятельной ценностью: оно получало ценность в зависимости от иерархического места своего содержания в общей модели мира…» [36, 160]. Следовательно, император как человек сам по себе не представлял какой-либо личной ценности и не обладал личными правами, но, поскольку для общества Средневековья «…часть гомеоморфна целому: она представляет собой не дробь целого, а его символ…», то и император выступал в качестве символа всего этого целого – Империи, которая в сознании многих, если не большинства, ромееев по традиции времен античности выступала как высшая ценность [36, 160. См. также: 6, 178-182]. В религиозно-политической доктрине империи император выступал не как конкретный человек, а как символ высшей власти, «Император», наместник Бога на земле. И если императорская власть была краеугольным камнем всего Византийского государства, то каждый отдельный император выступал фактически лишь как безличное орудие Божественного провидения, индивидуальность которого фактически не имела значения. Есть Император и есть император, верховный властитель как символ Империи и его человеческое воплощение. И то, что было доступно Императору, не всегда было доступно императору. Такова в общих чертах византийская модель 236 императорской власти, сочетавшая в себе две древних традиции – римскоэллинистическую и иудео-христианскую, светскую и церковную, «земную» и «небесную». Список литературы 1. Памятники византийской литературы IX – XIV вв. – М.: Наука, 1969. – 463 с. 2. История Европы. – Т. 2. – М.: Наука, 1992. – 808 с. 3. Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). – СПб.: Алетейя, 2000. – 398 с. 4. Скабаланович Н.А. Византийское государство и церковь в XI веке. – Кн. 1. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. 448 с. 5. Бенвенист. Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1995. – 456 с. 6. Шмеман А. прот. Исторический путь православия. – М.: Православный паломник, 2003. – 368 с. 7. Рудоквас А.И. Христианская интеллектуальная элита и культ императора // Интеллектуальная элита античного мира. Тезисы докладов научной конференции 8 – 9 ноября 1995 г. // Режим доступа: http://www.centant.pu.ru/ centrum/publik/confcent/1995-11/rudokvas.htm 8. Рудоквас А.И. Очерки религиозной политики Римской империи времени императора Константина Великого. 3. Судьба императорского культа при христианских императорах // Режим доступа: http://www.centant.pu.ru/aristeas/ monogr/rudokvas/rud012.htm 9. Филосторгий. Церковная история // Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Патриарх Фотий. Сокращение церковной истории Филосторгия. – Рязань: Александрия, 2004. – 568 с. 10. Рансимен С. Византийская теократия // Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. – М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. – 239 с. 11. Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. – 272 с. 12. Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М.: Наука, 1991. – 496 с. 13. Лев Диакон. История. – М.: Наука, 1988. – 240 с. 14. Кулаковский Ю.А. История Византии. – Т. 2. 518-602 годы. – СПб.: Алетейя, 2003. – 400 с. 15. Михаил Пселл. Хронография. Зоя и Феодора. Константин IX // Михаил Пселл. Хронография. Краткая история. – СПб.: Алетейя. 2003. – 397 с. 16. Повесть Временных лет. – СПб.: Наука, 1999. – 668 с. 17. Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов // Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Акрополит Георгий. Летопись великого логофета Георгия Логофета. – Рязань: Александрия, 2003. – 472 с. 18. Феофан. Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. – М., 1884. – 370 с. 19. Лиутпранд Кремонский. Посольство в Константинополь к императору Никифору Фоке // Режим доступа: http: // vostlit.narjd.ru /Texts/rus/Liut_Kr.htm 20. Книга Правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и поместных и святых отец. – М.: Русскiй Хронографъ, 2004. – 448 с. 21. Матфей Властарь. Алфавитная синтагма. Начало буквы В. Глава 7 // Режим доступа: http://www.pagez.ru/lsn/0360.php 22. Михаил Пселл. Краткая история. Михаил VI. Исаак I Комнин // Михаил Пселл. Хронография. Краткая история. – СПб.: Алетейя. 2003. – 397 с. 237 23. Акрополит Георгий. Летопись великого логофета Георгия Логофета // Киннам Иоанн. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. Акрополит Георгий. Летопись великого логофета Георгия Логофета. – Рязань: Александрия, 2003. – 472 с. 24. Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. – СПб.: Алетейя, 1998. – 336 с. 25. Приск Панийский. Сказания Приска Панийского // Феофан Византиец. Летопись от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. Приск Панийский. Сказания Приска Панийского. – Рязань: Александрия, 2005. – 608 с. 26. Литаврин Г.Г. Восточноримская империя в V – VI вв. // Раннефеодальные государства на Балканах. VI – XII вв. – М., 1985. – 368 с. 27. Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах // Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Патриарх Фотий. Сокращение церковной истории Филосторгия. – Рязань: Александрия, 2004. – 568 с. 28. Успенский Б.А. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 144 с. 29. Никита Хониат. История. Т. 1. – Рязань: Александрия, 2003. – 440 с. 30. Аверинцев С.С. Другой Рим. – СПб.: Амфора, 2005. – 366 с. 31. Михаил Пселл. Хронография. Михаил VI. Исаак I Комнин // Михаил Пселл. Хронография. Краткая история. – СПб.: Алетейя. 2003. – 397 с. 32. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003. – 448 с. 33. Хвостова К.В. Особенности византийской цивилизации. – М.: Наука, 2005. – 197 с. 34. Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. – М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1947. – 180 с. 35. Иоанн Мейендорф (прот.) Византийское богословие. – Минск.: «Лучи Софии», 2001. – 336 с. 36. Лотман Ю.М. Проблема знака и знаковой системы и типология русской культуры XI – XIX веков // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академпроект», 2002. – 544 с. "HEAVENLY" AND "TERRESTRIAL" IN THE BYZANTIAN MODEL OF IMPERIAL AUTHORITY T.M.Penskaya, Belgorod State University, Studencheskaya St., 78, Belgorod, 308007, Russia, e-mail: [email protected] This article consider the questions connected with a problem of formation and development of the Byzantian model of imperial authority and its feature. In a basis of this work there were results of research of a parity in this model of two beginnings – "heavenly" and "terrestrial" which personified accordingly Roman-Hellenic are put and Judean-Christian concepts of the Supreme authority, each of which roots are left in the remote past. It is noted, that attempt of the Byzantian thinkers and writers connect two these beginnings, different by the nature and complex on the internal structure, has led to discrepancy of the Byzantian model of imperial authority. It is shown, that byzantines, realizing this discrepancy, have tried to find a way out of this situation, having processed got it in the inheritance the Roman political model in Christian spirit. Thus they have divided emperor as the person invested by the supreme authority, and the Emperor operating a terrestrial empire just as the Lord operates a Kingdom of heaven. Keywords: Byzantium, Byzantian it is religious a political idea, church and the state in Byzantium 238 УДК 244 ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «БОГОИЗБРАННОГО» ГОСУДАРСТВА В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В.В.Пенской, Белгородский государственный университет, 308000. г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] В статье рассмотрена проблема складывания в раннехристианской литературе концепции «богоизбранного» государства. На основе анализа текстов раннехристианских писателей показана постепенная эволюция взглядов христианских мыслителей и писателей на Римскую империю и отношение к ней христианской церкви. Отмечено, что уже на первых этапах формирования христианского вероучения в нем проявляется две тенденции. С одной стороны, в Новом завете прослеживается неприятие Империи как враждебной первым христианам силы. С другой стороны, уже первые апостолы указывали на то, что если Империя существует, то это угодно Богу, т.к. ничто в этом мире не происходит помимо его воли. Следующим шагом стало признание христианскими писателями некоей трансцендентальной связи между Империей, Божественным промыслом, зарождением и распространением христианства. По мысли христианских писателей, Господь посредством Римской империи решил объединить всю Ойкумену для того, что свет истинной веры достиг самых укромных ее мест. Когда же благодаря императору Константину Церковь и Империя слились в единый организм, образовалось долгожданное богоизбранное государство, Империя христианская и для христиан. Ключевые слова: христианство, универсальное государство, Римская империя, христианское вероучение и литература. На протяжении большей части Средневековья в европейском политическом сознании одной из основополагающих идей была идея Империи как универсального государства, Града земного, выступавшего как отражение Града Небесного. Значимость Империи была тем больше, что, как отмечал английский историк А. Тойнби, «…универсальное государство устанавливается основоположниками и воспринимается поданными как панацея от бед смутного времени. Изначальное предназначение этого учреждения – установить и затем поддерживать всеобщее согласие» [1, 503]. История этой идеи уходит в далекое прошлое, еще в те времена, когда на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, Месопотамии, Египте и Китае формировались первые государства, которые вели упорную борьбу за доминирование в своей ойкумене. В конечном итоге наибольшего успеха в этой борьбе добились два государства, две великих Империи древности – «Поднебесная» Китайская, образовавшая на Дальнем Востоке Pax Sinica, и Римская, которая на другом конце света, в бассейне Средиземного моря, на большей части западной и Центральной Европы и на западе Азии создала Pax Romana. Воздействие этих Империй на последующую историю человечества трудно недооценить. Так или иначе, большая часть обществ, сформировавшихся и развивавшихся на Дальнем Востоке, испытали определенное воздействие китайской цивилизации. То же самое можно сказать и о Западе. Римское наследие, политическое, культурное и иное, легло в основу современной западной цивилизации, а при посредничестве Византии повлияло на становление и развитие славянского мира. И в том, и в другом случае одной из основополагающих идей, передаваемых от одной цивилизации к другой, от одной культуры к другой, была концепция Империи, 239 универсального государства, призванного подчинить своей благотворной власти весь мир (подлунный или освещаемый лучами Солнца) и установить здесь идеальный порядок, главные положения которого были продиктованы создателям Империи свыше. Таким образом, Империя выступала в качестве не просто государства, каких было, есть и каких еще будет немало, но как единственно законное, легитимное, освященное свыше идеальное, богоизбранное государство. Традиционно считается, что эпоха Древности закончилась в 476 г., когда пала Западная Римская империя. С этого времени на протяжении более чем 1000 лет длилась эпоха Средневековья, и большую часть этого периода на Западе, в христианском мире Империя продолжала существовать, и не только в мире идей, но и в реальном, земном мире. Ее пытались воплотить в реальности на востоке христианской ойкумены Византийская империя, а на западе – империя Карла Великого и наследовавшая ей Германская империя. Обе этих империи все время своего существования вели непрерывную борьбу за доминирование в христианском мире, полагая себя, но никак не оппонента, единственной законной, легитимной Империей. Свои претензии на законность обе империи обосновывали по-разному. Германские императоры делали упор на концепцию «восстановления», «renovatio» Римской империи, указывая на тот факт, что центр их государства находился не гденибудь, а в самом Риме – 1-й и истинной столице Империи. К тому же и власть германского императора получала высшую санкцию из рук римского епископа – преемника самого апостола Петра. Византийцы связывали свои претензии на первородство с идеей «переноса», «translatio» Империи из Рима I в Рим II. Отсчет своей истории они начинали от «золотого века» императора Константина Великого – первого христианского императора и основателя Константинополя, II Рима. На стороне византийцев были и постановления первых Вселенских соборов, равно признававшихся как на Востоке, так и на Западе. Но и это еще не все. Как справедливо замечал С.С. Аверинцев, византийцы были искренне убеждены в том, что их государство, «…по критериям собственного самосознания, внутри этого самосознания достаточно логичным, связным и убедительным, не то что первое в мире, а единственное в мире… Критериев всего три: во-первых, это правильно – православно – исповедуемая христианская вера; во-вторых, это высокоцивилизованный стиль государственной и дипломатической практики, дополняемый литературной и философской культурой античного типа; в-третьих, это законное преемство по отношению к христианскому имперскому Риму Константина Великого». Эти три критерия, продолжал он, полностью отметали все претензии не то что на первенство, но даже на равенство с Византией всех прочих государств, также претендовавших на имперский статус – будь то арабский Халифат или государство Карла Великого» [2, 321]. Таким образом, и франки во времена Карла Великого, первого западного императора после 476 г., и немцы, и византийцы равно ссылались на авторитет Рима и Римской империи. Для всех для них она выступала в качестве точки начала отсчета собственной истории. И это было не случайно. В их представлении Рим был идеальным государством, моделью, в которой не было изъяна, и которой следовало подражать. Однако, это относилось, если можно так выразиться, не ко всему Риму, а только к Риму эпохи Константина Великого, когда произошло слияние Империи и Церкви, когда христианство перестало быть гонимым и превратилось в официальную религию Империи. Универсальное государство соединилось с столь же универсальной Церковью, образовав идеальное государство, тот самый Град земной, богоизбранное царство, призванное принести миру истинный божественный порядок и свет истинной веры. Именно эту Империю и пытались с разной степенью успеха воплотить в своих деяниях германские императоры и византийские василевсы. Сама по себе концепция божественного государства зародилась еще в эллинистическую эпоху, когда после распада империи Александра Македонского 240 сложилась система эллинистических монархий и свойственная им политическая концепция с ее идеями царя как «божественного мужа» (θείος ανήρ) и «божественного царства» (θεία βαςιλεία). Эта концепция предусматривала, что между правителем и богами существует прямая и непосредственная связь. К примеру, в античной Греции эта связь основывалась на представлениях о происхождении царей от одного из олимпийских богов. Тот же Александр Македонский считал себя сыном самого Зевса, а божественность эпирского царя Пирра прямо следует из Плутархова описания его сверхъестественных способностей [Plut. Pirr. 1, 3. См. также: 3]. Поэтому и его земная власть есть ничто иное, как отражение власти богов. Следовательно, государство, управляемое живым богом, также является божественным, поскольку основывается на началах, продиктованных свыше, и власть монарха также имеет сакральный, божественный характер. Эта теория получила свое дальнейшее развитие в римской политической теории эпохи принципата и в особенности домината, когда в ходе реформ, призванных обеспечить выход государства и общества из кризиса III в., император Диоклетиан изменил статус императора и его власти вообще. «…Он первый стал надевать одежды, – писал римский историк Секст Аврелий Виктор, – сотканные из золота, и пожелал даже для своих ног употреблять шелк, пурпур и драгоценные камни…Он первый из всех, если не считать Калигулы и Домициана, позволил открыто называть себя господином, поклоняться себе и обращаться к себе как к богу (выделено нами – П.В.)…» [Aur. Vict. De Caes. XXXIX. 2, 4]. На это же указывал и другой римский историк, Евтропий, который отметил, что именно «Диоклетиан… первым в Риме ввел царские обычаи вместо прежней римской свободы. Приказал ему кланяться, в то время как раньше его просто приветствовали, носил одежду и обувь, украшенную драгоценными камнями…» [Eutr. IX. 26]. Однако эта идея была чисто языческой по происхождению и не могла быть, казалось бы, воспринята христианами. Для христиан Господь был один, и ни один император, каким бы великим он не был, не мог быть Богом ни при жизни, ни после смерти. «Потомки рождаются для того, чтобы в свою очередь произвести потомков. Происходят свадьбы, зачатия, дни рождений. Известны отечества, резиденции, царства, монументы. Итак, те, которые не могут отрицать рождения богов, должны признать их людьми, не должны считать их богами…» – писал по этому поводу Тертуллиан [Tertull. Ad. nat. II. 12]. Таким же, естественно, должно было быть и отношение христиан к Римской империи как к чисто земному явлению, не обладающим божественным характером. Более того, первые христиане полагали ее «…великою блудницею, сидящею на водах многих,… и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным… великий город, царствующий над земными царями…» [Откр 17, 1, 5, 18]. Такое отношение было легко объяснимо. Именно римскими властями был распят Христос, именно римские власти неоднократно устраивали гонения на христиан, препятствуя всеми силами распространению того учения, которое христиане считали Истиной. Однако вместе с тем с выходом христианства за пределы Иудеи и ростом числа его сторонников среди греков и римлян, в том числе и образованных, не могла не возникнуть и иная идея. Как отмечал отечественный историк В.М. Тюленев, «…одним из наиболее актуальных для христианской мысли был вопрос о роли Римской империи в судьбе христианской Церкви и христианского учения» [4, 114]. В этом нет ничего удивительного. В начале I в. н.э. Римская империя контролировала огромные территории в Европе, Азии и Африке, а Средиземное море превратилось в римское озеро. Для миллионов людей римский мир был единственно возможным миром, альтернативы которому не было. Естественно, что позднеантичные интеллектуалы, в том числе и христиане, не могли не задумываться о судьбе Империи и ее месте в мировой истории. 241 Конечно, христианские писатели эпохи поздней античности не могли одобрять предпринятые по приказу императоров-язычников гонения на христианство. Однако, при всем при том, они исходили из того, что было объявлено самим Христом и подтверждено его учениками-апостолами – «… Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу…» и «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» [Мф 22, 21; Рим 13, 1-2]. Следовательно, как писал Тертуллиан, обращаясь к язычникам, «…император больше наш, чем ваш, так как он поставлен нашим Богом» [Tertull. Apol. 33], а вместе с императором христиане должны были молиться и за Империю, даже если она преследовала их. Примечательно, что, исходя из контекста послания апостола Павла римлянам, получается, что в репрессиях против христиан во многом виноваты сами христиане: «Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое…» [Рим 13, 3-4]. Однако не только это побуждало христианских мыслителей изменить свое отношение к Империи. Ведь именно на ее территории в начале I в. появился Спаситель, возвещена Благая весть и началась проповедь Нового завета. Под покровительством Империи, под защитой ее легионов эта проповедь могла свободно достигать самого края ойкумены, обитаемого мира, Pax Romana, который и был для миллионов людей единственным обитаемым миром [Лк. 2, 1; Мк 1, 7-8]. К тому же, слова апостола Павла из 2-го его послания к фессалоникийцам, гласящие, что пришествие Антихриста, сына погибели, не свершится в скором будущем, так как «...день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха… И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь…», можно было истолковать и в пользу Империи как силы, сдерживающей наступление Антихриста [2 Фес 2, 3, 6-7]. Учитывая все это, в среде христианских интеллектуалов не могло не возникнуть иное мнение по отношению к Риму. Уже во 2-й половине II века, как отмечал В.М. Тюленев, «…в христианской литературе появляется суждение о том, что история Империи и христианской Церкви провиденциально связаны между собой…» [4, 116]. Епископ Мелитон Сардийский, один из авторов этой концепции, связывал успехи Римской империи в борьбе с варварами именно с рождением на ее территории христианства: «Наша философия окрепла и утвердилась сначала у варваров; расцвет же ее у твоего народа приходится на великое царствование Августа, твоего предка. Она принесла счастье твоей империи: с тех пор росли и мощь, и слава Рима… А вот неоспоримое доказательство, что на благо счастливо начавшейся империи росло и крепло наше учение: начиная с царствования Августа на Рим не надвигалось никакой беды, наоборот, по молитвам всех все было прекрасно и славно» [Euseb. Hist. eccl. IV. 26. 7-8]. Эта идея получила дальнейшее развитие в трудах одного из крупнейших христианских писателей и мыслителей Тертуллиана. Он одним из первых высказывает идею о неслучайности обретения Римом власти над большей частью тогдашней Вселенной, понимая под нею Средиземноморье и прилегающие к ней регионы. «…Судьба времен владеет царствами. Ищите, кто установил смены времен. Он же управляет царствами, – писал философ, – и теперь сосредоточил в руках римлян власть, отнятую у многих народов… Что от Него зависит она, это знают те, которые к Нему ближе всех (выделено нами – П.В.)…» [Tertull. Ad. nat. II. 17]. Т.е., согласно Тертуллиану, получается, что Господь вручил Риму власть над окрестными народами, и, надо полагать, неспроста, имея в отношении римлян определенные намерения. Об этом же писал и Августин Блаженный [Aug. De civ. Dei. IV. XXVIII; V. I; XIII. XXI.]. 242 Какие, видно из других творений мыслителя. Спустя полсотни лет после Мелитона Сардийского, защищая христиан от нападок язычников, Тертуллиан выдвинул тезис о благотворном влиянии Империи на существующий мир и, следовательно, на христианство. Римское государство в его творениях выступает хранителем существующего мира и порядка. Именно Рим, писал Тертуллиан в своей «Апологии», стоит на пути надвигающегося хаоса. «Мы знаем, – указывал он, – что предстоящая всему земному шару величайшая катастрофа и самый конец мира, грозящий страшными бедствиями, замедляется римскою властью». И, продолжая свою мысль дальше, Тертуллиан утверждал, что «…мы (т.е. христиане – П.В.) не хотим испытать этой катастрофы и потому, когда молимся об отсрочке этого, то этим самым содействуем продолжению римского государства…» [Tertull. Apol. 32]. Таким образом, в христианской мысли постепенно начала утверждаться идея о существующей связи между Божественным замыслом и существованием Римской империи. Именно об этом и писал Ориген в своем сочинении «Против Цельса»: «Бог предуготовил народы к Его учению и устроил так, что римский царь стал господствовать над всем миром. Ведь если бы было много царств, тогда и народы оставались бы чужими друг другу; тогда и исполнение приказания Иисуса: идите и научите все народы, – приказание, которое дано было Апостолам, было бы соединено со значительными затруднениями. Известно, что рождение Иисуса последовало в правление Августа, который слил – если можно так выразиться – многочисленные народы земли в одно царство. И это было важно потому, что существование многочисленных царств, конечно, послужило бы препятствием в деле распространения учения Иисуса по лицу всей земли не только по вышеуказанной причине, но еще и потому, что тогда народы были бы вынуждены вести войну и защищать отечество, как это действительно и было перед временами Августа и особенно в еще более отдаленные времена, когда один народ должен был вести войну с другим народом» [Orig. Contra Cels. II. 30]. Когда писались эти строки, христианство все еще оставалось нежелательной для имперских властей религией, которую они терпели, но не более того. Однако в начале IV в. н.э. положение резко изменилось. Император Константин Великий своим Миланским эдиктом узаконил христианство. Римское государство из недоброжелателя, а порой и открытого врага христианского учения превратилось в его защитника и покровителя. Свершившийся переворот в отношениях между имперскими властями и христианами неизбежно должен был привести и привел к переоценке места Рима в христианской системе ценностей, тем более что поворот уже наметился ранее. Тот же Мелитон Сардийский, обращаясь к императору, писал: «Если это (гонения на христиан – П.В.) делается по твоему приказу — хорошо, пусть так и будет! Справедливый царь никогда не постановит решения несправедливого, и мы с радостью примем эту смерть как некую почесть…» [Euseb. Hist. eccl. IV. 26. 6]. Лактанций пошел еще дальше. В своих «Божественных установлениях» он нарисовал картину, в которой Римская империя и ее императоры изначально выступали в качестве главных проводников божественного замысла и носителей цивилизации, которая выражается, по мнению Лактанция, прежде всего в установлении справедливого, мудрого и милосердного земного порядка. Этот же порядок неизбежно должен был привести к принятию христианства как наиболее совершенной и истинной религии. Так, император Веспасиан «уничтожил имя и род иудеев, и случилось все, как те [апостолы] предрекли (выделено нами – П.В.)…», император Адриан отменил безнравственные и противные Истине кровавые человеческие жертвоприношения, которые дотоле были присущи только «бесчеловечным и диким» варварам. Наконец, император Константин, писал Лактанций, «первый из римских принцепсов, кто, отвергнув заблуждения, узнал и восславил величие единственного и истинного Бога…» и, что самое главное, «…освятил желанное правление славным начинанием, когда, вернув изгнанную и 243 поруганную справедливость,… очистил землю от злодеяний других (выделено нами – П.В.)…» [Lact. Div. inst. I. 1. 13; 21, 1-3; IV. 21. 5]. Развивая свою мысль дальше, Лактанций указывал, что «…Бог же возвысил принцепсов, которые уничтожили беззаконное и кровавое господство тиранов, проявили заботу о роде человеческом, чтобы ныне, словно рассеяв мрак прискорбнейшего времени, души всех одарил радостью отрадный и светлый мир (выделено нами – П.В.)…» [Lact. De mort. pers.I. 3]. Практически завершает создание новой концепции Империи как христианского, богоизбранного государства Евсевий Памфил, епископ Кесарийский. Развивая идеи, выдвинутые Мелитоном Сардийским, Тертуллианом, Оригеном и Лактанцием, он утверждал, что именно Римской империи было суждено Богом установить во всей Вселенной мир и порядок и принести народам, обитающим в ней, свет истинной веры. Для него отнюдь не случайным было то, что явление Христа совпало по времени с золотым веком Августа, когда закончились войны и беспорядки, и на всей земле под властью принцепса воцарился мир и спокойствие. «Когда же всем людям преподано было познание единого Бога и показан один образ благочестия – спасительное учение Христово: когда в одном царстве, в одно и то же время находящемся под владычеством одного римского правителя, все начало наслаждаться глубоким миром, тогда вдруг, как бы по мановению единого Бога, – писал Евсевий, – произросли для людей две отрасли добра: римское царство и учение благочестия… Но две, как бы из одного источника произошедшие, великие силы мгновенно все умиротворили и привели в содружество. Эти силы были: римское царство, явившееся с тех пор монархическим, и учение Христово, и обе они расцвели вместе, в одно и тоже время. Сила Спасителя нашего сокрушила многоначалие и многобожие демонов и всем людям, эллинам и варварам, даже до последних земли (Деян. 1, 8), проповедала единое царство Божье, а римская империя, уничтожив сперва причины многоначалия, спешила все племена привести к единению и согласию и взяла себе независимые дотоле эпархии (выделено нами – П.В.)…» [Euseb. De laudibus Const. 16]. И если тот же Лактанций не стал доводить до конца идею о земной миссии Римской империи и ее императора, то Евсевий сделал это в прямой и недвусмысленной форме: «Много различных народов уже вошло в ее (империи – П.В.) пределы, но она намерена, насколько возможно, коснуться пределов самой Ойкумены, тем более, что спасительное учение, божественной силой, уравнивает и успокаивает пред ней все» [Euseb. De laudibus Const. 16]. Коснуться же края Ойкумены Империя и благочестивые императоры должны были потому, что «…предрасположив души высших царственных лиц, Оно (Слово – П.В.) очистило с помощью этих угодных Богу людей всю вселенную от всех злых нечестивцев и от страшных и богоненавистных тиранов» [Euseb. Hist. eccl. Х. 4, 60]. Все это отлично укладывалось в концепцию цивилизаторской роли Империи, которую последовательно излагал Евсевий. Описывая удачные войны Константина против варваров, он отмечал, что император «… в короткое время покорил всех (готов – П.В.), именно: одних, которые возмутились, усмирил вооруженной рукой, других сделал кроткими посредством благоразумных посольств, вообще, не знавшую законов и зверскую жизнь их переменил на жизнь разумную и законную. Вследствие сего скифы начали служить римлянам… Эти новые подданные (готы и савроматы – П.В.) сами сознавались, что несчастье послужило им во благо, ибо теперь наслаждались они римской свободой, вместо варварской, дикой жизни (выделено нами – П.В.)...». И, конечно, по мнению писателя, Господь не мог не подчинить императору в награду за столь благочестивые деяния варварские племена [Euseb. Vita Const. IV. 5-6]. Успешная внешняя политика Империи в годы долгого царствования Константина, по мнению Евсевия, служила наглядным символом того, что Господь взял под свое покровительство и императора, и его легионы [Euseb. Vita Const. I. 8]. Ведь Константин не только сумел прекратить мятежи и гражданскую войну на территории самой 244 Империи, но и осуществить целую серию успешных завоевательных походов за ее пределы, приостановив натиск варваров на границы Римского государства. При этом победы римского оружия способствовали распространению христианства среди варваров. Ведь ранее, как отмечали христианские авторы, за пределами Империи Истина распространялась через труды подвижников, попавших в плен к варварам и обращавших их примером праведной жизни. [См.: Sozom. Hist. eccl. II. 6], Теперь же, по словам отечественного историка С.А. Иванова «…победоносность Константина воспринималась как самое действенное оружие христианской пропаганды…» [5, 45]. В качестве примера подобного обращения церковный историк Сократ Схоластик приводил пример с обращением готов: «В то самое время сделали набег на Римскую землю варвары, то есть сарматы и готы, но предложения царя касательно церквей не нашли в этом никакого препятствия. Он показал приличную заботливость о том и другом деле. Веруя в трофей христианства, варваров разбил он столь сильно, что отнял у них право на получение и того золота, какое обыкновенно выдавали им прежние государи. Мало того, претерпев неожиданное поражение, они тогда в первый раз приняли спасавшую Константина христианскую веру» [Sokr. Hist. eccl. I. 18]. Помимо распространения истинной веры, Империя должна была, полагал Евсевий, вести неустанную борьбу против ересей, искажавших божественную Истину. Подчеркивая благочестивость своего героя, Константина, епископ писал, что последний подверг гонениям еретиков, ибо «…в благополучное наше время да уничтожится это обольщение развращенного вашего ума, — разумею нечестивое и гибельное разномыслие еретиков и схизматиков, ибо благоденствие, которым мы по милости Божьей наслаждаемся, требует, чтобы живущие благими надеждами отвращались от всякого беспорядочного заблуждения на стезю правую, от тьмы — к свету, от суетности — к истине, от смерти — к спасению (выделено нами – П.В.)…» [Euseb. Vita Const. III. 65]. Но и это еще не все. Повествуя о жизни и деяниях Константина, Евсевий подчеркнул, что заслугой императора как персонального олицетворения государства является не только утверждение истинной веры на территории Империи, но и покровительство христианам за ее пределами. «Узнав при том, – писал историк, – что среди персидского народа умножаются Божьи Церкви и собираются многие тысячи овец в стадо Христово, он, как общий для всех попечитель, обрадовался этому известию и свою всеобъемлющую заботливость простер даже сюда» [Euseb. Vita Const. IV. 8; III. 7]. Таким образом, в трудах кесарийского епископа во всей полноте была разработана новая концепция Империи как христианского государства, избранного Богом для реализации своего великого замысла. Его труды практически завершили длившуюся больше полутора сотен лет работу христианских писателей по примирению Царства Божия и царства земного, Церкви и Империи, христианства и Римской империи. Окончательно идея христианской богоизбранной Империи утвердилась к концу V в., когда в годы правления императора Феодосия I христианство стало единственной официально разрешенной религией Империи. Формулируя утвердившуюся к тому времени официальную точку зрения Церкви на Империю, христианский историк начала V в. н.э. Павел Орозий писал: «…Тот самый единый и истинный Бог…, Бог, сменяющий царства и располагающий времена,… основал Римскую империю, найдя пастыря из ничтожнейшего состояния. Ее, возвышенную за долгое время через царей и консулов, после того, как ею были покорены Азия, Африка и Европа, Бог, по определению своему, отдал в руки одного императора, самого энергичного и в то же время самого кроткого. При этом императоре … Бог истинный.. открыл тот знаменитый источник Своего постижения и … послал Сына Своего, … чтобы среди великого покоя и продолжительнейшего мира беспрепятственно и скоро летела 245 слава нового имени и стремительная молва возвещенного спасения (выделено нами – П.В.)…» [Oros. Hist. VI. 5-8. См. также VI. 20. 2-8; 22, 1, 3-8]. Итак, к началу V в. идея неразрывности исторической судьбы Римской империи и христианской церкви прочно утвердилась в умах большинства позднеантичных интеллектуалов. Миссия Империи, по их единодушному убеждению, состояла в том, чтобы установить и поддерживать во всей Ойкумене цивилизацию, справедливый мир и порядок, и, поскольку она являлась последним великим земным царством, противодействовать наступлению хаоса и анархии. Об этом единодушно писали, например, и Павел Орозий [Oros. Hist. II. 1, -5; VII], и Сульпиций Север, отмечавший, что «…с этого времени (установления власти Константина и начала его покровительства христианам – П.В.) мы наслаждаемся покоем мирных дел и верим, что не будет больше гонений, кроме того, которое учинит в конце века этого Антихрист (выделено нами – П.Т.)…» [Sulp. Sev. Chron. II. XXXIII. 3], и Созомен, согласно которому «…в странах империи, управляемых Константином, Церкви удостаивались благодеяний внимательного и единоверного государя и, наслаждаясь миром, ежедневно распространялись (выделено нами – П.Т.)…» [Sozom. Hist. eccl. I. 6, 8]. Установленный Империей божественный мир и порядок являлись важнейшим условием распространения единственно истинного учения, способствовать чему должна была также завоевательная и цивилизаторская политика Империи [См., например: Euseb. Hist. eccl. Х. 4. 17-20; Sozom. Hist. eccl. I. 8]. Одолев при помощи Божьей варваров [Euseb. De laudibus Const. 7; 9], императоры должны были насадить среди них совершенные законы и установить одобренный Господом порядок как условия христианизации покоренных народов и тем самым их спасения. Окончательной победе Истинного учения, по мнению христианских писателей IV в., должны были способствовать и меры императора по покровительству и защите христианской Церкви как внутри самой Империи, так и за ее пределами, которые, с помощью Божьей (выделено нами – П.В.), должны были расширяться до тех пор, пока не достигнут края обитаемого мира [Sozom Hist. eccl. I. 8]. Таким образом, к началу V в. н.э. на смену прежней языческой Империи пришла Империя христианская и для христиан. Pax Romana слился с Pax Christiana. Естественно, что, как отмечал отечественный историк Г.Л. Курбатов, «…соответственно трансформировались и оказались дополненными новым содержанием и старые традиции римского ойкуменизма. Прежняя Римская империя из «священной державы» стала «священной христианской империей»: Imperia Romana превратилась в Imperium Romanum Christianum – христианскую империю, богохранимую и защищаемую, исполнительницу божественных предначертаний и орудие спасения человечества, имитацию небесного царства…» [6, 45]. Тот день и час, когда Римская Империя как идеальное, универсальное, вселенское государство, царство мира сего, встретилось с Церковью, частью Царства неземного, означал наступление времени царства истинной, космической гармонии, кульминацией Истории, созданием совершенного общества под властью мудрого императора-философа и христианина. Границы римского лимеса точно совпали с границами не просто цивилизованного, но и христианского мира, внутри которого царил покой и благоденствие. Всякий, кто принимал христианство, мог стать гражданином этого Царства, в котором слились воедино две сферы – духовная, идеальная, и физическая, материальная. Время остановилось, и теперь задача состояла в том, чтобы сохранить достигнутый идеал до самого момента Второго пришествия как конца земной Истории. Создание концепции христианской богоизбранной Империи было практически завершено, и освященная авторитетом Церкви, она начала свое путешествие через века, страны и народы. Отечественный византинист Г.Г. Литаврин писал по этому поводу, что «…теория власти в империи как законченная доктрина сложилась в V – VI вв. и в мало 246 измененном виде жила тысячелетие…» [7, 65]. Византийцы, осознавая себя прежде всего не греками, не жителями Восточной Римской империи, а именно «ромеями» – римлянами, и стали главными носителями и защитниками этой доктрины. Список литературы 1. Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. –736 с. 2. Аверинцев С.С. Другой Рим. – СПб.: Амфора, 2005. – 366 с. 3. Казаров С.С. Царь Пирр: опыт сакрализации власти // Античное общество - IV: Власть и общество в античности. Материалы международной конференции антиковедов, проводившейся 5-7 марта 2001 г. на историческом факультете СПбГУ. СПб., 2001 // Режим доступа: http://www.centant.pu.ru/centrum/ publik/confcent/200103/kazarov.htm 4. Тюленев В.М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. – СПб.: Алетейя, 2000. – 320 с. 5. Иванов С.А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из «варвара» христианина? – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 376 с. 6. Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. – 272 с. 7. Литаврин Г.Г. Политическая теория в Византии с середины VII до начала XIII в. // Культура Византии (вторая половина VII-XII в.). – М.: Наука, 1989. – 678 с. FORMATION OF CONCEPTION OF « GOD’S SELECTED» STATE IN THE EARLY CHRISTIAN LITERATURE V.V. Penskoy, Belgorod State University, Preobrajenskaya St., 78, Belgorod, 308000, Russia, e-mail: [email protected] This article is considered the problem of folding in the early Christian literature of the concept the «God’s selected» state. On the basis of the analysis of texts the early Christian writers gradual evolution of sights of Christian thinkers and writers to Roman empire and the Christian church’s attitude to it. It is noted, that already at the first stages of formation of Christian dogma is shown two tendencies in it. On the one hand, in the New testament is traced the aversion of Empire as force hostile to the first Christians. On the other hand, already the first apostles specified that if the Empire exists it is necessary for the God since anything in this world does not occur besides its will. Following step became a recognition Christian writers transcendental communications between Empire, the Divine craft, origin and distribution of christianity. By Christian writers, the Lord has decided to unite all the Universe by means of Roman empire that light of true dogma has reached its most secluded places. When owing to emperor Konstantin Church and Empire have merged in a uniform organism, was formed long-awaited «God’s selected» state, Empire Christian and for Christians. Keywords: Christianity, the universal state, Roman empire, Christian dogma and the literature. 247 УДК 289.957 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА И ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, КУЛЬТОВОЙ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМ ЛЕГИТИМНОСТИ «СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ» В РОССИИ А.И. Хвыля-Олинтер1), Р.В. Шилишпанов2), 1) 2) Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 Белгородский государственный университет, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, e-mail: [email protected] Исходя из теологической и религиоведческой методологии, в статье описываются основные характеристики религиозной организации «Свидетели Иеговы». При описании учитывались важнейшие составляющие вероучений: принятые идеалы (объекты поклонения); понимание духовности; отношение к добру и злу (трактовки происхождения и смысл); определение смысла жизни; построение системы нравственности; отношение к общественным институтам и личности; выбор приемлемых средств и методов достижения цели. При этом использовались следующие направления описания признаков вероучений: онтологическое, гносеологическое, антропологическое, культурологическое, правовое, политическое, этическое, криминологическое, аксиологическое, духовное. Источниковая база исследования включает в себя материалы религиозного объединения «Свидетели Иеговы», труды ведущих теологов и религиоведов, архивные данные (преимущественно впервые введенные в научный оборот) и иные документы. Ключевые слова: духовная безопасность, новое религиозное объединение, религиозная организация, «Свидетели Иеговы». Введение Деятельность организации «Свидетели Иеговы» оказывает определенное влияние на духовно-религиозные процессы в России, затрагивающие сферу национальной безопасности. Поэтому рассмотрим вначале ряд общих проблем духовной безопасности. Во многих правовых документах Российской Федерации однозначно раскрывается значимость духовной безопасности. Так, еще в 1996 году Государственная Дума в своем обращении «К Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России» предложила «считать религиозную безопасность российского общества важным приоритетом национальной безопасности наряду с военной, политической, экономической, экологической и социальной». Духовная безопасность и духовно-нравственное здоровье очевидно важны для человека, семьи, общественных институтов, государств, человечества и мира в целом. Духовность есть основа практически всего, что имеет отношение к самореализации и мотивации личности, начиная с увлечений и кончая волей к жизни. Духовность и человечность — практически синонимы. Между тем, духовное состояние значительной части населения нашей страны необходимо оценивать как невежество. Резко поменялись социокультурные особенности на территории России — возникла парадоксальная ситуация «второй христианизации» народа. Все это происходит на фоне того, что нынешняя светская культура заметно ориентируется на «нео-язычество» отечественного и зарубежного происхождения, и ее уровень неуклонно снижается. Поэтому стоит проблема охранения духовно-нравственного здоровья человека, семьи, общества, всех социальных институтов. Аналогично существующим общегосударственным системам медицинского здравоохранения вырисовывается необходимость построения пока еще отсутствующей в России системы духовно248 нравственного здравоохранения, которая невозможна без развитой системы духовнонравственной безопасности. Одним из значимых направлений в гуманитарных науках признается то, которое связано с комплексом духовно-нравственных и религиозных проблем. В его сферу как объект исследования входят религиозные процессы в российском обществе. Предметом исследований в этом направлении являются методы и средства контролирования, диагностики, прогнозирования и регулирования религиозных процессов в российском обществе, предназначенные для обеспечения духовной безопасности человека и семьи. Эти социальные методы и средства никак не ограничивают «свободу совести», ибо она есть сугубо внутренний выбор человека. В вышеприведенный перечень необходимо включить также духовно-нравственное, религиозное просвещение и образование. Здесь мы сталкиваемся с феноменом духовности и связанными с ней универсалиями, категориями и понятиями, имеющими решающее значение для разработки системы мер по укреплению духовно-нравственной и религиозной безопасности. Духовность как универсальное качество личности присуща любому человеку независимо от его возраста, национальности, характера, ума, образования, профессии, пола и т.п. Однако конкретная духовность у разных людей весьма различается как качественно, так и количественно. В гуманитарных науках часто говорится о духовности, но, как правило, в душевном или, даже, психологическом смысле. Духовность есть комплексное явление. Поэтому бывают разные определения духовности: 1) в этическом, политологическом и теологическом смысле — устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу — к какому-либо, им предпочтенному, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить себя и свою жизнь к этому идеалу (уподобиться) и, тем самым, одухотвориться, внутренне освободиться от обыденности; 2) основа и главная причина любой веры и религиозности; 3) в общем смысле — свойство всякой личности (ее души, ее «я»), которое позволяет проявляться указанному устремлению и отображать его во внешнюю реальность (в поступках, обрядах, творчестве и т.п.); 4) в социологическом смысле — трактовка неоднозначна, ввиду неоднозначности, многополярности и сложности самого феномена духовности, служившего на протяжении тысячелетий объектом дискуссий среди философов, религиозных деятелей, идеологов разного толка. Особенно напряженные споры ведутся между сторонниками религии как таковой и ее противниками. Они затрагивают проблемы генезиса, функционирования, предназначения духовного. Однако и те, и другие сходятся на том, что духовное есть нечто нематериальное, которое было таковым изначально или стало впоследствии, и что оно имеет отношение, прежде всего, к человеку, выделяя его из всей остальной природы и направляя его деятельность в целесообразное, с точки зрения самого человека, социума или объекта поклонения русло. Духовность может рассматриваться в следующих ракурсах: как то или иное определенное внутреннее состояние человека и общности (например, присутствие духа, боевой дух, духовная стойкость); как деятельность сознания, направленная на понимание того или иного смысла жизни и своего места в ней; как склад личности, состоящий в преобладании нематериальных интересов над материальными; как нематериальная реабилитация, обновление — способность к самоизменению; возрождение в человеке утерянного образа Идеала, поскольку именно те, кто сознают себя носителем этого образа, способны к преобразованию собственной личности и окружающего мира; 5) в религиозном смысле — отношения человека или объединения людей с тем или иным объектом (духом) поклонения (Богом, богами, духами, идолами, кумирами и др.), реально существующим духовным миром, бесплотными духовными существами, а также отражение этих отношений в другие сферы общественной деятельности. То же необходимо отметить и в отношении веры. Она есть, прежде всего, интимное внутреннее самоопределение, позиция человека в духовно-нравственном и 249 религиозном пространстве. А какую-либо подобную имманентную позицию человек выбирает уже с детства при поиске для себя тех или иных ответов и объяснений на важнейшие вопросы, проблемы и загадки, относящиеся к духовно-нравственной и религиозной сфере. Позиция эта может изменяться в связи с разными объективными и субъективными обстоятельствами, однако она всегда имеется и всегда конкретна (даже если неосознанна). Причем непризнание наличия у себя веры также есть лишь одна из ее бесчисленных разновидностей. К сожалению, в связи с массовым духовным невежеством, в нынешней России довольно много людей, которые считают себя неверующими или не понимают, во что, собственно, они верят. Существуют различные понимания феномена веры в светском и сакральном ее восприятии. В ложноспекулятивном и обыденно-светском смысле она понимается как разновидность убеждения, уверенности и доверия; полная и безоговорочная уверенность в том, что определенные идеи, события, явления и т.п. являются истинными. В политологическом, социологическом и теологическом смысле ее понимают как определенную позицию в духовно-нравственном пространстве, избранную каждой личностью в процессе ее духовного внутреннего самоопределения. Поэтому не бывает личности без той или иной веры. В теологическом и религиозном смысле это одна из основных форм проявления духовности у всякой личности, следствие действия духовности как таковой. В обобщенном религиозном смысле вера определяется как внутренняя духовная связь, добровольное духовное общение, взаимодействие личности с тем или иным Объектом поклонения; получение таким путем какого-либо духовного знания, умения и опыта. Существенно то, что многочисленные разновидности веры и религии весьма различаются друг от друга в своем отношении к морали, нравственности, праву, власти, государству, обществу, семье, человеку, природе и миру в целом. Духовная безопасность в контексте «свободы совести» предполагает, что государство и общество знают образ жизнедеятельности и основные особенности вероучений религиозных объединений, действующих на территории страны. Иначе, как показывает международный опыт, возможны непредсказуемые социальные последствия. Дело осложняется тем, что принцип отделения государства от религий на самом деле есть утопия, так как любой чиновник и его окружение являются теми или иными верующими или склонными к вере личностями, а каждый адепт всякого культа — житель какого-либо конкретного государства. Реально отделить от государства лишь внутреннюю сакральную деятельность религиозных течений и объединений. Определим понятие «духовная безопасность» — 1) Система отношений между субъектами общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для созидательной духовной жизни и правильного духовного развития; 2) Состояние защищенности жизненно важных духовных интересов и потребностей личности, общества и государства; 3) Способность личности, общества и государства сохранять и развивать позитивную созидательную духовность. Для достижения духовной безопасности необходимо гармоничное развитие всех трех указанных в данном определении направлений; 4) специфическая составная часть национальной безопасности, «включенная» во все ее виды. Состояние личности, общества и властных структур, обеспечивающее их нормальное взаимоувязанное функционирование, а также созидательное культурно-цивилизационное развитие сложившегося или складывающегося национального образа жизни. С другой стороны, — это процесс сохранения и позитивного видоизменения идей, идеалов, ценностей, норм и традиций, господствующих в обществе, разделяемых массами людей и властными структурами в целях социального воспроизводства, гарантирующего устойчивость вектора, преемственность и динамику общественного развития. «Духовная безопасность» связана с идеалами, прежде всего, духовного и нравственно-этического порядка. Они определяют не только ценностные приоритеты жизни всего общества, но и закрепленные позитивные формы их репродукции, транслирования и сохранения как 250 Святыни во всех проявлениях жизни народа. Духовная безопасность предполагает, прежде всего, сохранение жизни людей в их человеческом, а не животном, качестве. Религиозные установки выступают как источники права и стратегических политических целей. Религиозные взгляды населения явно или скрытно влияют в нынешней России на политические процессы, политическую культуру, правосознание, правопослушность, правопорядок, семейный уклад и статус человека. Государственные интересы в сфере безопасности неизменно должны находиться в гармоничном соотношении с интересами человека. Безопасность человека столь важна, что не сводима лишь к его личным правам и свободам, она превосходит даже право на жизнь, она есть главная задача всего общества. Безопасность государства начинается с безопасности личности. Но не допустимо извращение духовно-мотивационной сферы личности, не может индивидуалистическая и материальная выгода преобладать над высшими духовными ценностями. Современная религиозная жизнь в России многообразна. Велико зарубежное вмешательство в духовную и религиозную жизнь нашей страны. Четко различаются созидательные и деструктивные религиозные течения. В средствах массовой информации и среди специалистов постоянно обсуждается тема религиозных и псевдорелигиозных деструктивных сект, которые все без исключения пытаются влиять на сознание граждан. Все это указывает на важность механизма взаимодействия государства и религиозных объединений. Государство в порядке справедливости и самосохранения должно отдавать предпочтение традиционным созидательным религиям, то есть таким, которые внесли и вносят заметный и устойчивый позитивный (созидательный) вклад в историю, традиции, культуру, язык и самосознание народов, государств, человечества. В связи с разнообразием религиозных процессов значимыми для нашей Отчизны стали: просвещение, воспитание и образование населения в духовной и религиозной сфере; воспитание социальной (в том числе и бытовой) терпимости (толерантности) населения к иноверцам; налаживание конструктивного социального взаимодействия созидательных религий; ограничение деструктивных форм духовности; целенаправленное развитие и укрепление государством, соответствующими структурами государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации всех созидательных форм проявления духовности и религиозности. Первостепенна задача повышения эффективности прогнозирования, оценки, регулирования духовных и религиозных процессов на базе основополагающих правовых и нравственных принципов. При разработке мер по укреплению духовной безопасности зачастую наблюдается неоправданное опасение, что этим якобы будет нарушаться «свобода совести». На этом спекулируют защитники вседозволенности в духовной сфере и всяческих деструктивных культов. Однако «свобода совести» есть специфическое внутреннее, интимное состояние любого человека, связанное с имманентной свободой его воли. Поэтому оно находится вне сферы правового регулирования. А любая общественная деятельность, включая и осуществляемую по религиозным мотивам, подлежит тому или иному правовому регулированию, в том числе она может быть, при необходимости, ограничена и даже запрещена. Воздействие на «свободу совести» связано лишь с информированностью и компетенцией человека, выбирающего себе ту или иную веру. Духовное же насилие всегда предполагает тот или иной обман. Отсюда особое значение приобретают духовное и религиозное просвещение и образование, а также объективное, полное, удобопонятное описание и классификация вероучений. И, хотя в этом направлении в последние годы наметились определенные положительные тенденции, следует признать, что животрепещущих проблем, для которых пока не найдено эффективных решений, остается весьма много. При создании систем классификации религиозных направлений приходится разрабатывать такие универсалии и категории, как «религиозное пространство», 251 «типологизация религиозного пространства» (в соответствии с задачами обеспечения духовной безопасности человека, семьи и общества), а также иные категории, понятия и термины, используемые при описании религиозного пространства. Типологизация религиозного пространства предполагает системное использование политологических, социологических, криминологических, математических, информационно-логических и теологических методов анализа и синтеза. Поэтому мы предлагаем ряд новых категорий, имеющих политологическое и криминологическое наполнение: «характеристика религиозного объединения», «признак религиозного объединения», «виды признаков и критериев оценки религиозного объединения: этногеографические, демографические, этические, правовые, этнокультурные, вероучебные и иные», «обобщенная характеристика и признаки религиозного объединения», «обобщенная характеристика и признаки вероучения». При определении этих универсалий и категорий учитываются важнейшие составляющие вероучений: принятые идеалы (объекты поклонения); понимание духовности; отношение к добру и злу (трактовки происхождения и смысл); определение смысла жизни; построение системы нравственности; отношение к общественным институтам и личности; выбор приемлемых средств и методов достижения цели. Исследование осуществляется по следующим направлениям описания признаков вероучений: онтологическое, гносеологическое, антропологическое, культурологическое, правовое, политическое, этическое, криминологическое, аксиологическое, духовное. Принимая во внимание труды Г. ван дер Леува, Ю. В. Тихомирова, О. В. Старкова, Л. Д. Башкатова и других ученых, мы построили вероучебные признаки и критерии оценки для пяти групп: описание объекта поклонения (почитания); описание основателя и лидера вероучения; описание статуса человека в мире; описание отношения к государству, обществу, социальным институтам, власти, закону, семье; описание законности вероучения. В этой связи полезно изучение конкретных особенностей так называемых новых религиозных движений. Среди многочисленных их представителей определенный интерес представляют «Свидетели Иеговы». На современном этапе развития религиоведения в науке остаётся много неисследованных вопросов, связанных с указанной религиозной организацией. К их числу, на наш взгляд, относятся некоторые малоизученные аспекты генезиса и эволюции «Общества Сторожевой башни» (другое название «Свидетелей Иеговы»), степень деструктивности культовой практики и легитимность «Свидетелей Иеговы» в России. Следует отметить, что любое учение, которые принимают часть христианской истины за целое (по православной терминологии — еретические), тем дальше уходит от полноты истины, чем сильнее паразитирует на части этой истины [1]. Тоска по жизни во Христе, ощущение утраты полноты Истины являются характерными чертами христиан Запада [2]. Сами «Свидетели Иеговы» считают лишь свою религию истинной, «восстановленным» христианством, не признавая другие христианские вероисповедания в качестве христианских религий, имеющих связь с Иисусом Христом [3]. Однако последователи Ч.Т. Рассела, утверждая, что они являются «христианами», не имеют доказанной и явной христианской преемственности, так как история возникновения религии «Исследователей Библии» начинается в 1879 г., без какого-либо предания, рукоположения, преемственности вообще. Необходимо отметить, что в рассматриваемое время на территории США широкое распространение имели различные протестантские и неопротестантские объединения, оказывающие значительное влияние на духовную жизнь Северной Америки. Можно предположить, что идеи мормонизма, распространяясь на запад США, были проповеданы последователями Джозефа Смита в городе Аллегейни. А успехи молодого «пророка» Смита в деле создания и распространения собственной религии были известны двадцатилетнему Ч.Т. Расселу. В целом первая половина XIX в. была 252 плодотворна как для генезиса новых религиозных объединений, так и для широкого роста различных протестантских деноминаций. В целом XIX в. отмечается почти повсеместным одновременным появлением и распространением «новых пророков» во всем мире. Как отмечает Т.П. Григорьева, новые пророки — вечные искатели Истины, захотевшие пробудить человека, воззвав к его сознанию, помочь человеку найти то вечное, что определяет судьбу человечества в целом и каждой личности в отдельности [4]. Однако не только в Соединённых Штатах Америки к середине XIX в сложились предпосылки для формирования религиозного объединения, обожествляющего Иегову и имеющего соответствующее учение. Необходимо отметить, что в середине 1840-х гг. XIX в. в России появился иеговизм отечественного происхождения — так называемые иеговисты-ильинцы, Сионская весть или Десное братство. Некоторые положения учения иеговистов-ильинцев совпадают с элементами вероучения иеговистов-расселитов. Так, например, по мнению Н.С. Ильина существуют два высших существа — это Иегова – бог людей бессмертных и сатана – бог смертных. Согласно данному положению все люди делятся на два разряда, на иеговистов и сатанистов. Между Иеговой и сатаной происходит борьба, причем сатана старается привлечь на свою сторону как можно больше людей. Иегова дал всем народам единую в него веру, но слуги сатаны – талмудисты, паписты, жрецы и попы — чтобы отдалить человечество от единственно правильной религии, придумали 1016 различных вероучений, причем все между собой разобщены и являются противниками друг другу [5]. На последние же времена, то есть на середину XIX – начало XX вв. Иегова открыто объявит войну сатане, победит его вместе с его земными слугами и ввергнет дьявола в ад, кипящий серой, все же слуги его будут убиты мечом. После этого для верных своих слуг — последователей Н.С. Ильина, Иегова создаст в Палестине тысячелетнее царство. На территорию Палестины с неба будет спущен некий объект, сделанный небесными людьми – инопланетянами. По этому поводу Чарльз Тэйз Рассел в своём семитомном труде «Изучение Писаний» высказал мысль о том, что в созвездии плеяд существует центральная, знаменитая звезда Альцион, являющаяся «…насколько это исследовано наукой, «полуночным троном», … центром целой системы притяжения…, с которого Всемогущий управляет своей Вселенной» [6]. Но звезда Альцион не известна современной науке. Таким образом, тема существования других цивилизаций и пришельцев из космоса была общей для Н.С. Ильина и Ч.Т. Рассела. Одним из общих постулатов вероучений отечественных иеговистов-ильинцев и западных последователей Ч.Т. Рассела является положение об имени Бога — «Иегова». Адепты «Свидетелей Иеговы» считают исторически возникшее неправильное произношение древнееврейского тетраграмматона «Иегова» личным именем Божьим [7]. Данные иеговисты выбрали для прославления имя, которого на самом деле в первоначальном тексте Библии никогда не было. Дело в том, что тетраграмматон лишь обозначает Имя, настолько святое, что произносить Его вслух не полагается. Поэтому в тексте иудейского Священного Писания сохраняются лишь четыре согласные буквы тетраграммы. Это подлинное, то есть неисправленное слово — кетив (что по-арамейски значит — написано). Вслух же полагается произносить «Господь мой» (Адонай). Чтение изменяется умышленно из-за благочестивых соображений. Это исправленное слово — керэ (что по-арамейски значит — должно читать). И огласовка (подстановка гласных) от керэ ставится в тексте под кетив, образуя искусственную и совершенно невозможную для древнееврейского языка форму «Иегова», где составное древнееврейское «шва» заменено простым «шва». Так как Божественное Имя встречается в Библии постоянно, то редакторы печатных изданий не сочли необходимым отмечать правильное прочтение керэ на полях или в примечаниях. Предполагалось, что читатель сам знает, что следует произносить в таких случаях. 253 Таким образом слово «Иегова» — результат совмещения тетраграммы и огласовки от слова «Господь мой», то есть, несуществующее псевдо-слово. И сие придуманное имя иеговисты избрали для своего прославления. То есть, они взяли искусственно созданный объект — несуществующее в подлинном тексте Библии имя, и сами приписали его Богу. А это — явное поклонение идолу. Более того, они корректируют священный текст Библии, самовольно и многочисленно вставив туда свои изменения. В свою очередь у ильинцев глубоким почитанием пользуется само еврейское изображение имени Иеговы. Данное имя обычно изображалось последователями Н.С. Ильина на доске, картоне, бумаге, причем буквы вырезались или писались еврейским шрифтом. Отличительным знаком иеговистов-ильинцев был крест с изображением на треугольнике еврейского имени «Иегова», исполняющий функцию символа всех приставших к вере в Иегову распятого, то есть последователей Н.С. Ильина [8]. Несмотря на множество сходств между ильинцами и «Свидетелями Иеговы», отечественный вариант иеговизма не получил такого широкого распространения, как западный. Уже с 1890-х гг. расселизм начал быстро распространяться по всему миру. Так 23 апреля 1900 г. в Лондоне был создан первый филиал «Исследователей Библии». Данный филиал находился в восточной части города по адресу Джипси-лейн, 131, Форест-Гейт. Изначально в лондонском филиале насчитывалось 138 адептов. К 1911 г. филиал «Общества» в Лондоне был перемещён на Кравен Террас, 34, где имелось больше места для офисов и жилых помещений. В 1902 г. в Германии был открыт второй филиал «Общества Сторожевой Башни Сиона». К 1904 г. филиалы Общества появились в Австрии и Швейцарии. Пятый филиал «Общества Сионской Сторожевой башни и трактатов» возник в 1919 г. в Канаде. В целом, по мере активизации прозелитической деятельности расселитов, количество их филиалов постоянно увеличивалось достаточно быстрыми темпами [9]. Можно говорить о том, что в США и России к середине XIX в., независимо друг от друга, сложились культурно-исторические и общественные предпосылки для генезиса и развития новых религиозных деноминаций и конфессий, обладающих определёнными признаками. К числу данных особенностей относятся перенос центра внимания с сотериологии на эсхатологию, негативное отношение к традиционной христианской церкви, ожидание скорого конца света. В 1886 г.Ч. Рассел опубликовал первый том из серии собственных толкований на Библию под названием «Тысячелетняя заря». Этот комментарий к Священному Писанию, включающий в современном варианте семь томов и называющийся «Свидетелями Иеговы» «Изучением Писаний», является основным толкованием Библии в исследуемой организации. Чтобы понять значимость многотомника Ч.Т. Рассела, священник О. Стеняев приводит следующую интересную выдержку из «Сторожевой башни», выпущенной в начале XX в.: «Шесть томов моей книги «Изучение Писаний» это практически Библия, составленная по темам, каждая из которых подтверждается библейскими текстами. Ее можно назвать тематической Библией. Иными словами, это не просто комментарий к Библии, но сама Библия... Люди не только не способны понять намерение Бога без моей книги. Даже если человек читал «Изучение Писаний» в течение десяти лет, если он научился понимать Библию должным образом и отложит мою книгу и попытается читать только Библию, то опыт показывает, что через два года он окажется в полной темноте. С другой стороны, если он станет читать только «Изучение Писаний» и те ссылки, которые там даны, то, даже не открывая Библию, он будет в свете через два года, потому что он будет видеть свет Писания» [10]. Таким образом, Ч.Т. Рассел начал формировать не только собственное предание «Общества Сторожевой Башни», но и самовольно трактовать Библию, а также формировать собственное новое «христианское» учение. В связи с этим вспомним, что древнее христианство, согласно его доктрине, зиждется на 254 подлинной, а не придуманной, любви к Богу. Это приводит к тому, что религиозная жизнь и молитва истинных христиан строится не на анархическом своеволии человеческого духа, а на свободном добровольном принятии воли Божьей, то есть на апостольской законности и преемственности, основанных и охраняемых Самим Господом Иисусом Христом (Числ.16:1-5; 31-35; Мф.10:1; Мк.3:13; 6:7; Ин.1:12; 6:39; 10:29; 15:16; 17:6 и др.). С самого начала своей деятельности «Исследователи Библии» уделяли особое внимание прозелитизму. Обществом издавались журналы, направленные на проповедь иеговизма. А с приближением 1914 г. появился новый метод распространения благой вести в варианте Ч.Т. Рассела — «Фото-драма». В это время адептами «Общества» была организована просветительская акция по обучению Священному Писанию при помощи новинок кино-фото техники. Как утверждается в «Сторожевой Башне» [11], данная работа была проведена по всему миру, однако на наш взгляд в начале XX в. это не представлялось возможным, что свидетельствует о некоторых неточностях информации, приведённой в журнале. Таким образом, можно говорить о том, что Ч.Т. Рассел понял всю практическую значимость использования новых технологий для проповеди, тем самым, подав пример будущим поколениям своих последователей. В результате широкой проповеднической деятельности «Исследователей Писаний», а также использования для прозелитизма новейших достижений техники, только в 1921 г. в разных странах мира открылось шесть филиалов «Организации». А уже к 1938 г. иеговизм был распространён в 52 странах, а наибольшее количество «Свидетелей» в это время составляло 59047 человек [12]. Быстрый рост «Организации» требовал от её руководства реформирования управленческой системы «Общества». Во время президентства Д.Ф. Рутерфорда в «Обществе Сторожевой Башни, Библии и Трактатов» впервые были сделаны реформы управления организацией. Так, например, в конце 20-х гг. XX в. с целью усиления контроля центра за местными отделениями иеговистов был создан институт разъездных представителей Общества или пилигримов для осуществления служебного руководства в регионах [13]. Впоследствии пилигримы преобразовались в разъездных надзирателей, обязанных хотя бы один раз в месяц посещать каждое собрание подконтрольного им региона. Данный процесс стал началом построения «теократической организации». При создании «теократической организации» Д. Рутерфорд столкнулся с проблемой выборности старейшин местных собраний, так как почётную традицию выборности старейшин местных собраний установил ещё Ч.Т. Рассел. Однако рассматриваемая традиция противоречила идеям Рутерфорда о создании «теократического общества», и в 1932 г. президент организации потребовал от адептов назначения всех старейшин местных собраний главой «Свидетелей Иеговы», без права на выборность этих должностей. В результате этого среди иеговистов началась смута, достигшая руководства организации. Д. Рутерфорд в целях предупреждения раскола «Общества Сторожевой башни» принял компромиссное решение, заключавшееся в том, что выборные старейшины заменялись назначаемыми служебными комитетами, а служебный руководитель местного собрания должен был избираться. Эта мера позволила брату Рутерфорду выиграть время в борьбе со своими оппонентами на местах и постепенно отстранить их от лидерства в собраниях, после чего с 1938 г. руководители местных собраний официально стали назначаться из «Бруклинской скинии» [14]. Таким образом, начала складываться система теократической организации с определённой иерархией должностей подчинённых президенту организаций, чёткой вертикалью власти и послушного большинства адептов на местах. Следует отметить, что каждый новый президент «Свидетелей Иеговы» ужесточал контроль над организацией [15]. На период президентства Д.Ф. Рутерфорда выпали годы тоталитаризма и первая половина Второй Мировой войны. В своём журнале «Сторожевая башня» от 1 марта 255 2003 г., который последователи рассматриваемой религиозной организации распространяли на улицах г. Белгорода в апреле 2003 г., говорится о том, как расселиты подвергались притеснениям со стороны нацистской Германии [16]. В более раннем номере «Сторожевой башни» в статье под названием «Харизма для прославления человека или Бога?» [17], персона А. Гитлера рассматривается неоднозначно. Так из всех персоналий Новейшей истории, претендующих на роль харизматического лидера, авторами журнала был избран А. Гитлер. Ему приписывается обладание талантом харизмы, а далее данное понятие трактуется как «…исключительная духовная одарённость человека, воспринимаемая окружающими как сверхъестественная, божественного происхождения сила постижения и воздействия, недоступная обычным людям…» [18] Таким образом, человеку, развязавшему Вторую Мировую войну фактически приписывается иеговистская святость. Существует и другая точка зрения на взаимоотношения германских нацистов и адептов рассматриваемой религиозной организации, высказанная религиоведом А.Л. Дворкиным [19] и базирующаяся на так называемом «Письме Свидетелей Иеговы Гитлеру». В данном «Письме…» [20], опубликованном А.Л. Дворкиным, магдебургское «Общество Сторожевой башни» выразило, во-первых, полную поддержку политике и идеологии нацистов, а, во-вторых, неприязнь к марксистской идеологии и коммунистической деятельности. Также во время Великой Отечественной войны нацисты преследовали иеговистов за их отказ от воинской службы, однако, на советской территории не трогали ни их, ни представителей других конфессий, выступавших против Русской Православной Церкви [21]. Кроме этого, советскими органами власти было установлено, что многие из руководителей расселитских групп на территории СССР, во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими комендатурами, гестапо и т.п. [22] Данные факты свидетельствуют о том, что подобные «преследования» иеговистов были одобрены руководством организации. Однако нынешние расселиты сменили своё отношение к нацистам на противоположное, выражающееся в словах историка К. Фолльнхальса: «Тоталитарные режимы занимаются не только политикой. Они хотят заполучить человека целиком» [23]. Данные слова дополнительно показывают конформистскую политику «Свидетелей Иеговы», отсутствие постоянства в их доктрине, а также ложность официальной информации иеговистов о своей истории. Необходимо отметить, что нацисты преследовали баптистов, православных и представителей других конфессий и деноминаций. Следовательно, «Свидетели Иеговы» в данном случае были гонимы отнюдь не из-за своей якобы уникальной единственно истинной религии [24]. Как известно, ложь или целенаправленное искажение информации лидерами религиозного объединения является одним из признаков деструктивного культа или тоталитарной секты. Для того чтобы не возникало вопросов об ответственности за публикации в печатных органах «Свидетелей Иеговы» в послевоенное время издание всех материалов Свидетелей Иеговы стало анонимным [25]. В наше время международная организация «Свидетелей Иеговы» имеет многоуровневую иерархическую управленческую и финансовую структуру. В 2000 г. происходят изменения с главным идеологическим печатным органом «Общества» — журналом «Сторожевая башня». Начиная с этого времени со второй страницы публикации исчезает подпись президента «Свидетелей Иеговы» [26]. С 2002 г. произошла окончательная замена Синодального издания Нового Завета на «Перевод нового мира» [27]. Следует отметить, что каждый новообращённый «Свидетель Иеговы» становится постоянным источником средств для организации иеговистов. Так, например, каждый неофит становится подписчиком нескольких экземпляров журналов 256 «Пробудитесь!» и «Сторожевая Башня». Один номер каждого журнала адепт оставляет у себя, а остальные должен распространить. От количества распространённой литературы зависит размер заслуг адепта перед организацией [28]. Например, в наше время полновременный пионер, при условии выполнения требования «Общества» служить не менее 1000 часов в год и, распространяя как минимум одну «Сторожевую Башню» и один «Пробудитесь», приносит Руководящей корпорации не менее 2000 долларов США в год (подсчёты выполнены Ш.Р.). В 2004 г. среднее число пионеров «Свидетелей Иеговы» в 235 странах и территориях составляло 858 461 человек, принёсших «Организации» минимум 1716922000 долларов США. В свою очередь в 2004 г. «Свидетели Иеговы» потратили на содержание специальных пионеров, миссионеров и разъездных надзирателей более 93000000 долларов США [29]. Таким образом, на сегодняшний день «Общество Сторожевой Башни» может рассматриваться как могущественная финансовая корпорация, функционирующая по всем правилам крупного международного бизнеса. Особенностью данной корпорации является использование разнообразных культовых и внекультовых практик воздействия на своих адептов. Структуру внутренней культовой жизни «Свидетелей Иеговы» составляют различные формы и методы религиозной деятельности. К ним относятся богослужение, Вечеря Господня, Конгрессы, Крещение, Собрания, Проповедь, Библейское изучение, Публикации. Внекультовая практика заключается в отношении к семье, браку, образованию, здоровью, гражданским правам и обязанностям, государству в целом, а также в развивающейся до наших дней системе религиозных запретов или табу для своих адептов [30]. Одной из основных формой осуществления богослужения у «Свидетелей Иеговы» является проповедь. Активное длительное участие в прозелитической деятельности накладывает на расселитов определённый отпечаток. Изначально замкнутые, неуверенные в себе личности, с заниженной самооценкой, путём общения во время миссионерского служения с самыми разными людьми становятся более коммуникабельными, уверенными в себе и собственных силах. С другой стороны, слишком напористые и самоуверенные адепты делаются гибкими, приучаются реагировать на настроение собеседника. Те же, кто раньше не мог связно и убедительно и ясно выражать свои мысли, приобретают навыки ораторского искусства, а также умение вести беседу. В случае невозможности участия последователя в деле проповеди наравне с другими возвещателями, ему рекомендуется чаще беседовать с друзьями, знакомыми или рассказывать о своей вере по телефону [31]. На практике адептам приходится бросать учебу в ВУЗе, техникуме или работу по специальности, чтобы работать не более 2-3 часов в сутки с целью обеспечения прожиточного минимума для поддержания существования, а остальное время посвящать служению Иегове. Согласно этому, к самым престижным профессиям у Исследователей Писания относятся специальности дворников, уборщиц, ночных дежурных [32]. Кроме этого последователям Общества для увеличения количества времени, отводимого на распространение своей веры, надо отказаться от чтения малополезной светской литературы, долгого просмотра телевизора, Интернета, чрезмерного отдыха и развлечений [33]. Библейские публикации, производимые «Обществом Сторожевой Башни», включают в себя книги, брошюры, трактаты и периодические издания. По воспоминаниям бывших членов «Организации», культовая литература является основным методом приобретения новых последователей [34]. Отдельно следует отметить использование материалов медицинского содержания, носящих рекомендательный характер в журнале «Пробудитесь!», издаваемым «Обществом Сторожевой башни». Так, например, в нескольких номерах издания обсуждалась тема защиты от москитов. Свидетелям в качестве защиты от 257 насекомых советовалось ежедневно принимать 300 миллиграммов витамина B1 (тиамин). Затем в редакцию «Пробудитесь!» пришло письмо из Японии, предупреждающее о вреде такой дозы витамина B1 для организма человека. Реакцией на это письмо стала статья в очередном номере журнала, содержащая противоречивую информацию. В первой её части говориться о том, что некоторые специалисты в области медицины рекомендуют принимать ежедневно не более 1,1 миллиграмма тиамина, так как большая суточная доза считается токсичной. Вторая часть статьи сообщает информацию, основанную на некоторых данных, о безопасности внутреннего применения 500 миллиграммов B1 в сутки в течение месяца. В заключение заметки говорится о необходимости дальнейшего исследования вопроса о принятии тиамина [35]. Другим примером некорректного использования медицинской информации в журнале «Пробудитесь!» может послужить примечание к статье, рассказывающей о жизни в условиях высокогорья. Снова ссылаясь на некоторых врачей, «Общество» советует своим последователям, страдающим ожирением, гипертонией, серповидноклеточной анемией, болезнями сердца и лёгких, принимать на больших высотах ацетазоламид для стимуляции дыхания [36]. Таким образом, адептам, подвергая их жизнь и здоровье необоснованному риску и опасности, советуют применять медицинские препараты в дозах, механизм воздействия на организм человека которых ещё не достаточно исследован. Внекультовая практика «Свидетелей Иеговы», в первую очередь, отражается на семье адепта. В тоже время, «Общество Сторожевой Башни» регламентирует вступление в брак и семейную жизнь своих последователей. Официально заявляется, что разница в религиозных убеждения не считается библейским основанием для развода или раздельного жительства [37]. По мнению С.И. Иваненко, в том случае, если один из супругов не является «Свидетелем Иеговы», это не является поводом для развода. Единственным основанием для развода «Организацией» признаётся измена одного из супругов. Также отмечается, что супруг, не принадлежащий к иеговистам, видя, что его жена, став адепткой культа и, начав жить в соответствии с иеговистской трактовкой Библией, меняется к лучшему, становится более заботливой женой, матерью, хозяйкой, иногда сам начинает изучать Библию и становится «Исследователем Писания» [38]. Но жена, последовательница «Общества», может уйти от мужа, если он отказывается обеспечивать семью, своим поведением подвергает опасности жизнь и здоровье жены, или своим сопротивлением препятствует ей поклоняться Иегове [39]. То есть, разница вероисповеданий в семье может послужить одним из поводов для развода. Исходя из культовой практики «Свидетелей Иеговы», среди адептов не допускаются полигамные и гомосексуальные браки. Добрачный секс и половые извращения рассматриваются бруклинскими иеговистами как аморальные поступки [40]. Однако, борясь за сохранение своих гражданских прав, «Свидетели Иеговы» в немалой степени посодействовали в США обеспечению прав всех меньшинств, в том числе и сексуальных [41]. Одной из основных сфер внекультовой жизни адепта, регулируемой «Обществом», является его физическое и духовное здоровье. Так, например, одним из видов опасности для жизни человека признаётся автомобиль, представляющий угрозу, если им как следует не управлять [42]. По этому вопросу «Организация» занимает двоякую позицию. С одной стороны адептам рекомендуется управлять машиной с максимальной осторожностью. Но в то же время, находясь в дороге, для проведения времени с пользой, расселит должен слушать библейские записи на магнитофонных кассетах, что, несомненно, отвлекает внимание водителя и может послужить причиной аварийной ситуации [43]. 258 Также как вопросам здоровья и жизни адепта, большое внимание уделяется «Организацией» гражданским правам и обязанностям своих последователей. «Свидетели Иеговы» сохраняют нейтралитет в вопросах политики, вследствие посвящения своей жизни Богу [44]. Однако это не мешает бруклинским иеговистам критиковать деятельность ООН и светских правительств. Так, например, действия ООН подвергаются сомнению, а земные правительства объявляются немощными [45]. Обещания ООН о безопасности объявляются пустым звуком. Тысячи обещаний такого же количества политиков признаются невыполненными [46]. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что культ «Организации» охватывает практически все стороны и уровни жизни адепта. Внутрикультовая и внекультовая практики, как и вероучение Общества в целом, носят противоречивый характер. Необходимо отметить сильные противоречия между информацией о культе, содержащейся в официальных документах и библейских публикациях «Свидетелей Иеговы», что, в свою очередь, свидетельствует об использование лжи и наличие двойного учения, а это является отличительной характеристикой новых религиозных объединений. Политика двойных стандартов используется «Обществом Сторожевой башни» не только в культовой и внекультовой практиках, но и в изложении фактов истории «Свидетелей Иеговы» на территории России, а также в вопросах государственной регистрации «Исследователей Писания». Так, например, законопослушные «Свидетели Иеговы», говоря о преследованиях со стороны советского государства, умалчивают собственное отношение к советской власти. С 1929 г., в СССР начались преследования представителей всех без исключения конфессий со стороны государства, в их числе оказались и «Исследователи Писания». В результате этого, в США идеологи расселизма стали выступать против советской власти. Из «Управляющей корпорации» советским иеговистам пересылались инструкции и бюллетени о действиях «Свидетелей Иеговы» в условиях «сатанинского режима». Ориентируясь на них, лидеры подразделений «Общества», находящихся на территории СССР, осуждали советский строй и запрещали регистрировать свои общины. Подобное отношение «истинных христиан» к советской власти продолжало оставаться до 1964 г. [47] Исследуя историю «Организации» в СССР, Н.С. Гордиенко выделяет шесть формальных поводов для гонений и притеснений иеговистов на территории Советского Союза. С другой стороны, С.И. Иваненко, отмечая отказ иеговистов поклоняться Сталину, подчиняться атеистическим установкам существующего режима и законам советского государства, подходит к вопросу об официальной регистрации «Общества» в СССР с иных позиций, анализируя общую для всех конфессий религиозную обстановку в СССР в то время. Согласно законам 1930-1940-х гг., органы власти требовали от легальных религиозных организаций выполнения трёх основных норм деятельности. Так, например, запрещалась проповедь за пределами храмов и требовалось, чтобы проповедники имели разрешение властей на осуществление миссионерской деятельности. Проповедь разрешалась только в рамках проведения богослужения. Содержание проповеди находилось под контролем органов обеспечения государственной безопасности. Органы власти следили за тем, чтобы проповеди духовенства и издававшаяся религиозная литература воспитывали адептов в патриотическом духе. Также как и проповедь, совершение религиозные обряды могло происходить исключительно в специально выделенных для этого культовых зданиях, а совершать религиозные обряды могли только духовные лица, имеющие специальное разрешение властей. Ещё одним требованием к легальной религиозной организации было обязательное сотрудничество её руководства с органами обеспечения государственной 259 безопасности. Внутренние кадровые назначения должны были согласовываться с советской властью. Следующей обязанностью официальной религиозной организации являлась поддержка внутренней и внешней политики СССР [48]. Таким образом, можно сделать вывод, что не советское законодательство, единое для всех конфессий, послужили причиной для существования расселитских общин в СССР на нелегальном положении, а нежелание подчиняться законам советского государства стало поводом для отказа от официальной регистрации «Свидетелей Иеговы», из-за чего на них, как и на другие религиозные организации и группы, начались гонения. В официальных документах советского государства в то время объединение «Свидетелей Иеговы» называлось «антисоветским». Литература, распространяемая адептами, именовалась «политически вредной». Вероучение «Общества» характеризовалось как «реакционное», деятельность признавалась «антиобщественной» и «противозаконной», а подпольные собрания последователей считались «сборищами» [49]. С точки зрения советских органов власти запрет нерегистрируемых религиозных групп происходил из антиконституционного и антизаконного характера вероучения и деятельности сектантов. Например, в соответствии с Конституцией СССР каждый гражданин был обязан исполнять законы государства, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития. А также, согласно советским законам, никто не мог, ссылаясь на свои религиозные убеждения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. На основании этого «Свидетели Иеговы», отказывающиеся от воинской службы и запрещающие брать в руки оружие для защиты социалистического Отечества, характеризовались как антиконституционное вероисповедание. Органы советской власти не могли допустить пропаганды и регистрации вероучения, подстрекающего адептов к нарушению Конституции СССР [50]. На сегодняшний день история «Исследователей Писания» в России в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. имеет много неизученных аспектов. Так, например, в современных документах уставных материалов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода содержится неточная и вызывающая сомнение, на наш взгляд, информация. То есть, в «Сведениях об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации «Свидетели Иеговы» [51] сообщается о 17 тысячах человек, присутствовавших на встречах расселитов в 1956 г., хотя, по данным Государственного архива Белгородской области, к 1959г., на территории СССР действовало более 300 групп иеговистов, как последователей «Общества Сторожевой Башни», так и «ильинцев», общее число которых составляло около 10-15 тысяч человек [52]. Таким образом, общая численность адептов «Общества Сторожевой Башни» в Советском Союзе не могла превышать 12-13 тысяч человек. С именем одного из последних руководителей СССР — Ю.В. Андропова связана последняя волна репрессий против «Свидетелей Иеговы», проходившая в 1982-1983гг. Эти репрессии стали следствием общей внутренней политики СССР, так как Ю.В. Андропов делал ставку на репрессивные функции КГБ во всех сферах общества. В русле своей внутренней политики Ю.В. Андропов вел решительную борьбу против конфессий, действовавших без регистрации, то есть незаконно. К числу «религиозных экстремистов» были отнесены и «Исследователи Писания». Главные идеологические мотивы использования КГБ для борьбы с «религиозным экстремизмом» и иеговизмом бруклинского толка при Ю.В. Андропове разъяснялись в Информационном бюллетене, издаваемом с 1982 г. Институтом научного атеизма Академии общественных наук по решению ЦК КПСС. Это периодическое издание направлялось руководителям партийных органов и имело гриф «для служебного пользования», а каждый Бюллетень имел свой «серийный» номер [53]. 260 В качестве путей борьбы с «религиозным экстремизмом» рассматриваемое издание Института научного атеизма Академии общественных наук предлагало добиваться отрыва рядовых адептов от руководителей нелегальных религиозных групп, а также легализовать подпольные религиозные общества через официальную регистрацию. Предполагалось осуществлять и так называемую «автономную» регистрацию религиозных групп, признающих действующее советское законодательство о религиозных культах [54]. Следует отметить, что в отношении «Свидетелей Иеговы» рассматриваемые призывы официальных властей и методы воздействия, если и применялись, то успеха не имели, а расселиты в СССР продолжали оставаться незаконной, экстремистской и подпольной религиозной группой. Причём отказ от автономной государственной регистрации воспринимается в «Организации» как подвиг, что вызывает сомнение в законопослушности «Общества Сторожевой Башни». В число зарегистрированных религиозных объединений ещё до распада СССР попали и «Исследователи Писаний». В отличие от многих советских религиозных объединений, легализовавших свою деятельность ранее 1990 г., «Свидетели Иеговы» отказывались от регистрации до 1991 г., а именно до принятия закона о религиозных объединениях [55]. 27 марта 1991 г., Министерством юстиции РСФСР был зарегистрирован «Управленческий центр религиозной организации Свидетелей Иеговы в СССР» [56]. Незамедлительно после этого произошло расширение деятельности Общества в СССР. То обстоятельство, что ещё в 1991 г. в СССР «Свидетели Иеговы» были официально зарегистрированы, открывало для активной прозелитической деятельности «Общества» новые многомиллионные российские просторы. Вызывает интерес факт регистрации «Организации» на её родине в США как некоммерческой организации «Общество Сторожевой Башни, Библии и трактатов, Пенсильвания» [57]. В США «Исследователи Писания» зарегистрированы как издательская организация [58]. То есть о религиозной принадлежности в Уставе американских расселитов ничего не сказано, что может свидетельствовать об изначальной коммерческой, а не религиозной деятельности «Организации». Религия же в «Обществе» используется лишь для прикрытия и удержания последователей. Проанализировать эффективность действия современных нормативных актов Российской Федерации и выяснить степень легитимности «Общества Сторожевой башни» на сегодняшний день в нашей стране можно на примере «Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы города Белгорода». Она зарегистрирована органами юстиции в 1992 г. и прошла перерегистрацию 23 августа 1999 г., под регистрационным номером 117 [59]. Последователи «Общества сторожевой башни», распространяя свои убеждения среди населения Белгородской области, применяли различные методы, среди которых можно выделить: хождение по квартирам и домам, приставания на улицах, а в последнее время так называемые «проповеди по телефону». Весьма активна «проповедь по домам», которая относится к пункту 2.2.1 Устава местной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Исходя из экспертного заключения Устава [60], можно сделать вывод о том, что пункт 2.2.1 фактически нарушает федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (от 1 октября 1997 г., с изменениями, внесенными #M12291 901757671Федеральным законом Российской Федерации от 26 марта 2000 года N 45-ФЗ) [61], так как координация проповеднической деятельности лиц по домам фактически является неприкрытым внесением в Устав практики миссионерской деятельности «Свидетелей Иеговы», когда они по своей инициативе приходят к частным лицам в их жилища и навязчиво ведут пропаганду своего учения, нарушая свободу совести и другие права граждан. В пункте 2.2.2 Устава местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода говорится о координации проведения бесплатных частных библейских 261 изучений для желающих лиц, что открыто закрепляет практику миссионерской деятельности, а это является нарушением ст. 18 п. 2 Закона РФ «О свободе совести и религиозных объединениях», потому что проповедническая деятельность может проводиться только при условии создания соответствующих культурнопросветительских организаций, образовательных и иных учреждений, которых у них нет в Белгородской области [62]. Кроме международных и федеральных нормативных актов, регулирующих функционирование религиозных объединений, необходимо упомянуть и местные законы отдельных субъектов РФ. В качестве примера можно привести Закон об административных правонарушениях на территории Белгородской области, принятый областной Думой 27 июня 2002 года. В статье 6.8. «Приставание к гражданам с целью гадания, навязывания религиозных убеждений» говорится о том, что приставание к гражданам с целью навязывания религиозных убеждений влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда, из чего следует, что адепты рассматриваемого религиозного объединения совершают административные правонарушения [63]. Другим законом Белгородской области, регулирующим деятельность религиозных организаций, является закон «О миссионерской деятельности на территории Белгородской области», принятый областной Думой 1 марта 2001 г. и подписанный главой администрации области 19 марта 2001 г., за № 132. Согласно закону каждый «возвещатель Царства Иеговы» должен иметь документ, удостоверяющий его принадлежность к «Свидетелям Иеговы». Также иногородние и иностранные проповедники обязаны представить в областной исполнительный орган государственной власти ряд документов, без которых их миссионерская деятельность считается незаконной. В данном законе за нарушения, допускаемые в миссионерской деятельности, предусмотрены штрафы от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда. А за повторные нарушения положений рассматриваемого нормативного акта предусматривается прекращение миссионерской деятельности на территории области [64]. Кроме этого Уставные документы религиозной организации «Свидетели Иеговы» путём подмены понятий пропагандируют отказ от гражданских обязанностей и нанесение вреда здоровью человека. Например, в пункте «Сведений об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации «Свидетели Иеговы», объясняющем мирскую жизнь последователей Ч. Рассела, говорится: «...христиане стоят в стороне от мира, отчуждённого от Бога, т.е. не участвуют в его делах...» [65], из чего следует вывод о проповеди несоблюдения адептами «Издательского общества сторожевой башни Сиона» своих гражданских обязанностей. Одним из пунктов «Сведений» является отказ от переливания крови, закамуфлированный под «… неоправданный риск для здоровья и жизни…» из-за того, что от крови другого человека можно заразиться каким-либо смертельным заболеванием [66]. Данный «запрет на кровь» действует даже в экстренной ситуации, когда требуется неотложная медицинская помощь с использованием переливания крови. В международной практике известно немало случаев смерти адептов «Общества Сторожевой башни» в результате применения на практике данного табу [67]. Следует отметить, что рассматриваемый «запрет», исходя из положений федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», является одним из оснований для ликвидации религиозной организации [68]. Как отмечает Ф.В. Кондратьев, в мире нет страны, из которой не поступали бы сведения о трагических смертях, как самих последователей «Общества Сторожевой Башни», так и их детей, потерявших жизнь изза фанатизма родителей, убежденных в истинности запрета Священного Писания на переливание крови [69]. 262 Заключение Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что вопрос о легитимности «Общества Сторожевой Башни» в современной России представляет собой комплексную научную проблему, обусловленную, с одной стороны, российским государством, его законами, национальной безопасностью, сохранением духовного и физического здоровья россиян. С другой, вероучением, организационным устройством «Общества Сторожевой Башни», методами его прозелитической деятельности. Таким образом, несмотря на видимые нарушения федерального и местного законодательств как в уставной документации, так и в практической деятельности местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» на территории Белгородской области, рассматриваемое религиозное объединение продолжает заниматься не совсем законной, на наш взгляд, деятельностью, а его адепты прозелитизмом. К одному из неисследованных вопросов истории иеговистов в России можно отнести изучение государственной принадлежности руководителей отечественных расселитов. Так на основании нашей работы можно говорить о том, что все отечественные главы «истинных христиан» имели иностранное, на сегодняшний день, гражданство украинское или польское. Из семи человек, возглавлявших Руководящий комитет «Свидетелей Иеговы» на территории советской России, на Украине родились шесть, а один — в Польше. Однако данный аспект, как и многие другие вопросы, истории бруклинского иеговизма в СССР ещё недостаточно исследован и требует дальнейшего, более серьёзного изучения. Список литературы 1. См.: Священник Игорь Ефимов Ложные свидетельства Свидетелей Иеговы (исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время) Вып.II – М.,1997. 2. Современные ереси и секты на Руси./ Под ред. Митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна. – Житомир: «Ни-ка», 2001. - С. 68. 3. Сторожевая Башня. 15 февраля 2004. – С. 4-7. 4. Григорьева Т.П. Новые пророки. – СПб.: «Наука», - С. 4-5. 5. Булгаков С.В. Расколы. Ереси. Секты. Противные христианству и православию учения. Западные христианские вероисповедания. Соборы Западной Церкви. – М.: «Современник». – 1994. - С. 166. 6. Russel Charles Taze. Studies in the Scriptures (7 vols.). Brooklyn, N.Y., 1917. Vol.3. P.327. Цит. по: Дворкин А.Л. Сектоведение. – Нижний Новгород: Изд-во Братства св. Александра Невского, 2002. – С. 148. 7. Гордиенко Н.С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – С. 56. 8. Булгаков С.В. Расколы. Ереси. Секты. Противные христианству и православию учения. Западные христианские вероисповедания. Соборы Западной Церкви. – М.: «Современник». – 1994. - С. 166. 9. Пробудитесь! 22 декабря 2000. Vol. 81, No. 24. – С. 17. 10. См.: Стеняев О. «Свидетели Иеговы» Кто они? – М.: «Православная Москва», 1996. 11. Сторожевая Башня. Vol. 122, № 2. 15.01.2001. – С. 8. 12. 22 декабря 2000. Vol. 81, No. 24. – С. 17-18. 13. Дворцов Г. Лжесвидетели. // Миссионерское обозрение. № 9 (47). – Сентябрь 1999. – С. 12. 14. Дворцов Г. Лжесвидетели. // Миссионерское обозрение. № 9 (47). – Сентябрь 1999. – С. 12. 15. См.: Религии и секты в современной России: Справочник. – Новосибирск, 2001. – Версия 1.6. 263 16. Шилишпанов Р.В. К истории деятельности Свидетелей Иеговы на территории Белгородской области. (конференция Пенского В.В.) 17. Сторожевая Башня. Vol. 119, № 4. 15.02.1998. – С. 23. 18. Сторожевая Башня. Vol. 119, № 4. 15.02.1998. – С. 23. 19. См.: Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. - Нижний Новгород: Изд-во братства во имя Св. князя Александра Невского, 2002. 20. Секты против Церкви (Процесс Дворкина) / Составитель А.Л. Дворкин. – Издательство Московской Патриархии, 2000. – С. 724-727. 21. Современные ереси и секты на Руси./ Под ред. Митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна. – Житомир: «Ни-ка», 2001. - С. 129-130. 22. ГАБО, ф. Р-1179, оп. 1, д. 6, л. 112. 23. Сторожевая Башня. Vol. 124, № 5. 01.03.2003. – С. 4. 24. Скерцо И. Тайное царство Сторожевой Башни. Разоблачение Свидетелей Иеговы. http://askforbiblie.by.ru. 25. См.: Евменов Д. История создания и учение Общества Сторожевой Башни / кандидатская диссертация по кафедре сектоведения в Православном Богословском Свято-Тихоновском Институте. – М., 1998. (На правах рукописи). 26. См.: Сторожевая башня. 15 июня 1999. Vol. 120, No. 12. – С. 2.; Сторожевая башня. 15 ноября 2000. Vol. 121, No. 22. – С. 2. 27. Сторожевая башня. 15 января 2001. Vol. 122, No. 2. – С. 2.; Сторожевая башня. 1 ноября 2002. Vol. 123, No. 21. – С. 2. 28. Дворцов Г. Лжесвидетели. // Миссионерское обозрение. № 11 (49). – Ноябрь 1999. – С. 5. 29. Сторожевая башня. 1 февраля 2005. Vol. 126, No. 3. – С. 22. 30. Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации Свидетелей Иеговы. - Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, текущий архив «Регистрационные материалы учредительных документов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода». – С. 4-6. 31. Иваненко С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. – М.: Арт-БизнесЦентр, 1999. – С. 48-49. 32. См.: Казаков О. Иеговизм: культ галантерейщика. – СПб.: Статистъ, 1995. 33. Сторожевая башня. 15 ноября 2002. Vol. 123, No. 22. – С. 22. 34. См.: Стеняев О. «Свидетели Иеговы» Кто они? – М.: «Православная Москва», 1996. 35. Пробудитесь! 8 августа 2004. Vol. 85, No. 15. – С. 30. 36. Пробудитесь! 8 марта 2004. Vol. 85, No. 5. – С. 12. 37. Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации Свидетелей Иеговы. - Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, текущий архив «Регистрационные материалы учредительных документов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода». – С. 5. 38. Иваненко С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. – М.: Арт-БизнесЦентр, 1999. – С. 63. 39. Что от нас требует Бог? Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. – Италия, 2002. – С. 17. 40. Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации Свидетелей Иеговы. - Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, текущий архив «Регистрационные материалы учредительных документов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода». – С. 5. 264 41. Свидетели Иеговы. Кто они? Во что они верят? - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. – Рим, ноябрь 2000. – С.8. 42. Сторожевая башня. 15 февраля 2004. Vol. 125, No. 4. – С. 11. 43. Сторожевая башня. 1 декабря 2002. Vol. 123, No. 23. – С. 15. 44. Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации Свидетелей Иеговы. - Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, текущий архив «Регистрационные материалы учредительных документов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода». – С. 6. 45. Сторожевая башня. 1 августа 2003. Vol. 124, No. 15. – С. 4-6. 46. Сторожевая башня. 15 января 2004. Vol. 125, No. 2. – С. 3. 47. См.: Священник Игорь Ефимов Ложные свидетельства Свидетелей Иеговы (исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время) Вып.II – М.,1997. 48. Иваненко С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. – М.: Арт-БизнесЦентр, 1999. – С. 130-131. 49. Гордиенко Н.С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – С. 34. 50. ГАБО, ф. Р-1179, оп. 1, д. 6, л. 111. 51. Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации Свидетелей Иеговы. - Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, текущий архив «Регистрационные материалы учредительных документов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода». – С. 1; Новые религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера: Справочник / Миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви. Информационноаналитический вестник № 1. – Белгород, 2002. – С. 346. 52. ГАБО, ф. Р-1179, оп. 1, д. 6, л. 113. 53. Иваненко С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. – М.: Арт-БизнесЦентр, 1999. – С. 154. 54. Иваненко С.И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. – М.: Арт-БизнесЦентр, 1999. – С. 156. 55. См.: Священник Игорь Ефимов Ложные свидетельства Свидетелей Иеговы (исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время) Вып.II – М.,1997. 56. Гордиенко Н.С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – С. 36. 57. См.: Куликов И. Энциклопедия «Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера». – М., 2000. 58. См.: Религии и секты в современной России: Справочник. – Новосибирск, 2001. – Версия 1.6. 59. Религиозные организации на территории Белгородской области: Справочник. – Белгород: Изд-во «ИРПиЗ», 2002. – С. 29. 60. См.: Римский В.П. Экспертное заключение по Уставу местной религиозной организации «Свидетели Иеговы». – На правах рукописи. 61. Новое законодательство России о свободе совести и о религиозных объединениях: Сборник нормативных актов / Сост. Пчелинцев А.В. – М.: Ред. журнала «Религия и право», 1998. 62. См.: Римский В.П. Экспертное заключение по Уставу местной религиозной организации «Свидетели Иеговы». – На правах рукописи. 63. http://mail.bsu.edu.ru/public/ - Л. 7. 265 64. Сборник нормативных правовых актов Белгородской области. № 27. Январьмарт 2001. – Белгород: «Радиус», 2001. – С. 7-9. 65. Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, текущий архив «Регистрационные материалы учредительных документов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода». 66. Сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики религиозной организации Свидетелей Иеговы. - Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, текущий архив «Регистрационные материалы учредительных документов местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» г. Белгорода». – С. 6. 67. См.: Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. - Нижний Новгород: Изд-во братства во имя Св. князя Александра Невского, 2002; Новые религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера. Белгород, 2002; Религии и секты в современной России: Справочник, версия 1.6. - Новосибирск, 2001. 68. Новое законодательство России о свободе совести и о религиозных объединениях: Сборник нормативных актов / Сост. Пчелинцев А.В. – М.: Ред. журнала «Религия и право», 1998. – С. 18. 69. Кондратьев Ф.В. Современные культовые новообразования («секты») как психолого-психиатрическая проблема. – Белгород: Миссионерский отдел МП РПЦ, 1999. SOME ASPECTS OF GENESIS AND EVOLUTION OF THE ORGANIZATION, CULT PRACTICE AND PROBLEMS OF LEGITIMACY OF "JEHOVAH'S WITNESSES» IN RUSSIA A.I.Hvylja-Olinter1), R.V.Shilishpanov2), 1) 2) Belgorod State University, Preobrazhenskaja St., 78, Belgorod, 308000, Russia Belgorod State University, Preobrazhenskaja St., 78, Belgorod, 308000, Russia, e-mail: [email protected] Proceeding from theological and religious methodology, in the article the basic characteristics of the religious organization «Jehovah's Witnesses» are described. The major components of dogmas were taken into account at the description: the accepted ideals (objects of worship); understanding of spirituality; the attitude to goods and harm (treatments of an origin and sense); definition of meaning of the life; construction of system of morals; the attitude to public institutes and the person; a choice of comprehensible means and methods of achievement of the purpose. Thus the following directions of the description of attributes of dogmas were used: ontologic, gnosiological, anthropological, culturological, legal, political, ethical, criminological, axiological, spiritual. The documental base of research includes materials of religious association «Jehovah's Witnesses», works of conducting theologians and religious scientists, contemporary records (mainly for the first time entered in a scientific revolution) and other documents. 266 УДК 13 ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ РЕЛИГИОВЕДЕНИИ Т.Г. Человенко1), 1) Орловский государственный университет, 302026, Орёл, Комсомольская, 95, e-mail: [email protected] Меняющаяся интеллектуальная и социально-политическая ситуация выявляет неэффективность отдельных средств философско-теоретического обоснования религии и религиозного сознания. Перенос центра интересов в современном религиоведении от «филогенеза» к «онтогенезу» религиозного феномена, от эволюции вероисповедных традиций к изучению динамики религиозной жизни в контексте индивидуального развития соответствует общей плюралистической тенденции постмодернизма. Ключевые слова: феноменология, религиоведение, постклассическая наука, постмодерн. Меняющаяся интеллектуальная и социально-политическая ситуация выявляет неэффективность отдельных средств философско-теоретического обоснования религии и религиозного сознания. Перенос центра интересов в современном религиоведении от «филогенеза» к «онтогенезу» религиозного феномена, от эволюции вероисповедных традиций к изучению динамики религиозной жизни в контексте индивидуального развития соответствует общей плюралистической тенденции постмодернизма. Религиозные феномены, особенно связанные с традиционными духовными практиками (например, исихазм, йога, дзен, даосизм, суфизм), давно уже стали предметом пристального изучения и массового интереса. Обнаружилась их несомненная ценность для наук о человеке, а так же устойчивый интерес к ним со стороны современных нетрадиционных духовных поисков. Изучая религиозные явления, мы сталкиваемся с противоречием, требующим своего решения. С одной стороны, необходимо сохранить аутентичное восприятие религиозно-мистической сущности той или иной духовной традиции, с другой — необходим научный анализ, предполагающий введение религиозного феномена в общекультурный контекст. Данная проблема может быть глубоко конфликтной. Например, для православного сознания типична, как отмечает С.С.Хоружий, ревнивоохранительная реакция, сознание непрекосновенности сакральной сферы. В этом контексте научное исследование религиозной традиции и есть такое вторжение, которое не только недопустимо и вредно для неё самой, но и бесполезно для науки. Методология позитивистской науки, её эвристика, парадигмы, концептуальный аппарат в изучении духовных традиций оказываются мало пригодными. По своей проблематике и методологическим решениям феноменология отличается от господствовавших в ХХ в. позитивистских моделей научного знания. Это обстоятельство, с одной стороны, долгое время служило препятствием для широкого признания и ассимиляции феноменологических идей в среде позитивистски ориентированных методологов науки и самих учёных. Но, с другой стороны, то же самое обстоятельство было расценено как достоинство феноменологической парадигмы, когда в связи с кризисом позитивистских и постпозитивистских концепций исследователи обратились к поиску альтернативных идеалов научности (Бабушкин В.У., Микешина Л.А., Печёнкин А.А., Шкуратов И.Н. и др.). Привлекательность феноменологии с методологической точки зрения объясняется тем, что она сохраняет, хотя и в весьма модифицированном виде, основные завоевания «классического идеала» науки: достоверность источников познания, обоснованность используемых методов получения знания, общезначимость и объективную истинность научных результатов, опору на опыт, а также универсализм научного подхода. Но в тоже время отвечает на 267 поставленную ещё Кантом задачу отыскания «предельных» условий возможности обретения субъектом объективного опыта. Эпистемологические основания постклассического религиоведения Несомненную религиоведческую актуальность имеет, на наш взгляд, феноменологический диалог как научнообоснованный способ познания реальности во всём её многообразии. Это объясняется тем, что религиоведение сталкивается с такой реальностью, которая сама по себе уже является определённым феноменом, перекрёстком трансцендентного и социокультурного. Отсюда перед исследователем возникают следующие проблемы: во-первых, понимания религиозных феноменов различных религиозных традиций, что является основой для их дальнейшего изучения, и, во-вторых, научнообоснованного, адекватного их изучения, где сходятся различные познавательные парадигмы и методы исследования. Впервые понятие феноменологического диалога появилось в компаративистских исследованиях [1], когда проблема сопоставления основных типов цивилизаций, изучение их ценностных, нормативных или познавательных установок поставила вопрос появления научных подходов, ориентированных на интегративное познание феномена цивилизаций. К настоящему времени уже выработаны критерии дихотомного сопоставления социокультурных оснований Запада и Востока, среди которых особенно известны критерии Г. Кайзерлинга, С. Галика, Х. Накамуры. Это сопоставление присуще феноменологическому диалогу, который в основу кладёт принцип толерантного отношения к миру, к самому себе и к Другому, и исключает репрессии инаковости, если она не деструктивна и легитимна. На основе подобного диалога сейчас и осуществляется развитие философской компаративистики, предполагающей диалог культур и цивилизаций. Феноменологический диалог приходит на смену логическому диалогу, долгое время господствовавшему в классической европейской культуре и не подразумевавшему взаимопроникновения сторон, открытости другого. Здесь общение возможно только в одной из заранее выбранных плоскостей: либо другой должен встать на мои позиции, либо я вынужден подчиниться. При таком общении мы чаще всего хотим видеть в другом скорее сходство с нами самими, нежели отличия, и если не достигается цель «приручения» этого Чужого, то это и создаёт самую большую угрозу нашему понятному, привычному и предсказуемому миру [2]. Смену одного вида диалога другим нельзя понимать в буквальном смысле. Скорее речь идёт о расширении познавательной ситуации на основе принципов постмодернизма, существенных для синтеза когнитивных практик и способных «расшатать» привычное бинарное мышление в оппозициях. К таким принципам Микешина Л. А. относит «дополнительность, гармонизацию, одновременность вместо или наряду с оппозицией» [3]. Реальность, понятая как единство социокультурного и экзистенцальнотрансцендентного, как некая целостность, раскрывается в исследовании феномена жизни [4] как «принципа мирового целого» (Г. Риккёрт). Этот принцип, согласно Риккёрту, способен стать основой философии как «универсальной науки», что позволит разрабатывать не только проблемы бытия, но и ценностей. Риккёрт, размышляя о понятии жизни, говорит о её проникновении в философию вообще и, в частности, в философию религии в виде «живого Бога». «Только абсолютно, непосредственное и первозданное, улавливаемое интуицией без всякого участия понятий, есть истинно реальное, и глубочайшая сущность мира, непосредственно пережитая или увиденная, тоже есть жизнь. Та действительность, которой занимаются обыкновенные «науки», опускается по сравнению с пережитой жизнью до степени всего лишь явления или рационализированного, и потому недействительного, продукта, имеющего второстепенное значение» [5]. Но будем справедливыми: риккёртовская оценка «философии жизни» как иррациональной, не могущей быть систематической 268 философией, а всего лишь выражающей некий «набор житейских поучений», «жизненную мудрость» обыденного сознания, сегодня не принимается всё большим кругом философов. Всё чаще признаётся правомерность стремления В. Дильтея придать понятию «жизнь» строгий философский смысл и видеть за этим не проповедь иррационализма, но, как отмечает Плотников Н., необходимость преодоления «абстрактных схем традиционной философии, превращённых в субстанциональные сущности «теоретического субъекта» и «реального мира». Исходный пункт «в самой жизни» означал поэтому возвращение к «первичным структурам» (по Хайдеггеру) человеческого опыта жизни как базиса всех познавательных актов. Критика же позитивизма и метафизики означает не отказ от научности, а новое её понимание, ориентированное не на идеал математического естествознания, а на практикуемые формы жизненной рациональности [6]. Теперь уже угроза релятивизации знания не может остановить поиск форм и способов постижения изначального фундаментального опыта восприятия реальности человеком — постижения непосредственного, неэксплицированного знания, предшествующего разделению на материю и сознание, субъект и объект. Осознание недостаточности формально-логического дискурса для постижения феномена жизни вызывает когнитивное внимание к интуиции, вживанию, вчувствованию и пониманию. Эта тенденция ярко проявилась в процессе развития феноменологической философии от формально-логической методологии до её выхода в пределы «жизненного мира» (у того же Гуссерля), что поначалу вызывало в лучшем случае интеллектуальное недоумение, но сейчас стало вполне понятным, как нам представляется, в контексте актуализации исследований феномена жизни, человека, и, тем более, религиозного феномена, где сходятся вертикаль и горизонталь человеческого бытия в неразрывном единстве. В парадигме классической рациональности религиоведение сталкивается с серьёзными гносеологическими проблемами, поскольку религиозные явления, так сказать, не совсем типичный объект для научного рефлексивно-рационального толкования. Для религиоведческого знания, которое предпринимает попытку исследовать религиозный феномен, важной является проблема соотношения различных познавательных парадигм и когнитивных методов исследования [7], поскольку уверенность в существовании классической уникальной «монологики» (по Бахтину М.М.), способной дать бесспорно правильный проект изучения религиозных явлений, несмотря на отмеченные выше особенности религиоведческого предмета изучения — это, на наш взгляд, ловушка для «науки о религии». Любая рациональная модель всегда носит конечный характер, поскольку ограничена позициями субъекта в реальном мире. Применяя эту модель, можно столкнуться с феноменами, в принципе не укладывающимися в рамки данной системы. Это мы видим в психоанализе с его представлениями о роли бессознательного во внутреннем мире человека, эта же проблема прослеживается и в исследовании таких пограничных явлений как религиозный опыт, религиозная личность, религиозная вера и т.д., изучение которых лишь с позитивистских позиций не будет носить адекватного характера. На наш взгляд, Швырёв В.С. справедливо отмечает, что современное сознание вынуждено расстаться с рационалистическими иллюзиями о безусловном приоритете рационального сознания перед всеми иными формами дорационального и внерационального сознания, и, что особенно важно, с последствиями радикальной рационализации тех форм культуры, которые основывались на иных, чем рациональность, типах отношений к миру [8]. В своё время Б.Паскаль писал о том, что «последним выводом разума должно быть признание, что существует бесчисленное множество вещей, его превосходящих. Слаб тот разум, который не доходит до этого сознания» [9]. Подчёркивая уникальную 269 способность разума понять эту ограниченность, стать над самим собой, посмотреть на себя как бы со стороны, Паскаль выразил ту критико-рефлексивную установку, которая, опираясь на критическую «метарациональность» Канта, расширяет предметность рациональности, приводит к возникновению иной, чем в классике её онтологии, её проникновению в Реальность. В этом случае предметом рационального сознания, содержанием «онтологии рациональности» становятся установки и позиции субъектов по отношению к той реальности, в которую они включены, а само рациональное освоение реальности проявляется в динамике взаимоотношений субъекта с миром (в том числе и с миром других сознаний), который открывает себя субъекту. В этом случае происходит переход от классицистского монологического постулата к признанию возможности различных исходных интепретационно-моделирующих «картин мира». Если в классической науке предметность рациональности — это предметность объекта, данного субъекту в виде некоторой завершённой действительности, то предметность неклассической рациональности — динамичное отношение человека к реальности. В первом случае мы имеем предметность Бытия, во втором — предметность Становления. Любое отношение предполагает взаимодействие, а конструктивное взаимодействие предполагает отношение диалога, при этом чем уникальнее субъекты отношений, тем больше продуктивность их диалога зависит от осознания и принятия ими уникальности Другого и тем больше их диалог приобретает характер феноменологического диалога, основанного на участном отношении к Другому и на понимании Другого (в бахтинском смысле «понимания» как исполнения человеческого существования в-мире-бытии). Гётевский вопрос «что значит знать?» слился с вопросом «что значит быть?». Проблема познания как деятельности, т.е. как своеобразного «способа бытия» стала вполне привычной онтологической проблемой. На этом пути к универсальной онтологии размываются традиционные философские «дуализмы»: субъекта и объекта, сущности и явления, естественного и искусственного, природы и культуры, рационального и эмоционального (иррационального), знания и действия. В современных онтологиях они не «сняты» совсем, но они опущены, по мысли Зотова А.Ф., до уровня «виртуальных образований», потому как бытие в его целостности само есть не что иное, как множество этих образований. И так ли уж далёк персоналистский «диалогизм» Бахтина от «фундаментальной онтологии»? И не общие ли истоки у «бытийного познания» аскетическо-православной традиции и стремления к поиску универсальной онтологии современной рациональностью? Диалог, как встреча двух сознаний (человеческого и божественного в том числе), происходит в «единственном событии бытия». Этот диалог безусловно онтологичен, он основан на определённом отношении к миру, и поэтому само понимание, как познавательное действие, становится процессом существенно бытийным, как и предполагал М.М.Бахтин. Предыстория современных онтологических интуиций обращает нас к Канту. Как известно, классическая рациональность рассматривает свой предмет как существующий помимо человека с его сознанием. Заслуга Канта заключается в том, что он вводит этот предмет рациональности в более широкий контекст, начиная рассматривать его в виде определённой мысленной конструкции, порождаемой при помощи средств, предпосылок и установок субъекта. Кант был именно тем мыслителем, который перекинул мостик к новой предметности неклассической философской рациональности, которая стала обозначаться как отношение человека к миру. Существует мнение, что в европейской культуре не Фрейд, а именно Кант был первым мыслителем отчётливо выделившим бессознательное (В.В.Налимов, Ж.А.Дрогалина), поскольку представление Канта об априори заданных нам категориях и формах чувственного созерцания — есть прямое обращение к бессознательному. Современные исследования трансперсональной психологии и психоанализа расширяют 270 границы его наблюдения. Стало ясно, что заданное нам априори не фиксировано чётко в нашем бессознательном: представления о Времени в разных культурах может быть существенно различным, а категория причинности — не столь жёсткой, как это можно было думать во времена Канта. В европейской культуре оформилось право на вероятностное видение Мира, а на Востоке эта категория, как известно, никогда не была всеобъемлющей. Бесприкословность этой категории продолжает существовать только в примитивных культурах, воспринимающих Мир через магическое видение. Таким образом, исходная для всякого рационального сознания задача адекватного постижения реальности сохраняется, но существенным образом трансформируется. Для религиоведческих поисков открываются большие перспективы, поскольку пафос адекватности, в принципе присущий рациональности, связывается не просто с идеалом воспроизведения в мысли человека бытия, но приобретает гуманистическую окраску, стремясь наиболее точно фиксировать специфику той реальной (бытийной) позиции, в которой оказывается субъект в своём отношении к миру. Поэтому мы можем сказать, что субъективность в её «конечности» (так называемое человеческое измерение) выступает в качестве не просто неустранимого, но и необходимого фактора рационально-рефлексивной оценки реальной религиоведческой ситуации[10]. Отсюда под исходной реальностью, с которой имеет дело неклассическая рациональность, следует понимать скорее проблемную ситуацию, в которой наряду с объективной составляющей обязательно присутствует и субъективная составляющая, возможности которой также должны учитываться рациональным сознанием. Как мы уже сказали, обращение «науки о религии» к феноменологическому диалогу вызвано прежде всего многоаспектностью объекта и предмета религиоведения, где, во-первых, данные различных наук (истории религии, психологии религии, социологии религии и т.д.) требуют нового метаисследовательского уровня познания, поскольку религиоведческий комплекс предстаёт уже не как совокупность исторического, социологического, психологического, феноменологического и др. аспектов исследования религии, но и как некий синтез знания и методологии; вовторых, современная методология науки актуализирует исследование религиозных феноменов в качестве сложных структурно-сущностных объектов, которые в отдельных дисциплинах зачастую изучаются лишь фрагментарно, и поэтому эффекты их целостности при узкодисцплинарном подходе могут вообще не обнаруживаться, а выявяться только при синтезе фундаментальных и прикладных задач в проблемноориентированном поиске. Можно сказать, что объектами междисциплинарных исследований и в современном религиоведении, как и в современной науке в целом, всё чаще становятся уникальные явления, особенностью которых является динамика их развития, детерминированная не только их феноменологической открытостью, но и закрытостью догматических конфессиональных оснований. Предмет, изучаемый религиоведением, постоянно наводит нас на проблему более глубокого постижения реальности, поскольку Реальность с большой буквы всегда превышает познавательные возможности человека, выходя за рамки, как мы уже отмечали, любых человеческих «конечных» представлений, моделей, концепций и пр.. Современное «неклассическое» сознание вынуждено признать существование «множества реальностей», а так же различных независимых, претендующих на свою собственную рациональность парадигм, несводимых к общему знаменателю единого «рацио». Религиоведение, объективируя религию как социокультурный феномен в его конкретно-историческом проявлении, сталкивается с особой рациональностью как выражением другой реальности, где поведение и действие людей имеют иррациональные корни и основаны на вере в реальное существование Бога (или высшей силы), на чувстве связанности с ним, зависимости от него, благоговения перед ним. Отсюда необходимость опоры на принцип открытой рациональности (в отличие 271 от так называемой закрытой рациональности), которая высвечивает перспективу к более полному и глубокому постижению реальности [11]. Эти возможности и обнаруживаются современной философией науки, отрицательно относящейся к существованию некой «монологики», которая выступила бы универсальным способом рационализации реальности, понимаемой в самом широком смысле «иного» (природы, социума, собственного внутреннего мира субъекта, мира религии в том числе, а так же любых других возможных субъектностей). Суть в том, что рационализированные идеальные модели всегда выступают как некоторые проекции реальности на познавательную способность человека, связанную с известным ракурсом восприятия, что, несомненно, ограничивает взаимодействие реальности и познающего субъекта. Поэтому существующие пределы моделирования этой реальности не дают исчерпать её во всей глубине и многообразии. Здесь мы подошли к важнейшему императиву современного рационального сознания — «не сотвори себе кумира» из каких угодно человеческих представлений. Данный императив действительно противостоит догматизму в любых его формах, тем самым ориентируя современное рациональное сознания на открытую деятельность за рамками любой заданной системы познавательных посылок. В этих условиях в качестве исходного принципа рационального подхода к миру следует рассматривать стремление к сознательному и ответственному поиску адекватных способов включения, вписывания в мир. То, что представляется рациональным в рамках «закрытой рациональности», перестаёт быть таковым в контексте «открытой рациональности». Например, то, что представляется рациональным с точки зрения замкнутой парадигмы производственной деятельности, оказывается отнюдь не рациональным в контексте экологической сферы, или то, что представляется осознанно необходимым с точки зрения традиционного здравого смысла, не является таковым в религиозной парадигме. И дело не только в моральных, эстетических и т.п. соображениях (хотя, конечно, они играют стимулирующую роль), дело в построении более масштабной познавательной модели «вписывания» человека в мир, которая расширяет горизонт мироотношения. Таким образом, основная ценностная установка открытой рациональности с позиции адекватного отношения к миру заключается в осознанной готовности к постоянному совершенствованию оснований мироориентации человека в качестве свободного и ответственного субъекта, контролирующего и проблематизирующего свои позиции по отношению к окружающему миру, который всегда превышает возможности «конечного» его освоения. Этот принцип жизнедеятельности даёт прочную основу для подлинного преодоления «монологизма» и перехода на позиции диалогического сознания. Вообще современная рациональность должна, на наш взгляд, исходить из реальности диалогического дискурса как необходимого условия постижения мира в конструктивном взаимодействии различных точек зрения и позиций. В свою очередь, диалогический дискурс является единственным способом восстановления единого поля рациональности на фоне распада классического монологизма. Отсюда рациональной будет являться такая деятельность, которая будет способствовать продуктивному взаимодействию различных идейных позиций, не теряющих своей самостоятельности, но предполагающей открытость в общении друг с другом. Идеология «монологики» не допускает существования каких-либо взглядов на реальность, не достижимых на основе данной позиции сознания. Монологизм принципиально враждебен любым формам идеи «дополнительности». Монологизму трудно понять, что подлинная реальность открывается в различных своих ракурсах лишь сочетанию различных, в том числе и находящихся между собой в конфликтах и противоречиях позиций сознания [12]. 272 Очевидно, что подлинная диалогичность предполагает высокую ответственность и максимальную напряжённость реализации собственного творческого потенциала, собственной позиции. Не теряя собственных принципов и не разделяя чужих взглядов, диалогичное сознание призвано, как минимум, исходить из уважительного отношения к точке зрения Другого, понимая, во-первых, её обоснованность и, во-вторых, допуская, что здесь содержится какая-то правда, какая-то реальность, которая не улавливается с собственных позиций. Здесь стоит вспомнить «принцип сочувствия», сформулированный известным отечественным учёным С. Мейеном, принцип «участного мышления» М. Хайдеггера и М.М. Бахтина, принцип «участности» по отношению к религиозной традиции, предложенный отечественным феноменологом религии С.С. Хоружим. Мейен предлагал «мысленно встать на место оппонента и изнутри с его помощью рассмотреть здание, которое он построил», проникнуть в чужую интуицию, что вовсе не означает отождествления её со своею [13]. Хоружий считает, что без расположенного общения и участного мышления изучение той или иной религиозной традиции вообще бесполезно для науки. «Большинство научных подходов к духовной проблематике сродни образу даже не опытного жулика, пробывающего вскрыть дверь с солидной связкой отмычек, а желторотого воришки, что думает всего достичь с отмычкой единственной и случайной: с фрейдовской сублимацией или юнговским архетипом, с «тревогой» экзистенциалистов или же с барабаном графоманов…» [14]. Эти идеи могут выступать своеобразными принципами дополнительности (в смысле Н.Бора и адаптированные к философской рефлексии Микешиной Л. А.) для изучения таких «человекоразмерных» объектов как, например, религиозные, изучение (т.е. истинное объяснение и описание) которых не только допускает, но и предполагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих положений. Но конструктивный диалогизм, предполагающий высокую самодисциплину, моральную ответственность и уважительное отношение к Другому, не является, к сожалению, единственной реальной альтернативой монологизму. Недоступность безусловной истины, к которой устремлено монологическое рациональное познание, способна привести к релятивистскому плюрализму, когда эгоцентризм собственной позиции уже не встречает сопротивления в виде какого-либо высшего авторитета, вера в который оценивается как догматизм. Релятивистский плюрализм, как нам представляется, не имеет оснований для конструктивного взаимодействия различных точек зрения. Современное рациональное сознание должно исходить из наличия конструктивного диалога, способного противостоять как догматическому монологизму, так и релятивистскому плюрализму. Эта же принципиальная позиция открытого, конструктивного диалога является адекватной предпосылкой взаимоотношений современного рационального сознания и дорациональных или внерациональных форм сознания. Конечно, рационалистическая экспансия недопустима по отношению к таким формам опыта, реальность которых неотчуждаема от личности, от её духовнодушевного склада. Подобные формы опыта никогда не смогут быть замещены объективирующим моделированием рационального сознания. Нельзя не согласиться с мнением, что любая форма рационализации, какой бы гибкой и утончённой она не была, не может превратить религиозное сознание, как результат личностного экзистенциального опыта, в концептуальное мышление с его чёткими объективированными понятиями [15]. Для верующего человека его личностноэкзистенциальный опыт тесно связан с его религиозной верой. Но туже самую неотчуждаемость опыта от личности мы можем найти и в эзотерике, и в мистике, и в так называемых изменённых формах сознания, более того и в тех видах понимания, которые И.Л. Мусхешвили и Ю.А. Шрейдер, в отличие от обычного объективирующего познания, называют «постижением». Эти авторы само 273 «постижение» связывают с установлением некоего «моста» между Я постигающего и постигаемой реальностью, когда субъект оказывается нераздельным с познаваемой реальностью, хотя одновременно неслиянным с этой реальностью, нетождественным ей [16] . Всякий живой опыт, как бы рационализирован он не был, с необходимостью предполагает нередуцируемый по отношению к любой объективации момент личностного духовно-душевного усилия, но в религиозных формах мироотношения, связанных с напряжённостью личностного экзистенциального опыта, указанные черты особенно бросаются в глаза. Это не исключает возможности рационального осмысления этих форм опыта в так называемой иррационалистической философии, в культурологических, в религиоведческих дисциплинах (особенно в психологии религии и феноменологии религии). Специфика работы рационального сознания в этой сфере заключается, по мнению Кураева А.В., Кураева В.И., Мусхешвили Н.Л., Швырёва В.С., Шрейдера Ю.А. и др. авторов, в том, что объективация здесь никогда не может быть полной, исчерпывающей, она всегда носит приблизительный, условный характер, оставляет самостоятельность «тайны», реальность которой, однако, фиксируется со всей очевидностью на неконтролируемом уровне переживания. По существу, как отмечает Швырёв В.С., мы имеем здесь дело с какими-то формами диалога, в том числе и внутреннего в рамках одной ментальности, рационального сознания с иными формами опыта. Всё вышесказанное наводит на мысль об изменении роли субъекта рациональности в современной познавательной парадигме. Классический тип рациональности концентрирует внимание только на объекте и выносит за скобки всё, что относится к субъекту и средствам его деятельности. Здесь субъект действует в системе эмпирической и логической достоверности основоположений «трансцендентального сознания», что создаёт ему «твёрдую почву» истиности факта. Это обеспечивает ему, по выражению М.М. Бахтина, некое познавательное «алиби», гарантирующее от принципиальных ошибок. Но именно авторитет заданных норм и критериев есть традиционный аргумент для того, чтобы уклониться от «поступка», тем самым застраховав себя от риска и ответственности. Это означает вынесение за скобки смысловой мотивации личности (как, впрочем, и самой личности), когда cogito рассматривается в качестве логической конструкции, исключающей эмпирического субъекта из тех связей, которые соединяют его с реальным миром. В этом Бахтин в своё время усматривал основной порок «теоретизма» (т.е., по существу, классического рационализма) [17]. Та же критика установки на внешнюю принудительность авторитета научного знания лежит в основе «философии свободы» Н.А.Бердяева . Всё это привело к тому, что философия 20 в. развивалась в контексте отсутствия субъекта как ответственного носителя получаемого знания. И постпозитивизм, и постструктурализм, и постмодернизм устраняют понятие «субъект» из философских рассуждений, как не имеющих опоры в культуре нашего времени. И модернисты и «постмодернисты» согласны в том, как отмечает В.Вельш, что философия, в которой понятие субъекта занимает центральное место, должна быть выброшена на свалку как нечто устаревшее и более непригодное к употреблению [18]. Если ещё учесть и тот факт, что в философской мысли, начиная с 17 в. присутствует разрыв между credo ergo sum и cogito ergo sum, то можно понять, какой глубокий разлом существует в культуре вообще и в познавательной культуре в том числе. Позиция «постсубъектности» только укрепляет исследователей во мнении, что истина должна быть одновременно целью веры и познания [19]. Итак, субъект познавательной деятельности в религиоведении может и должен опираться на эмпирическую информацию, логические нормы рассуждения, методологические правила и приёмы. Но эти концептуально-теоретические схемы и 274 модели выступают для него необходимым, но недостаточным условием для решения конкретных проблемных ситуаций. Для неклассической рациональности характерна идея относительности объекта не только к средствам, операциям деятельности, но и к ценностно-целевым структурам научной-исследовательского творчества. Более того экспликация этих средств и операций выступает условием получения истинного знания об объекте, а тем более о религиозном феномене. Выбор способов действия зависит от собственной ответственности субъекта и представляет собой, по мнению В.С. Швырёва, акт проектно-конструктивного мышления, открытого для дальнейшей критики и самоконтроля. Очевидно, что такого рода рациональность не противостоит свободе и творчеству, а, наоборот, предполагает их. Поэтому можно сказать, что современная неклассическая рациональность вообще и рациональность, реализуемая в религиоведении в частности, включает необходимость использования творческих способностей сознания, осуществления «поступка» в терминологии М.М. Бахтина, т.е. собственно личностных оснований при выработке рационально-познавательной позиции. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Список литературы Колесников А.С. Философская компаративистика: Восток-Запад. СПб. 2004. Марков Б.В., Сухачёв В.Ю. Понятие Чужого в компаративистских исследованиях // Рабочие тетради по компаративистике. Вып.3. СПб.. 2001. C.17-19. Микешина Л.А. Философия познания. Москва. 2002. Имеется в виду поиск таких форм выражения феномена жизни, которые позволили бы понять это явление за пределами его биологических смыслов, в контексте культуры, истории и, главное, духовного мира человека. См.: Риккёрт Г. Философия жизни. — Киев. 1998. Положительные оценки, данные Риккёртом этому явлению в последнем разделе «Правда философии жизни», осмыслены Микешиной Л.А. при актуализации поиска новых форм рациональности в онтологии человеческой духовности. См.: Микешина Л.А. Эмпирический субъект и категория жизни // Философия познания. Полемические главы. Москва. 2002. С.194-225. Риккёрт Г. Философия жизни. Киев. 1998. С.281. Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Дильтея. Москва. 2000. С.10.; Хайдеггер М. Бытие и время. Москва. 1997. С.46. См.: Человенко Т.Г. Православно-антропологическое понимание личности и перспективы современного научного знания // Христианство в диалоге культур: IV научные чтения. СПб.. 2000; Человенко Т.Г. Миф и Логос: к вопросу о сравнительном анализе гносеологических позиций // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-летия профессора М.И. Шахновича. Серия «Мыслители». Вып.8. СПб.. 2001; Человенко Т.Г. Культурно-исторический подход к изучению религии: проблемы и перспективы методологических исследований // Научный альманах Орловского государственного университета. Серия «Религиоведение». 2001. №1; Человенко Т.Г. Особенности гносеологического постижения бытия в мифологической и логистической парадигмах // Свеча-2000. Религия в гуманитарном измерении Баренцева региона: Сборник научных и методических статей по религиоведению и культурологии. Вып.1. Ч.2. Архангельск. 2001; Человенко Т.Г. Святоотческое богословие: особенности современной методологии и методов исследования // Духовные традиции русского народа — основа нравственного и патриотического воспитания современной молодёжи. Материалы Глинской научно-практической конференции. Орёл. 2002; Человенко Т.Г. Феноменологическо-антропологическая концепция религиозного опыта: актуальность, детерминированность и исследовательские перспективы // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Личность в условиях социокультурного плюрализма». Орел. 2002; Человенко Т.Г. Особенности изучения святоотеческого наследия современной богословской мыслью // Научный альманах Орловского государственного университета. Серия «Религиоведение». 2003. №2; Человенко Т.Г. Диалогическая методология взаимодействия: религиоведческая актуальность и перспективы исследования // Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology. Belgrade. 2005. Vol. 5. 275 8. Швырёв В.С. Судьбы рациональности в современной философии // Субъект, познание, деятельность. Москва. 2002. 9. Паскаль Б. Мысли. Москва. 1994. С.152. 10. См.: Стёпин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. 1989. №10; Он же. Философская антропология и философия науки. Москва. 1992. С.177-189. Наряду с неклассической рациональностью в качестве самостоятельного типа рациональности Стёпин В.С. выделил так называемую постнеклассическую рациональность, для которой характерен учёт ценностных факторов человеческого мироотношения. Иногда понятием неклассической рациональности авторы охватываютвсе формы рациональности, выходящие за пределы классики См.: Швырёв В.С. Судьбы рациональности в современной философии // Субъект. Познание. Деятельность. Москва. 2002. С.186-206. 11. Швырёв В.С. Рациональность в спектре её возможностей. «Исторические типы рациональности». Москва. 1995. Т.1. 12. Швырёв В.С. Судьбы рациональности в современной философии // Субъект, познание, деятельность. Москва. 2002. С.186-206. 13. Шрейдер Ю.А. Бескорыстна ли этика? // Человек. 1991. №3. С.26-30. 14. Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. Москва. 1998. С.189. 15. Кураев А.В., Кураев В.И. Религиозная вера и рациональность. Москва. 1995. Т.1. С.111. 16. Мусхешвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Метапсихологические проблемы непрямой коммуникации // Когнитивная эволюция и творчество. Москва. 1995. С.50. 17. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. Москва. 1986. 18. Порус В.Н. «Конец субъекта» или пострелигиозная культура? // Разум и экзистенция / Под ред. И. Т. Касавина и В.Н. Поруса. С.-Петербург. 1999. С.93. 19. Микешина Л.А. Философия познания. Москва. 2002. PHENOMENOLOGICAL METHODS IN POSTCLASSICAL RELIGION STUDIES Т.G. Chelovenko1), 1) Orel State University, Komsomolskaya st., 95, Orel, Russia, 302026; e-mail: [email protected] Due to changing intellectual and social and political situation reveals the inefficiency of certain methods of philosophical and theoretical grounding of religion and religious consciousness. Recentration of interests in the modern religion studies from ‘philogenesis’ to ‘ontogenesis’ of the phenomenon of religion, from evolution of religious traditions to studies of dynamics of the religious life in the context of individual development corresponds to the general pluralistic tendence of postmodernism. Key words: phenomenology, religion studies, postclassical science, postmodernism. 276 УДК 233.5 САМОПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОСЛАВИИ КАК ОСОЗНАНИЕ ЕГО СУЩНОСТНОЙ СВОБОДЫ М.Ю.Ширманова, Белгородский государственный университет, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, 78 В статье рассматривается роль самопознания человека в его духовной жизни и становлении его личностных качеств, главным из которых является свобода, понимаемая как способность человека действовать из себя самого – свобода выбора (самоопределение) и свобода воли (самодеятельность). В статье раскрывается содержание духовного опыта богообщения и богопознания Православной Церкви в его значении для осознания человеком своей сущностной свободы, В духовном опыте богопознания православной веры осознание человеком своей сущностной свободы является действием разумной творческой силы, которая лежит в основе духовного становления человеческой личности. Ключевые слова: антропология, богословие, богопознание, духовный опыт, духовная культура, православие, самопознание, совесть. Бесспорно, свобода является одной их высших ценностей (если не самой высшей) человеческого бытия. Стремление к свободе, борьба за нее составляют сущность и содержание духовной культуры человечества. Идея свободы как идеала духовных исканий, цели жизненных устремлений человека может появиться только у несвободного существа. Стремиться к свободе может только тот, кто переживает и осознает как свою несвободу, так и свое призвание к свободе, ощущает себя достойным свободы, но реально несвободным существом. Чувство свободы как призвания и нормы жизни и ее отсутствия – зависимости от чего-либо, связанности чем-то, т.е. несвободы, непосредственно переживается личным «я» человека в исходной, базисной интуиции его персональной идентичности «я есть». Свобода – понятие негативное. Оно выражает отсутствие зависимости от чего-либо, мешающему, препятствующему осуществлению целей, желаний, хотений человека и основанных на них стремлений воли. В самом широком смысле свобода – это способность делать то, что хочешь, действовать согласно целям, желаниям, хотениям, вытекающим из природы человека. Свобода - это независимость от препятствий и помех в следовании своей природе, в осуществлении своего бытия согласно его внутренней логике. Свобода – это всегда свобода кого-то (субъекта деятельности, обладающего своей собственной природой и сущностью) для чего-то (беспрепятственного следования этой своей природе и связанным с ним целям, желаниям, устремлениям воли) от чего-то (факторов, препятствующих осуществлению деятельности, устремлений воли согласно своей собственной природе). Стремится к свободе всегда кто-то, кто хочет беспрепятственно следовать своей природе, реализовать основные потенции, возможности, свойства, качества своего существа, вытекающие из его природы и определяемые ею. Осмысливая свою свободу, человек отвечает на следующие вопросы о ней: «свобода от чего?», «свобода для чего?» и «свобода кого?». Ответы на первые два вопроса даются в соответствии с тем, какой ответ получен на вопрос «свобода кого?». В зависимости от того, как человек понимает себя, осознает свою природу и сущность, главное, существенное содержание своей жизнедеятельности он осмысливает и свою свободу. Персональное «я» человека имеет деятельную природу, всегда находится в волевом устремлении. Воля человека всегда активна, напряжена в деятельном усилии, направленном на достижение высших целей и ценностей его бытия. Свобода представляется как беспрепятственное осуществление хотений и устремлений воли, достижение которых является предметом волевой активности и деятельных стремлений человеческого «я». 277 Понимание содержания свободы как идеала, высшей цели и ценности человеческого бытия определяется тем, как стремящийся к свободе человек понимает себя, свою природу и сущность, главное содержание своей жизнедеятельности, в чем видит свое призвание, высший смысл и ценность своей жизни, соответственно, как он чувствует, понимает свою несвободу, в чем видит помехи в осуществлении целей и задач, вытекающих из его природы, как понимает препятствия в следовании ей, в осуществлении своего жизненного призвания. В саму идею свободы человека всегда заложено понимание им себя, своей природы и своей возможности беспрепятственного удовлетворения потребностей и осуществления желаний, в которых проявляется природа человека. Условием осуществления свободы как призвания человека и его способности беспрепятственного следования своей природе является, таким образом, познание человеком себя, своей природы и сущности, понимание сущностного содержания, целей, ценностей и задач своей жизнедеятельности, осознание потребностей, желаний, волевых усилий, в которых проявляется природа человека. Познание человеком себя основывается на прямом и непосредственном чувстве собственной идентичности, чувстве себя, своего «я» как реально существующего, обладающего бытием. На этом чувстве в процессе общения человеческой личности в период ее становления у нее строится образ «я». В образовании образа «я» большая роль принадлежит вере – доверии формирующейся личности тем людям, в общении с которыми у нее строится образ себя. Однако определяющая роль в формировании содержания образа «я» принадлежит самому человеку, его возможности свободы выбора образа своего личного «я», способности самоопределения, творческого самосозидания образа своего «я». С этой способностью связаны чувство духовного достоинства человека и чувство его личной творческой ответственности за содержание образа себя и состояние своего личного бытия. Содержание образа «я» у человека напрямую связано с пониманием им своей природы, главного содержания и сущности своей жизнедеятельности, с верой человека в свое высшее призвание, в источник и смысл своей жизни. Природа человека имеет двойственный характер. В ней присутствует как материальное (биологическое, социальное), так и духовное начало. Осознание, осмысление этих начал и является главным источником содержания формирующегося у человека в процессе его становления образа его «я». Формирование образа «я» по модусу материально-природного, видимого бытия связано с верой человека в то, что его природа определяется в первую очередь витальными, биологическими потребностями и желаниями. В этом случае человек идентифицирует себя, строит образ своего «я» через условия и обстоятельства космического, физического, биологического, психофизического и социального мира, через непосредственное ощущение своего телесного биологического организма и связанного с ним психического мира. Согласно своей вере, личность идентифицирует, осознает и творит себя как субъект волевых усилий, направленных на осуществление желаний, связанных с удовлетворением витальных и социальных потребностей. Осознавая свою природу по модусу материального: космического, биологического, социального бытия, человек видит себя субъектом-носителем психофизических, социальных потребностей, ролей, функций и соответствующих им волевых устремлений. В этом случае свобода человека понимается в первую очередь как беспрепятственное удовлетворение этих потребностей, осуществление соответствующих им волевых устремлений, как независимость от факторов, мешающих устраивать свое жизнь по принципам «Приспособиться и выжить», «Сыт и доволен». Творя себя на основании материальной стороны своей природы, человек видит свою свободу в возможности максимально полного осуществления своих потребностей и желаний, вытекающих из этой стороны его природы, в развитии таких качеств, свойств, способностей, которые ей соответствуют и ее выражают. Свобода человека, сознающего и творящего себя по модусу материального бытия, это свобода от внешних (природных, физических, биологических, социальных) и внутренних (психических социально сформированных и индивидуально обретенных) помех для 278 максимально полного удовлетворения своих витальных, психических и социальных потребностей, для реализации себя в качестве субъекта осуществления своих волевых устремлений по мотивам получения выгоды, пользы, физического и душевного комфорта, всевозможных наслаждений и удовольствий, обретения полного довольства жизнью, понимаемой и осуществляемой в соответствии с материально-биологической стороной его природы. Осуществляя свои хотения, вытекающие из витальной, материальной (биологической и социальной) стороны его природы, человек осуществляет свою свободу как существо, хотящее приспособиться и выжить, хотящее удовлетворить свои витальные потребности, жить с максимальным комфортом, удовольствиями, наслаждением безопасностью. У человека есть и другие желания, вытекающие из его духовных потребностей, из духовной стороны его природы, которые также следует осуществлять, как и желания, связанные с материальной стороной его природы. Однако, осуществляя свою свободу как существо, строящее свою жизнедеятельность по образу материальной составляющей его природы, человек не избавляется от чувства несвободы, духовной зависимости и сопутствующих им тоски, страха, страданий, уныния, отчаяния, безнадежности. Реальная принадлежность человека к миру природной и социальной необходимости, его зависимость от условий его биологического и социального существования и погруженность в мир причинно-следственных связей не мешают человеку в осознании и раскрытии духовной стороны его природы, в познании себя как духовного существа, достойного жизни в ничем не обусловленной, ничем не омрачаемой радости, мире, равновесии, любви, понимании. У человека есть чувство – интуиция того, что он представляет собой нечто большее, чем простой организм материального (социального и биологического) мира, что его жизнь не сводится к отношениям, функциям, ролям, в которые он вступает в своей жизни. Это чувство духовного достоинства, которое говорит человеку, что он принадлежит к миру иному, выходящему за рамки всеобщей материальной необходимости и причинно-следственной обусловленности, что он причастен к миру высшему, сверхприродному, нематериальному, сверхъестественному – духовному. Об этой причастности к духовному миру говорят человеку и его духовные потребности – потребность в полноте и необусловленности радости, любви, потребность в понимании, творчестве, общении, самопознании, самоактуализации, постижении смысла жизни. С этими потребностями, выражающими духовную сторону человеческой природы, связаны желание любви как полноты радости живой силы духа и желание познать самого себя, желание быть собой самим, желание быть свободным. Чувство духовного достоинства человека питает его веру в себя как в духовное существо, призванное к осуществлению его духовных желаний, к реализации духовной стороны его природы. Строя образ своего «я», осознавая себя по модусу духовной стороны своей природы, человек устремляется к обретению ничем не омрачаемой радости и полноты жизни, к обретению любви, мира, внутреннего равновесия. По этому пути его ведет чувство реальной несвободы, отчуждения его истинного «я», призванного к ничем не омрачаемой полноте радости, мира, равновесия как к идеальной норме его бытия, данной совести человека. Чувствуя, непосредственно переживая свою несвободу, отчуждение своего «я» от идеальной нормы его бытия как недостойное, болезненное состояние, человек стремится преодолеть это отчуждение через познание и реализацию своего подлинного, целостного «я», через самопознание и самоосуществление. Чувство духовного достоинства и чувство несвободы, связанности, деформированности человеческого существа как недостойных личности человека, свидетельствуют о существовании таких желаний, осуществление которых помогло бы человеку не только познать себя как существо свободное, ничем не обусловленное, но и реально осуществить свою свободу. Это желание безусловной, ничем не омрачаемой радости и полноты жизни, желание беспредпосылочного действия, которое не было бы мотивировано какими-либо внешними 279 причинами и обстоятельствами, обусловлено природно-биологическими, социальными, психическими факторами. Образ этого действия как образ бескорыстного, ничем не мотивированного добра дан человеку в интуиции идеала его духовного совершенства. Эта интуиция является проявлением чувства духовного достоинства человека, чувства свободы как естественного состояния души человека. Осуществив в конкретном волевом усилии это желание безусловного действия человеческая личность в полной мере может осознать и реализовать себя как себя самого. Быть самим собой – значит поступать не из каких-либо внешних мотивов, соображений выгоды, пользы, комфорта, удовольствия, а из совей собственной внутренней сущности, выйти за пределы обусловленности своих действий, волевых устремлений материально-вещественными, биологическими, социальными, психическими факторами, преодолеть обусловленность и ограниченность своего рефлексивного самопознания. Рефлексивное познание человеком себя, своего «я» назвать самопознанием можно только условно, поскольку рефлексивное познание человеком своего «я» не дает ему знания себя самого. В рефлексивном познании человеком себя, образ его «я» предстает отраженным в зеркалах вещей, предметов владений и стремлений человека, его ролей, функций, общественных отношений, всевозможных процессов земного, видимого мира, участником или субъектом которых он является. В рефлексивном познании себя человек видит свое «я» отраженным в феноменах психического, ментального мира, в образах своего воображения, фантазии, привязанным к ним и ими обусловленным. Рефлексивное осознание человеком себя осуществляется в форме вербальных суждений, рассуждений о себе, своем «я». Рефлексивное сознание всегда существует как образ себя, образ «я», который выражается в виде мнения о себе, или самомнения. Центром, предметом самосознания является производный от предметов отражения субъект, обозначающий себя местоимением «я». Это «я» определяется через предметы рефлексии, с которыми оно себя соотносит, и находится в состоянии стремления к их достижению и овладению ими. В рефлексивном познании внутренней идентичности личности происходит отождествление, совпадение суждений о «я» с самим личным «я» человека. Рефлексивное осознание человеком себя не может полностью удовлетворить его потребность в самопознании, т.к. не отвечает чувству духовного достоинства человеческой личности. Это чувство говорит человеку, что он выше мира видимого, чувственного, материального, выходит за его пределы и не совпадает в своем глубинном сущностном Я ни с одним из его предметов, процессов, отношений, функций. Сущностное Я человека не определяется ни одним из предметов рефлексии. Зеркала видимого, чувственного мира не могут показать человеку его подлинное лицо, его истинное, личное Я. Поэтому от образа «я», формируемого в рефлексивном познании человеком его личной идентичности, неизбежен переход к подлинному самопознанию. Движимый духовной потребностью самопознания, человек стремится познать себя как существо, обладающее способностью быть самим собой. Интуиция бескорыстного характера добра указывает человеку на его способность к безусловному, ничем внешним не обусловленному действию, движимому не какими-либо внешними человеку мотивами, а осуществляемому из внутренних начал его духовной природы, т.е. из него самого. Этот образ себя самого дан человеку как образ его духовного совершенства, образ его идеального, подлинного Я. Это образ самобытного, безусловного бытия творческой личности, не выводимого из природно-социального или психофизического существования, не сводимого к нему и им не обусловливаемого. Раскрытие и познавание в себе этого абсолютного, беспредпосылочного бытия и есть подлинное самоосуществление и самопознание человека. Самопознание человека – это познание им себя самого в качестве субъекта деятельности, не зависящей от каких-либо внешних его духовной природе причин, мотиваций, детерминаций и обусловленностей. Самопознание человека основано также и на интуиции радости и полноты жизни как нормы 280 бытия своего подлинного Я. Интуиция ничем не омрачаемой и неразрушимой радости как нормы душевного бытия человека связана с чувством и идеей сущностной свободы, к которой призван и которой достоин человек. Самопознание является условием реализации этой идеи духовной свободы человека. В свою очередь, самопознание, осознание человеком себя самого возможно как духовно-практическое творческое осуществление им себя в качестве субъекта безусловного, бескорыстного действия, открывающего радость и полноту жизни его души. Претендовать на самопознание – познание себя в качестве субъекта беспредпосылочного, ничем внешним не обусловленного, бескорыстного действия человек может только как существо, не принадлежащее всецело к миру материальному, вещному. Чувство духовного достоинства говорит ему, что будучи существом материальным, человек в то же время принадлежит и миру нематериальному, духовному, сверхъестественному. Дверь в этот мир открывают для человека религия и философия. Христианство, и в частности Православие утверждает, что познать себя самого как субъекта деятельности, не зависящей от каких-либо внешних мотивов, человек может только лишь на пути религиозной веры, религиозного духовного опыта богопознания и богообщения как призванный к богоуподоблению носитель образа Бога, по которому он создан Творцом. Духовный опыт Православия свидетельствует, что подлинное самопознание возможно только лишь на пути познания Бога и соединения с Ним. Когда человек верой принимает и познает себя как созданного по образу и подобию Бога – Духа, самобытного и абсолютного, безусловно сущего, он может увидеть себя самого, свою духовную сущность как богоданную, сопряженную с Божественным абсолютным бытием. Увидеть себя вне каких бы то ни было рефлексивных соотнесенностей с внешним, тварным миром – узнать себя самого, в своей сущности не зависящего от обусловленностей тварным миром, свободного от привязанностей к нему. Истинное самопознание человека в его общении и единении с Богом – Троицей в Духе Святом стало возможным благодаря воплощению Бога – Духа Творца мира и человека в личности Богочеловека Иисуса Христа. По словам Святых Отцов Церкви, в Иисусе Христе Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Через воплощение Бога, его добровольные страдания, смерть и Воскресение человеку открывается путь спасения от греха и смерти. Единение с Богом – Троицей, вхождение в полноту Его жизни и радости становится для человека возможным через его приобщение благодати Святого Духа и причастие самобытной, безусловной живой силе Божественной Славы в Иисусе Христе. В приобщении радости и полноте Божественной жизни Царства Небесного человеку открылась возможность познания своей глубинной, богоданной, сообразной Творцу духовной сущности как того, что есть, существует безусловно, самобытно, беспредпосылочно, что дано человеку его Творцом согласно образу Его нетварного, духовного бытия. Познание своей духовной сущности осуществляется человеком в прямом духовном видении, непосредственном созерцании своего богоподобия и единства с Богом – Троицей. Через единение со Христом человеку открывается глубина его сущностного духовного бытия – самобытная, безусловная живая сила Славы Божией, которой человек приобщается в религиозном опыте веры, покаяния, крещения, непрерывного молитвенного общения с Богом – Троицей. Приобщаясь живой силе Божественной Славы человек открывает свое сущностное бытие как бескорыстное, свободное принесение себя самого в дар, жертву хваления и прославления своему Творцу, Создателю и Подателю вечной жизни. Сущностное содержание духовной жизни человека открывается ему как общение благодарения – дарение живой силы Божественной Славы, которую человек обретает через свое безусловное подчинение воле Божией, т.е. в Божественном Логосе и в себе самом, а не в условиях и обстоятельствах тварного мира. Полученный им через Христа в Святом Духе дар Бога – Отца человек дарит своему Творцу и всем членам Церкви Христовой, в пределе – всему миру. Общение в Славе Божией открывает для человека возможность познания своей доксологической и евхаристической 281 сущности в ее самобытности, свободе от каких бы то ни было обусловленностей и детерминаций со стороны тварного мира. Общение с Творцом в ничем не обусловленном, бескорыстном, свободном прославлении Его, в благодарении Богу открывает человеку возможность непосредственного видения себя самого, видение своей богоподобной самобытности, безусловности своей духовной деятельности. Когда у человека появляется возможность осознавания себя в самобытной живой силе Божественной славы, радости и любви, его самосознание наполняется онтологическим содержанием. Он обретает прямое, непосредственной видение сущностного онтологического ядра своей личности, видение своей сущностной свободы как ничем не обусловленного действия живой силы Божественной славы. Свобода славы Божией, составляющей истинную сущность человека, состоит в том, что он, подобно своему Создателю, имеет источник жизни, живой силы духа не во вне, в стихиях тварного мира, а в себе самом – в Божественном Логосе, составляющем его глубинную сущность, и в своем добровольном, не вынужденном следовании Ему. Эта благодатная жизнь Божественной Славы самобытна, безусловна, не зависит от каких бы то ни было внебожественных, внешних Богу и сущностному ядру человека причин и условий. Это вечная жизнь, открытая и дарованная людям Иисусом Христом: «Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5,26). Приобщаясь Христу, верующие в Него и живущие Им и в Нем, приобщаются сущностной свободе этой благодатной самобытной живой силы Божественной славы. Наполнение самосознания человека онтологическим содержанием происходит в процессе сознательно-волевого, практического духовного делания, опытного богопознания в аскетическом подвиге борьбы с грехом и страстями. Аскетическое подвижничество православной святоотеческой традиции основано на концентрации усилий неуклонного следования воле Божией и Христовым заповедям, на подвиге непрерывного молитвенного общения с Богом – Троицей, на обретении постоянного смирения перед Ним в сознании своей духовной немощи и нищеты. В аскетическом делании православного подвижника участвуют не одни только его рассудок, память, воображение, но и все его существо: воля, разум в соединении с сердечно-совестным созерцанием, совестным самосознанием духовной живой силы. Познание православным подвижником себя в качестве субъекта безусловного, бескорыстного прославления своего Творца в Духе Святом есть узнавание, осознавание себя причастником божественной самобытности, или свободы славы божией. Это видение совпадает с осознаванием человеком самого себя. Возможность осознавания человеком самого себя основывается на его богоданной способности через приобщение духу божественной славы в совестном созерцании выходить за пределы предметного содержания своего душевного мира, созерцать, видеть духовным оком свои мысли, чувства, эмоции, желания, мотивы поступков как «мои», но не совпадающие со мной, моим личным «я». Не отождествляя себя, свое личное «я» с феноменами своего душевного мира (познавательными, эмоциональными, волевыми), дистанцируясь от них, человек в самосознании сохраняет чувство своей личной, персональной идентичности, сознает себя самого как не совпадающим с этими феноменами, не связанным с тварным миром и его образами и не обусловленным ими. Таким образом, осознание человеком самого себя есть сердечно-совестное осознание его сущностной свободы, безусловной самобытности его подлинного Я, совпадающего с самобытной живой силой божественной славы в полноте ее мира и радости. Осознавание самого себя есть неотъемлемый способ бытия личного Я человека, форма деятельности его духа как существа, созданного по образу и подобию Бога. Образ Божий действует в душе человека как способность осознавания человеком персонального бытия себя – «Я есть» и осознавания идеала духовного совершенства и свободы духа человека, как нормы его личного бытия. Благодаря способности осознавания себя самого человек способен различать добро и зло, достойное и недостойное образа Божия в себе, своей духовной свободы и действовать на основании этого сознаваемого различения. Свободно выбирая между свободной, 282 абсолютной необусловленностью творческой активности своего духа и отказом от нее, человек укрепляет свою волю в свободном усилии прославления своего Творца. Это волевое усилие к необусловленной деятельности (самодеятельности) духа является главным содержанием покаяния – духовно- практического, деятельного осуществление человеком самого себя, самореализации, или самоактуализации. Самореализация человека через покаяние возможна благодаря тому, что в покаянии происходит принятие им идеала своего богоподобного совершенства и духовной свободы в качестве нормы своего личного бытия. Как акт воли, направленный к свободе духовной жизни, покаяние возможно благодаря чувству духовного достоинства человека, сохраненному образом Божиим в его совести. Соединяясь с желанием и сознательным волевым усилием личности жить по воле Божией, следуя божественному замыслу о человеке, Божественному Логосу, определяющему его сущность, чувство духовного достоинства человека действует как осознавание духовной зависимости, несвободы человека и их проявлений как недостойных, болезненных, недолжных, греховных состояний человеческой души. Покаяние основывается на осознании разрыва связи с Богом как болезни и искажения духовной сущности человека. Оно ведет к возврату единения с Творцом через непринудительное самоопределение личностью себя к свободному прославлению Его в Святом Духе, к сознательному волевому усилию жить согласно заповедям Христовой любви, усилию жить со Христом и во Христе в живой славе Бога-Троицы. Духовное содержание покаяния – перемена, или возвышение ума. Возвышение ума – это и есть осуществление возможности выхода личного Я человека за пределы его эмпирического наличного душевного мира и в соединении с живой силой духа Божией Славы возвышаться над его содержанием, дистанцироваться от него. В покаянии происходит осознавание и реализация человеком своей нищеты в духе как отрешенности от стихий тварного мира и их психических образов, как отсутствие тщеславной привязанности к ним. Покаяние ведет к тому, что осознавание человеком себя становится самоосознаванием. Осуществление безусловного действия живой силы духа славы Божией открывает сущностному осознаванию человека непосредственное видение тщеславной зависимости, обусловленности его духовной жизни как состояния недостойного, ложного, греховного, как состояния духовной несвободы, зависимости. Осознание духовного достоинства и сущностной свободы человека открывает ему видение его личного духовно-волевого отхода от образа идеальной богоподобной свободы человека, данного ему в его совести, различение в свете Истины Христовой жизни тьмы греховного отклонения от нее, т.е. несвободы духовной жизни человека. По замыслу Творца о человеке познание человеком самого себя – это мостик, связующий душу человека с ее Творцом, видение света Божественного Логоса на пути человека к Нему. Самоосознавание проясняется и углубляется по мере следования воли человека Божественному Логосу, по мере осознанного подчинения им своей воли воле Божией. Самоосознавание, или сознание духом самого себя осуществляется как духовная деятельность совести, как совестно-сердечное созерцание духа, или духовное видение. Совесть открывает человеку образ самого себя как идеальной нормы жизни его духа. Следуя этому образу и чувству своего духовного, личного достоинства, человек живет в мире, в ладу со своей совестью, или в ладу с самим собой. Сопоставляя свои реальные желания, волевые устремления, мысли, чувства, эмоции, поступки с этим идеальным образом себя самого, человек может быть честным с самим собой или лгать самому себе, оправдывая свой эгоизм, своекорыстие. Когда человек пренебрегает голосом совести, отворачивается от идеала своей сущностной свободы, он изменяет самому себе, предает самого себя, погрязая в тщеславии, самомнении, гордости. Каждый человек обладает свободой выбора себя самого или отказа от себя самого. От свободного выбора и деятельного напряжения воли человека в конечном счете зависит быть ему самим собой или потерять самого себя, утратить свободу духа. Осознавание себя самого, своей сущностной самобытности и свободы есть неотъемлемое качество духовной жизни человека, проявление сущностного духовного ядра его личности. 283 Самопознание теснейшим образом связано с богопознанием, поскольку сущность человека сопряжена с Божественным Логосом – законом и образом его богоподобного совершенства. Духовное видение, сердечно-совестное созерцание человеком самого себя предстоит как осознавание им своей сущностной свободы в Иисусе Христе, в полноте жизни Бога-Троицы, в бескорыстном прославлении им своего Творца – в свободе славы детей Божиих (см.: Рим. 8,21). По замыслу Творца о человеке, познание человеком самого себя – это дверь, через которую входит в душу человека Сам Бог, окно, сквозь которое в его душу проникает свет Божественного Логоса, Истины Христовой. В сердечно-совестном созерцании, прямом непосредственном видении и созерцании самобытного характера безусловного, беспредпосылочного действия живой силы божественной славы и радости в душе человека заложена возможность богообщения, богоуподобления и богопознания через веру, покаяние, самоотвержение, смирение перед Божественной волей и Божественным помыслом о человеке. Без самосохранения как способности человека осознавать самого себя в свободе бескорыстного, ничем внешним не обусловленного прославления своего Творца в Духе Святом богоданная задача соединения человека с Богом – Троицей, стяжания благодати Святого Духа была бы неосуществима. Самопознание человека как осознание им духовной самобытности и сущностной свободы есть условие его богопознания и богоуподобления. Осуществляя свою сущностную свободу, субъект бескорыстного благодарения, прославления Бога – Троицы в Святом Духе осознает и реализует себя в качестве сотворца духовной жизни в ее самодеятельности, необусловленностями стихиями тварного мира, жизни, о которой сказано: «Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5,26). Осознавание человеком своей сущностной свободы сопряжено с осознанием им себя самого как субъекта свободы онтологического выбора – выбора образа своего духовного бытия. Человек осознает свою сущностную свободу как свободу самоопределения себя к бытию с Богом или к существованию отчуждения от Него. Осознание сущностной свободы – это осознание свободы воли человека как способности осуществлять действия не только из мотивов выгоды, пользы, удовольствия, страха, самосохранения, но и находить источник и основание своих волевых устремлений в себе самом, в своей духовной сущности, совпадающей с Божественным Логосом. Как субъект свободы воли, человеческая личность осознает и реализует себя как существо, сущностная свобода которого предстает как самодеятельность личности, которая в своем вхождении в вечную жизнь Царства Небесного не зависит от стихий тварного мира, не руководствуется ими в своих действиях, она имеет основание и источник своей творческой активности и живой силы духа не в этих стихиях, а в себе самой – в Божественном Логосе, в своем добровольном следовании Ему и в своем свободном подчинении Божественной воле, открывающихся совести человека как образ Божий в нем. Познавая себя в православном аскетическом делании, осознавая себя самого и свою сущностную, онтологическую свободу от тварного мира, христианский подвижник вместе с апостолом Павлом может сказать: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 35-39). Эта сущностная свобода любви и славы Божией осознаются совестно-сердечным созерцанием, духовным видением человека. Как жизнь без страха, «Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви» (Ин. 4, 17-19). Таким образом, как существо, созданное по образу Божию и призванное к богоуподоблению, познавая самого себя, человек осознает себя субъектом безусловного, беспредпосылочного, бескорыстного прославления Бога – Троицы в благодати Святого Духа. Творчески созидая себя по образу самобытного, свободного бытия своего Творца, человек 284 познает самого себя, обретает возможность осознать свою духовную жизнь в ее свободе самобытности, независимости от какой-либо обусловленности стихиями тварного мира. Через самопознание человек в православной аскетике осознает свою сущностную свободу как возможность жить согласно Божественному Логосу, определяющему его духовную сущность как беспрепятственное следование своей духовной природе, доксологическоевхаристической сущности, осуществление желаний радости, свободы, полноты жизни духа, любви, общения с Богом, вытекающим из этой сущности. Сущностная свобода человека – это свобода от тщеславных привязываний им живой духовной силы славы Божией, дарованной ему создателем, к стихиям тварного мира, свобода от греха, неведения, гордости, самомнения, страха страстей для абсолютной безусловной божественной любви, для бескорыстного прославления Бога – Троицы, для благодарения в благодати Святого Духа. SELFCOGNITION OF HUMAN BEING IN ORTHODOX CHRISTIANITY AS THE UNDERSTANDING OF HIS ESSENTIAL FREEDOM M.Y.Shirmanova, Belgorod State University, Preobrazhenskaya st., 78, Belgorod, 308600, Russia The article deals with the role of self-cognition of human being in his spiritual life and in development of his inner features, the main of which is freedom. Freedom is understood as the ability of human being to act from himself – the freedom of choice and the freedom of will. The author reveals the content of the spiritual experience of communication with God and cognition of God in Orthodox Church in connection with understanding of one’s inner freedom. In the spiritual experience of the cognition of God in Orthodox religion the understanding of one’s inner freedom is the act of conscious creative force which is in basis of spiritual development of a person. Key words: anthropology, theology, theognosis, spiritual experience, spiritual culture, orthodox Christianity, self-cognition, consciousness. 285 Правила оформления статей в журнал «Научные ведомости БелГУ» В журнале «Научные ведомости БелГУ» публикуются статьи теоретического, методического и прикладного характера, содержащие оригинальный материал исследований автора (соавторов), ранее нигде не опубликованный. Статьи представляются в редколлегии серий в печатном и электронном виде с использованием Microsoft Word для Windows. Поля страницы: левое - 3 см, правое, верхнее, нижнее – 2 см. Текст – шрифтом Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал - одинарный, красная строка (абзац) 1,25 см (формата А-4), выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. Объем статей, как правило, не должен превышать 20 страниц, включая список литературы. Список литературы формировать в порядке цитирования или в алфавитном порядке (в начале источники на русском языке, затем на иностранных языках). Работы одного и того же автора цитируются в хронологическом порядке независимо от наличия соавторов. Ссылки на литературу по тексту статьи необходимо давать в квадратных скобках. Подписи к рисункам, таблицам – шрифт Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал – одинарный. Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева). Название статьи оформляется прописными буквами, жирным шрифтом (12 pt) с выравниванием по центру. Ниже через два интервала указать инициалы и фамилии авторов жирным шрифтом (12 pt) с выравниванием по центру. Ниже через два интервала указать адрес места работы, e-mail автора (соавторов) – обычный шрифт (10 pt) с выравниванием по центру. Аннотация статьи должна не превышать 1200 знаков (с пробелами) и располагаться ниже на два пробела от последнего адреса места работы авторов – обычный шрифт (10 pt) с выравниванием по ширине. В конце аннотации необходимо указать ключевые слова (5 – 7). В конце статьи на английском языке приводятся название, инициалы и фамилии авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова с теми же правилами оформления, что и на русском языке. В статье должны четко и сжато излагаться современное состояние вопроса, описание методики исследований и обсуждение полученных результатов. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя подзаголовки: Введение, Теоретический анализ, Методы исследования, Экспериментальная часть, Результаты исследования, Обсуждение результатов (Результаты и их обсуждение), Заключение (Выводы), Список литературы. Если статья выполнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного на конференции, то необходимо сделать соответствующую сноску в заголовке статьи (см. пример). К статьям, направляемым в редколлегии серий, должна быть приложена авторская справка: Фамилия, Имя, Отчество, научная степень, ученое звание, место работы, должность, точный почтовый адрес, контактный телефон, факс, e-mail. К статьям, выполненными аспирантами или соискателями научной степени кандидата наук, необходимо приложить рекомендацию, подписанную научным руководителем. Редколлегии серий направляют полученные статьи на рецензирование. Редколлегии серий оставляют за собой право вернуть статью на доработку. 286 Пример оформления статьи УДК 51-72:530.145 ПОЛУКЛАССИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДВУМЕРНЫХ ГАМИЛЬТОНОВЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА НОРМАЛЬНЫХ ФОРМ1 Н.А. Чеканов1), В.Н. Тарасов2), Н.Н. Чеканова3), 1) Белгородский государственный университет, 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, e-mail: [email protected] 2) Академия гражданской защиты Украины, 61023, г. Харьков, ул. Чернышевского, 94 3) ННЦ Харьковский физико-технический институт, 61108, г. Харьков, ул. Академическая, 1 Изложена процедура приведения классического гамильтониана к нормальной форме Биркгофа-Густавсона. При помощи правила соответствия Вейля по классической нормальной форме некоторых интегрируемых и неинтегрируемых систем построены их квантовые аналоги и найдены приближенные энергетические спектры и волновые функции. Показано, что полученный таким образом энергетический спектр с хорошей точностью воспроизводит точный спектр в той области энергий, где при классическом рассмотрении этой же системы движение регулярно, а в области, где классическое движение переходит в хаотическое, согласие между обоими спектрами резко ухудшается. Установлено, что причиной неприменимости полуклассического приближения служит явление множественных пересечений энергетических уровней одинаковой симметрии, которые случаются не в изолированных точках, а вдоль линий в пространстве параметров гамильтониана. Показано, что метод квантования с помощью нормальной формы применим не только к полиномиальным гамильтонианам, но и к более сложным, например, содержащим сингулярность в начале координат. Ключевые слова: классический гамильтониан, нормальная форма Биркгофа-Густавсона, правило соответствия Вейля, энергетический спектр, волновая функция, метод квантования. Введение К настоящему времени установлено существование детерминированного хаоса в различных классических динамических системах [1, 2]. Известно, что детерминированный или классический хаос возможен в консервативных гамильтоновых системах даже с двумя степенями свободы [3], а также и в одномерных гамильтоновых системах, но зависящих от времени [4]. В данной работе рассмотрены консервативные гамильтоновы системы с двумя степенями свободы. Заключение В работе исследованы … Список литературы А. Лихтенберг, М. Либерман. Регулярная и стохастическая динамика. – М.: Мир, 1984. – 528 с. M.C. Gutzwiller. Chaos in Classical and Quantum Mechanics. – New York: Springer, 1990. – 432 p. M. Henon. Integrals of the Toda lattice //Phys. Rev. – 1974. – V.B9, №4. – P.1921-1923. Ю.П. Степановский. Атом водорода во внешнем поле как ангармонический осциллятор //УФЖ. – 1987. – Т.32. – С.1316-1321. 5. Е.А. Соловьев. Адиабатические инварианты и проблема квазиклассического квантования многомерных систем // ЖЭТФ. – 1978. – Т.75, Вып.4. – С.1261-1268. 1. 2. 3. 4. 1 Работа выполнена при частичной грантовой поддержке РФФИ: №03-02-17695, №03-02-16263 287 A SEMICLASSICAL APPROACH TO THE INVESTIGATION OF THE TWO-DIMENSIONAL HAMILTONIAN SYSTEMS BY THE NORMAL FORM METHOD N.A. Chekanov1), V.N. Tarasov2), N.N. Chekanova3) 1) Belgorod State University, Studencheskaja St., 14, Belgorod, 308007, Russia, e-mail: [email protected] 2) Civil defence Academy of Ukraine, Chernyshevsky St. 94, Kharkov, 61023, Ukraine 3) National Scientific Center, Kharkov Institute for Physics and Technology, Akademicheskaj St. 1, Kharkov, 61108, Ukraine The receiving procedure of classical Hamiltonian to the Birkhoff-Gustavson normal form is described. With help of the Weyl correspondence rule for the classical normal forms of some integrable and nonintegrable systems their quantum counterparts are constructed and approximated energy spectra and wave functions are found. It is shown that thus obtained energy spectra are represented good exact ones in an energy domain where the classical motion is regular but agreement is worsen strongly at the energy domain where the classical regular motion is going into chaotic one. It is established that a cause for lack of the semiclassical approach is a phenomenon of multiple same symmetry energy level avoided crossings that take place not at isolated points but along the lines in the parameter space of Hamiltonians. It is shown that normal form method of quantization is valid not only for polynomial Hamiltonians but for more complicated ones, for example, for singular at zero Hamiltonians. Key words: classical Hamiltonian, Birkhoff-Gustavson normal form, Weyl correspondence rule, energy spectra, wave function, method of quantization. 288