Л НЕЧТО ВРОДЕ ВСТУПЛЕНИЯ
advertisement
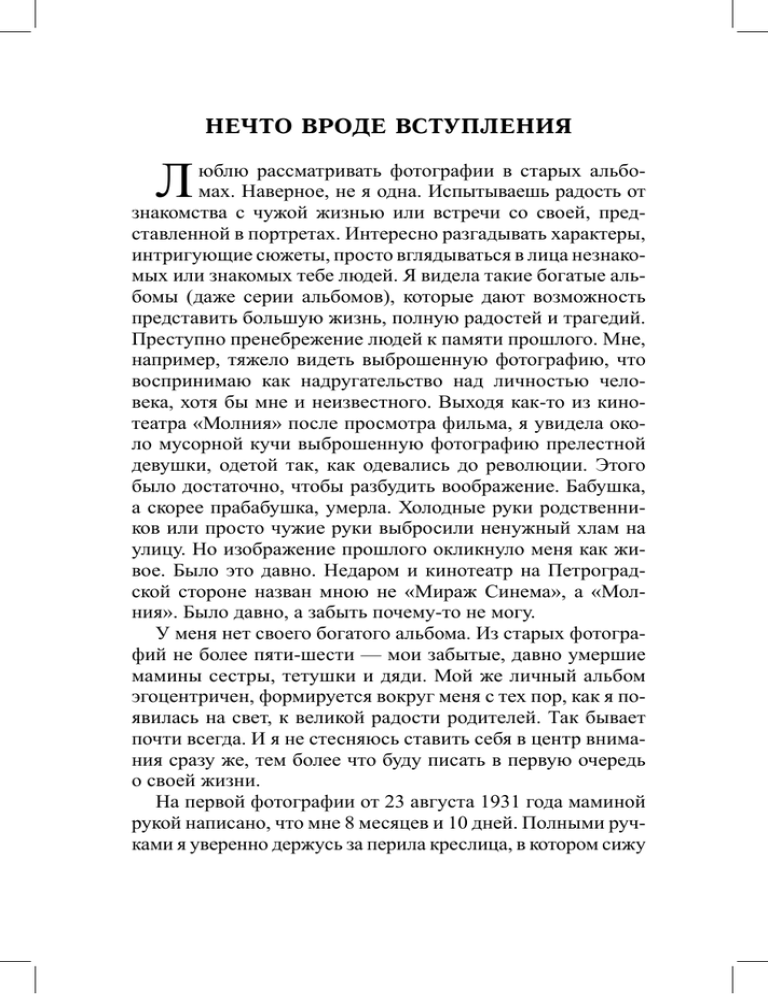
НЕЧТО ВРОДЕ ВСТУПЛЕНИЯ Л юблю рассматривать фотографии в старых альбомах. Наверное, не я одна. Испытываешь радость от знакомства с чужой жизнью или встречи со своей, представленной в портретах. Интересно разгадывать характеры, интригующие сюжеты, просто вглядываться в лица незнакомых или знакомых тебе людей. Я видела такие богатые альбомы (даже серии альбомов), которые дают возможность представить большую жизнь, полную радостей и трагедий. Преступно пренебрежение людей к памяти прошлого. Мне, например, тяжело видеть выброшенную фотографию, что воспринимаю как надругательство над личностью человека, хотя бы мне и неизвестного. Выходя как-то из кинотеатра «Молния» после просмотра фильма, я увидела около мусорной кучи выброшенную фотографию прелестной девушки, одетой так, как одевались до революции. Этого было достаточно, чтобы разбудить воображение. Бабушка, а скорее прабабушка, умерла. Холодные руки родственников или просто чужие руки выбросили ненужный хлам на улицу. Но изображение прошлого окликнуло меня как живое. Было это давно. Недаром и кинотеатр на Петроградской стороне назван мною не «Мираж Синема», а «Молния». Было давно, а забыть почему-то не могу. У меня нет своего богатого альбома. Из старых фотографий не более пяти-шести — мои забытые, давно умершие мамины сестры, тетушки и дяди. Мой же личный альбом эгоцентричен, формируется вокруг меня с тех пор, как я появилась на свет, к великой радости родителей. Так бывает почти всегда. И я не стесняюсь ставить себя в центр внимания сразу же, тем более что буду писать в первую очередь о своей жизни. На первой фотографии от 23 августа 1931 года маминой рукой написано, что мне 8 месяцев и 10 дней. Полными ручками я уверенно держусь за перила креслица, в котором сижу 6 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ в красивой ажурной кофточке. На второй (1 год 6 месяцев) я не в настроении (явно плакала). На обороте фото, предназначенного для подарка дяде Ване Аташевичу — мама замечает, что именно так я в то время произносила нашу фамилию — Барташевич. Таким образом в полтора года я уже соотносила себя с окружающими людьми, со своими родственниками, «однофамильцами». Фотографии быстро помогли мне очертить круг близких мне людей. Рядом, конечно, папа, мама, дяди (их было трое), бабушка, дети, мои товарищи, у меня на елке, я на Каменном острове... Вот и все — немного. Далее — провал на 10–15 лет. Я решила разложить пасьянс своей жизни, воспользовавшись тем, что есть в альбоме. Это дает наглядное представление о том, что же со мной происходило. Первые семь с половиной лет иногда меня фотографировали в ателье, но в основном я присутствую на любительских снимках отца. За десятилетие (1937–I947) у меня нет фотографий, кроме одной — школьный выпуск. За 1948–1951 — выпуск курса ЛГПИ им. А. И. Герцена и несколько снимков случайного и официального характера. Почему нет снимков родственников, мамы, с которой я почти никогда не разлучалась? Разве лишь на малое время. Вопросы, вопросы... Быстро на них не ответить. Куда же все подевались? Что-то важное сломалось в жизни. Завязался какой-то сложный узел — не развязать. Каждый в семье должен был пройти свою Голгофу. Мысли об этом гвоздили и гвоздят мозг до сегодняшнего дня. О чем речь впереди. А фотографии еще будут... Я В ЗАКОУЛКАХ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ давно стала замечать: по мере того, как год летит за годом, то есть по мере движения по жизни (Вперед ли? Это с какой точки зрения посмотреть), у нас возникает желание вернуться в наше прошлое. Не потому ли, что инстинктивно хочется увеличить личное время своего существования? Видимо, в таком процессе обратного движения, возвращения на круги своя есть экзистенциальная закономерность. Постепенно уходит в прошлое сумятица неотложных дел и действий, значение которых часто преувеличивается, и приходит момент истины. Хочется перелистать знакомые страницы с начала жизни. Их много, на какое-то время они исчезали из памяти или просто казались незначительными. Пришло время подумать о прошлом не торопясь, не забывая о мелочах, которые запали в память по какой-то иной раз неясной причине. В этом есть серьезный смысл и интерес. В каждой отдельной жизни бьется свой пульс, существует особое напряжение, свой круг соприкосновения с людским водоворотом, о котором ты не всегда должным образом задумывался. Общее представление о происходящем следует конкретизировать, наполнить деталями, чтобы связь между ними не нарушалась. Итак, в путешествие! Поищем же себя и время на внимательно читаемых страницах. Оказалось, я многое помню, что даже удивляет. Прежде всего я помню город, в котором мне посчастливилось родиться. Откройте карту, хотя бы такую, какая есть у меня. Издана в 1933 году в типографии им. Ивана Федорова в Ленинграде на Звенигородской, 11. Карта — одно только название: оборванная, стершиеся от времени клочки бумаги, наклеенные на марлевую основу. Вооружитесь лупой и найдите тот волшебный для меня уголок Аптекарского острова, дом 73/75 на проспекте Красных 8 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ Зорь при пересечении с Лопухинской улицей. Стоит только перейти Малую Невку — и вот Каменный остров, место, куда меня в детстве водили гулять. В июле 1929 года, когда я родилась и стала жителем этого дома, все было именно так: улица Красных Зорь не была еще Кировским проспектом и, конечно, ей еще далеко было до возвращения первоначального названия — Каменноостровский проспект. Лопухинка еще не носила почетного имени Академика Павлова, а маленькому садику на ней, расположившемуся между улицей Красных Зорь и Малой Невкой, названному грозным именем председателя ВЧК Дзержинского, еще не вернули изначально ему присущего имени — Лопухинский. До этого было еще ой как далеко! Этот садик я в шутку потом называла «придворным», так как гулять каждый день ходили именно сюда. Продолжаю строить декорации прошлого. Дом моего детства выглядел и выглядит солидно и заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Темно-серого гранита, он поражает своей солидностью и основательностью, развернут фасадом причудливой формы (полуовал открытого двора) на Каменноостровский. Говорили, что архитекторы строили его для себя, что, кстати сказать, объясняет наличие в нем большой мансарды. Маленькую комнатку в семнадцатикомнатной квартире в ней занимала молодая семья — мать, отец и дочка (я со своими родителями). В доме жили многие известные люди, о чем я знала в детстве: литературовед В. А. Десницкий, который хорошо знал Горького, переводчик М. Л. Лозинский; захаживал сюда (не знаю, к кому) и молодой Н. Заболоцкий. В фасадной части дома были очень большие красивые квартиры, в которых когда-то жили так называемые «бывшие», «социально опасные», по терминологии сталинских времен. Впоследствии я была знакома с Александром Дмитриевичем Драке, потомком знаменитого пирата Френсиса Дрейка, давно обрусевшего. К маме приходила старушка Тыркова, из «бывших», с трудом поднимаясь ПОИСКИ ОТВЕТОВ 9 на седьмой этаж, так как лифт по обыкновению не работал. Духовное и социальное одиночество она преодолевала у нас в общении с молодой женщиной и ребенком. Мама мне рассказывала о полулегендарной личности философа Чочио, который будто бы, если не хотел с кем-либо встречаться, через закрытую дверь отвечал пришедшему: «Чочио дома нет». И все знали, что это говорит сам чудак. Мама этого философа не видела — слышала лишь разговоры о нем, но даже в передаче деталей его поведения для меня было что-то интригующее, связанное с внутренней духовной жизнью дома. Вокруг был свой мир, очень многообразный, связанный с многими значительными именами. Мимо дома не раз до своего отъезда за границу проходил Ф. И. Шаляпин — его квартира находилась буквально рядом на улице Графтио. Теперь там музей. Возле нашего дома можно было видеть маленькую фигурку большого ученого И. П. Павлова. Я помню, как рядом с нашим домом строили здание для НИИ Экспериментальной медицины. Если посмотреть из окна мансарды, выходящего во двор, то был виден большой дом с водосточными трубами. Утром в определенное время к каждой трубе привязывалась собака, сразу же начинавшая выяснять отношения с соседкой. Двор весело гудел, мешая ленивым спать. Собачек готовили для изучения условных рефлексов. Не знаю, как кого, но меня очень забавлял этот веселый утренний переполох. Теперь понятно, почему Лопухинская улица непременно должна была стать улицей Академика Павлова. Думаю, здесь, где я знакомлю с окружающей меня в детстве обстановкой, уместно сказать, что взрослыми были определены традиционные места, где гуляли с детьми. Если у родителей было время, то вот он — мостик через Малую Невку — и сразу же Каменный остров, если же времени было в обрез (2–3 часа), то прекрасную прогулку можно было совершить в садике Дзержинского, где родители из соседних домов быстро знакомились, дружились, так же и дети. Помню двоих: Юрка Блинов, на два года меня 10 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ младше. На плохонькой самодельной фотографии я в окружении четверых маленьких мальчиков на фоне елки, на первом плане пухлая детская мордочка глазастого Юрки — моего закадычного друга. Был еще товарищ побольше, Алик. Жил близко. Мама часто оставляла меня у своей знакомой играть. Запомнился мне один эпизод из наших встреч. Както мама задержалась с приходом и Алик решил меня развлечь. Обещая мне что-то показать, подставил стул к комоду, выдвинул верхний ящик и достал... пистолет. Отец Алика, которого я никогда не видела, был военный, может быть энкаведешник, но это уже позднее замечание. Хорошо, что хватило ума, и маме я об этом эпизоде из своей биографии ничего не сказала. Видимо, и Алик не откровенничал со своими родителями, потому что нам бы сразу запретили встречаться. А я вижу его на групповой фотографии с его и моей мамой, девочкой Ирочкой и нашей преподавательницей немецкого языка под большим дубом на Каменном острове. Значит, это было приблизительно в 1936 году, когда мы все втроем стали заниматься в частной группе по изучению немецкого языка, организованной на Петроградской стороне. Проучитъся в ней мне довелось лишь один год. О причудливых поворотах в моей судьбе речь пойдет ниже. В настоящем же обычная детская жизнь, как у многих. МОИ МАМА И ПАПА С читаю, что давно уже подошла очередь познакомить с моими родителями. Маму звали Анна Ивановна (1901 г. р.), а папу Александр Иосифович (1902 г. р.) Бартошевич-Барташевич. Двойное написание нашей фамилии, по-моему, сложилось именно в 30-е годы (закрепился вариант с двумя «а»). К тому времени, когда судьба свела их на жизненном пути, мама была круглая сирота (отец умер, когда ей было 4 года, а мать в 1922 году, в год отъезда из города Бежецка Тверской области в Ленинград для поступления в вуз) . Папа был родом из Новой Ладоги (о его семье, родителях и братьях, пока умолчу). Его в это же время привели в Ленинград сходные причины — он стремился определить свою дальнейшую судьбу, устроиться на интересную работу. И все на первых порах складывалось неплохо. Мама, поступившая в сельскохозяйственный институт в Павловске, выйдя замуж, перевелась на химическое отделение института им. А. И. Герцена и окончила его. Папа начал учиться и работать в Первом медицинском институте (готовил наглядные пособия для проведения лекций профессорам, иллюстрировал медицинские книги). После открывшегося у него туберкулезного процесса вынужден был оставить институт и по совету мамы, разглядевшей у него незаурядные технические способности, перешел на работу в ОКБ (Особое Конструкторское Бюро) № 21, занимавшееся авиастроением. Я, тогда еще не Люция Александровна, была просто Лютей-Лютиком-Лютькой в зависимости от настроения, вызываемого моим поведением. Мною занимались, меня любили. Один год водили в немецкую группу, и я уже писала на немецком языке «сочинения». Я была веселым и понятливым ребенком, с трех лет писала печатными буквами, и московская тетя Соня высказывала мысль, что меня испортят ранним развитием. Я вслушивалась в разговоры взрослых, многое замечала и запоминала, что мне впоследствии 12 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ пригодилось. Знаю, что родители тогда наметили программу работы со мною на будущее. Было интересно и с мамой, которая с малых лет много мне читала — я живо воспринимала прочитанное, быстро запоминала стихи, — и с папой, который интересовался живописью, сам рисовал, у него были знакомые художники. Помню, у одного из них, видимо, копииста, во всю стену была картина, над которой он работал, — известная репинская — «Иван Грозный и его сын». Смотреть картину папа водил меня к своему товарищу. Благодаря родителям сформировались мои интересы в искусстве. У меня сложились свои предпочтения в живописи. Я очень любила Врубеля и Серова. С детских лет я твердо определяла свой дальнейший путь, хотела поступать в Академию художеств. При мне и со мною о многом говорили, но, конечно, не обо всем. Были разговоры об убийстве Кирова, но не поняла, как к нему относились. Очень тяжело воспринималась трагедия «Челюскина», затертого во льдах Арктики. Тогда у мамы случился первый сердечный приступ. Папа был инженер-конструктор, их ОКБ занималось техникой особой секретности, совершенствованием авиатехники, авиавооружения. С детских лет у меня на слуху фамилии: Туполев, Коренев, Скобинский, Стаселюк. Отец много и увлеченно рассказывал о любимой работе, которой отдавал все силы и время. С радостью, но несколько иронизируя (он вообще был человек ироничный), говорил о том, что признан стахановцем. Та же скрытая ирония (может, это мне после стало казаться в свете происходивших впоследствии событий) слышалась в повторении сталинской фразы: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Были вещи, обращавшие на себя внимание, потому что были мне непонятны. Как-то мама после посещения матери Олипии (неблизкая знакомая по Бежецку, монахиня) поставила маленький сундучок, принесенный ею, под кровать, сказав ПОИСКИ ОТВЕТОВ 13 мне, чтобы я никогда и никому о нем не говорила. Потом (когда? кто взял?) он исчез. Был и еще один момент, значение которого раскрылось мне позже. Однажды мы с папой гуляли на Каменном острове, и на газоне напротив правительственной дачи я стала собирать цветочки (как сейчас помню — белая и розовая «кашка»). Милиционер сказал, что здесь нельзя останавливаться и собирать цветы. Помню свое внутреннее несогласие с этим утверждением: почему здесь нельзя, а в других местах можно? Эти события папа не комментировал. Летом мы отдыхали либо в Бежецке, либо в Новой Ладоге. Когда папа был свободен от работы, то втроем. В Бежецке нас принимала старенькая тетя Дуня, добрейший человек, в Новой Ладоге — бабушка Анна Ильинична и братья папы: Петр, Иван и Михаил, которые были школьными преподавателями. Бежецк манил запахом яблок и вкусом прекрасной малины из сада тети Дуни. Бабушка в Ладоге не знала, что бы такое сделать для любимых невестки и внучки. Папа, только что увлекшийся фотографированием, запечатлевал различные моменты в жизни семейства, рисовал пейзажи: окрестности Волхова, окружающие город леса — они тогда еще не были потревожены новым строительством. От картин почти ничего не осталось. Почему? Расскажу об этом далее. В моей комнате сейчас висят особенно дорогие мне сделанные в профиль портреты мамы (акварель) и бабушки (масло). Спокойно и благополучно текла жизнь до некоторого времени. В августе 1937 года конец лета мы с мамой проводили у тети Дуни, а папа работал. Мама забеспокоилась тогда, когда от него в положенное время не стали приходить письма. Тогда не было мобильных телефонов, да и других возможностей, кроме писем, для связи с Ленинградом не было. Вдруг пугающее письмо живущей близко от нас знакомой. Оставив меня в Бежецке, мама поехала в Ленинград. Арест отца! Не знаю, в какой степени можно было предположить 14 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ такое развитие событий, потому что в нашей жизни все как будто начинало устраиваться. До последнего времени жили мы, как большинство молодых семей в ту пору, небогато. Были перебои с керосином, одеждой и со многим другим. В памяти от этого времени осталось название «Торгсин». Но не у всех были средства, чтобы делать в нем покупки. Однако родители не унывали. Папа работал. Такие же люди были и в нашей семнадцатикомнатной квартире. Были случаи и потруднее, как, например, в многодетной семье Кацман — не уверена в правильности названной фамилии. Когда мама жарила пирожки, то большая их часть отдавалась голодным детишкам, что мне запомнилось как незыблемое правило. К 1937 году работа того коллектива, которая возглавлялась Стаселюком и в которую входил папа, сделала большие успехи в разработке автопилотов. Отец принес домой радостную весть, которая живейшим образом обсуждалась: всех должны были наградить, тем самым материальное положение семьи упрочивалось. У отца было давнее желание, а теперь приближалась и возможность купить автомобиль. Занимаясь впоследствии делами репрессированных, я увидела, что именно так почти всегда и делалось. Человек на взлете в своей работе, его даже отправляют на казенный счет в санаторий, премируют, а там арестовывают; посылают в почетную командировку за границу, а при возвращений — арест. Своеобразная «шоковая терапия». Сейчас не буду далее раскрывать эту тему. Понимание того, что происходило, пришло позже. А мне в августе 1937 года было лишь семь с половиной лет. Итак, мама вернулась за мной в августе. Сказала, что папа арестован по ошибке. Нужно возвращаться. До сей поры я помню это возвращение, не похожее на те, которые были раньше, хотя мы тоже возвращались осенью, часто в непогоду. Осознать положение я еще не умела, пока мы ехали в вагоне, на меня действовало успокаивающе объ- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 15 яснение «арестован по ошибке». Совсем иное — возвращение в Ленинград, когда настроение определилось эмоциональным состоянием. Я увидела «пустой» перрон. Для меня он был пустой, так как впервые нас не встречал отец. Это был первый эмоциональный удар. Второй — приход в комнату, в которой всегда ждали, но сейчас в ней никого не было. И лишь на полу грубые отпечатки сапог, в которых энкаведешники ходили по свежеокрашенному полу (предполагалось, что за лето краска должна была высохнуть). До сих пор помню эти ощущения, от которых и сейчас сжимается сердце. Потом потянулись серые дни, в которые все делалось както машинально. Мама ходила в НКВД с передачами, как очень многое ленинградцы. Перезнакомились друг с другом, но всякий был со своим горем. Впоследствии с глубоким пониманием вселенской беды писала о состоянии женщин, ожидающих известий об арестованных, Анна Ахматова в «Реквиеме». Узнала я, как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх, Как клинописи жесткие страницы Страдания выводят на щеках, Как локоны из пепельных и черных Серебряными делаются вдруг, Улыбка вянет на губах покорных, И в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мною И в лютый холод, и в июльский зной Под красною, ослепшею стеною. Однажды маме сказали, что передачу для Бартошевича уже приняли, но оказалось, что у папиного однофамильца были другие имя и отче ство. В следующий раз мама 16 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ принесла деньги для возврата, но женщины не нашла: вероятно, ее уже выслали за мужа из Ленинграда. Было это в декабре. Нам недолго оставалось ждать такого же исхода событий. Спустя неделю маме сказали, что ее мужа осудили на 10 лет без права переписки. Умерла она 30 декабря 1987 года, до конца жизни так и не узнав, что значит этот иезуитский эвфемизм. Маме объяснили, что ей, так как она жена «врага народа», следует в течение трех дней покинуть Ленинград, назвали три места, одинаково ей неизвестные, она выбрала «поближе» — Кустанай. В нашем случае хорошо было уже то, что маме не грозила высылка по этапу. Может, причиной было то, что меня не с кем было оставить, а скорее всего просто случайность: или этап был сформирован, или готово было нужное количество детей для отправки в спецлагеря НКВД. Нужен в данном случае небольшой исторический экскурс. Начало расстрелам по политическим мотивам было положено революцией, о чем В. Г. Короленко писал А. В. Луначарскому в 1920 году: «первый опыт введения социализма посредством подавления свободы». Писатель предвидел для страны бедствия фантастического масштаба, которые не заставили себя долго ждать. С 1918 года «красный террор» был возведен в ранг государственной политики. Большевики в условиях произошедшей революции посчитали, что террор «является прямой необходимостью» в борьбе с контрреволюцией, развязав тем самым руки многим деструктивным силам, которые получили право насильственным путем решать все проблемы в государстве. Но проблемы все никак не решались. И в деревне, и в городе, на производстве, на транспорте, короче, везде и всюду жизнь не налаживалась. Казалось, что в этом кто-то виноват. Легче всего было сложить вину с больной головы на здоровую. Опыт в этом отношении был уже накоплен немалый. Хотелось решить все проблемы одним махом. Размахнулись широко. Решениями партии (Почитайте материалы февральско-мартовского пле- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 17 нума ЦК ВКП/б 1937 года, которые сейчас публикуются без купюр.) было определено создание секретного Оперативного приказа № 00447 о проведении широкомасштабной «операции по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников». Н. И. Ежов, нарком внутренних дел, сменивший на этом посту Г. Г. Ягоду, подпоясался на брань. 1937–1938 гг. недаром называются временем Большого террора, «ежовщиной»; вошло в практику выражение «ежовые рукавицы». Репрессивная машина заработала без устали, с размахом. П НЕБЛИЗКАЯ ПОЕЗДКА НА ЭННОЕ ВРЕМЯ апа был арестован 3 августа 1937 года. Мы с мамой выехали из Ленинграда в конце декабря. И в начале года, I января 1938, оказались в чужом городе, не предполагая, что проживем в нем под бдительным оком НКВД 10 лет. Как сейчас помню такую картину. На большую привокзальную площадь высыпали из вагонов люди. Солнечный, яркий морозный день... Приехавшие сбиваются в кучку (все это семьи репрессированных) и решают вопрос, что делать дальше. Ведь никто никого не встречает. Город в отдалении — рассыпанные по окружности домишки. Мороз! Ни у кого нет знакомых. Замечаем сани с впряженными в них лошадками. Оказывается, что нас готовы подвезти до ближайших домов. Но куда и к кому? Никто не знает. Выхода нет. Однако предложен вариант. Скооперировались и платим деньги — нас привозят в большой дом, расположенный недалеко от вокзала. Условие: в доме можно оставаться недолго, в это время нужно найти место, где можно поселиться на постой. Картину приезда высланных мы впоследствии наблюдали неоднократно. Все происходило по известной уже нам бизнес-схеме, которую местные жители быстро усвоили в свою пользу. Деньги есть не у всех высланных. Комната не по карману. Нужно снимать у хозяйки «угол». Были хозяйки хорошие, сочувствующие (до сей поры помню милую и добрую Бачурину), были и такие, которые не прочь были воспользоваться чужим. Однажды нам удалось вырастить немного хорошей картошки. Редкая удача! Но почему-то в мешках она постепенно и незаметно убывала. В результате нам ее хватило лишь до января. Догадавшись, в чем дело, мы стеснялись впрямую сказать — воры! Чем докажешь? Кроме того, опасно: ведь зависимы от хозяев — могут и выгнать в сере- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 19 дине зимы. Да, жить в хозяйских «углах» непросто. Забегая вперед, скажу, что все 10 лет кустанайской жизни мы как правило жили по «углам». Прошу извинить за то, что многое говорю о прозе жизни. Репрессированные в большинстве своем обычно постоянно нуждались. Во-первых, их неохотно брали на работу, а если появлялся кто-либо другой, незапятнанный, на котором не было клейма «врага народа», сразу же увольняли. По специальности маме работы нет. Устраивалась куда придется. Работала одно время с глухонемыми. Дети ее любили, начальство ценило. Но приедет молодая, неопытная, не желающая работать с больными детьми, и сбежит. Маму возвращают на прежнее место. Потом история повторяется в том же варианте. Под конец срока пребывания в Кустанае нам повезло. Директору «Доротдела» Михаилу Ефимовичу Брянцеву бесконечно благодарны я и моя подруга, мамы которых у него работали. Михаил Ефимович всегда стремился помочь либо дровами, либо продуктами, либо просто добрым словом, устроил нас в общежитие для работников «Доротдела», не боясь ничьего осуждения, и тем самым снял для нас мучительную проблему поисков «угла». Кроме того, был, хоть и маленький, но постоянный заработок. Нечто вроде заслуженной награды за многолетние мучения. Высланные, и взрослые и дети, вели постоянную борьбу за жизнь. Коренное городское население чаше всего имело хозяйство, кормилось «с огорода», мы не умели работать на земле. Если можно было взять небольшой участок за городом, то обработать его — целина ведь — ленинградцы не умели, да и не было сил для этого. На земле ничего не вырастало, а усилий тратилась уйма. Заработать деньги не всегда удавалось. Познакомились с рынком. Все, что было привезено из одежды, обменивалось на продукты. Мама делала куколок, их охотно покупали, но доставать для этого материал становилось все труднее. 20 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ Продавали на рынке то. что могло иметь хоть какую-то ценность. Помню, мама была очень рада, когда сумела продать одну галошу, которую в свое время вызволила из грязной лужи — засо сало! Купил одноногий. Факт примечательный! Представьте себе этот нищенский базар, отчаянное положение торговавших на нем. Зарабатывать деньги вынуждена была мама, но у нее не было соответствующей кустанайскому климату одежды и обуви. Мы не знали, как выглядит зимнее пальто, а обувь — валенки, например — стоили очень дорого. И я помню, как добиралась мама с работы домой в ботиках с замерзшими ногами, исхлестанными в кровь беспощадным бураном, потому что другой обуви для зимы у нее не было. Постоянно хотелось есть. Добывать еду приходилось всякими способами. Иногда кто-нибудь отдавал ненужное, лишнее. Делились с нами и добрые люди. До сих пор помню местную женщину Носкову, у которой были родственники в Ленинграде, приехавшие к ней в годы блокады. Помню высланного в Кустанай корейца, которому мама возила зарплату, когда работала в «Доротделе». Он всегда мне что-нибудь посылал: чаще всего кружечку муки или крупы. В некоторые, особо тяжелые дни, я искала по помойкам, что можно было бы использовать для еды. Однажды к великой радости нашла промерзший вилок капусты. Я говорю об этом потому, что это было однажды и потому запомнилось. Возвращаясь с работы, мама с бидончиком обходила столовые — помоему, две на ее пути — и сердобольные женщины, работавшие в них, сливали в бидончик оставшееся подобие супа. В мутной воде, если повезет, плавали на дне три-четыре галушки или капустных листа. Было еще такое название — «затируха», что означало воду с мучным осадком. Возле черного входа в столовую стояло несколько таких же бедолаг, как мама, поэтому запросто можно было остаться с пустыми руками. Голодали почти все приехавшие, разговоры о еде считались «опасными», провокационными, но они велись. ПОИСКИ ОТВЕТОВ 21 Не подумайте так, что такие разговоры запрещались НКВД. Дело было проще. Разговоры провоцировали спазмы в желудке, и от этого еще больше хотелось есть. Мы мечтали не о разносолах, но о хлебе, который можно было бы есть вдоволь. Тема о еде была мучительной: не могли не думать о еде, не мечтать о ней, не вспоминать о своих гастрономических пристрастиях прошлого, но от этого становилось еще хуже. Попутное замечание. Когда мы вернулись в Ленинград, самым большим удовольствием было съесть кусок черного хлеба с клюквой (почему-то именно она тогда везде продавалась). А как мы были одеты? Бомжи нашего времени иной раз выглядят лучше. Все привезенное износилось. Например, мои детские рейтузы превратились в сплошную штопку — шерстяной основы не было. Мама умела шить. Если что доставалось от доброжелателей (а такие были), то любой лоскуток, любая марля шли на платья для меня. А вот с обувью было совсем плохо: одна пара обуви на двоих. Когда мама уходила на работу, она мне давала наказ: выучить все, что было задано к следующему уроку. Поэтому пропущенные месяцы — то зимние злые бураны, то весенние разливы — не сказывались на моей успеваемости. ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА. «ВРАГИ НАРОДА» П ознакомлю читателя с теми людьми, которые были такими же высланными: разного социального положения, разного образования, разного достатка и т. п., но судьба, общее несчастье нас связали накрепко. Расскажу о тех, с кем общалась в Кустанае наиболее тесно. Приехав, я познакомилась с девочкой-ровесницей, попали с нею в один класс, просидели несколько лет за одной партой. Это и по сегодняшний день моя подруга — Камилла Вацлавовна Савицкая. Она жила с бабушкой в ожидании приезда матери, отправленной из Ленинграда в высылку «по этапу». Ее отец, Вацлав Людвигович Савицкий, был осужден по ст.ст. 58-6-10 к высшей мере наказания. Выслана была жена питерского рабочего, если память не изменяет, звали ее Мария Ивановна, скромная, тихая женщина. Мы ехали с ней из Ленинграда вместе. У нее был мальчик Авик (Авангард, как это звучало в патриотические сталинские времена: сплошные Сталины, Владлены, Марлены, Кимы и т. п.), с которым я некоторое время играла. Мать и сын очень нуждались. Потом появились другие знакомые, Очень интересной парой были Альфонс Францевич, неунывающий француз, и его жена — немка Мария Ивановна. Не знаю, шпионами каких стран их сочли или просто не понравилось их происхождение, но оказались они там, куда в 1937 году ехали многие. Альфонс Францевич все шутил, убеждая мою маму, что читающему ребенку, то есть мне, обязательно нужно знакомиться с французской классикой и прежде всего с «Жизнью» Мопассана. Я была очень рада такому совету, хотя и мама, всегда много читавшая, никогда мне не запрещала что-либо читать из пуританских соображений. Мария Ивановна была человеком иного склада, нежели ее муж. Альфонс Францевич, по-моему, ничего не делал, или мне так казалось из-за его поведения. Мария Ивановна была практична, шила для других, чтобы заработать, Я пом- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 23 ню, что, рассказывая о своей профессиональной деятельности, она все повторяла смешившие нас слова «от мышца до мышца» (такие слова сопровождали измерение сантиметром расстояния при снятии мерки). Было еще несколько семей, с которыми мы в какой-то мере соприкасались (Учительница с двумя детьми, приехавшая в Кустанай тем же поездом, что и мы, Леня Рум, Циля Дынина, с которой мы встретились как родные спустя много лет в Ленинграде, когда она уже была в инвалидной коляске, и другие). Но самые близкие отношения сложились у нас с двумя сестрами «из бывших», по терминологии тогдашних лет. С Людмилой Евгеньевной Паскиной и Ольгой Евгеньевной Видстедт (муж ее был швед), которая не была выслана, а просто поехала за сестрой, чтобы помочь ей пережить трудные времена. Уже в Ленинграде, точнее в СанктПетербурге, в Книге памяти «Ленинградский мартиролог. 1937–1938» я прочитала о муже Людмилы Евгеньевны: «Паскин Степан Александрович, 1880 г. р., уроженец г. Бежецк, русский, беспартийный, бухгалтер счетной конторы Дзержинского райжилсоюза, проживал: г. Ленинград, Ковенский пер., д. 13, кв. 4. Арестован 4 ноября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 2 декабря 1937 года приговорен по ст.ст. 58-6-8-II УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 20 декабря 1937 г.» Совпадение жизненных фактов поразительно: место рождения, жительства, время расстрела... Во многом происходит какая-то перекличка с деталями нашей судьбы. Наверное, мы даже ехали в одном поезде, не зная еще друг друга. Сестер мы очень любили. Людмила была поразительно красива, Ольга — интригующе загадочна. Они были хорошо образованны, владели тремя иностранными языками, много знали. Несчастье свое несли достойно. Незадолго до ареста мужа Людмила потеряла молодого сына, заболевшего воспалением легких. Многое пришлось им пережить. Они были наивны и непрактичны, не были готовы к трудностям жизни, 24 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ хотелось им помочь. На первых порах у них еще были деньги, а также можно было заработать. Ольга и в Ленинграде шила платья для высокопоставленных лиц, Людмила прекрасно вышивала. Спрос на вещи, сделанные со вкусом из хороших материалов, доступных для модниц жен НКВД, существовал, но во время войны было не до платьев. Источник для заработка иссяк. Некоторое время мы жили вместе с сестрами. Тяжело заболела Людмила и умерла в больнице. Помню последнее прощание с нею, на которое мы пришли вместе с мамой. Ольга, она была старшей, оставшись одна, утратила смысл существования, который для нее заключался в заботах о сестре. Она как-то потерялась, хозяйка, у которой она снимала комнату, ее всячески обирала. Ольга впала в ужасающую нищету. Я это поняла, придя к ней попрощаться перед отъездом в Ленинград. Думаю, она вскоре ушла вслед за сестрою. Я пыталась, хотя бы бегло сказать о судьбах тех, с кем сблизила неласковая судьба в Кустанае. Ни одного человека, будучи в своем уме, нельзя представить в роли «врага народа» или его пособника, какими считались жены и дети. На политические сопоставления и выводы у них в то время не было сил, чаще всего они воспринимали свои беды как ошибку, что-то временное, кем-то нелепо надуманное. Главная задача была — выжить, спасти своих близких, детей прежде всего. Политическое осознание происходившего произошло позднее. Говорю лишь о тех, кого знала, а сколько было еще. Ведь ни один поезд в Кустанай не приходил без высланных. Были и другие пути, которыми пополняли эти края: наверное, не била пустой тюрьма, расположенная близ города, проводились депортации. Например, много было в Кустанае немцев и корейцев. Мама, помню, поделилась со мною ужаснувшим ее впечатлением, которое ее буквально потрясло: по улице вели этап польских женщин, изможденных, исхудав- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 25 ших, плохо одетых (запомнилась одна, на которой вместо юбки был мешок). Куда их вели? Может, в один из женских лагерей, которые были в Казахстане. Недаром там открыт мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», в экспозиции которого отражены материалы политических репрессий и оставить 1937– 1938 годов. Неслучайно в мае 2010 года в Астане был организован ряд мероприятий в рамках Международного проекта «Память во имя будущего». Много внимания было уделено вопросам депортации народов в Казахстан 1930–1950 гг., роли музейной работы в увековечении памяти жертв политических репрессий, было организовано посещение музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР» в Акмолинской области. Конечно, до осознания на таком высоком уровне всего происходившего в годы тоталитарного произвола, в 30-е годы никто и в мыслях не поднимался. Кстати сказать, в Кустанае, в относительно большом городе по тем меркам, мы казахов почти и не видели. Они приезжали на верблюдах во время базарных дней, покупали чай плитками, варили бишбармак. В городе в основном жило русскоязычное население. Это была непонятная тогда, закрытая сторона жизни, с которой мы почти не соприкасались. Лишь позднее стала более ясной национальная политика нашего государства. Я отвлекаюсь на современные события в воспоминаниях о прошлом, но стоят они на прочной основе личной памяти, сохранившей живые подробности ушедших лет. К Казахстану и казахам отношение у меня неизменно было и есть доброе, хорошее. ШКОЛА Г оды, проведенные в ссылке, совпадали с формированием представлений о жизни. Все 10 лет я училась в школе, которую закончила в 1947 году. Неполон будет рассказ о моей жизни без разговора о школе. В Кустанае было две школы. Маленькая, начальная, в которой я проучилась недолгое время. В памяти у меня она осталась в связи с печальным событием, возмутившим скорее маму, чем меня: директор, взяв мои рисунки для выставки, на возвратил их. Главная школа, которую я окончила, имела имя — школа им. Н. К. Крупской, десятилетка. Учиться я любила, пропускала занятия только по уважительным причинам (об этом я уже писала), отметки у меня были в основном отличные. В школе я нашла понимающих друзей, прежде всего Камиллу, с которой и сейчас близка, и двух местных девочек, одна из них вскоре после нашего отъезда в Ленинград умерла от рака, с другой мы долго переписывались, она даже приезжала к нам в Ленинград, где в свое время училась в вузе. Потом связь вдруг прервалась, видимо, некому стало писать. С учителями мне повезло: педагогический коллектив был сильный. Но особенно я любила классного руководителя и математика Анастасию Петровну Полякову, биолога и химика Нину Михайловну Березан, литератора, творческого, интересного человека, Флору Анисимовну, приехавшую в Кустанай с эвакуированными во время войны. Это люди, которые относились к нам, высланным, с пониманием, старались помочь материально, освобождали от платы за обучение. Мама подружилась с Анастасией Петровной, которая долгое время писала ей в Ленинград прекрасные письма. Для школы я много рисовала, причем, по своей инициативе, которая благосклонно принималась. В старших классах издавала газету, названную претенциозно «Каскады смеха» — содержание, иллюстрации — все моего авторства. ПОИСКИ ОТВЕТОВ 27 Сама газету вывешивала, мне нравилось, что около нее собирались ребята, читали с удовольствием, никто ее не срывал. Не помню, когда я услышала о школе живописи для детей, конечно, бесплатной. Ее вел какой-то энтузиаст. Я была из всех учеников самой маленькой, самый старший — семнадцатилетний мальчик. Дали мне задание скопировать картину «Восстание смердов», многофигурную. Работала долго, справилась на отлично. Потом по какой-то причине занятия прекратились. В школе меня иногда использовали для оформительских работ, для этого же направляли в детские садики (написать лозунги, нарисовать наглядные пособия). В такие дни меня там кормили вместе с детьми. Сейчас я уверена: так мне старалась помочь классная руководительница. Никто не оставался внакладе: и работодатель получал то. что ему нужно, без финансовых затрат, и мне хорошо. Однажды я нарисовала портрет Крупской (школа была ее имени), который повесили при входе. Вначале все было хорошо. Но вдруг меня вызывают к директору. В ее кабинете застаю скопление незнакомых людей (видимо, ареопаг педагогического собрания на уровне РОНО или чего-либо подобного). Вины за собой не чувствую, но пугаюсь неизвестности. Отвечаю на предлагаемые вопросы и успокаиваюсь. В конце концов отпускают. Конечно, я и тогда уже понимала, в чем дело: я дочь «врага народа», поэтому ей нельзя доверить изображение такой важной фигуры, на которую я покусилась. Однако всё и все успокоились — портрет висел в школе во всяком случае до моего отъезда. Комментарий к этой истории я неожиданно получила спустя длительное время в Ленинграде. Меня разыскала учительница, которая тогда преподавала нам физику, сама репрессированная, но умело скрывшая это. История с портретом, по ее словам, вызвала большой шум, который все же сумели быстро заглушить. Вообще, население города относилось к нам, высланным, хорошо. Жены военных давали нам заработать вышиванием 28 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ платочков, шитьем платьев, помощью в изучении языков и т. п. Работники НКВД, когда к ним приходили на отметку, не унижали нас — ни разу об этом не слышала, — а однажды помогли маме, удовлетворив ее просьбу. Дело в том, что НКВД, видимо, получил указание о необходимости по возможности «врагов народа» убрать из города, переселив их куда-нибудь подальше. Маме было предложено глухое селение Тургайской области. Она написала в НКВД заявление с просьбой ее не высылать, потому что в селении нет школы, а ее дочка учится. Некоторое время ответа не было. Как-то после работы, возвращаясь домой, она увидела отходящих от дома энкаведешников и очень испугалась. Они ее успокоили, сказав, что проверяли, как она живет, поговорили с хозяйкой и приняли положительное решение по ее заявлению. Наверное, не везде было так, как в Кустанае (я об этом знаю, так как некоторые мои знакомые приводили другие примеры), но к нам отношение было человечное. Работники НКВД, конечно, знали о нас больше, чем мы сами, и некоторые нам сочувствовали. Уверена, что они легче расшифровывали туманное для нас понятие «10 лет без права переписки» и знали, что перед ними жены и дети смертников. Когда я заканчивала школу, был один неприятный эпизод, свидетельствующий о том, что дочь «врага народа» во что бы то ни стало все же должна быть ущемлена в правах. Первый выпускной экзамен был для меня желанным — по литературе. Я взяла свободную тему — «Молодая гвардия» А. Фадеева. Война только что кончилась. Роман существовал в первой редакции, вторая, которую вынужден был написать Фадеев после оглушительной критики, еще не существовала. Я писала с удовольствием. Мне сказали, что за работу поставили «отлично». Прошел месяц. И вдруг мне говорят, что в сочинении есть лишняя запятая (либо запятой нет — не помню). Маме работу не показали. Причина такого поворота событий, скорее всего, была в том, что лишняя ПОИСКИ ОТВЕТОВ 29 «четверка» вместо «пятерки» за сочинение исключала возможность дать мне серебряную медаль. Педагогическое начальство не могло и не хотело признать это право за дочерью «врага народа». В связи с общим разговором о нашей жизни в Кустанае, хочу особо выделить тему Великой Отечественной войны. Пересеклись две самые большие трагедии ХХ века: тотального террора, определившего наши индивидуальные судьбы, и войны. Война была горем для всех, для каждого и не могла не затронуть судеб людей, независимо от того, далеко или близко они были от фронта. Сказывалось это только по-разному. Беда обострила существующие проблемы. Кустанай, разбухающий от постоянного притока в него жертв репрессий, стал стремительно увеличиваться и за счет эвакуированных. Приезжали главным образом из оккупированной Украины отдельные лица и учреждения. На эвакуированной текстильной фабрике некоторое время работала и мама. Сблизилась с людьми, сочувствовала им: общее горе. Со снабжением возникли трудности. С началом блокады Ленинграда у нас из карточек стали вырезать все талончики, кроме хлебных, якобы в пользу блокадников. Не знаю, принесло ли это какую-то пользу блокадникам. Сомневаюсь. За хлебом нужно было стоять часами, но бывало так: товар кончался, а очередь оставалась. Мама работала, роль снабженца выполняла я. Резко изменилась вся атмосфера жизни: люди вдохнули горечи и задохнулись. Смерть, о которой раньше не думалось, стояла за плечами каждого. Мы были далеко от фронта, но он приблизился к нам. Город менялся: появились военные, рядом с Кустанаем был аэродром, с которого совершались боевые вылеты. Летчики жили в квартирах рядом с нами. Присутствие смерти ощущалось во многом: не все летчики возвращались с аэродрома, в Кустанай к родственникам приезжали из блокадного Ленинграда, жены получали похоронки. Мы, школьники, многому были свидетелями. 30 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ Уже под конец войны в нашу школу пришел новый физик, раненый фронтовик, молодой, красивый. Мы поняли, что физики он не знает, часто пропускает уроки, пьет по-черному, что война сгубила его. Он был конченный человек, выпавший из жизни. Из школы он скоро ушел. О нем ничего не знали — растворился. Был или не был? Вот остался в моей памяти — неясный след погубленной жизни. Время шло... Приближалось окончание школы. Следовало подумать о будущем. Среди репрессированных стали ходить слухи о возможности скорого освобождения. Некоторые уезжали. У мамы еще не было документа об освобождении. Наконец Постановлением МВД Кустанайской области 14.08.47 г. административная высылка была маме отменена, а 29.08 был выдан паспорт без ограничений — не указывались те города, в которые нельзя было ехать. Реабилитирована мама была Управлением МВД Ленинградской области 18.04.58 г., а 11.11.92 г. это же решение было подтверждено Информационным центром ГУВД. Кстати, «отмена высылки» и «реабилитация» очень разные понятия, что мы сами не сразу поняли, посчитав — все мытарства остались позади. Это была первая, самая низкая ступенька по пути в рай желанной свободы. Шлейф от клейма «враг народа» тянулся за человеком долго, и тогда еще не родилось определение — жертва политических репрессий, история много должна была поработать на развитие процесса. Это приходит в голову позднее. А в 1947 году нужно было, крепко подумав, решиться на кардинальное изменение жизни. На обсуждении были два вопроса: возвращение в Ленинград (без него мы себя не представляли) и мое поступление в вуз. Ни на чью помощь надежды не было: в Ленинграде из родных никто не жил, московская тетя Соня умерла в годы войны «от голода и слабости», как было написано маме в официальном документе, бежецкую тетю Дуню уморила голодом въехавшая в дом новая хозяйка, которая, как нам потом писали, не пускала к ней никого, что- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 31 бы завладеть домом было легче. Мы потом видели это безнравственное, грубое чудовище, приезжая в Бежецк. Связь с другими родными, жившими в Архангельске, на то время была потеряна. Отец? Наверное, читающий эти воспоминания удивляется, почему о нем нет речи. Потому что он уже давно был насильственно вычеркнут из нашей жизни. Он существовал в нашем воображении почти как мифическое существо («10 лет без права переписки», никаких известий о нем не было, слухов, предположений) и воплощался только в болезненных снах. Однажды, когда мы жили в помещении бани у Бачуриной, взволнованная мама утром мне сказала, что сегодня ночью никак не могла уснуть, разбуженная повторяющимся громким таинственным стуком в стену. Она, не будучи экзальтированной женщиной, восприняла это как знак смерти горячо любимого человека. Но это был самообман. Мы никогда не предавали памяти папы, пытались не терять надежду на то, что он еще жив, даже были разговоры о том, что, может быть, он во время войны был в штрафном батальоне и погиб на фронте, что казалось более утешительным концом для него, нежели гибель как «врага народа». Мы очень часто между собой обсуждали эту возможность для него. Она была подсказана войною. Мама дольше меня не теряла надежды на то, что узнает о судьбе мужа. Я ее поддерживала в этих мыслях, не отнимала последнего, помогающего жить. Сама же не верила в возможность оптимистического варианта судьбы отца: жизнь противоречила этому. Десятилетнее ожидание убило веру, но хотелось знать, что же все-таки произошло. Умершая в 1987 году, мама о папе так ничего толком и не узнала. В справке, выданной Военным трибуналом ЛВО от 26 апреля 1958 г. сказано лишь то, что Постановление от 14 декабря 1937 г. «отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления» и отец реабилитирован посмертно. И только лишь в декабре 1989 года, после двух неверных свидетельств о смерти, я (мамы уже не было на свете) получила другое, где 32 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ черным по белому, без лживых умолчаний было написано — расстрелян 20.12.1937 года. Однако возвращаюсь на хронологический путь развития событий. В I947 году после окончания мною школы было принято окончательное решение: возвращаемся в Ленинград. Вначале я, потом мама, так как денег на двоих сразу не было. Мама купила мне пшена на первые дни, дала немного денег, несколько советов. Накануне отъезда я пошла попрощаться с Ольгой Евгеньевной, единственным близким и дорогим человеком, который еще не умер и не уехал из Кустаная, как более молодые. Горькое свидание, о котором я подробно писала в воспоминаниях жертв политических репрессий*. Разрыв с казахстанским прошлым перед туманным ленинградским будущим завершался прощанием с мамой, во время которого мы старались держаться мужественно и выдержали испытание с честью. * Барташевич Л. Записки честного свидетеля. Сб. Свидетельские показания о времени и о себе. САГА. Санкт-Петербург, 2006. С. 52–63. СПАСИБО, МАМА! И здесь я хочу сказать несколько слов о моей героической маме. О ней можно писать много. В дальнейшем я еще не раз буду дополнять штрихи в ее портрет. Сейчас первые наброски. Когда я, восьмилетняя, ехала в ссылку, у меня скорее всего была биологическая связь с мамой, неосознанная, а когда уезжала, могла вполне оценить ее нравственный подвиг. Слово высокое, но сказать иначе нельзя. Легко было испугаться предстоящих трудностей и сразу опустить руки еще тогда, когда на нас свалилось несчастье. Денег нет, и лишь три дня для того, чтобы что-то из имевшегося продать (по дешевке, конечно). Много сил нужно было, чтобы не впасть в панику. Кое-кто из знакомых помог советом, а ведь в то время рискованно было иметь отношения в арестованными. В спешке не все могли захватить. Корзину с живописными работами папы поставили на чердак. Наивно думали: скоро наступит время, когда все можно будет взять назад. Кто же знал, что мы будем отсутствовать десять лет, в которые к тому же вклинится война, блокада?... Впрочем у истории есть свои причуды. Вернувшись в Ленинград, мы разыскали женщину, которая жила в нашем доме и знала нас. Стоило маме войти в комнату, в которой она теперь жила, как эта женщина в слезах бросилась к маме со словами: «Анечка! У меня есть твой портрет, который Шура рисовал». Нас через десять лет нашла одна из папиных работ, оставленных на чердаке. Сейчас портрет висит у меня в комнате. Вот какая игра случая, заставившая меня вспомнить этот эпизод. Предотъездные хлопоты целиком лежали на плечах мамы, нужно было отправить в Кустанай малой скоростью кровать, постельные принадлежности, продумать, что нужно взять с собой. Ведь она ехала не одна, а с ребенком. Со мною она советовалась, конечно, прекрасно понимая, 34 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ что я не была способна на разумные советы. Например, мне только что, накануне зимы 1937 года, купили лыжи, так я просила маму взять их в Кустанай — я там буду кататься «с гор». На самом деле вокруг города были лишь бесконечные степные просторы, о чем знать я не могла. Но дело не в этом, а в неуместности совета, обнаруживающего полное непонимание происходивших событий, трагично сти их. Характерно, что мама не плакала — по крайней мере, я этого не видела. Умело держала себя в руках, сознавая меру своей ответственности передо мной и собой. Я уже говорила о том, как мужественно она вела себя все годы ссылки, никогда не позволяя расслабляться. В эти годы она поддерживала во мне понимание необходимости получить образование. Именно за прошедшие десять лет я закончила школу, постоянно чувствуя мамин нравственный посыл и поддержку. Я знаю, что женам и детям репрессированных как правило предлагали в НКВД отказаться от мужей и отцов. Мы выдержали это искушение с честью. Оно не казалось нам даже искушением, а просто нравственно неприемлемым поступком. Мысль ни разу не возникала о таком предательстве, вопрос даже не обсуждался. У нас с мамой были очень близкие отношения, мы очень любили друг друга, меж нами существовало глубокое духовное единство. Однажды в Кустанае я была тяжело больна, лежала в больнице. Буквально речь шла о жизни и смерти. О маме говорили (мне потом об этом рассказали): не знаем, кто из них умрет раньше — мать или дочь. Победила жизнь, в которой все лучшее шло от мамы, от ее внутренней силы. Она для меня всю жизнь была и путеводной звездой, и лучшим другом, которому я всем обязана. Недавно перечитала все письма, которые были мною написаны маме, ею и сохраненные, в небольшой период времени, когда мы были в разлуке. Меня поразило собственное отношение к ней, серьезное, заботливое. Хорошо ли себя ПОИСКИ ОТВЕТОВ 35 чувствует? Достаточно ли ест? Выкопала ли картошку? Есть ли деньги, которые дадут возможность поскорее вернуться в Ленинград? Почувствовав себя взрослой, я давала ей практические советы, как сделать лучше, чтобы мы скорее были вместе. Сколько любви с моей стороны. Я всегда думала, что была хуже. УЗНАЮ ТЕБЯ, ЛЕНИНГРАД! П озади остался трудный период жизни. Что нового принесет следующий? Возвращение в Ленинград по тем временам было долгим. Ехали (я с попутчицей из Кустаная) с двумя пересадками (Челябинск и Москва). И вот долгожданная встреча с Ленинградом. Благодаря сохраненным мамой моим многочисленным письмам, показавшимся мне довольно-таки интересными, можно сделать осязаемыми впечатления того года, когда я впервые осталась без мамы и должна была предпринимать в жизни самостоятельные шаги. Мама просила письма писать подробные и обстоятельные, с конкретными деталями, отчетами о встречах и поездках. Писала часто, особенно вначале, и помногу, убористым почерком на трех-четырех листах. Если в школьные годы мама несла ответственность за все и за меня тоже, то теперь эта обязанность падала на мои плечи. Я осознала себя самостоятельной, никто меня не подталкивал, никто не контролировал. Я выросла в своих собственных глазах. Одно письмо подписано с гордостью так: «Лютя, которая стала практичной», что давало мне некоторое право давать советы и обсуждать практические вопросы. Например, я искала оплачиваемую работу. Постоянной в ЛГПИ им. А. И. Герцена не было, на что я надеялась. Хотя впоследствии я все же пригодилась как переписчик каких-то планов и расписаний, за что мне было обещано 40 рублей, о чем я с гордостью сообщала маме, демонстрируя ей разумный стиль жизни разумной дочери. Главным же на первых страницах моего эпистолярного наследия первого года жизни в Ленинграде было узнавание любимого города, с которым я связывала свою дальнейшую судьбу. Первые впечатления в первом же письме о послевоенном Ленинграде: «Красив, конечно. Разрушен тоже порядком. Есть дома до половины снесены. Сейчас восстано- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 37 вление идет вовсю...» В этом новом для себя городе я постепенно открывала старый, знакомый с детства. Это было для меня главной задачей — узнать, ощутить своим и полюбить с большей силой. Часто не садилась в трамвай, чтобы просто пройти по Невскому. Одна за другой оживают картины прошлого. Из письма: «А у нас дома я была. Правда, это получилось случайно. Поехала в Покровский институт на Малую Посадскую. (...) Так вот собираюсь возвращаться домой и случайно выхожу на Кировский проспект. Я и пошла наугад. Инстинкт не изменил. Я шла и голову опустила (думала), потом вдруг взглянула. Смотрю, что-то страшно знакомое! Оказывается, та терраска, где мы играли с Аликом. Я ускорила шаги. Дом наш цел (тот самый дом № 73/75 на проспекте, называвшемся когда-то проспектом Красных Зорь. — Л. Б.). Была в саду Дзержинского. Знаешь, я все там помню до мелочей. Большой дуб срублен и нет круглой скамейки вокруг. Молодая дубовая роща так разрослась, что не узнать». Далее следует рассказ о посещении Каменного острова. В детстве, гуляя по нему с папой или мамой, я исходила его вдоль и поперек, каждый уголок был знаком. Это была какая-то интимная связь. Хотите верьте, хотите нет, но вспоминались даже самые удаленные от главной дорожки уголки, в которые мы заходили ранее, даже деревья сохранили свой облик. Это была не просто память о прошлом, а благодарная встреча с ним. Любые подробности прошлого греют сердце. Но кое-что вызывает чувство грусти: родная мансарда заселена другими людьми, бывших знакомых нет — Блинковых, Алика с Марией Андреевной, на Каменном острове не живут сестры Мигленик. Письма заменяют связь прошлого с настоящим. В них я неизменно передаю приветы оставшимся в Куста-нае моим учителям Татьяне Петровне и Людмиле Михайловне, Ольге Евгеньевне, которая очень хотела вернуться в Ленинград, но прекрасно осознавала невозможность этого, моим подругам Лиле и Лиде. Возвратившиеся 38 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ из ссылки ленинградцы стремились восстановить прошлые связи. Так, меня очень быстро разыскали Савицкие — подруга Камилла, с которой мы учились в одном классе и сидели за одной партой, и ее мама Екатерина Антоновна, работавшая с моей мамой в «Доротделе». Потом нашлись еще и другие, с которыми мы были крепко связаны узами общего страдания: семьи Дыниных, Михалевских... Эти связи распадаются только лишь в связи с уходом кого-то из жизни. А с 1937 прошло уже немало времени даже для детей «врагов народа». Несколько замечаний о том, как устроилась моя судьба в Ленинграде. Еще в Кустанае мы с мамой обсуждали, куда мне поступать. Продуманы были все возможные варианты. Я интересовалась живописью и всегда мечтала об Академии художеств, но много читала, любила литературу. Принимать решение нужно было, исходя из реальной обстановки. Академия отпала сразу же. В нее можно было поступать после окончания художественной школы, в которую брали лишь до 18 лет, а мне 18 только что исполнилось. Кроме того, в Академии не было общежития. И это было решающим моментом. Не было общежития и в художественном училище Штиглица и в Университете. По совету мамы, данном еще до отъезда, сдала экзамены в ЛГПИ им. А. И. Герцена на литфак, прописалась в общежитии. Была счастлива; казалось, все трудности позади. Ленинград мне справедливо виделся местом, где есть все возможности учиться. Маме я писала об Эрмитаже и Русском музее, в которых очень часто бывала, о богатой институтской библиотеке, а также на кафедре. Я жаждала познавать, все видеть, все успеть. Мне вначале казалось, что я даже смогу совмещать пребывание в институте с занятиями живописью. Но эти благие помыслы не могли быть воплощены в сложных условиях жизни тогдашнего Ленинграда. Трудности только лишь начинались. Кстати, первый раз в жизни из благих побуждений, из осторожности я в официальной бумаге не написала, что ПОИСКИ ОТВЕТОВ 39 из семьи репрессированного. В одном из писем к маме мною сказано, что анкета для поступающих в вуз простая. Не расшифровывала, что значит «простая», то есть без излишних подробностей. Маме понятно, а я, где спрашивалось об отце, написала без комментариев — умер в I937 году. Как это потом и чем отозвалось, скажу позже. Когда мама вернулась, нам не однажды пришлось понять коварство того документа об освобождении, который она получила. Наличие паспорта без ограничений ничего не значило. Попали в заколдованный круг: не пропишем, пока не поступите на работу, а на работу не примем, пока нет прописки. Эта история долго тянулась, изматывая нервы, пока через знакомых не помогли устроиться в Ремонтно-строительный трест Смольнинского района (директор, по-моему, Ловкис) и прописаться в семейном общежитии треста. До этого мама вместе со мною проспала в общежитии института, располагавшегося в большой аудитории, в которой разместили сорок кроватей. Никто не возражал, не высказывал недовольства. Сохранялась послевоенная простота и теплота отношений между людьми. Мы, первокурсники, были нужными людьми, много и охотно помогали в восстановлении города и в частности института. В ремонтно-строительный трест мама первый год была зачислена как рабочая. По положению этого времени один год работы по восстановлению Ленинграда единственно давал право для получения прописки. Работа была физическая, тяжелая, у мамы была дистрофия сердечной мышцы, а трудиться приходилось с напряжением всех сил. За один год здоровье было окончательно разрушено, но получена возможность легализоваться в Ленинграде. Потом до 1956 года мама работала в том же тресте счетоводом. ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ П ознакомлю с первыми впечатлениями об институте — главным содержанием писем. Спрашивать нечего — они были восторженными, превалировали захватывающие эмоции открывавшейся жизненной перспективы. Вначале я просто захлебывались от восторга: все преподаватели казались умными, хорошими. Студенты, которых я лучше и раньше разглядела (уже хотя бы 40 человек в комнате общежития), воспринимались по-разному: спокойные трудяги, серые мышки, девочки-дамы, кичащиеся своим положением, которые перед собой никаких задач, кроме карьерных, не ставили, была воровка, разоблаченная нами, — ее исключили. Живущие дома студенты были разнообразнее и интереснее. В первые же дни среди них я обрела хорошую подругу — Беркольцеву Людмилу Николаевну. Как мы остановились внезапно друг против друга посреди институтского двора и проговорили около часа, так до последних дней ее жизни мы и были вместе. Она вместе с матерью прожила в Ленинграде всю блокаду, ее брат воевал, попал в плен, прошел работу на шахтах в Бельгии. И о нашей беде Мила узнала в первый же день. Мы были близки семьями, сейчас никого уже нет в живых. У меня было убеждение, что все предстоящее будет окрашено в радужные тона, предвкушала счастье. Из письма: «Мамочка, дорогая, ты не представляешь себе, как я рада. Ты знаешь, все эти последние дни во мне была уверенность, что все, что ни делалось, все к лучшему. У меня все эти дни приподнятое настроение» (24.08.47). Это реакция на зачисление в институт, получение оплачиваемой работы, продуктовых карточек, известие о получении мамой справки об освобождении из ссылки. «Разве это не счастье!» И после восклицания оптимистическая сентенция: «Я теперь убеждена, что если деятельно чего-либо хочешь, то все и получается». И в этом же письме о поездке на Каменный остров: «Я там исходи- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 41 ла каждую тропочку. И каждый пенек наводил меня на воспоминания, но отнюдь не печальные. Я решила так: раз у меня детство (раннее) было прекрасным, значит и период, начиная с учебы в Герценовском институте, будет хорошим. Все будет хорошо, надо только не унывать. Уже сейчас я чувствую, что все делается к лучшему. Может, и папа придет. Кто знает?» В связи с последними, вскользь сказанными фразами безбрежный оптимизм не кажется столь уж убедительным. Думаю, он просто идет от желания видеть перемены только к лучшему, а для мамы носит просто утешительный, поддерживающий характер. Что касается атмосферы в институте, то благодаря нехитрым наблюдениям можно было сделать некоторые выводы, опровергающие первоначальные впечатления. Преподаватели чувствовали себя довольно скованно, несвободно. Были табу, переступать которые не рекомендовалось. не все сейчас поверят, что на литфаке в то время не изучали, например, Достоевского и Есенина, не говоря о многих других. Поэтому осторожный преподаватель русской литературы С. В. Касторский не позволял себе выходить за рамки программы. Недовольно топтался на скрипучей кафедре, нагоняя сон на себя и слушателей, В. П. Друзин, сам бывший свидетелем литературного процесса, который говорил с нами о Есенине лишь тогда, когда сходил с кафедры. Единственно профессор Исаева, пожилая, с красивой породистой внешностью, вела себя подчеркнуто уверенно наперекор обстоятельствам. Она преподавала старославянский язык, являлась сторонницей Марра и до того, как он стал опальным, успела защитить докторскую диссертацию, на защите я была, с блеском и вызовом. Характерным для обстановки в институте (конечно, говорю о литфаке) было ощущение поднимавшихся вдруг, сметавших или ломавших чьи-то судьбы злокозненных волн. Когда я только что пришла в институт, не улеглись еще круги, распространившиеся от постановления о ленинградских 42 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ журналах «Звезда» и «Ленинград», больно ударивших по Ахматовой и Зощенко и по всему литературному процессу вообще. За той волной, которая взмывала и потом несколько утихала и уходила на второй план, появлялась другая. Во время пребывания в институте их было несколько. Например, евреи! Придя на занятия, мы однажды заметили, что преподаватель марксизма-ленинизма скромный Кролик (такова была его действительная фамилия) исчез. Поинтересовались, где он. Оказалось, преподает где-то на севере Ленинградской области. Потом, говорят, его вернули. Зачем же была эта «показательная ссылка»? Или, например, история со всемирно известным языковедом Н. Я. Марром. К нему как к ученому можно по-разному относиться, но поразительной для нас оказалась молниеносная и наглая смена декораций на кафедре. Видно, немало было людей, охотно готовых подсуетиться в угоду начальственным указаниям. Приходим мы утром на занятия и обнаруживаем на стене, где ранее висел большой портрет Марра, пустое место. Кем и как оно потом было занято, не помню. Но предмет для поклонения нашелся сразу. Разожгли дискуссию о марксизме и вопросах языкознания. Как всегда, самыми глубокими профессиональными мыслями поделился Иосиф Виссарионович в статье «Марксизм и вопросы языкознания», поставив жирную запретительную точку в дискуссии. Теперь все должны были думать одинаково. Но наиболее памятной оказалась длительно ведущаяся кампания против космополитов. Она была тщательно организована и велась систематично по продуманному плану. Расскажу об этом подробнее. Был у нас в институте, часто появлялся на нашей кафедре сравнительно молодой мужчина, высокий, лет сорока (думаю, так, во всяком случае, мне казалось). Фамилию никак не могу вспомнить и не могу назвать, что он преподавал. Характерно, что помню его только как выступающего против космополитов. Но взглянув на найденную мною большую фотографию выпуска курса, ПОИСКИ ОТВЕТОВ 43 сделанную после окончания института, среди фотографий преподавателей (у нас он не читал) нахожу знакомую физиономию и читаю Папковский, а далее Б. В. — Борис Васильевич? Озарение! Видимо, было нужно вспомнить и назвать этого редкостного приспособленца. Говорил гладко, горячо, увлеченно. Может быть, он был каким-либо партийным работником. Серый кардинал? Трудно сказать. Иной раз после окончания лекций нам говорили: «Все идите в большую аудиторию. (Обычно в ней происходили защиты диссертаций. — Л. Б.) Там будет обсуждение ряда вопросов». Мы шли, как послушное стадо. Объявлялась тема. Начиналось с горячего, «духоподъемного» выступления Папковского. Далее назывались люди, в которых мы должны были увидеть космополитов (своеобразный вариант «избиения младенцев»). Интересно то, что начинал «дискуссию» — слово это беру в кавычки, потому что присутствующие в своем большинстве стыдливо молчали — всегда один и тот же человек — директор институтского клуба Ахаян. Говорят, что он защитил впоследствии какую-то диссертацию, кажется, на какую-то историческую тему, но считал себя всеведущим. Все его выступление состояло из чтения какой-либо цитаты из научной работы «космополита». В ней должны были прозвучать имена зарубежных писателей или ученых, просто какие-то иностранные имена. Бесполезно было говорить, что здесь нет никакого преклонения перед Западом. Понимания достичь было нельзя, так как разговор велся на разных языках, на разных уровнях понимания проблемы. Нестерпимо жаль было людей, которых унижали публично. Не забуду, как однажды я наблюдала подобную «проработку» (просто сидела близко) пожилого преподавателя. Он был полный, очень волновался, и когда обвинения достигли накала, лицо его смертельно побледнело и мелко задрожало. Я с ужасом ожидала срыва, слез, истерики... Смотреть на это было нестерпимо тяжело. Можно себе представить, что каждый раз переживали наши преподаватели зарубежной 44 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ литературы, у которых все писатели иностранцы. Новейшую нам читал Алексей Львович Григорьев, а XIX век — Борис Яковлевич Гейман, прошедший всю войну в качестве переводчика. Он не хотел заканчивать свою докторскую диссертацию, посвященную Гете, так как после войны считал необходимым иначе посмотреть на написанное. Совестливый, честный, порядочный во всех отношениях человек на каждой нравственной экзекуции уже самим фактом ее проведения ставился в унизительное положение человека, которого могут публично нравственно высечь. Бориса Яковлевича мы все очень любили, ждали его замечательных лекций, охотно носили за ним постоянно забываемые в неподходящем месте галоши, добродушно подсмеивались над его почти детской наивностью. Мы потешались, когда он говорил о любви героев анализируемых произведений: долго ходил вокруг да около, и все с удовольствием следили за его замешательством. Преподаватель античной литературы Анисимова разделывалась с этой проблемой просто: Зевс воспылал страстью к богине Деметре — это была приличная и почти не изменяемая формула для обозначения любви героя. Большинство знающих преподавателей были вынуждены в угоду времени перекраивать читаемый ими курс. Алексей Львович Григорьев прекрасно знал литературу ХХ века, но не говорил о том, что сам любил. Он сам признавался мне в этом. Я была руководителем СНО — студенческого научного общества — на литфаке, а он его куратором. За четыре года моего обучения в институте дважды с моими сокурсниками происходили какие-то непонятные истории. О них не принято было разговаривать. Один мальчик поступил в духовную академию, и он просто исчез из поля нашего зрения. Другого исключили и скорее всего арестовали по политическим мотивам. Сделано все это было так тихо и незаметно, что наши предположения, наверное, были правильны. ПОИСКИ ОТВЕТОВ 45 Приближался последний год пребывания в институте. Бездумно-восторженное приятие всего того, что происходило на Мойке, 38, сменилось на взрослое — критическое. Я стала неплохо понимать, кто чего стоит в человеческом, нравственном отношении, кому — верить, кому — нет. Как и многие в это время, говорила о своем понимании жизни лишь с самыми близкими людьми. Вообще, общество в это время еще не было готово для открытости. У меня были свои причины для молчания. Напоминаю, что в анкете поступающего в институт я написала не об аресте а о смерти моего отца в 1937 г. И многим, вероятно, было странно, что, участвуя в общественной работе, я не комсомолка. Впрочем, и пионеркой я тоже не была: меня, видимо, «по политическим мотивам» в свое время просто забыли. Однокурснику Алексееву, который после окончания института потом работал в Пушкинском Доме, было поручено побеседовать со мною для определения уровня моей лояльности. Дело в том, что он на курсе был значительно старше многих, он воевал (таких после войны в вузах было много), был членом партии. Собеседование я легко и быстро прошла и получила рекомендацию. Перед распределением мне было сделано три предложения поступать в аспирантуру: от Сергея Васильевича Касторского — кафедра русской литературы, от Алексея Львовича Григорьева — новейшая зарубежная литература, от Григория Генриховича Розенблата — методика преподавания литературы. И тут я была вынуждена с благодарностью отказаться от предложений ввиду невозможности их принять: я дочь репрессированного. Каждый пожалел, но, прекрасно зная положение вещей, не внушал мне ложных надежд. Думаю, им, всем троим, было легче, что я сама обо всем сказала. РОДИМЫЕ ПЯТНА ПРОШЛОГО С колько раз я благословляла тот час, когда решилась при поступлении в вуз умолчать о судьбе отца. Хорошо, что об этом не узнали раньше. Когда прошло распределение, меня неожиданно вызвали к секретарю партийной организации института Петухову (на помню имени и отчества, да и стоит ли помнить), который вел себя по-хамски. Налившись кровью от злости, он кричал на меня и топал ногами. Злость объяснялась тем, что теперь ничего уже не исправить: не проверив анкет, поданных абитуриентами четыре года назад, проведя распределение курса, он опоздал со своими обвинениями. Я стала Петухову отвечать, что вызвало новые приступы начальственного гнева. Однако начальство поздно спохватилось, и через день-два я получила диплом. В городе работать в то время оставляли только семейных, а так как мой диплом был с хорошими и отличными оценками, то мне предложено было поехать поближе — в поселок Елизаветино Ленинградской области. Все, кто попадал близко от Ленинграда, сразу ставили перед собою задачу — скорее вернуться домой. Кроме меня, в Елизаветино такими была математик и молодой человек, который интересовался востоковедением. Их я потом встречала в Ленинграде. Поступательное движение жизни расширяло сферу моих наблюдений, но ничто не менялось в политической атмосфере, поэтому никак не получалось чувствовать себя посвободнее. Когда я преподавала в Елизаветино, задумала о перспективе поработать в Чехословакии, как это делалось многими. Тогда же в моде было помогать странам народной демократии. Приняли мое предложение очень хорошо. Несколько раз я встречалась с человеком, который должен был оформлять документы. Длительное время все шло гладко. Но вдруг мне было сказано, что изменились обстоятельства: послать меня никуда не смогут. Говорили со мною вежли- ПОИСКИ ОТВЕТОВ 47 во, ссылались на объективные причины. Но истинная причина и мне и маме была ясна — проверки документов выдержать я не могла. Я предприняла еще одну попытку встать на ступеньку выше своего положения. Ведь, оканчивая институт, я готова была поступать в аспирантуру, если бы в нее меня приняли. Однако то препятствие, по которому тогда меня должны были подвергнуть остракизму, существовало и сейчас. Поэтому я решила искать правды и справедливости. Задумала поехать в приемную Ворошилова, там меня поймут и скажут: хочешь поступать в аспирантуру — пожалуйста, милости просим, про»врагов народа» мы давно уже забыли. Мне и сейчас стыдно. Какая же я все же была наивная дурочка! Поехала... Москва... Неласковое, громоздкое здание Верховного Совета. К Ворошилову меня, разумеется, не пустили. Принимал меня какой-то молодой да ранний чиновник типа правоверных карьеристов. На мои рассуждения, что дети за отца не отвечают, что я уже проверенный человек, что отца, может, и на свете нет, что никто на меня тлетворного влияния не оказывает... отрицательный ответ был один — крик и топание ногами (вспомнилось прощание с Петуховым). Вернулась домой злая. Примерно через неделю-две мама мне говорит, что за ней все время следят и на работе, и когда она выходит из дома. Поэтому она старается идти с кем-нибудь. Я даже испугалась, подумала, что у мамы из-за всего пережитого расшаталась психика. Но когда попыталась понаблюдать, не следит ли кто за мной, убедилась, что ее опасения имеют под собою почву. Через некоторое время слежку сняли. Видимо, нашлись дела поважнее. Попыток изменения своей жизни я дальше не делала, работала учителем, лишнего времени не было. Событием для всех в стране, повлиявшим на дальнейшее, была смерть «кремлевского горца», воспринятая большинством репрессированных с великой радостью, явившаяся толчком для политических изменений, породивших надежды. Но и далее 48 ЛЮЦИЯ БАРТАШЕВИЧ время шло своими неспешными шагами. Казалось, что после ХХ съезда партия должна была радикально поменять политические акценты. Но вскоре всем стала ясна половинчатость, уклончивость решений съезда, слабость выводов и обобщений. Реабилитационный процесс, едва успев начаться, затормозил. Долго еще было ждать Указа Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период З0–40-х и начале 50-х годов», принятого 16 января 1989 года, и Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года, а еще дольше — изменений в представлении тех, кто должен был этими указаниями руководствоваться. Это дается с трудом, если дается, а чаще прежние представления тянут в прошлое, как гири. Сошлюсь на пример из собственной биографии. С 1958 года я уже работала в школе № 47, из которой впоследствии ушла на пенсию (у меня в Трудовой книжке три места работы: Елизаветинская средняя школа, 55 школа Петроградской стороны Ленинграда, из которой я была переведена в 47 в связи с организацией ее в составе старших классов). Ни от каких общественных дел не отказывалась, работала, вроде, хорошо. Все чаще меня стали спрашивать, почему я не в партии, приглашали все более и более настойчиво. Мне стало неудобно уклоняться от этих разговоров. Причем, я, конечно, не пускалась в объяснения о том, что ни пионеркой, ни комсомолкой по сути дела не была. Я рассказывала о том, что перед окончанием института меня приняли в комсомол, который я тихо и незаметно покинула с наступлением определенного возраста. Теперь происходило нечто подобное. Партийная организация должна была пополнить свои ряды, Для желающего работать с людьми партия была единственной формой активного проявления (да и партия-то была одна — КПСС). Я согласилась. Подала заявление в Ждановский райком КПСС, ПОИСКИ ОТВЕТОВ 49 в котором мне сразу напомнили, чья я дочь. Никакие аргументы в мою защиту не действовали. Вскоре я поняла, что стала заложницей борьбы, которая шла в школе, — меня стали склонять к подлости. Я должна была оболгать людей, талантливых и порядочных, о которых ничего плохого не знала. Делалось это с помощью секретаря партийной организации школы (не хочу называть ее фамилию — много чести). В райкоме мне не раз давали понять, что с моей биографией нечего делать в партии, а мне казалось, что наоборот. В то время кандидатский стаж был один год, а у меня уже заканчивался второй. Райком должен был отчитаться. Не знаю кухни дела, но меня в партию приняли. Тринадцать лет я была секретарем партийной организации школы, и никто не был на меня в обиде на несправедливость поступков. Были в работе сложные случаи, была необходимость как-то приспосабливаться к окружающему. И не правы те, кто считает себя с молоком матери впитавшим чувство сопротивления режиму. Чувство сопротивления режиму растет вместе с ростом общественного сознания. Это непростой и длительный процесс, кстати, не закончившийся. Если закончившийся, то это уже не процесс. В его осуществлении мне всегда помогало то, что я преподавала литературу. Она давала мне ощущение свободы мысли и поведения. Внимательному читателю моего повествования, наверное, ясно, что главного, в имя чего оно затеяно, я еще не сказала. Лишь приближаюсь. Речь все время идет о перипетиях моей жизни, касающихся происходящего в стране. Не в полную силу я говорила о том, что ноющей раной жило во мне с момента осознания себя в социуме. Реальная возможность этого разговора возникла тогда, когда мне стали доступны сведения, до поры до времени неизвестные. Я сама не была долгое время готова к нему. Теперь я в этой теме чувствую себя свободнее. ЛИЦА ИЗ МРАКА ПРОШЛОГО В начале беседы с читателем я на время отказалась от рассказа о семье отца, об отце, который показан лишь в моем детском восприятии. А вот теперь, на перекрестье всего, ставшего известным, самое время о них говорить. Начинаю с моего дедушки, Бартошевича Юзефа Сигизмундовича (для удобства в обращении к нему он называл себя Иосиф Михайлович). Я его не могу помнить, так как видела скорее всего один-два раза (он очень рано умер — в 1932 году). Однако облик его стоит у меня перед глазами, так как на двух фотографиях, которые есть у меня, он, сухонький, лысый, в любимой черной толстовке, изображен сидящим в самом центре среди врачей и медицинского персонала новоладожский больницы. Мне о нем часто рассказывала мама, которую он очень любил и с которой у него были близкие, доверительные отношения. Именно ей он признался, что скоро умрет — плохое было сердце. История деда такова: родом из большой, многодетной польской семьи, он шестнадцати лет приехал в Гдов учиться в фельдшерской школе, женился на гдовской мещанке — моей бабушке Анне Ильиничне. Потом работал в Новой Ладоге. Все его знали и любили, ценили за самоотверженностъ — как бы ни волновался старый седой Волхов, он вместе с рыбаками плыл на противоположную сторону реки помочь больному. Когда бы я ни приезжала в родные для папы места (это уже было время спустя 50 лет после его смерти), мне встречались люди, знавшие деда. Чаще всего это были дети, которых он пользовал на дому. Мама помнила деда добрым, спокойным, трудолюбивым и серьезным, правоверным католиком. Приезжая к нам в Ленинград, он обязательно посещал костел. Дети его к религии были равнодушны. Были у деда четыре любимых сына. Сужу об этом хотя бы по тому письму-записочке моему отцу, испрашивающему